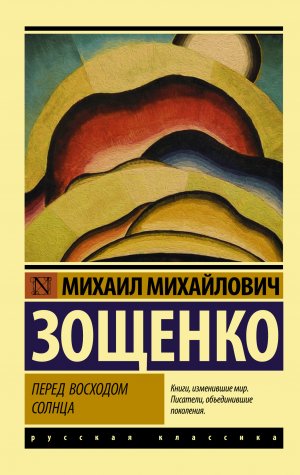
Перед восходом солнца
Предисловие
Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость».
Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги. И выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.
Но этого не случилось.
Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.
Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.
Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.
Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью.
В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.
Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны.
Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.
По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.
Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.
— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.
Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда — вот этого я установить не решался.
«Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает "философию" фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье — в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем».
В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе.
I. Пролог
За доброе желание к игре
Прощается актеру исполненье.
Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость».
Это была обыкновенная повесть, из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии — этюды физиологического характера.
Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека.
Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов. Происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова.
Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. Значит, не я много знаю (подумал я), а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть.
Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать повестки на заседания в Институт мозга. А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои «среды».
Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью.
Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше чем человеческое тело — его психика, его сознание, — нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем.
Таким образом возникла «Возвращенная молодость».
Сейчас, когда прошло десять лет, я отлично вижу дефекты моей книги: она была неполной и однобокой. И, вероятно, за это меня следовало больше бранить, чем меня бранили.
Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом (А. Д. Сперанским).
Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал:
— Я предпочитаю ваши обычные рассказы. Но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог и потому не боюсь это сказать.
Я ответил ему:
— Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека (и у собаки) иногда возникают «фантазии», которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен «разговор с собакой», для того чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А «разговор с собакой» — это уже целиком наша область.
Улыбнувшись, ученый сказал:
— Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами.
Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе.
Я сказал:
— Вкратце — это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым.
— Это будет трактат или роман?
— Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история.
— Снова будут комментарии?
— Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым.
— Стало быть, эта работа будет о вас?
— Полкниги будет занято моей особой. Не скрою от вас — меня это весьма смущает.
— Вы будете рассказывать о своей жизни?
— Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно что говорить об умершем.
— До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?
— Примерно до тридцати лет.
— Может быть, есть резон прикинуть еще лет пятнадцать? Тогда книга будет полней — о всей вашей жизни.
— Нет, — сказал я. — С тридцати лет я стал совсем другим человеком — уже негодным в объекты моего сочинения.
— Разве произошла такая перемена?
— Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе непохожая на то, что было.
— Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?
— Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея.
— А что сами вы сделали?
— Я сделал, в сущности, простую вещь: я убрал то, что мне мешало, — неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал «временные связи», как называл их Павлов.
— Каким образом?
В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал. Правда, весьма туманно.
Задумавшись, ученый ответил:
— Пишите. Только ничего не обещайте людям.
Я сказал:
— Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам. И только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим.
Рассмеявшись, ученый сказал:
— Это немного. И это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше.
Я ответил:
— Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось.
Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней.
Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года.
Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру…
Пусть просвещенный читатель простит мои прегрешения.
II. Я несчастен — и не знаю почему
горе!
Бежать от блеска солнца
И услады искать в тюрьме,
При свете ночника
О …
Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.
Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.
В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.
Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.
Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.
Я был несчастен, не зная почему.
Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.
«Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».
Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:
Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.
Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.
Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.
«Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа», — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.
Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», — писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».
Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни[1].
Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом.
Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.
Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, — погибает.
Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.
Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.
Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни.
Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.
Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.
Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.
Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.
Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.
В девятнадцать лет я был уже поручиком.
В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны.
Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях.
Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезало.
В начале революции я вернулся в Петроград.
Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.
Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал по-прежнему испытывать тоску.
Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.
Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград…
Хандра следовала за мной по пятам.
За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий.
Я был: милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.
Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.
Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.
Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.
В 1921 году я стал писать рассказы.
Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.
Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.
Врачи взялись за меня энергично.
От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой — вовнутрь и снаружи.
Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом — сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и лоб — путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.
Два раза в год я стал выезжать на курорты — в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.
В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.
С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.
Ничего подобного я не увидел.
Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался.
Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями.
Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал — предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю — просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.
Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал.
С величайшим смирением я отдался в руки врачей.
За два года я съел полтонны порошков и пилюль.
Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило.
Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны.
Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника.
Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения.
Два дня я чувствовал себя бодрей, потом мне стало значительно хуже, чем раньше.
Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость.
Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени.
На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там два-три дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал.
Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам — к писателям, музыкантам… Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей. А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению. И как они поступали, чтоб этого у них не было.
И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой.
Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет.
«Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить…»
Шопен. Письма, 1830 г.
«Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска…»
Гоголь — матери. 1837 г.
«У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно…»
Некрасов — Тургеневу. 1857 г.
«Мне так худо, так страшно безнадежно худо и в теле и в духе, что я не могу жить…»
Эдгар По — Анни. 1848 г.
«Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему…»
Эдгар По — Кеннеди. 1835 г.
«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче…»
Некрасов — Тургеневу. 1857 г.
«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает…»
Флобер. 1853 г.
«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться…»
Салтыков-Щедрин — Пантелееву. 1886 г.
«К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться…»
Гоголь — Погодину. 1840 г.
«Так все отвратительно в мире, так невыносимо… Скучно жить, говорить, писать…»
Л. Андреев. Дневник. 1919 г.
«Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера… Раздражают лица друзей… Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале…»
Мопассан. Под солнцем. 1881 г.
«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».
Гоголь — Плетневу. 1846 г.
«Я устал, устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню или уснуть "последним сном"».
В. Брюсов. Дневник. 1898 г.
«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».
Л. Н. Толстой. 1878 г. — Л. Л. Толстой. Правда о моем отце
Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние.
Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется? И как с ним бороться, какими средствами? Кроме веревки и пули.
Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски?
Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума».
Эти слова меня еще более смутили.
Я не мог найти никакого решения. Я не понимал.
Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания?
Нет! Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким. И даже этих людей было значительно больше.
На вечере, посвященном Шопену, исполняли его «Второй концерт для фортепьяно с оркестром».
Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный.
Но «Второй концерт» прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал.
Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта.
Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? — подумал я. — Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было? И только было сковано? Чем?
Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.
Не скрою от вас: я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину— отчего скованы мои силы и почему мне так невесело в жизни и почему бывают такие люди, как я, — склонные к меланхолии и беспричинной тоске.
Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там четыре недели.
Десять дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы. А иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо.
Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело.
Чтоб еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом.
Я взял отдельную каюту. И в чудесном настроении уехал из Ялты.
Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту.
Утром, чуть свет, я снова был на палубе.
Вставало изумительное утро.
Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу. О том, что тоска моя теперь позади. И пусть она будет загадкой, только чтоб ее больше не было.
Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду.
И вдруг в одно мгновение я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я два часа лежал на койке не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал.
Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу. Стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься. Но мне не удавалось.
Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие.
Я еле дождался Туапсе. И сошел на берег, с тем чтоб через несколько дней продолжить мой путь.
Меня трепала нервная лихорадка.
На линейке я доехал до гостиницы. И там слег.
Усилием воли, только через неделю, я заставил себя собраться в дорогу.
Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезала.
Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины?
Или причин не было?
Как будто бы никаких причин не было. Должно быть, просто «слабость нервов», излишняя «чувствительность». Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник.
Я стал думать: родился ли я таким слабым и чувствительным или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?
И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины — оттого, что мир кажется пошлым! Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Но хандрить?! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом.
И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения — что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом.
Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?
Тогда я подумал: надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания.
Нет нужды все вспоминать, подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка.
И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. И увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах.
Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу.
С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии. И увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.
III. Опавшие листья
Жизнь каждого все то же повторяет,
Что до него и прежде совершалось,
И человек, в прошедшее вникая,
Предсказывать довольно верно может
Ход будущих событий…
Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтобы найти причину моих несчастий.
Я решил найти событие или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра.
Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка.
Однако нет нужды вспоминать детские годы, подумал я. Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела! Потерял три копейки. Ребята побили. Штаны разорвал. Украли ходули. Учитель единицу поставил… Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, подумал я, сцены из моей сознательной жизни. Тем более что я захворал не в детские годы, а уже будучи взрослым. Начну лет с шестнадцати, подумал я.
И тогда я стал вспоминать наиболее яркие сцены, начиная с шестнадцати лет.
1912–1915
О, сказкой ставшая воскреснувшая быль!
О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль!
Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю, украдкой поглядывая на окно второго этажа. Мое сердце сжимается от тоски.
Там живет Тата Т. Она взрослая. Ей двадцать три года. У нее старый муж. Ему сорок лет. И мы — гимназисты — всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы.
И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою прическу, потягиваясь и зевая.
Увидев меня, она улыбается.
Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада — такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на нее смотреть.
Улыбаясь, Тата Т. говорит мне:
— Мишенька, зайдите ко мне на минутку.
Мое сердце колотится от счастья, но, не поднимая глаз, я отвечаю:
— Вы же видите — я занят. Играю в футбол.
— Тогда подставьте свою фуражку. Я вам что-то брошу. Я подставляю свою гимназическую фуражку. И Тата Т.
бросает в нее маленький сверток, перевязанный ленточкой. Это шоколад.
Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть.
Дома я съедаю шоколад. И ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол.
Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды.
За столом сестры и мать.
Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня.
Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются.
Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо.
Длинный конверт сиреневого цвета. Необычайно душистый.
Дрожащими руками я разрываю конверт. И вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха.
Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами.
«О, как я счастлива, что с вами познакомилась…» — запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу.
Встречаюсь со смеющимися глазами матери.
— От кого? — спрашивает она.
— От Нади, — сухо, почти сердито отвечаю я. Сестры веселятся еще больше.
— Не понимаю, — говорит старшая сестра, — жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма. Смешно. Глупо.
Я грозно гляжу на сестру. Молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов.
Петербург. Каменноостровский проспект. Памятник «Стерегущему». Два матроса у открытого кингстона. Бронзовая вода льется в трюм.
Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник.
Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля.
Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по шестнадцать лет.
Надя говорит:
— Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать…
— Но почему же? — спрашиваю я, оторвавшись от памятника.
— Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины… Вы же способны молча сидеть полчаса и больше.
Я отвечаю:
— Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей.
— В таком случае, — говорит Надя, — вы должны меня поцеловать.
Оглядываясь, я говорю:
— Здесь могут увидеть нас.
— Тогда пойдемте в кино.
Мы идем в кино «Молния» и там два часа целуемся.
Я выхожу из гимназии и встречаю реалиста Сережу К. Это белобрысый высокий унылый юноша. Нервно покусывая губы, он мне говорит:
— Вчера я окончательно расстался с Валькой П. И — можешь себе представить — она потребовала вернуть все ее письма.
— Надо вернуть, — говорю я.
— Конечно, письма я ей верну, — говорит Сережа, — но я хочу сохранить копии… Кстати, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо, чтоб ты заверил эти копии…
— Для чего? — спрашиваю я.
— Ну, мало ли, — говорит Сережа, — потом она еще скажет, что вообще не любила меня… А если будут заверенные копии…
Мы подходим к Сережиному дому. Сережа — сын брандмейстера пожарной части. И поэтому мне интересно к нему зайти.
Сережа кладет на стол три письма и три уже заранее переписанные копии.
Мне не хочется подписывать копии, но Сережа настаивает. Он говорит:
— Мы уже взрослые. Наши детские годы прошли…
Я очень прошу тебя подписать.
Не читая, я пишу на каждом листке копий: «С подлинным верно». И подписываю свою фамилию.
В знак благодарности Сережа ведет меня во двор и там показывает мне штурмовую лестницу и пожарные шланги, которые сушатся на солнце.
Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор.
Я не особенно доволен своим видом. Очень юн.
В шестнадцать лет можно было бы выглядеть постарше.
Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу.
По лестнице поднимается Тата Т.
Сегодня она удивительно хороша, в своей короткой меховой жакетке, с муфточкой в руках.
— Вы разве не идете в церковь? — спрашиваю я.
— Нет, мы встречаем дома, — говорит она улыбаясь. И, подойдя ко мне ближе, добавляет: — Христос воскресе!.. Мишенька…
— Еще нет двенадцати, — бормочу я.
Обвив мою шею руками, Тата Т. целует меня.
Это не три пасхальные поцелуя. Это один поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй.
Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом — смеюсь.
— Что вы смеетесь? — спрашивает она.
— Я не знал, что люди так целуются.
— Не люди, — говорит она, — а мужчины и женщины, дурачок!
Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице — красивая и таинственная, именно такая, какую я хотел бы всегда любить.
Мы идем в Новую Деревню. Нас человек десять. Мы очень взволнованы. Наш товарищ Васька Т. бросил гимназию, ушел из дому и теперь живет самостоятельно, где-то на Черной Речке.
Он ушел из восьмого класса гимназии. Даже не дождался выпускных экзаменов. Значит, ему наплевать на все.
Втайне мы восхищены Васькиным поступком.
Деревянный дом. Гнилая шаткая лестница.
Мы поднимаемся под самую крышу, входим в Васькину комнату.
На железной койке сидит Васька. Ворот его рубахи расстегнут. На столе бутылка водки, хлеб и колбаса. Рядом с Васькой худенькая девушка, лет девятнадцати.
— Вот он к ней и ушел, — кто-то шепчет мне.
Я гляжу на эту тоненькую девушку. Глаза у нее красные, заплаканные. Не без страха она поглядывает на нас.
Васька лихо разливает водку по стаканам.
Я спускаюсь в сад. В саду — старая дама. Это Васькина мама.
Грозя вверх кулаком, мамаша визгливо кричит, и ее выкрики молча слушают какие-то тетушки.
— Это все она виновата, эта девчонка! — кричит мамаша. — Не будь ее, Вася никогда не ушел бы из дому.
В окне появляется Васька.
— Да уйдите вы, мамаша, — говорит он. — Торчите тут целые дни. Кроме суеты, ничего не вносите… Идите, идите. Не вернусь домой, сказал вам.
Скорбно поджав губы, мамаша садится на ступеньки лестницы.
Я лежу на операционном столе. Подо мной белая холодная клеенка. Впереди огромное окно. За окном яркое синее небо.
Я проглотил кристалл сулемы. Этот кристалл у меня был для фотографии. Сейчас мне будут делать промывание желудка.
Врач в белом халате неподвижно стоит у стола.
Сестра подает ему длинную резиновую трубку. Затем, взяв стеклянный кувшин, наполняет его водой. Я с отвращением слежу за этой процедурой. Ну что они меня будут мучить. Пусть бы я так умер. По крайней мере кончатся все мои огорчения и досады.
Я получил единицу по русскому сочинению. Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами: «Чепуха». Правда, сочинение на тургеневскую тему — «Лиза Капитана». Какое мне до нее дело?.. Но все-таки пережить это невозможно…
Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг. Все глубже и глубже входит эта отвратительная коричневая кишка.
Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь. Извиваюсь в руках врача. Со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку.
— Спокойней, спокойней, молодой человек, — говорит врач. — Ну как вам не совестно… Такое малодушие… по пустякам.
Вода выливается из меня, как из фонтана.
У ворот — полицейский офицер. Кроме входного билета, он требует, чтоб я предъявил студенческий матрикул. Я достаю документы.
— Проходите, — говорит он.
Во дворе — солдаты и городовые с ружьями.
Сегодня годовщина смерти Толстого.
Я иду по университетскому коридору. Здесь шум, суета, оживление.
По коридору медленно выступает попечитель учебного округа — Прутченко. Он высокий, крупный, краснолицый. На белой груди под вицмундиром маленькие бриллиантовые запонки.
Вокруг попечителя живая изгородь из студентов — это студенты академической корпорации, «белоподкладочники». Взявшись за руки, они оцепили попечителя и охраняют его от возможных эксцессов. Командует и больше всех суетится какой-то длинновязый прыщеватый студент в мундире, со шпагой на боку.
Вокруг шум и ад. Кто-то кричит: «По улицам слона водили». Шутки. Смех.
Попечитель медленно идет вперед. Живая изгородь почтительно движется вместе с ним.
Появляется студент. Он мал ростом. Некрасивый. Но лицо у него удивительно умное, энергичное.
Подойдя к «изгороди», он останавливается. Невольно останавливается и изгородь с попечителем.
Подняв руку, студент водворяет тишину.
Когда становится тише, студент кричит, отчеканивая каждое слово: «У нас в России две напасти: внизу власть тьмы, вверху — тьма власти».
Взрыв аплодисментов. Хохот.
Длинновязый студент эффектно хватается за эфес шпаги. Попечитель устало бормочет: «Не надо, оставьте…»
Студент со шпагой кому-то говорит: «Узнайте фамилию этого хама…»
Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить. Причина — неудачная любовь».
Я немного знал Мишку. Нескладный. Взъерошенный. Небритый. Не очень умный.
Студенты, впрочем, хорошо относились к нему — он был легкий, компанейский человек.
Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой.
Собрались в пивной на Малом проспекте.
Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного.
Тогда кто-то вспомнил, как Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный.
Давясь от смеха, один из студентов сказал:
— Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту.
Раздался взрыв смеха. Кто-то сказал:
— Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь.
Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны».
Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов: «Умрешь — похоронят, как не жил на свете».
Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дир-лим-бом-бом».
Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно.
— Студентик! — слышу я чей-то голос.
Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое скуластое лицо и толстые губы.
Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь:
— Я сегодня именинница… Зайдите ко мне в гости — чай пить.
Я бормочу:
— Извините… Мне некогда…
— Я иду со всеми, кто меня приглашает, — говорит женщина. — Но сегодня я решила справить свои именины. Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь…
Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек. Входим в маленькую комнату.
На столе — самовар, орехи, варенье и крендель.
Мы молча пьем чай. Я не знаю, что мне говорить. И она сконфужена моим молчанием.
— Разве у вас никого нет — друзей, близких?
— Нет, — говорит она, — я приезжая, из Ростова.
Попив чаю, я надеваю пальто, чтоб уйти.
— Неужто я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня? — говорит она.
Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощанье ее толстые губы. И она спрашивает меня:
— Зайдешь еще разок?
Я выхожу на лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру? В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери. Но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку — взглянуть на номер ее квартиры? Нет, не стоит. Я больше не приду к ней.
Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов.
Мои щипчики высекают полумесяц.
Шикарная ветка Кисловодск — Минеральные Воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок.
Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм, с медалями на груди. Он застыл, как монумент.
Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.
— Коллега, — говорит он мне (хотя он не студент), — на пару слов… В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне…
Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде.
Я растерянно бормочу:
— Зачем?.. Для того чтоб вы их… еще раз продали?..
— Ну да… У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими… Доход пополам…
— Мерзавец!.. Вы врете! — бормочу я. — Со всеми?
Кассир пожимает плечами.
— Ну, не со всеми, — говорит он, — но… со многими… А что вас так удивляет? Все так делают… Да разве мог бы я жить на тридцать шесть рублей… Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это…
Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.
— Коллега, — говорит он, — если хотите — не надо, я не настаиваю… только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых — никто не поверит. Во-вторых — доказать нельзя. В-третьих — прослывете лжецом, склочником…
Я медленно бреду к дому… Идет дождь…
Я удивлен больше чем когда-либо в жизни.
Станция Минутка. У меня тихая комната с окнами в сад.
Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она — Настя Горохова.
Это здоровенная особа, почти неграмотная.
В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на «Кислые воды». Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая.
Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала.
Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне
— Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше восьми лет мне бы за это не дали… Как вы думаете?
— А, собственно, что вы от него хотите? — спрашиваю я ее.
— Как что! — говорит Эльвира. — Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц и, как дура, плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо.
За неграмотностью Эльвиры, это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу.
Я не помню, что я написал. Я только помню, что, когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души… И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».
Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире пятьсот рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени.
Эльвира была ошеломлена.
— Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска.
Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства.
Теперь она почти не выходила из моей комнаты. Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.
1915–1917
Судьба ко мне добрее отнеслась,
Чем к множеству других…
Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иного сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяла и в шубы.
Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз.
Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением.
Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно.
Вытащив из кобуры наган, прапорщик С. стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах.
Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю:
— Прекрати… болван!
Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит:
— Прапорщик Зощенко… не надо меня останавливать.
Пусть я делаю что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют.
Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через тридцать лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию.
В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.
Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.
Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него — убийцы.
На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует.
Входит пьяный корнет. Поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали…»
Все подхватывают песню. Смеются.
Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет тридцать. Она толстовата. Черная. Веселая.
Заглядывая в мои глаза, она говорит:
— Потанцуем?
Я сижу мрачный, хмурый. Отрицательно качаю головой.
— Спать хочется? — спрашивает она. — Тогда пойдем ко мне.
Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь. Китайские ширмочки. Китайские халаты. Это забавно. Смешно.
Мы ложимся спать.
Уже двенадцать. Глаза мои слипаются. Но я не могу заснуть. Мне нехорошо. Тоскливо. Беспокойно. Я томлюсь.
Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает. Дотрагивается до моего плеча. Говорит:
— Ты не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал? Там сейчас играют в лото. Танцуют.
— Пожалуйста, — говорю я.
С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю.
Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза.
Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу.
Я вхожу в избу. На столе керосиновая лампа. Офицеры играют в карты. На походной кровати, покуривая трубку, сидит подполковник. Я здороваюсь.
— Располагайтесь, — говорит подполковник. И, обернувшись к играющим, почти кричит: — Поручик К.! Восемь часов. Вам пора идти на работу.
Лихого вида поручик, красивый, с тонкими усиками, сдавая карты, отвечает:
— Есть, Павел Николаевич… Сейчас… Вот только доиграю.
Я с восхищением гляжу на поручика. Сейчас ему идти «на работу» — в ночь, в темноту, в разведку, в тыл. Может быть, он будет убит, ранен. А он так легко, так весело и шутливо отвечает.
Просматривая какие-то бумаги, подполковник говорит мне:
— Вот отдыхайте, а завтра и вас «на работу» пошлем.
— Есть, — отвечаю я.
Поручик уходит. Офицеры ложатся спать. Тихо. Я прислушиваюсь к далеким ружейным выстрелам. Это моя первая ночь вблизи от фронта. Мне не спится.
Под утро возвращается поручик К. Он грязный, усталый.
Я сочувственно его спрашиваю:
— Не ранены?
Поручик пожимает плечами. Я говорю:
— Сегодня мне тоже предстоит «работка».
Улыбаясь, поручик говорит:
— Да вы что думаете, что я на боевую операцию ходил? Я с батальоном ходил на работу. Отсюда три километра, в тыл. Мы там делаем вторую линию укрепления.
Мне ужасно неловко, совестно. Я едва не плачу от досады. Но поручик уже храпит.
Два солдата режут свинью. Свинья визжит так, что нет возможности перенести. Я подхожу близко.
Один солдат сидит на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины распластывается на обе стороны.
Визг такой, что впору заткнуть уши.
— Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили, — говорю я. — Чего же ее так кромсать.
— Нельзя, ваше благородие, — говорит первый солдат, сидящий на свинье. — Не тот вкус будет.
Увидев мою серебряную шашку и вензеля на погонах, солдат вскакивает. Свинья вырывается.
— Сиди, сиди, — говорю я. — Уж доканчивайте скорей.
— Быстро тоже нехорошо, — говорит солдат с ножом. — Крайняя быстрота сало портит.
С сожалением посмотрев на меня, первый солдат говорит:
— Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.
Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит:
— Нервы у их благородия.
Разговор принимает фамильярный оттенок. Это не полагается. Я хочу уйти, но не ухожу. Первый солдат говорит:
— В Августовских лесах раздробило мне кость вот в этой руке. Сразу на стол. Полстакана вина. Режут. А я колбасу кушаю.
— И не больно?
— Как не больно? Исключительно больно… Съел колбасу. «Дайте, говорю, сыру». Только съел сыр, хирург говорит: «Готово, зашиваем». — «Пожалуйста», говорю… Вот вам, ваше благородие, этого не выдержать.
— Нервы слабые у их благородия, — снова говорит второй солдат.
Я ухожу.
Ровно в двенадцать ночи мы выходим из окопов. Очень темно. В руках у меня наган.
— Тише, тише, — шепчу я, — не гремите котелками.
Но грохот унять невозможно.
Немцы начинают стрелять. Досадно. Значит, они заметили наш маневр.
Под свист и визг пуль мы бежим вперед, чтобы выбить немцев из их траншей.
Поднимается ураганный огонь. Стреляют пулеметы, винтовки. И в дело входит артиллерия.
Вокруг меня падают люди. Я чувствую, что пуля обожгла мою ногу. Но я бегу вперед.
Вот мы уже у самых немецких заграждений. Мои гренадеры режут проволоку.
Неистовый пулеметный огонь прекращает нашу работу. Нет возможности поднять руку. Мы лежим неподвижно.
Мы лежим час, а может, два.
Наконец телефонист протягивает мне телефонную трубку. Говорит командир батальона.
— Отступайте на прежние позиции.
Я отдаю приказ по цепи.
Мы ползем назад.
Утром в полковом лазарете мне делают перевязку. Рана незначительная. И не пулей, а осколком снаряда. Командир полка, князь Макаев, говорит мне:
— Я очень доволен вашей ротой.
— Мы ничего не сделали, ваше сиятельство, — сконфуженно отвечаю я.
— Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.
— Ах, это была демонстрация?
— Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.
Я чувствую в своем сердце невероятную досаду, но не показываю вида.
Перед балконом дачи — красивая клумба со стеклянным желтым шаром на подставке.
Убитых привозят на телегах и складывают на траву возле этой клумбы.
Их складывают, как дрова, друг на друга.
Они лежат желтые и неподвижные, как восковые куклы.
Сняв стеклянный шар с подставки, гренадеры роют братскую могилу.
У крыльца стоят командир полка и штабные офицеры. Приходит полковой священник.
Тихо. Где-то далеко рявкает артиллерия.
Убитых опускают в яму на полотенцах.
Священник ходит вокруг и произносит слова панихиды. Мы держим руки под козырек.
Могилу утрамбовывают ногами. Водружают крест.
Неожиданно приезжает еще подвода с убитыми. Командир полка говорит:
— Ну, как же так, господа. Надо было бы вместе.
Фельдфебель, приехавший на телеге, рапортует:
— Не всех сразу нашли, ваше сиятельство. Эти были на левом краю, в лощине.
— Что же делать? — говорит командир.
— Разрешите доложить, ваше сиятельство, — говорит фельдфебель. — Нехай эти полежат. Может, завтра будет еще. И тогда вместе захороним.
Командир согласен. Убитых относят в сарай. Мы идем обедать.
Полк растянулся по шоссе. Солдаты измучены, устали. Второй день, почти не отдыхая, мы идем по полям Галиции.
Мы отступаем. У нас нет снарядов.
Командир полка приказывает петь песни.
Пулеметчики, гарцуя на лошадях, запевают: «По синим волнам океана».
Со всех сторон мы слышим выстрелы, взрывы. Такое впечатление, будто мы в мешке.
Мы проходим мимо деревни. Солдаты бегут к избам. У нас приказ — уничтожить все, что на шоссе.
Это мертвая деревня. Ее не жалко. Здесь нет ни души. Здесь нет даже собак. Нет даже ни одной курицы, которые обычно бывают в брошенных деревнях.
Гренадеры подбегают к маленьким избам и поджигают соломенные крыши. Дым поднимается к небу.
И вдруг в одно мгновение мертвая деревня оживает. Бегут женщины, дети. Появляются мужчины. Ревут коровы. Ржут лошади. Мы слышим крики, плач и визг.
Я вижу, как один солдат, только что поджегший крышу, сконфуженно гасит ее своей фуражкой.
Я отворачиваюсь. Мы идем дальше.
Мы идем до вечера. И потом идем ночью. Кругом зарево пожаров. Выстрелы. Взрывы.
Под утро командир полка говорит:
— Теперь я могу сказать. Два дня наш полк был в мешке. Сегодня ночью мы вышли из него.
Мы падаем на траву и тотчас засыпаем.
Я запомнил название этой деревни — Тухла.
Здесь мы наспех вырыли окопы. Но проволочные заграждения натянуть не успели. Колючая проволока в больших мотках лежит позади нас.
Вечером я получаю приказ — идти в штаб. Под свист пуль я иду вместе с моим вестовым.
Я вхожу в землянку штаба полка.
Командир полка, улыбаясь, говорит мне:
— Малыш, оставайтесь в штабе. Адъютант в дальнейшем примет батальон. Вы будете вместо него.
Я ложусь спать в шалаше. Снимаю сапоги в первый раз за неделю.
Рано утром я просыпаюсь от взрыва снарядов. Я выбегаю из шалаша.
Командир полка и штабные офицеры стоят у оседланных лошадей. Я вижу, что все взволнованы и даже потрясены. Вокруг нас падают снаряды, визжат осколки и рушатся деревья. Тем не менее офицеры стоят неподвижно, как каменные.
Начальник связи, отчеканивая слова, говорит мне:
— Полк окружен и взят в плен. Минут через двадцать немцы будут здесь… Со штабом дивизии связи нет… фронт разорван на шесть километров.
Нервно дергая свои седые баки, командир полка кричит мне:
— Скорей скачите в штаб дивизии. Спросите, какие будут указания… Скажите, что мы направились в обоз, где стоит наш резервный батальон…
Вскочив на лошадь, я вместе с ординарцем мчусь по лесной дороге.
Раннее утро. Солнце золотит полянку, которая видна справа от меня.
Я выезжаю на эту полянку. Я хочу посмотреть, что происходит и где немцы. Я хочу представить себе полную картину прорыва.
Я соскакиваю с лошади и иду на вершину холма.
Я весь сияю на солнце — шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко.
Вдруг выстрел. Один, другой, третий. Трехдюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь.
И, лежа, вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более тысячи шагов.
Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной.
Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев.
Я вскакиваю на лошадь. И мы мчимся дальше.
Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии.
Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча расстегнут. Фуражка на затылке.
Соскочив с лошади, я вхожу в калитку.
Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зрадловский. Он цедит сквозь зубы:
— В таком виде… Застегните ворот…
Я застегиваю воротник и поправляю фуражку. У оседланных лошадей стоят штабные офицеры. Я вижу среди них начальника дивизии, генерала Габаева, и начальника штаба, полковника Шапошникова. Я рапортую.
— Знаю, — раздраженно говорит генерал.
— Что прикажете передать командиру, ваше превосходительство?
— Передайте, что…
Я чувствую какую-то брань на языке генерала, но он сдерживается.
Офицеры переглядываются. Начальник штаба чуть усмехается.
— Передайте, что… Ну, что я могу передать человеку, который потерял полк… Вы зря приехали…
Я ухожу сконфуженный.
Я снова скачу на лошади. И вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой. В руках у него фуражка. Седые его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Это солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой.
Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза.
Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет:
— Мой славный Мингрельский полк погиб.
Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой. Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось пятьсот человек. Это не мало. У нас снова будет полк.
Мы сидим в каком-то овине. До окопов семьсот шагов. Свистят пули. И снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бало Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк — наспех пополненный батальоном.
Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем.
— Пишите, — диктует мне командир.
На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии.
Тяжелый снаряд разрывается в десяти шагах от овина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой.
Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира.
— Ничего, — говорит он, — пишите.
Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман.
Нет нужды сидеть в этом овине, над которым теперь нет даже крыши.
— Ваше сиятельство, — говорю я, — разумней перейти на переднюю линию.
— Мы останемся здесь, — упрямо говорит командир.
Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад.
Мне казалось, что я был в аду! В аду я был двадцать пять лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.
В руках у меня чемодан. Я стою на станции Залесье. Сейчас подадут поезд, и я через Минск и Дно вернусь в Петроград.
Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду.
Вдруг выстрелы. По звуку — зенитки. На небе появляются немецкие самолеты. Их три штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок.
Две бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции.
Мы все бежим в поле. На поле — огороды, госпиталь с красным крестом на крыше и поодаль какие-то заборы.
Я ложусь на землю у забора.
Покружившись над станцией и сбросив еще одну бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. Три бомбы почти одновременно падают у заборов, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест. Его не заметить нельзя.
Еще три бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха.
Снова стреляют наши зенитки. Теперь осколки и стаканы нашей шрапнели осыпают наше поле. Я прижимаюсь к забору. И вдруг через щелочку вижу, что за забором артиллерийский склад.
Сотни ящиков с артиллерийскими снарядами стоят под открытым небом.
На ящиках сидит часовой и глазеет на самолеты.
Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Одна бомба, попавшая в ящики, перевернет все вокруг на несколько километров.
Сбросив еще несколько бомб, самолеты уходят.
Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум сорок раз.
Звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею.
На пороге ее сестры и мама.
Мы идем на улицу, чтоб спокойно поговорить. Мы садимся на скамью у памятника «Стерегущему».
Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:
— Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.
— Вы любите его? — спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.
— Нет, я его не люблю. Я люблю вас. Я больше никого не полюблю. Я откажу ему.
Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.
— Но как я могу ему отказать, — говорит Надя, медленно перебивая себя. — Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне именье в Смоленской губернии.
— Тогда не надо, — говорю я. — Ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен.
Надя говорит:
— Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить… Я вам отвечу послезавтра.
На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом.
В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.
Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.
Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.
Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор.
У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца.
Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе. Непременно будут сплетни.
Мы поднимаемся по лестнице.
Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру.
У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней и обнимаю ее. Она смеется. Удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице.
Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом.
Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит:
— Сейчас придет мой муж.
И в эту минуту открывается дверь, и входит ее муж. Тата едва успевает поправить свою прическу. Муж садится в кресло и молча смотрит на нас. Тата, не растерявшись, говорит:
— Николай, ты только посмотри на него, какой он стал.
Ведь он только сию минуту приехал с фронта.
Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня. Разговор не вяжется. И я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня.
Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне:
— Приходи завтра днем. Он уходит в одиннадцать.
Я молча киваю головой.
Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходят из моей головы. Мне кажется ужасным — и даже преступным — пойти к ней завтра днем.
Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт.
Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк.
Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает.
Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно написать письма. Другие приходят за советом.
Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют «внучек».
Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка. Зеркало для бритья. Исчезают конфеты, бумага.
Надо будет всех подтянуть и приструнить.
Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати.
Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.
Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.
Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой!» И если б он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.
Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке.
— Зачем же ты взял? — спрашиваю я его.
— Для махорки, ваше благородие, — бормочет он.
Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.
Вынув бритву, я отдаю ему коробку. И ухожу, раздраженный на самого себя.
Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это — Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони.
Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату.
Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку.
Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо.
Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу позвать вестового. Но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног. И звяканье котлов. Но криков нет. И нет выстрелов.
Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы!.. Маски!..» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.
Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы.
Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками.
Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее. На случай газовой атаки.
Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: «Маски!»
У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску.
Мы лежим четыре часа.
Начинает светать. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром.
Можно отойти вправо или влево — и тогда газ проходит мимо, не задевая.
Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.
Я в бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически они это делают.
Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало — расстояние полторы тысячи шагов.
Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их — большинство. Иные же стонут и не могут подняться.
Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака окончена.
Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасающей рвоты.
Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу.
Наш полк снова на отдыхе.
На розвальнях мы едем в обоз второго разряда — там предстоит ужин.
Начальник обоза встречает дорогих гостей.
На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь.
Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян. Но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом.
Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газов у меня непорядки в сердце.
Чтобы не пить, я выхожу на улицу. И сажусь на крыльцо.
Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло. Мы садимся на ее постель.
Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты.
Мы снова идем к столу.
Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я как камень засыпаю на своей походной койке.
Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это четыре бомбы — и самолет улетает.
Я выхожу на улицу. И вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс — пульса нет.
С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка.
Врач, покачивая головой, кричит:
— Камфару!
Мне впрыскивают камфару.
Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня сорок.
— Вам нельзя пить, — говорит врач. — Порок сердца.
И я даю себе слово больше не пить.
Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу.
1917–1920
Обратно к войскам поскакал на коне,
И новым повеяло ветром в стране…
Первые числа марта. С вокзала я еду на извозчике домой. Я еду мимо Зимнего дворца. Вижу на дворце красный флаг.
Значит — новая жизнь. Новая Россия. И я — новый, не такой, как был. Пусть все позади — мои огорчения, нервы, моя хандра, мое больное сердце.
С восторгом я вхожу в свой родной дом. И в тот же день обхожу всех моих друзей. Я вижу Надю и ее мужа. Встречаю Тату Т. Захожу к товарищам по университету.
Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: «Это ужасно. Это опасно для России. Я не жду ничего хорошего».
Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия.
Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть!
Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все силы отдать людям, стране, новой жизни.
Я иду в главный штаб, к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию.
Но я негоден в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа.
То, что мне больше всего неприятно, — исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени.
Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию.
Мне предлагают Архангельск — адъютантом дружины. Я соглашаюсь.
Через неделю я должен ехать.
За мной заходит правовед Л. Мы собираемся идти в один весьма аристократический дом — к княгине Б.
Л. просит меня надеть все мои ордена.
— Ей будет приятно, — говорит он. — Ее муж до сих пор на фронте. Он командует гвардейской дивизией.
Я показываю свои ордена. Один орден — на моей кавказской шашке. Два ордена приклепаны на моем портсигаре. Четвертый орден носится на шее. Мне вообще как-то неловко его надеть. Пятый орден я не получил на руки — только в приказе.
Л. настаивает. Он прилаживает орден под воротник моего френча.
Чувствуя себя неважно, я иду с правоведом на Офицерскую.
Мне не приходилось раньше бывать среди аристократии. Февральская революция сломала сословные перегородки. И вот я иду в этот дом.
В маленькой гостиной два гвардейских офицера, несколько правоведов и лицеист.
Княгиня нехороша собой — небольшого роста, с мелкими чертами лица. Но она держится очень просто. И я не чувствую неловкости.
Лакей бесшумно вкатывает в комнату стеклянный столик на колесиках. Княгиня разливает чай.
Разговор все время вокруг царской фамилии. Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровье того или иного члена царской семьи. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках.
Я как бревно сижу в кресле, со своим орденом на шее. Мне абсолютно нечего сказать на эту тему. Я с тоской посматриваю на моего знакомого правоведа. Он отводит глаза от меня.
Попив чай, мы переходим в большую гостиную. Однако тема разговора не меняется.
Наконец кто-то из правоведов начинает петь модную тогда песенку: «По улицам ходила большая крокодила…» Все подхватывают эту песенку.
Они поют ее пять или шесть раз и при этом смеются. Один из правоведов берет в зубы какой-то шарф, когда песенка доходит до слов: «В зубах она держала кусочек одеяла…»
Все страшно смеются. И княгиня снисходительно посмеивается.
В семь часов мы выходим на улицу. Л. спрашивает меня, как мне понравилось. Я пожимаю плечами.
Я приехал в Архангельск мрачный, в ужасной тоске. Тем не менее, а может быть и поэтому, меня там начали сватать.
Мне прочили в невесты Ваву М. — дочь очень богатого рыботорговца.
Я не видел эту девушку, и она не видела меня. Но там было принято такое сватовство. Это занимало дам, которым нечего было делать.
Мою встречу с невестой обставили торжественно — в зимнем саду какого-то богатого дома.
Передо мной была очень юная, очень тихая девушка.
Нас оставили вдвоем, чтоб мы побеседовали.
Я всегда был неразговорчив. Но в тот вечер случилась просто катастрофа. Я клещами вытаскивал из себя слова, чтобы заполнить ужасающие паузы.
Девушка испуганно смотрела на меня и тоже молчала.
Я ниоткуда не ждал спасения. Все ушли в дальние комнаты и плотно прикрыли дверь зимнего сада.
Тогда я стал читать стихи.
Я стал читать стихи из модной книжки В. Инбер — «Печальное вино». Потом я стал читать Блока и Маяковского.
Вава слушала меня внимательно, не проронив слова.
Когда в гостиную вошли люди, я был почти весел. Я спросил Ваву, понравилось ли то, что я ей читал. Она тихо сказала:
— Я не люблю стихи.
— Так зачем же вы целый час слушали их! — воскликнул я, глухо пробормотав: «Дура».
— Это было бы невежливостью с моей стороны не слушать то, что вы говорите.
Почти по-солдатски я повернулся на каблуках и, взбешенный, отошел от девушки.
По вторникам и субботам мы бываем у Д. Это молодая женщина, вдова морского офицера.
У нее всегда очень весело. Она остроумна и кокетлива.
Я не имею у нее успеха. Ей нравится мичман Т. — добродушный широкоплечий офицер.
Вечер. Мы играем у нее в покер. Д. кокетничает с мичманом. Она как бы невзначай прикасается рукой к его руке и подолгу смотрит в его глаза. Похоже на то, что она пригласит его бывать у себя не только по вторникам и субботам.
Впрочем, со мной она тоже приветлива. Но не настолько. Она говорит, что я слишком инертен, немужественен, печален. Меланхолия — это не ее идеал.
Мы уходим от нее ночью. И на улице подшучиваем над мичманом, который загадочно улыбается.
Утром я не нахожу свои перчатки. Мне очень жаль их. Это английские замшевые перчатки. Должно быть, я оставил их у Д.
По телефону я звоню Д. В ответ я слышу продолжительный смех. Сквозь смех она говорит мне:
— Ах, это ваши перчатки? Я почему-то была уверена, что это перчатки мичмана…
Я захожу к ней в назначенный час. Она не отпускает меня, и мы пьем чай в ее будуаре.
Попив чай, она склоняет свою голову мне на грудь. И я ухожу от нее через три часа.
В передней она подает мне мои замшевые перчатки.
— Вот ваши перчатки, плутишка, — говорит она, улыбаясь. — Согласитесь сами, что это немножко наивный прием — оставить перчатки, чтоб потом прийти к даме.
Я бормочу извинения. Смеясь, она грозит мне пальцем. Вздохнув, говорит:
— Как видите, я оценила вашу милую уловку. Вы предприимчивы. Я не ожидала этого от вас…
— Мадам, — говорю я, — уверяю вас… Я случайно забыл перчатки… Я не имел никаких намерений…
Я пожалел о том, что я так сказал. Лицо ее стало некрасивое, желтое, почти старое.
— Ах, вот как, — сказала она сквозь зубы. — В таком случае я очень сожалею… О, пусть мне это будет уроком!
Она меня больше не приглашала к себе. Я бы так же поступил на ее месте.
В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит:
— Завтра, в двенадцать часов дня, вы можете получить паспорт. Через десять дней вы будете в Париже… Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию.
— Я не просил об этом мадемуазель Р., — говорю я полковнику.
Прищурившись, он смотрит на меня.
— Ах, вот как, — говорит он. — В таком случае извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием.
Я говорю:
— Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение.
Пожав плечами, он говорит:
— Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране?.. Прежде всего это небезопасно для жизни — пролетарская революция… Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени… Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в двенадцать.
— Хорошо, я подумаю, — говорю я. Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнений. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже.
Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой. Но она очень веселая и смешливая. Кое-что я не понимаю в ней. Она всякий раз берет из пепельницы мой окурок папиросы и прячет его в сумку. «Это на память», — говорит она. Я не могу ее отучить от этой дурной манеры. Вероятно, она провинциалка. Но она утверждает, что она родилась в Париже.
Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит:
— Это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж.
Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить.
Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей:
— В таком случае зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь всего — гувернантка, учительница. А там вы будете швея.
Она говорит:
— Я приехала сюда к миллионеру. Это интересно… А там я буду не швея, а кокотка.
Мы смеемся.
Я взбегаю на третий этаж одним духом. Сердце мое колотится.
Я звоню у Надиных дверей. Никто не отворяет. Я стучу в дверь сначала тихо, потом стучу ногой.
Открывается соседняя дверь.
— Вам нужно В.? — спрашивает старуха. — Они все уехали.
— Куда?
— Не знаю. Спросите дворника.
Я стою у ворот. Передо мной дворник. Он узнал меня. Улыбается.
— Все В. уехали, — говорит он почти радостно.
— Когда?
— В том месяце. В феврале.
— А вы не знаете, куда они уехали?
— Куда ж они могли уехать? К белым… Ну, так ведь папаша — генерал… А тут ваших дробили — красота!.. Конечно, уехали…
Должно быть, увидев смятение на моем лице, дворник сочувственно вздыхает.
— Да вы по ком страдали-то? — спрашивает он. — Что-то я не помню — но Наденьке или по Катеньке.
— По Наденьке.
— Очень милая госпожа, — говорит он. — Папа — генерал, супруг — помещик… Ясно… Взяла младенца и уехала.
— Разве у нее был ребенок?
— Я же говорю — взяла только что родившегося ребенка и уехала.
Я иду домой. Весь мир мне кажется тусклым.
Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки.
Я — сапожник. Мне нравится эта работа. Я презираю интеллигентский труд — это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра.
Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть.
Напротив меня, за низким грязным столом, сидит хозяин Алексей Алексеевич — толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник — подросток Андрюшка. Они оба работают сосредоточенно.
Подросток не без лихости бьет молотком по подметке.
Позади, на деревянном диване, — белобрысый хозяйский сын. Оболтусу двадцать лет. Он поступает в консерваторию, на класс скрипки. По этой причине он не работает. Он сидит с газетой в руках.
Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурату, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился.
Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее все смеются. И я тоже смеюсь — это почему-то смешно.
На наш смех иной раз выходит из кухни хозяйка и, встав у дверей, тоже смеется, утирая передником рот и глаза.
Хозяин, впрочем, не позволяет рассказывать эту историю. Он сердится и бранится, когда начинается этот рассказ. Но его самого захватывают подробности, и он смеется сильнее всех, держась рукой за живот. У него язва желудка, и ему нельзя смеяться. Поэтому он запрещает этот рассказ.
Однако подросток либо хозяйский сын нарочно заводят об этом речь. Они начинают издалека, как бы с посторонних предметов — с выпивки, с денатурата, со спящих людей. Но всякий раз подгоняют разговор к происшествию.
На этот раз подросток начинает с дворника, который испугался. Хозяйский сын подбрасывает несколько фраз не в пользу дворника. И тогда подросток, взвизгивая от смеха, рассказывает подробности — как бросился бежать этот дворник, когда рука падающего жильца ударила его по плечу и затылку.
От смеха хозяин мотается на табуретке, по временам охая и хватаясь за живот.
Наконец он выскакивает на кухню.
Я говорю:
— Не следует его смешить. Видите — ему опять нехорошо.
Хозяйский сын говорит:
— Чепуха. У папаши тошнота. Всем известно — это облегчает людей.
Возвращается хозяин, утирая рот рукавом. Мы снова молча работаем.
Бывшая помещичья усадьба «Маньково» в Смоленской губернии. Сейчас здесь совхоз.
При исполкоме я прилично сдал экзамены на звание птицевода. И теперь я заведующий птицеводческой фермой.
Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь.
Две недели я не отхожу от птиц, почти ночую с ними, стараясь изучить их характер и нравы.
На третью неделю я позволяю себе небольшие прогулки в окрестности.
Я хожу по проселочным дорогам. По временам встречаю крестьян.
Всякий раз меня ошеломляют эти встречи. Шагов за пятнадцать крестьянин снимает свою шапку и низко кланяется мне.
Я вежливо приподнимаю свою кепку и сконфуженно прохожу.
Сначала я думаю, что эти поклоны случайны, но потом вижу, что это повторяется всякий раз.
Быть может, меня принимают за какую-нибудь важную шишку?
Я спрашиваю старуху, которая только что поклонилась мне почти в землю.
— Бабушка, — говорю я, — почему вы так кланяетесь мне? В чем дело?
Поцеловав мою руку и ничего не сказав, старуха уходит.
Тогда я подхожу к крестьянину. Он пожилой. В лаптях. В рваной дерюге. Я спрашиваю его, почему он содрал с себя шапку за десять шагов и поклонился мне в пояс.
Поклонившись еще раз, крестьянин пытается поцеловать мою руку. Я отдергиваю ее.
— Чем я тебя рассердил, барин? — спрашивает он.
И вдруг в этих словах и в этом его поклоне я увидел и услышал все. Я увидел тень прошлой привычки жизни. Я услышал окрик помещика и тихий рабский ответ. Я увидел жизнь, о которой я не имел понятия. Я был поражен, как никогда в жизни.
— Отец, — сказал я крестьянину, — вот уже год власть у рабочих и крестьян. А ты собираешься лизать мне руку.
— До нас не дошло, — говорит крестьянин. — Верно, господа съехали со своих дворов, живут по хатам… Но кто ж его знает, как оно будет…
Я иду с крестьянином до его деревни. Я захожу в его избу.
На каждом шагу я вижу чугунную тень прошлого.
Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик.
Он лежит уже третий день и не умирает.
Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают.
У изголовья родственники. Они смотрят на старика не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета…
Старик лежит ногами к окну. Лицо у него темное, напряженное. Дыхание неровное. Иной раз кажется, что он уже умер.
Наклонившись к старухе — его жене, я тихо говорю ей:
— Я съезжу за доктором. Не дело, что он третий день лежит на столе.
Старуха отрицательно качает головой.
— Не надо его тревожить, — говорит она.
Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут.
Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотанье.
— Что он? — спрашивает старуха.
— Титьку просит, — отвечает женщина. И, быстро расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь.
Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровней, спокойней.
Все стоят молча, не шевелясь.
Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгим и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер.
Тотчас старуха начинает голосить. И вслед за ней голосят все.
Я выхожу из избы.
На столе керосиновая лампа под кокетливым розовым абажуром. Мы играем в преферанс.
Мои партнеры — толстая дама Ольга Павловна, старик с гнилыми зубами и его дочь — молодая красивая женщина Вероника. Это бывшие помещики из соседних районов. Они не пожелали уехать далеко от своих владений. Сняв у крестьян эту избу, они живут здесь на правах частных людей.
Вот уже четыре часа мы сидим за столом. Мне осточертела эта игра. Я бы с наслаждением ее бросил. Но мне неудобно — я в проигрыше, у меня большой ремиз наверху.
Мне безумно не везет. Везет Ольге Павловне, которая с каждой удачей делается все более шумной и радостной.
Открыв «10 игры», она от восторга ударяет ладонью по столу.
— Я счастливая! — кричит она. — Мне всегда и во всем везло… Пройдет два-три месяца, и я уверена, что получу обратно свое имение…
Старик с гнилыми зубами начинает смеяться.
— Одно дело карты, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит он, — а другое дело — Россия, политика, революция.
— Безразлично! — кричит Ольга Павловна. — В жизни мы тоже играем в карты. Одному везет, другому не везет. А мне всегда и во всем везло — ив жизни, и в карты… Вот увидите, я скоро получу обратно свое «Затишье»…
Сдавая карты, она говорит:
— Получу свое «Затишье», немного попорю своих мужиков, и все пойдет по-старому.
— После такой революции только лишь попорете? — спрашивает гнилозубый старик, перестав смеяться.
Ольга Павловна, прекратив сдачу, говорит:
— Я не такая безмозглая, чтобы сажать в тюрьму своих мужиков. Я не намерена остаться без рабочей силы. Имейте это в виду…
— Ну нет, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит старик. — Я категорически не согласен с вами… И буду возражать против вашей политики… Двоих я вешаю — я знаю кого. Пятерых отправлю на каторгу. Остальных — порю и штрафую. Пусть они год работают только на меня.
Я бросаю свои карты так, что они подскакивают на столе и рассыпаются по полу.
— Ох! — надменно восклицает Ольга Павловна.
— Негодяи, преступники! — говорю я тихо. — Это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак…
Я выгребаю из карманов деньги и швыряю их на стол.
Меня колотит лихорадка.
Я выскакиваю в сени и, нащупав шубу, с трудом всовываю в нее свои руки.
В комнате тихо. Даже никто не шепчется. Я жду, что в сени выйдет Вероника, но она не выходит.
Я иду во двор. Вывожу лошадь из ворот. Ложусь в розвальни.
Лошадь бойко бежит — она сама знает дорогу.
Над моей головой темное небо, звезды. Вокруг снег, поля. И ужасная тишина.
Зачем я приехал сюда? Для чего я тут, среди птиц и шакалов? Я завтра же уеду отсюда.
Я сижу за столом. Переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка.
Я — адъютант 1-го Образцового полка деревенской бедноты.
Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия фронта — она идет от берега Финского залива через Нарву — Ямбург.
Наш штаб полка в Ямбурге.
Я переписываю приказ красивым четким почерком.
Командир и комиссар уехали на позиции. У меня порок сердца. Мне нельзя скакать на лошади. И поэтому они редко берут меня с собой.
Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном, грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется.
Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.
— Что вам угодно? — спрашиваю я.
Сняв шапку, человек мнется у дверей.
Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.
Он говорит, еле шевеля губами:
— Если Красная Армия будет отходить — отходить ли нам вместе с вами или оставаться?
— А кто вы будете? — спрашиваю я.
— Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.
Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно я вытираю свою руку о свои ватные штаны.
— Не знаю, — говорю я. — Я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт отойдет дальше Ямбурга.
Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому.
Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки.
Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.
Я потерял сознание, когда утром вышел из штаба, чтобы пройтись немного по воздуху.
Часовой и телефонист приводили меня в чувство. Они почему-то терли мои уши и разводили мои руки, как утопленнику. Тем не менее я очнулся.
Командир полка сказал мне:
— Немедленно поезжайте отдохнуть. Я вам дам две недели отпуска.
Я уехал в Петроград.
Но в Петрограде я не чувствовал себя лучше.
Я пошел в военный госпиталь за советом. Послушав мое сердце, мне сказали, что для армии я негоден. И оставили меня в госпитале до комиссии.
И вот вторую неделю я лежу в палате.
Кроме того, что я плохо <себя> чувствую, я еще голоден. Это — девятнадцатый год! В госпитале дают четыреста граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому двадцать три года.
Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья.
Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два каравая хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности.
Кто-то из больных просит:
— Свидеров, дай кусочек.
Тот говорит:
— Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам.
Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:
— А тебе, интеллигент, дать?
Я говорю:
— Только не бросай. А положи на мой стол.
Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней.
Он молча сидит, поглядывает на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех.
Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.
Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.
Мысли у меня самые горькие.
Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена «Красная газета».
В газете «Почтовый ящик». Там ответы авторам.
Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.
Я написал этот рассказик не для того, чтоб заработать. Я — телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так: мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом — М. М. Чирков.
Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю «Почтовый ящик».
Вижу: «М. М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри».
Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?
Начинаю вспоминать то, что я написал.
Нет, как будто бы правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой… Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет… Передо мной — новый мир, новые люди, новая речь…
Я иду на вокзал, чтобы ехать в Стрельну на дежурство. Я сажусь в поезд и час еду.
Черт меня дернул снова склониться к интеллигентскому труду. Это в последний раз. Больше этого не будет. В этом виновата моя неподвижная, сидячая работа. У меня слишком много времени для того, чтобы думать.
Я переменю работу.
Ночь. Темно. Я стою на каком-то пустыре Лигова. В кармане моего пальто — наган.
Рядом со мной работник угрозыска. Он шепчет мне:
— Вы встаньте у окна так, чтоб моя пуля не задела вас, если я буду стрелять… Если он выскочит в окно — стреляйте… старайтесь в ноги…
Затаив дыхание, я подхожу к окошечку. Оно освещено. Спиной я прижимаюсь к стене. Скосив глаза, заглядываю поверх занавески.
Я вижу кухонный стол. Керосиновую лампу.
Мужчина и женщина сидят за столом, играют в карты.
Мужчина сдает грязные, лохматые карты. Ходит, прихлопывая карту ладонью. Оба смеются.
Н. и три работника розыска наваливаются на дверь одновременно.
Это ошибка. Нужно было найти иной способ открыть дверь. Она не сразу поддается усилиям.
Бандит тушит лампу. Темно.
Дверь с треском раскрывается. Выстрелы…
Я поднимаю наган на уровне окна.
Тихо.
Мы зажигаем лампу в избе. На табуретке сидит женщина — она бледна и дрожит. Ее партнера нет — он ушел в другое окно, которое было заколочено досками.
Мы рассматриваем это окно. Доски были приколочены так, что они отваливались от легкого нажима.
— Ничего, — говорит Н., — мы поймаем его.
На рассвете мы задерживаем его на четвертой версте. Он стреляет в нас. И потом стреляет в себя.
Холодно. Идет пар изо рта.
Обломки моего письменного стола лежат у печки. Но комната нагревается с трудом.
На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка — это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди.
Я подхожу к матери. Она — под двумя одеялами и двумя пальто.
Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку.
Гаснет коптилка. Я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью, на ее кровать.
Долго сижу, всматриваюсь в ее измученное лицо.
Кругом тихо. Сестры спят. Уже два часа ночи.
— Не надо, не надо… не делайте этого… — бормочет мать.
Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков. На секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду.
Но вот ее лицо делается спокойней. Дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше…
Я вижу — как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла.
У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в свою комнату.
Деревянные сани на деревянных полозьях.
На санях стоит некрашеный гроб.
Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище.
За санями идут мои сестры и мой маленький брат.
Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища — овес.
Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать.
Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер четырнадцать лет назад.
Рядом с этой могилой вырыта новая.
Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери.
На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.
Я везу эти вещи на новую квартиру.
В моей жизни перемена.
Я не мог остаться в квартире, где была смерть.
Одна женщина, которая меня любила, сказала мне:
— Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.
Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена.
Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.
Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.
Передо мной — подъем на Тучков мост.
У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа — поможет мне взять это возвышение.
Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.
Черт с ними! Я должен сам… Если б только не перебои сердца… Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.
Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.
Теперь легко.
1920–1926
Если б со счастьем дружил я, поверь,
Не этим бы стал заниматься теперь.
Этот дом на углу Мойки и Невского.
Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера.
Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены.
Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.
Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель «Обезьяньей вольной палаты». Вот стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.
Он с кем-то разговаривает по-английски.
Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит — кроме себя и противника.
Я здороваюсь с Замятиным.
Обернувшись ко мне, он говорит:
— Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть…
Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.
У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.
Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского.
Он не оборачивается, когда мы входим.
— Александр Александрович, — говорит Замятин.
Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас.
Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие.
Блок протягивает руку — она вялая и безжизненная. Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытьи… Я бормочу извинения.
Немного глухим голосом Блок спрашивает меня:
— Вы будете выступать на вечере?
— Нет, — говорю я. — Я пришел послушать литераторов.
Извинившись еще раз, я торопливо ухожу.
Замятин остается с Блоком.
Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит.
Я спрашиваю кого-то: «Сколько лет Блоку?» Мне отвечают: «Около сорока».
Ему нет сорока лет! Но Байрону было тридцать, когда он сказал:
У Байрона нет вопросительного знака после слов «То пресыщенье». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю — неужели это пресыщенье?
Начинается литературный вечер.
Это кафе на Садовой, двенадцать. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами.
Кругом пьяные крики, шум, табачный дым.
Играет скрипка.
Я бормочу стихи Блока:
К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант.
Лицо этого человека обсыпано пудрой.
Губы и брови подведены.
На лице улыбка — пьяная и немного сконфуженная. Кто-то говорит:
— Сережа, садись с нами.
Теперь я вижу, что это Есенин.
Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного. Бормочет: «Дам в морду… уходи…»
Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. Снова улыбается как-то сконфуженно и жалко.
За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы.
Кто-то еще подходит к нашему столику. Кто-то кричит: «Надо составить столы». Начинают сдвигать столы. Я выхожу на улицу.
Мы входим на кухню. На плите — большие медные кастрюли.
Мы проходим через кухню в столовую.
Навстречу нам идет Горький.
Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах.
Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое.
В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу — Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева.
Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя.
Он говорит интересно и даже увлекательно. Но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо — умное, грубоватое и совсем не простое.
Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Вероятно, это нехорошо, беспокойно, утомительно. Я бы не хотел этого.
Как бы в ответ на мои мысли, Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на днях он ехал в машине и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий — это нам безразлично. Предъяви пропуск».
Горький чуть улыбается. Потом снова говорит о литературе, о народе, культуре.
Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький.
Мы встаем. Прощаемся.
Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу, Горький спрашивает:
— Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?
В ответ я что-то бормочу о своем сердце.
— Это нехорошо, — говорит Горький. — Надо полечиться… Вы на днях зайдите ко мне — поговорим о ваших делах.
Мы снова идем через кухню. Выходим на лестницу. Выходим на Кронверкский проспект — на проспект Горького.
По бесконечным лестницам я хожу вверх и вниз. В руках у меня папка с бумагами, с бланками. В эти бланки я вписываю сведения о жильцах. Это — всесоюзная перепись населения.
Я взял эту работу, чтоб увидеть, как живут люди.
Я верю только своим глазам. Как Гарун аль Рашид, я хожу по чужим домам. Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревках, ужасную тесноту, мусор, рвань. Да, конечно, только недавно миновали тяжелые годы, голод, разруха… Но все же я не думал, что увижу то, что увидел.
Я вхожу в полутемную комнату. На койке, на грязном тюфяке, лежит человек. Он неприветливо меня встречает. Даже не поворачивается ко мне. Глядит в потолок.
— Где вы работаете? — спрашиваю я.
— Работают ослы и лошади, — говорит он. — Лично я не работаю и не собираюсь работать. Так и запишите в ваши паршивые бумаги… Можно приписать — хожу в клуб, играю в карты…
Он раздражен. Может быть, болен. Я хочу уйти, чтоб взять сведения у соседей. Уходя, я смотрю на него. Где-то я видел это лицо.
— Алеша! — говорю я.
Он садится на койке. Лицо у него небритое, хмурое.
Я вижу перед собой Алешу Н. — гимназического товарища. Он был старше меня классом. Это был чистюля, зубрила, первый ученик, маменькин сынок…
— Что случилось, Алеша? — бормочу я.
— Ровным счетом ничего не случилось, — говорит он. Я вижу досаду на его лице.
— Может, я могу помочь тебе чем-нибудь.
— Абсолютно ничего не надо, — говорит он. — Впрочем, если у тебя есть деньги, дай пятерку, схожу в клуб.
Я ему даю значительно больше, но он берет только пять рублей.
Через несколько минут я сижу на его койке, и мы с ним беседуем, как когда-то, десять лет назад.
— В сущности, история самая пошлая, — говорит он. — Ушла жена с одним прохвостом. Начал пить. Пропил все, что было. Потерял работу. Стал играть в клубе… А теперь, понимаешь, не хочется вернуться к тому, что было. Мог бы, но не хочу. Все ерунда, чушь, комедия, вздор, дым…
Я беру с него слово, что он зайдет ко мне.
На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтоб я написал фельетон.
Я просматриваю эти письма. Они беспомощны, комичны. Но вместе с тем они серьезны. Еще бы! Речь идет о немаловажном житейском деле — о банях.
Набросав план, я принимаюсь писать.
Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.
Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.
Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит.
От смеха я чувствую боль в животе.
В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.
Я кричу:
— Извините, Петр Алексеевич…
Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.
Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.
Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать.
Два часа ночи. Я ложусь. Но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов.
Светает. Я принимаю бром, чтоб заснуть.
Редакция толстого журнала «Современник».
Я дал в этот журнал пять самых лучших маленьких рассказов. И вот пришел за ответом.
Передо мной один из редакторов — поэт М. Кузмин. Он изысканно вежлив. Даже сверх меры. Но по его лицу я вижу, что он намерен мне сообщить нечто неприятное.
Он мнется. Я выручаю его.
— Вероятно, мои рассказы не совсем в плане журнала? — говорю я.
Он говорит:
— Понимаете, у нас толстый журнал… А ваши рассказы… Нет, они очень смешны, забавны… Но они написаны… Ведь это…
— Чепуха, вы хотите сказать? — спрашиваю я. И в моем мозгу загорается надпись под гимназическим сочинением — «Чепуха».
Кузмин разводит руками.
— Боже сохрани. Я вовсе не хочу этого сказать. Напротив. Ваши рассказы очень талантливы… Но согласитесь сами — это немножко шарж.
— Это не шарж, — говорю я.
— Ну, взять хотя бы язык…
— Язык не шаржирован. Это синтаксис улицы… народа. Быть может, я немного утрировал, чтоб это было сатирично, чтоб это критиковало…
— Не будем спорить, — говорит он мягко. — Вы дайте нам обыкновенную вашу повесть или рассказ… И поверьте — мы очень ценим ваше творчество.
Я ухожу из редакции. У меня уже нет тех чувств, какие я когда-то испытывал в гимназии. У меня нет даже досады.
«Бог с ним, — думаю я. — Обойдусь без толстых журналов. Им нужно нечто "обыкновенное". Им нужно то, что похоже на классику. Это им импонирует. Это сделать весьма легко. Но я не собираюсь писать для читателей, которых нет. У народа иное представление о литературе».
Я не огорчаюсь. Я знаю, что я прав.
День. Солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет С. Есенин.
Он в элегантном синем пальто с поясом. Без шляпы.
Лицо у него бледное. Глаза потухшие. Он медленно идет. Что-то бормочет. Я подхожу к нему.
Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике.
Я хочу уйти, но он не отпускает меня.
— Вам нехорошо? Вы нездоровы? — спрашиваю я его.
— А что? — тревожно спрашивает он. — У меня плохой вид?
И вдруг смеется. Говорит:
— Старею, милый друг… Скоро ударит тридцать… Мы доходим до Европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит:
— Зайдемте напротив. В пивную. На минуту. Мы входим в пивную.
За столиком поэт В. Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам.
Есенин что-то говорит официанту. И тот приносит ему стакан рябиновки.
Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче. Жесты уверенней. Глаза зажигаются.
Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи…
Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью.
Встав со стула, он читает поэму «Черный человек».
Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин».
Нас окружает почти вся пивная.
Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи.
Он чудесно читает, и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает.
Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину.
Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним. Все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать.
Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит.
Я выхожу из пивной.
Вечер. Я иду по Невскому с К.
Я познакомился с ней в Кисловодске.
Она красива, остроумна, весела. В ней та радость жизни, которой нет во мне. И, может быть, это меня больше всего в ней прельщает.
Мы идем, нежно взявшись за руки. Мы выходим на Неву. Идем по темной набережной.
К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку.
Но вот я слышу какое-то недовольство в этой музыке. Я прислушиваюсь.
— Вторую неделю мы ходим с вами по улицам, — говорит она. — Мы обошли все эти дурацкие набережные, сады. Мне просто хотелось бы посидеть с вами в какой-нибудь гостиной, поболтать, выпить чаю.
— Зайдемте в кафе, — говорю я.
— Нет, там нас могут увидеть.
Ах, да. Я совсем забыл. У нее сложная жизнь. Ревнивый муж, очень ревнивый любовник. Много врагов, которые сообщат, что нас видели вместе.
Мы останавливаемся на набережной. Обнимаем друг друга. Целуемся. Она бормочет:
— Ах, как глупо, что это улица.
Мы снова идем и снова целуемся. Она закрывает свои глаза рукой. У нее кружится голова от этих бесконечных поцелуев.
Мы доходим до ворот какого-то дома. К. бормочет:
— Я должна зайти сюда, к портнихе. Вы подождите меня здесь. Я только примерю платье и сейчас же вернусь.
Я хожу около дома. Хожу десять минут, пятнадцать, наконец она появляется. Веселая. Смеется.
— Все хорошо, — говорит она. — Получается очень милое платье. Оно очень скромное, без претензий.
Она берет меня под руку, и я провожаю ее до дома. Я встречаюсь с ней через пять дней. Она говорит:
— Если хотите, сегодня мы можем встретиться с вами в одном доме — у одной моей знакомой.
Мы подходим к какому-то дому. Я узнаю этот дом. Здесь, у ворот, я ждал ее двадцать минут. Это дом, где живет ее портниха.
Мы поднимаемся на четвертый этаж. Она открывает квартиру своим ключом. Мы входим в комнату. Это хорошо обставленная комната. Непохоже, что это комната портнихи.
По профессиональной привычке я перелистываю книжку, которую я нахожу на ночном столике. На заглавном листке я вижу знакомую мне фамилию. Это фамилия возлюбленного К.
Она смеется.
— Да, мы в его комнате, — говорит она. — Но вы не беспокойтесь. Он на два дня уехал в Кронштадт.
— К., — говорю я, — я беспокоюсь о другом. Значит, тогда вы были у него?
— Когда? — спрашивает она.
— Тогда, когда я ждал вас у ворот двадцать минут.
Она смеется. Закрывает мой рот поцелуем. Говорит:
— Вы были сами виноваты.
Окно моей комнаты выходит на угол Мойки и Невского. Я подхожу к окну. Необыкновенная картина — река вздулась, почернела. Еще полметра — и вода выйдет из берегов. Я бегу на улицу. Ветер. Неслыханный ветер дует с моря.
Я иду по Невскому. Я взволнован и возбужден. Дохожу до Фонтанки. Фонтанка почти сравнялась с мостовой. Кое-где вода плещется на тротуаре.
Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую сторону. Там живет моя семья — жена и крошечный сын. Они живут у своих родных. Я переехал в Дом искусств, чтоб крики младенца не мешали моей работе.
Теперь я спешу к ним. Они живут в первом этаже на Пушкарской. Быть может, им нужно перебраться во второй этаж.
Трамвай въезжает на Александровский проспект. Мы едем по воде. Останавливаемся. Дальше ехать нельзя. Деревянные торцы всплыли и мешают трамваю двигаться.
Пассажиры соскакивают в воду. Здесь неглубоко — до колена.
Я иду по воде и дохожу до Большого проспекта. На проспекте еще нет воды.
Я почти бегу на Пушкарскую. Вода не дошла сюда.
Мои встревожены и взволнованы. Они очень рады, что я пришел и теперь с ними.
Переодевшись, я снова иду на улицу. Мне хочется увидеть — прибывает ли вода.
Я выхожу на Большой проспект. Покупаю хлеб в булочной. Подхожу к Введенской. Сухо.
И вдруг необычайная картина — вода выступает изо всех люков и стремительно заливает мостовую. Снова по воде я иду домой.
Вода уже на ступеньках лестницы.
С узлами мы переходим во второй этаж.
На ступеньках лестницы я делаю отметки мелом, чтоб видеть, как идет повышение.
В пять часов дня вода уже плещется у дверей.
Темнеет. Я сижу у окна и прислушиваюсь к завыванию ветра.
Теперь почти весь город в воде. Вода поднялась почти на две сажени.
На темном небе зарево каких-то пожаров.
Светает. Из окна я вижу, как вода постепенно уходит.
Я выхожу на улицу. Ужасное зрелище. На проспекте барка с дровами. Бревна. Лодки. На боку лежит суденышко с мачтой.
Всюду разгром, хаос, разрушение.
Аля пришла ко мне запыхавшись. Она сказала:
— Еле отпустил… Я говорю: «Ну пойми, Николай, — я же должна проводить мою лучшую подругу — она уезжает в Москву и неизвестно когда вернется…»
Я спросил Алю:
— Когда поезд уходит с твоей подругой?
Она засмеялась, захлопала в ладоши.
— Вот видишь, — сказала она, — и ты поверил… Никто не уезжает. Это я выдумала, чтобы прийти к тебе.
— Поезд в Москву уходит в десять тридцать, — сказал я. — Значит, ты должна быть дома около одиннадцати.
Было уже двенадцать, когда она взглянула на часы. Она вскрикнула. Подбежала к телефону, даже не надев туфли.
Сняв трубку, она села в кресло. Она дрожала от холода и от волнения.
Я бросил ей плед. Она прикрыла пледом свои ноги.
Она была удивительно хороша — почти как на картине Ренуара.
— Зачем ты звонишь? — сказал я ей. — Лучше скорей оденься и иди.
Она с досады махнула рукой в мою сторону.
— Николаша, — сказала она в трубку, — представь себе, поезд опоздал и только что ушел. Через десять минут я буду дома.
Я не знаю, что сказал ее муж, но она ответила:
— Я же тебе русским языком говорю — поезд ушел. Сейчас буду дома.
Должно быть, муж сказал, что уже двенадцать.
— Разве? — сказала она. — Ну, не знаю, как на твоих часах, а здесь, на вокзальных…
Она закинула свою голову вверх и посмотрела на мой потолок.
— Здесь, на вокзальных, — повторила она, — ровно одиннадцать.
Она прищурила свои глаза, как бы всматриваясь в далекие вокзальные часы.
— Да, — сказала она, — ровно одиннадцать, даже две минуты двенадцатого. У тебя архиерейские часы…
Повесив трубку, она стала смеяться.
Сейчас эта маленькая кукла, набитая опилками, была бы самая желанная гостья у меня. Но тогда я на нее рассердился. Я сказал:
— Зачем же так бесстыдно врать? Он проверит свои часы и увидит твое вранье.
— Зато он поверил, что я на вокзале, — сказала она, — подкрашивая губы.
Подкрасив губы, она добавила:
— А потом — что за нотации! Я вовсе не желаю этого слушать. Я сама знаю, как мне поступать. Он бегает с револьвером, грозит убить моих друзей и меня в том числе… Кстати, он не посчитается, что ты писатель… Я уверена, что он и в тебя великолепно выстрелит.
Я что-то буркнул в ответ. Одевшись, она сказала:
— Ну что, рассердился? Может быть, мне не приходить больше?
— Как хочешь, — ответил я.
— Да, я больше к тебе не приду, — сказала она. — Я вижу, что ты совершенно меня не любишь.
Она ушла, надменно кивнув мне головой. Она сделала это великолепно для своих девятнадцати лет.
Боже мой, как плакал бы я теперь! А тогда я был доволен. Впрочем, через месяц она вернулась.
Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике — второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на бильярде. Сейчас вернется.
Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях.
Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен. Платком вытирает лоб.
Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело.
Мы молчим. Почти не разговариваем. Я наливаю ему пива. Он отпивает один глоток и отставляет стакан.
Я тоже мрачен. И мне не хочется искусственно завязывать разговор. Но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего пять лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о бильярде, о литературе.
Мне с ним почему-то удивительно нелегко.
Я говорю нескладно, вяло. И на полуслове смолкаю. Неожиданно Маяковский смеется.
— Нет, послушайте, — говорит он, — это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить, а вы… Нет, это просто здорово! Просто поразительно здорово…
— Почему же я должен острить?
— Ну — юморист… Полагается… А вы…
Он смотрит на меня немного тяжелым взглядом. У него удивительно невеселые глаза. Какой-то мрачный огонь в них.
— А почему вы… такой? — спрашивает он.
— Не знаю. Сам ищу причину…
— Да? — спрашивает он настороженно. — Вы полагаете, есть причина? Больны?
Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий — с легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить.
Я замечаю еще одно недомогание Маяковского — он мнителен даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку. Потом вытирает ее хлебом. И, наконец, вытирает ее платком. Край стакана он тоже вытирает платком.
К нашему столику подходит знакомый актер. Наш разговор прерывается. Маяковский говорит мне:
— Я вам позвоню в Ленинграде.
Я даю ему свой телефон.
Я согласился на выступления в нескольких городах. Это был несчастный день в моей жизни.
Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове.
Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали, едва хлопая. Значит, чем-то я не угождаю публике, чем-то ее обманываю. Чем?
Это правда, я читаю не по-актерски, однотонно, иной раз вяло. Но неужели на мой вечер приходят только как на вечер «юмориста»? В самом деле. Может, думают: если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор.
Каждый вечер превращается для меня в пытку.
С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.
Кто-то сверху кричит:
— «Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь!
«Боже мой! — думаю я. — Зачем я согласился на эти вечера?»
Я с тоской поглядываю на часы.
На сцену летят записки. Это передышка для меня. Я закрываю книгу.
Разворачиваю первую записку. Оглашаю ее:
— «Если вы автор этих рассказов, то зачем вы их читаете?»
Я раздражен. Кричу в ответ:
— А если вы читатель этих рассказов, то какого лешего вы их слушаете!
В публике смех, аплодисменты. Я раскрываю вторую записку:
— «Чем читать то, что мы все знаем, расскажите покомичней, как вы к нам доехали».
Бешеным голосом я кричу:
— Сел в поезд. Родные плакали, умоляли не ехать. Говорили: замучают идиотскими вопросами.
Взрыв аплодисментов. Хохот.
Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе — вечер был бы в порядке.
Устроитель моих вечеров шепчет мне из-за кулис:
— Расскажите что-нибудь о себе. Это нравится публике.
Покорно я начинаю рассказывать свою биографию.
На сцену снова летят записки:
«Вы женаты?.. Сколько у вас детей?.. Знакомы ли вы с Есениным?..»
Без четверти одиннадцать. Можно кончать.
Печально вздохнув, я ухожу со сцены под жидкие аплодисменты.
Я утешаюсь тем, что это не мои читатели. Я утешаюсь тем, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика и жонглера.
Не выполнив договор до конца, я уезжаю в Ленинград.
Я брожу по дорожкам Ленинградского зоологического сада.
В клетке — великолепный огромный тигр. Рядом с ним небольшая белая собачонка — фокстерьер. Она выкормила этого тигра. И теперь, на правах матери, находится с ним в одной клетке.
Тигр дружелюбно поглядывает на нее.
Изумительное зрелище.
Вдруг позади себя я слышу ужасающий крик.
Вся публика бежит к клетке, в которой находятся бурые медведи.
Мы видим ужасную сцену. Рядом с бурыми медведями клетка с медвежатами. Кроме железных прутьев, обе клетки разделены досками.
Маленький медвежонок полез по этим доскам наверх, но его лапчонка попала в расщелину. И теперь бурый медведь яростно терзает эту маленькую лапку.
Вырываясь и крича, медвежонок попадает второй лапой в расщелину. Теперь второй медведь берется за эту лапу.
Оба они терзают медвежонка так, что кто-то из публики падает в обморок.
Песком и камнями мы стараемся отогнать медведей. Но они приходят в еще большую ярость. Уже одна лапчонка с черными коготками валяется на полу клетки.
Я беру какой-то длинный шест и бью этим шестом медведя.
На ужасный крик и рев медведей бегут сторожа, администрация.
Медвежонка отрывают от досок.
Бурые медведи яростно ходят по клетке. Глаза у них налиты кровью. И морды их в крови. Рыча, самец покрывает самку.
Несчастного медвежонка несут в контору. У него оторваны передние лапы.
Он уже не кричит. Вероятно, его сейчас застрелят. Я начинаю понимать, что такое звери. И в чем у них разница с людьми.
Воскресенье. Я иду по улице. Кто-то вскрикивает: «Миша!»
Я вижу женщину. Она одета простенько, в руках у нее кошелка с провизией.
— Миша, — повторяет женщина, и слезы текут из ее глаз. Передо мной сестра Нади В. — Катя.
— Боже мой, — бормочет она, — это вы… это вы… Мое сердце ужасно колотится.
— Разве вы не уехали? — спрашиваю я. — А где Надя? Ваши?
— Надя и Маруся в Париже… Идемте ко мне, я вам все расскажу… Только не удивляйтесь — я живу очень скромно… Мой муж очень хороший человек… Он уважает и жалеет меня… Он простой рабочий…
Мы входим в маленькую комнату.
Из-за стола поднимается человек. Ему лет сорок. Поздоровавшись, он тотчас надевает свое пальто и уходит.
— Вот видите, какой он хороший, деликатный, — говорит Катя. — Он сразу понял, что нам нужно поговорить.
Мы садимся на диван. Волнение душит нас. Катя начинает плакать. Она так плачет, что кто-то, открыв двери, спрашивает, что случилось.
— Ничего! — резко кричит Катя.
Рыдания снова сотрясают ее. Она, вероятно, плачет о том, что было. Вероятно, она во мне видит прошлое. Свою юность, свои детские годы. Я успокаиваю ее.
Подойдя к умывальнику, она вытирает свое заплаканное лицо, громко сморкается.
Затем начинает рассказывать. В семнадцатом году они уехали на юг, чтоб пробраться на Кавказ и оттуда за границу. Но в Ростове отец заболел сыпным тифом. Ждать нельзя было. Оставались считанные дни. Сестры бросили жребий — кому остаться с отцом. Осталась Катя. Она очень бедствовала, когда умер отец. Она служила уборщицей, потом домработницей. Потом ей удалось уехать в Ленинград. Но здесь ей было не легче — она не имела ни квартиры, ни друзей.
— Почему же вы не обратились ко мне? — спрашиваю я. — Должно быть, вы слышали обо мне…
— Да. Но я никак не думала, что это вы.
Катя стала говорить о сестрах. Старшая пишет, а Надя нет. Она ненавидит все, что осталось в России.
— А если я ей напишу? — спрашиваю я.
Катя говорит:
— Вы знаете Колю М. Вы помните, как он ее любил. Он написал ей. Она прислала ему открытку, в которой было три слова: «Теперь мы враги».
Мы расстались с Катей. Я обещал к ней заходить.
Пришла Аля. Лицо у нее бледное, и в глазах тоска. Молча она развернула пестрый шарфик, повязанный вокруг шеи. Слегка откинула голову.
На ее шее я увидел пять синих пальцев. Вероятно, кто-то ее душил. Я вскрикнул:
— Аля, что случилось?
Она глухо сказала:
— Николай все узнал. Он хотел задушить меня, но я подняла такой крик, что сбежались люди.
Она стала плакать. Сквозь слезы она сказала:
— Ах, зачем я приходила к тебе! Вот теперь кончилась моя спокойная жизнь. К нему уже я не вернусь. Я перееду к маме и буду изредка приходить к тебе.
Я поставил согревающий компресс на ее шею и, взяв машину, отвез Алю к маме.
Я был необычайно взволнован. Я не помню, на что я рассчитывал, но в тот же вечер я пошел к ее мужу. К моему удивлению, он встретил меня спокойно.
Я сказал ему:
— Я не ожидал от вас такой гадости. Вы могли бы расстаться с ней, уйти… Но душить эту маленькую девочку… Это возмутительно…
Я думал, что он будет кричать на меня, может быть, даже выгонит. Но он не двигаясь сидел в кресле, низко опустив голову.
Он тихо сказал:
— Она довела меня до сумасшествия… Я подозревал, что она неверна мне… Но вчера в ее сумочке я нашел вот эту записку. Полюбуйтесь…
Он швырнул записку на стол. Она была адресована в театр актеру Н., с которым я несколько раз видел Алю на улице.
Записка не оставляла никаких сомнений — она была интимна в высшей степени.
Я был поражен, даже потрясен. Я был так потрясен, что сначала даже не сообразил, что обо мне муж ничего не знает и что речь идет об актере.
Я растерянно взглянул на мужа. Не менее растерянно он посмотрел на меня.
— А собственно, какое вам до этого дело? — спросил он. — Вы что, ее видели сегодня? Она была у вас?.. Разве она бывала у вас раньше?
В его глазах я вдруг прочел догадку. Я закрыл рукой свои глаза.
— Боже мой! — закричал он. — Значит, она… Значит, вы… — У него вдруг хватило чувства иронии — усмехнуться. Почти спокойно он сказал: — Значит, она и вас обманула… Это здорово…
Мы расстались холодно. Почти не прощаясь.
Я шел домой, как в бреду. В моей голове был хаос. Мне хотелось решить вопрос, почему именно ко мне она пришла со своими синяками. Потом я успокоился на том, что до меня она с этими синяками была у актера.
Я пробую работать — не могу. Ложусь на диван — через минуту вскакиваю. Я испытываю какое-то нервное состояние, которое не позволяет мне даже несколько минут быть спокойным.
Я снова сажусь за стол. Я заставлю себя сидеть спокойно! Заставлю себя работать. Хотя бы мне это стоило жизни.
Беру карандаш. Пишу. Но мысли у меня вялые. Фантазии нет. Фразы бледные. Что-то случилось в моей душе. Я что-то потерял. Погас какой-то огонь. Перестала играть музыка, под которую плясала моя жизнь, моя работа…
Я сижу у стола, уронив голову на руки.
Ко мне приходят строчки из Байрона:
Я с яростью ломаю карандаш и рву бумагу. Выхожу на улицу. Чудесная осень. Желтые листья. Синее небо. Может быть, ходьба приведет меня в равновесие.
Я прохожу мимо деревянного домика. На ступеньках сидит дряхлый старик. Он сидит на солнышке. Он сидит удивительно спокойно. Глаза у него закрыты. Я вижу тихую и блаженную улыбку на его морщинистом лице.
Но ведь ему не меньше восьмидесяти лет! Быть может, у него остался всего год жизни, а он так спокойно, так блаженно сидит.
Почему же я, мальчишка в сравнении с ним, должен дергаться, вскакивать, волноваться, бегать? Я желаю так же спокойно, с такой же блаженной душой сидеть на крыльце. Почему мне недоступно это маленькое счастье?
Старик открывает глаза. Смотрит на меня.
— Хорошо! — говорит он.
Понуро я иду дальше.
В мою комнату входит человек. Он садится в кресло.
Минуту он сидит молча, прислушиваясь. Потом встает и плотно прикрывает дверь.
Подходит к стене и, приложив к ней ухо, слушает.
Я начинаю понимать, что это сумасшедший.
Послушав у стены, он снова садится в кресло и двумя руками закрывает свое лицо. Я вижу, что он в отчаянии.
— Что с вами? — спрашиваю я.
— За мной гонятся, — говорит он. — Я сейчас ехал в трамвае и ясно слышал голоса: «Вот он… берите его… хватайте…»
Он снова закрывает лицо руками. Потом тихо говорит:
— Только вы один можете меня спасти…
— Каким образом?
— Мы поменяемся с вами фамилией. Вы будете — Горшков, а я — поэт Зощенко. (Он так и сказал — «поэт».)
— Хорошо. Я согласен, — говорю я.
Он бросается ко мне и пожимает мою руку.
— А кто же за вами гонится? — спрашиваю я.
— Этого я не могу сказать.
— Но я же должен знать, с тех пор как я ношу вашу фамилию.
Заламывая свои руки, он говорит:
— В том-то и дело, что я сам не знаю. Я только слышу их голоса. И ночью вижу их руки. Они тянутся ко мне со всех сторон. Я знаю — они схватят меня и задушат.
Его нервный озноб передается мне. Я чувствую себя нехорошо. У меня кружится голова. Перед глазами круги. Если он сейчас не уйдет, я, вероятно, потеряю сознание. Он действует на меня убийственно.
Собравшись с силами, я бормочу:
— Идите. Теперь у вас моя фамилия. Вы можете быть спокойны.
С просветленным лицом он уходит.
Я — ложусь в постель и чувствую, как ужасающая тоска охватывает меня.
Туапсе. Маленький номер гостиницы. Я почему-то лежу на полу. Руки у меня раскинуты. И пальцы рук в воде.
Это дождевая вода. Сейчас прошла гроза. Мне не хотелось подняться, чтоб закрыть окно. Это потоки дождя попали в комнату.
Я снова закрываю глаза и до вечера лежу в каком-то оцепенении.
Вероятно, следует перебраться на кровать. Там удобней. Подушка. Но мне не хочется подняться с полу.
Не поднимаясь, я протягиваю руку к чемодану и достаю яблоко. Я сегодня опять ничего не ел.
Я откусываю яблоко. Я жую его, как солому. Выплевываю. Неприятно. Я лежу до утра.
Утром кто-то стучит в дверь. Дверь на ключе. Я не открываю. Это уборщица. Она хотела бы убрать комнату. Хотя бы раз в три дня. Я говорю:
— Ничего не надо. Уходите.
Днем я встаю с трудом. Сажусь на стул.
Тревога охватывает меня. Я понимаю, что так не может дальше продолжаться. Я погибну в этом жалком номере, если немедленно не уеду отсюда.
Открыв чемодан, я лихорадочно собираю вещи. Потом зову горничную.
— Я заболел, — говорю я ей. — Меня нужно проводить на вокзал, достать мне билет… Скорей…
Горничная приводит администрацию и врача. Поглаживая мою руку, врач говорит:
— Нервы… Только нервы… Я вам выпишу бром…
— Мне нужно немедленно уехать, — бормочу я.
— Вы сегодня уедете, — говорит директор гостиницы.
И вот мои воспоминания закончены.
Я дошел до 1926 года. Вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб.
Передо мной шестьдесят три истории. Шестьдесят три происшествия, которые меня когда-то взволновали.
Каждую историю я стал тщательно пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни.
Но я ничего особенного не увидел в этих историях.
Да, конечно, некоторые из них тягостны. Но не более тягостны, чем это привыкли испытывать люди. У каждого умирает мать. Каждый когда-нибудь покидает дом. Расстается с возлюбленной. Сражается на фронте…
Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал.
Тогда все эти истории я сложил вместе. Я хотел увидеть общую картину, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, как рыбу, которую вынули из воды и бросили в лодку.
Да, конечно, огромные потрясения выпали на мою жизнь. Перемена судьбы. Гибель старого мира. Рождение новой жизни, новых людей, страны.
Но ведь я-то не видел в этом катастрофы! Ведь я же сам стремился увидеть в этом солнце! Ведь и до этих событий тоска преследовала меня. Значит, это не решало дела. Стало быть, это не являлось причиной. Напротив, это помогло мне заново увидеть мир, страну, народ, для которого я стал работать… Тоски не должно быть в моем сердце! А она есть…
Я был обескуражен. Кажется, я задал себе непосильную задачу — найти причину моей тоски, найти несчастное происшествие, которое сделало меня жалкой пылинкой, гонимой любым житейским ветром.
Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте? — подумал я. — Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу спотыкаясь.
В самом деле! Почему я отбросил детские годы? Ведь это же первое знакомство с миром, первые впечатления, а стало быть, и самые глубокие. Как можно было не посчитаться с этим!
Нет нужды и тут все вспоминать, — подумал я. — Достаточно вспомнить только самое яркое, самое сильное, только то, что было связано с моим душевным волнением.
И тогда с лихорадочной поспешностью я стал вспоминать происшествия детских лет. И увидел, что и в детские годы душевное волнение необычайным светом осветило то, что произошло.
Это снова были моментальные снимки, с ослепительной силой оставшиеся в моем мозгу.
И вот, вспоминая эти детские истории, я увидел, что они волнуют меня еще больше, чем истории взрослых лет. Я увидел, что они волнуют меня значительно больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.
IV. Страшный мир
Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом.
Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства.
Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски.
С какого же возраста мне начать? — подумал я.
Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в два и в три года. И даже в четыре. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли. Соску в горшок уронил. Петуха испугался. Мамаша нашлепала по заднице… Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего не помню.
Я должен начать с пяти лет, — подумал я.
И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с пяти до пятнадцати лет.
И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал: значит, я на верном пути. Значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь.
С 5 до 15 лет
Скорее сбросить тягостную память
Моих воображаемых обид…
На столе тарелка. На тарелке винные ягоды.
Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды. Это чересчур мало для детей.
Я влезаю на стул. Решительным жестом пододвигаю к себе тарелку. И откусываю одну ягоду.
Так и есть — множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое?
Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое.
Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых…
Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола.
Приходят отец и мать.
— Я не ел винные ягоды, — говорю я им тотчас. — Я только откусил по кусочку.
Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него.
— Пойдем, я тебя немножко попорю, — говорит мать, — чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать.
Она тащит меня к кровати. И берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу:
— Я больше не буду!
Я стою у ворот нашего дома. Не у самых ворот, а у тумбы. Дальше тумбы я не иду. Нельзя. Может задавить извозчик. Вдруг я вижу — на меня катится двухколесный велосипед, на котором сидит человек в кепке.
Что ж он не звонит? Велосипедисты должны звонить, когда наезжают на людей.
Я отбегаю в сторону. Но велосипед снова катится на меня.
Секунда — и человек в кепке падает. И падаю я. И велосипед падает на меня.
Из моего носа хлещет кровь.
Увидев кровь, я начинаю так орать, что сбегаются люди. Даже прибегает одноногий газетчик, который стоит на нашем углу.
Расталкивая людей, прибегает моя мать.
Увидев, что я лежу, она бьет по щеке велосипедиста так, что у того с головы падает кепка.
Потом она хватает меня на руки и несет по лестнице.
На лестнице она осматривает и ощупывает меня. Все цело. Только из носа течет кровь и на ноге ссадина.
Мать говорит:
— Жалко, я не знала, что он тебе ногу повредил. Я бы ему оторвала голову.
Папа говорит мне:
— Ты сам виноват. Не надо стоять на улице.
На подоконнике банка с золотыми рыбками.
В банке плавают две рыбешки.
Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо.
Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, у них появился бы аппетит.
Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже неважно. Они бьются. И тоже отказываются от еды.
Я снова бросаю рыбешек в воду.
Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки.
Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку.
Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели.
Мамаша сердито говорит:
— Зачем ты это сделал?
Я говорю:
— Я хотел, чтоб им было лучше.
Мать говорит:
— Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде.
Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья.
Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке. Мать говорит:
— Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей.
Мы идем на площадку. Там множество детей.
Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди.
Вот мешки завязаны. И дети в мешках поставлены на белую черту.
Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!»
Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше.
Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке.
Я первый подхожу к столу. Играет музыка. И все хлопают. И мне дают коробку мармеладу, флажок и книжку с картинками.
Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди.
На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо.
После этого мы идем смотреть обезьян.
Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить.
Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки… Мама говорит:
— Наверное, мы коробку оставили на скамейке.
Я бегу к скамейке. Но там уже нет моей коробки с мармеладом.
Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание. Мама говорит:
— Наверно, украли нашу коробку. Ничего. Я тебе куплю другую.
— Я эту хочу! — кричу я так громко, что тигр вздрагивает и слон поднимает хобот.
Мы на даче. Играем на берегу.
Вдруг моя старшая сестра Леля кричит:
— Господа, Юля потонула!
Я смотрю по сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли. Леля кричит:
— Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде.
Что есть духу я бегу к нашей даче. Кричу:
— Мама! Юля утонула.
Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней. Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок. В это время Леля кричит:
— Нет, господа, Юля не потонула. Вот она плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу.
Действительно, видим, Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое. И шляпа ее далеко. Я говорю:
— Мама, приди в себя, оказывается, Юля не потонула.
Увидев Юлю в лодке, мама кричит:
— Юля, плыви назад! Тебя унесет на середину реки.
Леля говорит:
— Она бы и рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло.
Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега.
И она испуганно кричит: «Помогите!»
Услышав ее крик, мама снова падает в обморок.
Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле.
Я говорю маме:
— Мама, не бойся. Юлю сейчас спасут.
Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке.
И вскоре Юля на берегу.
Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой.
Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома.
Из сада не велено уходить. Но раз такой исключительный момент, это допустимо.
И вот по дороге я бегу за птичкой.
Вдруг позади себя я слышу мычание.
Оглядываюсь. Боже мой, идет стадо коров.
Отступление отрезано. Домой уже не добежать.
Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезаю на дерево.
Теперь коровы под деревом.
Интересно отметить, что они не уходят.
Они, как нарочно, встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня.
Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду, и тогда они забодают меня? Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо.
Только бы не обломился сучок, на котором я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между двух этих коров. И они поднимут меня на рога.
Идет пастух. Он хлопает бичом.
Это знакомый пастух Андрюшка. С ним можно договориться.
— Андрюшка, — кричу я, — гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились и еще кушают!
Андрюшка хлопает бичом. Коровы нехотя уходят. Теперь не страшно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров.
Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад.
Со своей сестрой Лелей я иду по полю и собираю цветы.
Я собираю желтые цветы. Леля собирает голубые.
Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы.
Это мы нарочно так собираем, чтоб было интересней собирать.
Вдруг Леля говорит:
— Господа, глядите, какая туча.
Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо.
Леля говорит:
— Скорей домой! Сейчас будет жуткая гроза.
Мы бежим домой. Но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому чудовищу.
Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас.
Пыль поднимается. Летит сухая трава. И сгибаются кусты и деревья.
Что есть духу мы бежим домой.
Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы.
Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр.
Вот уже близко дом.
Я оглядываюсь назад. Леля тащит за руку Юлю. Юля ревет.
Еще сто шагов — и я на крыльце.
На крыльце Леля меня бранит, зачем я потерял свой желтый букетик. Но я его не потерял, я его бросил.
Я говорю:
— Раз такая гроза, зачем нам букеты?
Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати.
Ужасный гром сотрясает нашу дачу.
Дождь барабанит по стеклам и крыше.
От потоков дождя ничего не видно.
Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери. Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок. В окно мы смотрим на двор… По двору идет хозяйская дочка Катя.
Мы стучим по стеклу и кричим ей:
— Катька, дура, беги скорей домой! Прячься! На улице бешеная собака.
Вместо того чтоб бежать домой, Катька подходит к нашему окну. И заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось.
— А где вы видели эту собаку? — спрашивает она. — Да может быть, она не бешеная.
Я начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей:
— Она двоих покусала. И если укусит тебя, мы не виноваты. Мы тебя предупредили.
Катя медленно идет к своему дому.
Бешеная собака вбегает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит книзу. Пасть раскрыта. Из пасти течет слюна.
Схватив грабли, Катя замахивается. И собака отбегает в сторону. Катя смеется.
Это невероятно. Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают.
Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку. Но собака убегает. Люди бегут за ней. Они кричат и улюлюкают.
Осмелев, мы открываем окно. Потом выходим в сад.
Конечно, в саду небезопасно. Собака может вернуться. Кто ее знает. Но если сидеть на крыльце, то это ничего. Можно успеть убежать.
Однако собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе.
В комнате темно. Только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку.
Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит:
— Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там четыре змеи, три гадюки и один уж.
Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке по две жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтоб одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по шесть гадюк и по четыре жабы.
Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит:
«Вот чего. Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест».
И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее:
«Ничего дурного и от нас вам не будет, госпожа добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили».
Но тут раздался гром. Из-под земли выкинуло огонь. И перед доброй феей предстала злая фея.
«Это, говорит, я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, говорит, подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову». Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова…
Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит:
— А вся другая нечисть что?
Нянька говорит:
— Про это я не знаю. Наверно, при виде злой феи они попрятались по своим местам.
— То есть под перину и под подушку? — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки.
Нянька встает со стула и, уходя, говорит:
— Ну, хватит разговору. Спите теперь.
Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Леля хрипит: «Хо-о».
Мы с Юлей вскрикиваем от страха. Умоляем Лелю не пугать нас. Но она уже спит.
Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку.
Утром я не пью молоко, оттого что оно от заколдованной феи.
Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге.
Правит лошаденкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь:
— Ну, ну, иди… заснула…
Лошаденка совсем не заснула, она бежит хорошо. Но, вероятно, так полагается покрикивать.
У меня горят руки — так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь. Но я не смею попросить об этом Васютку.
Вдруг Васютка сам говорит:
— Ну-ка, подержи вожжи. Я покурю. Сестра Леля говорит Васютке:
— Нет, не давай ему вожжи. Он не умеет править. Васютка говорит:
— Что значит не умеет? Тут нечего уметь.
И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках. Крепко держась за телегу, Леля говорит:
— Ну, теперь будет история — он нас непременно опрокинет.
В этот момент телега подпрыгивает на кочке. Леля вскрикивает:
— Ну, ясно. Сейчас она нас перевернет.
Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет, подскочив на кочке, телега ровно катится дальше.
Гордясь своим успехом, я похлопываю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю: «Ну, заснула!»
Вдруг я вижу — поворот дороги.
Торопливо я спрашиваю Васютку:
— За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь побежала направо?
Васютка спокойно говорит:
— Потяни за правую.
— Сколько раз потянуть за правую? — спрашиваю я. Васютка пожимает плечами:
— Один раз.
Я дергаю за правую вожжу, и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо.
Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо трудней править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами. А тут такая чепуха.
Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно.
Горит дом. Пламя весело перебегает со стен на крышу.
Теперь горит крыша, обитая дранкой.
Пожарные качают воду. Один из них, схватив кишку, поливает дом. Вода тоненькой струйкой падает на огонь.
Нет, не затушить пожарному это пламя.
Мать держит меня за руку. Она боится, что я побегу к огню. Это опасно. Летят искры. Они осыпают толпу.
В толпе кто-то плачет. Это плачет толстый человек с бородой. Он плачет, как маленький. И трет свои глаза рукой. Может быть, искра попала ему в глаз?
Я спрашиваю маму:
— Чего он плачет? В него попала искра?
Мать говорит:
— Нет, он плачет оттого, что горит его дом.
— Он построит себе новый дом, — говорю я. — Вот уж из-за этого я бы не стал плакать.
— Чтоб построить новый дом, нужны деньги, — говорит мать.
— Пусть он заработает.
— На эти деньги не построишь дом.
— А как же тогда строятся дома?
Мама тихо говорит:
— Не знаю, может быть, люди крадут деньги.
Что-то новое входит в мои понятия. Я с интересом гляжу на бородатого человека, который украл деньги, построил дом, и вот он теперь горит.
— Значит, надо красть деньги? — спрашиваю я мать.
— Нет, красть нельзя. За это сажают в тюрьму.
Тогда совсем непонятно.
Я спрашиваю:
— А как же тогда?
Но мать с досадой машет рукой, чтоб я замолчал.
Я молчу. Я вырасту большой и тогда сам узнаю, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые в чем-нибудь тут запутались и теперь не хотят об этом рассказывать детям.
Я мастерю пароходик. Это дощечка с трубой и мачтой. Остается сделать руль и флаг.
Размахивая шляпой, бежит Леля. Она кричит:
— Минька, скорей! Бежим. Там кто-то утонул. Я бегу за Лелей. На ходу кричу ей:
— Я не хочу бежать. Я боюсь.
Леля говорит:
— Так не ты же утонул. Это кто-то утонул. Чего ж тебе бояться?
Мы бежим по берегу. Там у пристани толпа. Расталкивая людей, Леля пробивается сквозь толпу. Я протискиваюсь за ней.
Кто-то говорит:
— Он не умел плавать. Течение быстрое. Вот он и утонул.
На песчаном берегу лежит юноша. Ему восемнадцать. Он белый, как бумага. Глаза у него закрыты. Руки раскинуты в стороны, а тело его прикрыто зелеными веточками.
Рядом с ним на коленях стоит женщина. Она пристально смотрит в его мертвое лицо. Кто-то говорит:
— Это его мать. Она не плачет от очень большого горя.
Искоса я поглядываю на утопленника. Мне хочется, чтоб он задвигался, встал и сказал:
— Нет, я не потонул. Это я так. Нарочно. Пошутил.
Но он лежит неподвижно. И мне делается так страшно, что я закрываю глаза.
Сидим за столом и кушаем блины.
Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву.
Отец в очках. У него серьезный вид. Борода. Тем не менее он смеется. Он говорит:
— Видите, какой он жадный. Ему для отца жаль одного блина.
Я говорю:
— Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь.
Приносят суп. Я говорю:
— Папа, хочешь мой суп?
Папа говорит:
— Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик.
Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю:
— Пожалуйста. Можешь кушать мое сладкое.
Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен. Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю:
— Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный.
Отец хмурится и уходит из-за стола.
Мать говорит:
— Пойди к отцу, попроси прощения.
Я говорю:
— Не пойду. Я не виноват.
Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого. Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом. Отец говорит:
— Ну, что ж ты не съел свой крем?
Я говорю:
— Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?
Отец целует меня и с ложечки кормит кремом.
Мальчишки плавают и ныряют. Я копаюсь на берегу. Мне кричат:
— Ну, давай. Смелей иди. Научим плавать.
Я медленно иду по воде. Холодно. Мурашки ползут по моей коже.
— Сразу окунайся, балда, семь раз! — кричат мальчишки.
Я окунаюсь до плеч. Мальчишки кричат:
— С головой окунайся, недотепа.
Нет, с головой я не решаюсь окунуться. Вода попадет в глаза и в уши. Это неприятно.
— Давай сюда! Не трусь! — кричат мальчишки.
Хоть там глубоко, но я иду вперед. Я не хочу быть трусом.
Я иду вперед и вдруг проваливаюсь в яму. Зеленая вода покрывает меня с головой. Неужели я потонул?
Но нет. Я выплываю наверх. И, барахтаясь, как собачонка, плыву.
Браво. Кажется, я сам научился плавать.
Вдруг кто-то или что-то хватает меня за ногу. Я вскрикиваю и сразу иду на дно.
Вот теперь я окончательно потонул. Я закрываю глаза.
Мальчишки выволакивают меня наверх. Один из них говорит:
— Зря так скоро мы его вытащили. Пущай бы подольше полежал. Откачали бы.
Я лежу на берегу и выплевываю воду. Вокруг меня беснуются мальчишки. Им досадно, что я мало наглотался воды.
Вечер. Мы пьем молоко. И ложимся спать.
Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами.
Я всматриваюсь в окно.
В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток.
Желая мне досадить, Леля говорит:
— Сегодня непременно придут воры. Так и знай.
Положим, если закрыть двери, они не придут.
Я кричу взрослым, которые сидят на балконе:
— Не забудьте закрыть двери!
Мама появляется в дверях.
— Что случилось? — спрашивает она.
— Нет, ничего не случилось, — говорю я, — но Леля думает, что сегодня придут воры.
Мама целует нас и, улыбаясь, уходит. Я лежу, закрывшись с головой одеялом. В доме уже тихо. Все спят. Но мне не спится. Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок, но закрыты ли окна?
Я встаю с постели. Подхожу к окну. Пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно?
Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол.
Я слышу испуганный голос мамы:
— Что! Кто там?.. Воры!
— Где, где воры? — кричу я матери.
В доме переполох. Все прибегают. Зажигают лампу. На полу лежит разбитая банка с цветами. Мать успокаивает меня.
И я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом.
Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед.
Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва. А бабушка похожа на львицу.
Лев и львица сидят за столом.
Я не отрываясь смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы. И темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица.
Приносят миску с супом.
Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать.
Но вот приносят пирожки. Это еще ничего.
Сам дедушка разливает суп.
Подавая свою тарелку, я говорю дедушке:
— Мне только одну капельку.
Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. Все смеются. Дедушка говорит:
— Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу.
Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу. Бабушка говорит:
— Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью.
Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме:
— Это плохой ребенок. Он не понимает шуток.
Мама говорит мне:
— Ну, улыбнись же дедушке. Ответь ему что-нибудь.
Я сердито смотрю на дедушку. Тихо говорю ему:
— Я больше к вам никогда не приеду.
Я пришел к бабушке в гости, только когда дедушка умер. Это был неродной дедушка. И я не жалел, что он умер.
Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе.
Мама спрашивает:
— Правда, я похожа на эту даму?
Желая утешить маму, я говорю:
— Да, немножко похожа.
Хотя я и не вижу особенного сходства. Мама говорит:
— В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: «Папа, погляди, как похожа на нашу маму».
Угрюмо я спрашиваю:
— Для чего?
— Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал.
Я говорю:
— Нет, ты все-таки скажи. Так я не пойду.
Мама говорит:
— Ну как тебе объяснить… Папа посмотрит на эту открытку и скажет: «Ах, какая у нас интересная мама…» И будет относиться ко мне добрей…
Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму.
С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа.
Папа художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли.
Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю:
— Кажется, немножко похожа на мать. Нет?
Искоса взглянув на открытку, отец говорит:
— Не мешай мне. Иди…
Ну, конечно. Ничего не вышло. Я так и знал. Я возвращаюсь к матери.
— Ну, что он сказал? Я говорю:
— Он сказал: «Не мешай мне, иди…» Закрыв лицо руками, мама плачет.
Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого.
Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке:
— Значит, когда мы были на даче, он тут веселился… Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто.
Я знаю это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто.
Мама кладет на стол какие-то билеты.
Я сгораю от любопытства — так мне хочется узнать, что это за билеты.
Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю: «Театр Буфф».
Бабушка говорит:
— Может быть, он был в «Буффе» со своим приятелем. Почем мы знаем?
Мама говорит:
— Нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума…
Вдруг открывается дверь, и входит папа. Папа в черном осеннем пальто. В шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его. Улыбаясь, папа говорит маме:
— Мне нужно с тобой поговорить.
Они оба уходят в гостиную.
Леля подходит к двери. Прислушивается. Потом говорит:
— Нет, все хорошо. Ничего плохого не будет. Ручаюсь…
Я спрашиваю Лелю:
— А что у них произошло?
Леля говорит:
— Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму.
Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего. Папа на прощанье целует мамину руку. И уходит ночевать в свою мастерскую. Это через три дома от нас.
Папы давно у нас не было. Мать одевает меня. И мы идем к отцу в мастерскую.
Мама идет торопливо. Тянет меня за руку, так что я едва поспеваю.
Мы поднимаемся на седьмой этаж. Стучим. Дверь открывает папа.
Увидев нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок. Смеется и целует меня.
Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван. И у них начинается какой-то таинственный разговор.
Я хожу по мастерской. На мольбертах картины. На стенах тоже картины. Огромные окна. Беспорядок.
Я осматриваю ящики с красками. Кисти. Всякие бутылочки.
Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют — без криков, не ссорятся.
Я не мешаю им. Я вторично обхожу ящики и картины.
Наконец отец говорит матери:
— Ну, очень рад. Все хорошо.
Он на прощание целует маму. И мама целует его. И даже они обнимаются.
Одевшись, мы уходим.
По дороге мама вдруг начинает бранить меня. Она говорит:
— Ах, зачем ты увязался со мной…
Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую. И вот теперь недовольна. Мама говорит:
— Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились.
Я хнычу. Но я хнычу оттого, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо. Даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость.
Мать говорит:
— Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму.
Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло. Но я молчу. Я вырасту большой и тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты.
Я стою в саду у калитки. Пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани.
Мама уехала в город. И вот с утра ее нет. А мы уже пообедали. И скоро вечер. Ах, боже мой, где же она?
Я снова всматриваюсь в даль. Нет! Идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось.
Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок. Взрослый человек. Ей тридцать лет.
Ну и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности.
Может быть, мама ехала на извозчике. Понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие. Еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки.
Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги. Можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар, если, например, загорелась наша городская квартира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный, и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка.
Скорей всего мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию.
Ах, нет! Вот идет наша мама!
С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белое боа из перьев. И бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтоб она так не одевалась. А то мне неловко с ней идти — все оборачиваются.
— Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама.
— Нет, я рад, — равнодушно говорю я.
Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын.
Перочинным ножом он вырезает на парте какую-то букву. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом.
Я так углубился в это дело, что не слышу, как вызывают меня.
Кто-то толкает меня под бок. И тогда я встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем приготовительном классе.
Оказывается, учитель почему-то хочет, чтоб я прочитал ему стихотворение «Весело сияет месяц над селом».
Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя. Но что дальше, я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем.
Со всех сторон мне подсказывают: «Белый снег сверкает».
Запинаясь, я произношу, что подсказывают.
Посматривая на меня, учитель улыбается.
Ученики наперерыв подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шепчут — «Крест под облаками, как свеча, горит…»
— Треск под сапогами, — бормочу я.
В классе хохот. Учитель тоже смеется. И ставит в мой дневник единицу.
Это неприятно. Я всего пять дней в гимназии. И вдруг сразу единица.
Я говорю Косте Палицыну:
— Если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много нахватаю единиц.
— Это стихотворение было задано, — говорит Костя. — Его надо было выучить.
Ах, оно было задано? Я не знал. В таком случае это недоразумение.
Мне становится легко на душе, что это недоразумение.
На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец.
В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии.
— Мама, — говорю я, — ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии.
Мама говорит:
— Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит.
Я выхожу на улицу.
Нет, конечно, с закрытыми глазами я не пойду. Это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего двести десять шагов. Это сущие пустяки.
Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась в людей и задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги… Двести… Двести десять…
Произнеся вслух «Двести десять», я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза. Стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, — это наш учитель и классный наставник.
— Ах, извините, — говорю я. — Я вас не заметил.
— Надо замечать, — сердито говорит учитель. — Для этого у тебя есть глаза.
— Они были закрыты, — говорю я.
— Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка? — говорит учитель.
Я молчу. Во-первых, это долго объяснять, во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза.
— Ну? — спрашивает учитель.
— Просто так закрыл. От ветра…
Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит:
— Ну, что ж ты стоишь как пень? Иди…
Я стою оттого, что я вежливый человек.
Я хочу пропустить его вперед.
Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся.
Еще более сердито учитель смотрит на меня.
Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья. Любуюсь моим маленьким перочинным ножом. Учитель вызывает меня. Он говорит:
— Ответь, только быстро: что тяжелей — пуд пуха или пуд железа?
Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю:
— Пуд железа.
Кругом хохот.
Учитель говорит:
— Скажи своей маме, чтоб она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить.
На другой день мама идет к учителю и грустная возвращается домой. Она говорит:
— Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе.
— А что он еще сказал?
Лицо у мамы делается совсем грустным. Прижав меня к себе, она говорит:
— Я тебя считала умным и развитым мальчиком, а он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие.
— Это он глупости говорит! — сердито кричу я. — По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы. А на глупые вопросы трудней ответить, чем на умные.
Целуя меня, мама плачет.
— Ах, тебе будет трудно жить на свете! — говорит она.
— Почему?
— Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливый.
Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизанье и слезы.
Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы.
Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке. И будет петь, плясать и рассказывать нам сказки.
Наоборот. Приехал строгий высокий человек. Не очень старый, не очень седой. Поразительно красивый. Бритый. В черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки.
И я удивился, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой. А маме сердито сказал:
— Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей.
И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату.
И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я.
И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверно, он там делает что-нибудь исключительно важное.
И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату.
Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку.
Увидев меня, дедушка спросил:
— Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне не постучавшись?
И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему:
— В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать — это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?
Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу. А отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бранить. Она сказала:
— Ах, скорей бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце.
— A y меня тоже закрытое сердце? — спрашиваю я.
— Да, — говорит мать, — по-моему, и у тебя закрытое сердце.
— Значит, я буду такой же, как дедушка?
Целуя меня, мать сквозь слезы говорит:
— Да, наверно, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить.
На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях. Что-то происходит необычайное.
В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют. И малыши шалят больше обыкновенного.
Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком: «Бунтуйся». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу: «Бунтуйся».
Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник.
Он трясет меня за плечи и говорит:
— Повтори, что ты сказал.
— Я сказал «бунтуйся», — бормочу я.
Лицо у учителя делается каменным. Он говорит:
— Встань к стене под часами и стой до конца перемены. А завтра пусть мама зайдет ко мне.
Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали. А он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи.
На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует.
Потом родители зовут меня в свою комнату.
Отец лежит на кровати в брюках и в пиджаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне:
— Наверное, ты не знал, что означает это слово?
Я говорю:
— Нет, я знал. Оно от слова «бунт». Но я не знал, что его нельзя кричать.
Отец улыбается. Говорит матери:
— Пойди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой… А то его посадят в тюрьму.
Услышав про тюрьму, я начинаю плакать. Мама говорит:
— Раньше я об этом спорила с учителем. Но теперь я пойду скажу ему, что он прав.
Папа смеется.
— Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось.
Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать.
Мы с мамой выходим из комнаты.
Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати. Но сегодня он неподвижно стоит у окна.
Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого. Только с бородой. Тихо я говорю:
— Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.
Не оборачиваясь, отец говорит:
— Возьми.
Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.
В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.
Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.
Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.
От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать.
Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Теребит его за плечи, целует его лицо.
Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать.
Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы обморок.
Я снова иду в комнату отца.
Отец лежит на кровати. Мать у дверей. Рядом с ней доктор.
Мать кричит:
— Вы ошиблись, доктор!
Доктор говорит:
— В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер.
— Почему же так сразу? Не может быть!
— Это разрыв сердца, — говорит врач. И уходит из комнаты.
Лежа на своей кровати, я плачу.
Ах, как невыносимо смотреть на маму! Она все время плачет.
Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет.
Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверно, у меня — закрытое сердце.
Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее:
— Мама, сколько лет нашему папе?
Вытирая слезы, мама говорит:
— Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему сорок девять. Нет, не может быть, чтобы он умер!
Она снова теребит за плечи отца и бормочет:
— Может быть, это глубокий обморок, летаргический сон?..
Мать отстегивает булавку от своей блузки. Потом берет руку отца. И я вижу — она хочет булавкой проколоть ему руку. Я вскрикиваю от ужаса.
— Не надо кричать, — говорит мать, — я хочу посмотреть, может быть, он не умер.
Булавкой она прокалывает руку насквозь. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони.
— Погляди, — говорит она, — нет ни капельки крови. Да, он умер…
Упав на грудь отца, мама снова плачет.
Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка.
Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно. Только очень неприятно.
Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорей бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них.
Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец. Молодая мертвая девушка. И какой-то пузатый, толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой. Церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит.
Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют.
Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви.
Гроб несут на руках художники — папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой.
Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит.
Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я.
Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом. И он стал там жить. Но доктор сказал маме:
— Он очень плох. Его дни сочтены.
Я поехал к нему в воскресенье. Повез пирожки и сметану.
Дядя Георгий лежал на кровати, обложенный подушками. Он тяжело и с хрипом дышал.
Я положил на стул то, что привез, и хотел уйти. Но он сказал мне:
— Я целые дни один. Мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты.
Из-под подушки дядя Георгий вынул карты. И мы стали играть в шестьдесят шесть.
Мне страшно везло. А ему нет. Он проиграл мне две партии. И потребовал, чтоб я сыграл с ним третью.
Мы начали играть третью партию. Но ему не везло еще больше. И тогда он стал на меня сердиться. Стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя мы играли не на деньги, а так.
И я удивился, что он огорчается, если дни его сочтены и он скоро умрет.
Вот он сдал мне карты. И почти все они были козырные. И, увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся. Начал стонать. И ему стало так нехорошо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему стало душно. Он боялся задохнуться.
Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру.
Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты. Ходил не так, как надо. Я хотел ему проиграть, чтоб он не мучился.
И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шутить и смеяться. И он хлопнул меня картами по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтоб играть со взрослыми.
Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел.
Я ушел с тем, чтоб к нему больше не приходить.
И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер.
Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги.
Показывая книги, она вдруг спрашивает меня:
— Вы хотите быть моим женихом?
— Да, — тихо отвечаю я. — Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи.
Мы подходим к трюмо, чтоб увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники. Нам по одиннадцати лет и три месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы.
— Это ничего, — говорит она. — Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильней меня.
Мы начинаем бороться. Муза сильней меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным.
Потом Муза говорит:
— Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтоб они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?
Боже мой, какой неудачный вопрос! Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. Три двойки. Остальные тройки.
— Ну, ничего, — говорит Муза. — Вы в дальнейшем поумнеете. Наверно, бывают такие женихи, у которых по четыре двойки и больше.
— Не знаю, — говорю я, — вряд ли.
Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить.
Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку.
— Зачем вы это сделали? — говорю я, ужасаясь ее поступку.
— Поцелуи скрепляют договор, — говорит она. — Теперь мы жених и невеста.
Мы идем в столовую.
Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя.
Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтоб этого не было.
Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет».
— А что такое банкет? — спрашивает меня учитель.
Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?
Я молчу.
— А-а? — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а-а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне.
И, услышав это «а-а», ученики тоже начинают визжать.
Учитель истории машет на меня рукой. И ставит мне двойку.
По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не могу произнести слова. Меня бьет лихорадка.
Увидев меня в таком виде, учитель говорит:
— В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку.
— Я не об этом, — говорю. — Если вы меня еще раз так вызовете, то я… я…
— Что? Что такое? — говорит учитель.
— Плюну на вас, — бормочу я.
— Что ты сказал? — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит:
— Идите в класс.
Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске.
Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им:
— Молчать!
В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы.
Учитель говорит:
— Не волнуйтесь. На тройку вы во всяком случае знаете.
Он подумал, что у меня слезы на глазах оттого, что я неважно знаю урок.
Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника. Остальные нет.
Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим.
Я очень огорчаюсь, что плохо учусь. Но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было.
Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий — альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы.
Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит:
— А почему листья зеленые? Кто знает?
В классе молчание.
— Я поставлю пятерку тому, кто знает, — говорит учитель. Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично.
Учитель вызывает первого ученика. Но тот не знает.
Тогда я небрежно поднимаю руку.
— Ах, вот как, — говорит учитель, — вы знаете. Ну скажите.
— Листья зеленые, — говорю я, — оттого что в них имеется красящее вещество хлорофилл.
Учитель говорит:
— Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу.
Я молчу. На это очень трудно ответить.
— Может быть, вы не сразу вспомнили? — спрашивает учитель.
— Нет, я сразу вспомнил.
— Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?
Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку.
Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет.
Мы сидим на траве за домом и беседуем.
Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксеня.
Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении — все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играю в крокет.
Ксеня смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары.
Уверенная в моем чувстве, она говорит:
— Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?
— Зачем? — спрашиваю я.
— Просто так. Чтобы исполнить мою просьбу.
Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры:
— Для вас я бы мог это сделать.
Вдруг мы видим — за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой! Вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем.
Мы бежим к яхт-клубу. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног.
Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди.
Вдруг слышим мамин голос:
— Назад! Домой!
Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Это вода хлынула с поля и затопила все позади нас.
Я бегу к дому. Канавы полны водой. Плывут доски и бревна.
Мокрый по колено, я вбегаю на веранду. А где же Ксения, сестры, Толя? Сняв башмаки, они идут по саду. На веранде Ксения мне говорит:
— Убежать первым… бросить нас… Ну, знаете ли… Все кончено между нами.
Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель.
Утро. Мы сидим на веранде. Пьем чай.
Вдруг слышим ужасный крик. Потом выстрел. Мы вскакиваем.
На нашу веранду вбегает женщина. Это наша соседка Анна Петровна.
Она ужасно растрепана. Почти голая. На плечи наброшен халат. Она кричит:
— Спасите! Умоляю! Он убьет меня… Он убил Сергея Львовича…
Мама всплескивает руками.
— Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?
Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерике.
Я бегу к соседней даче, к их окну.
Я отпрянул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек. И кровь стекала с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было.
Тогда я побежал в их сад. И там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны.
Он стоял смирно. Не вырывался. И ничего не говорил. Он молчал.
Пришел полицейский и хотел его увести. Но муж Анны Петровны сказал:
— Позовите мне мою жену. Я хочу с ней попрощаться.
И тогда я бросился в наш дом и сказал Анне Петровне:
— Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами. Выйдите к нему. И не бойтесь. Там полицейский.
Анна Петровна сказала:
— Я не имею привычки прощаться с убийцами. Я не выйду к нему.
Я побежал в сад, чтоб сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже увели.
Я был на елке у знакомых. У моего товарища. Его родители очень богатые люди.
Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах.
Поздно вечером гости стали расходиться.
Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной.
И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади.
Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома.
Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии.
Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку.
Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами.
На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит:
— Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг.
Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал:
— Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой.
Маргарита сказала:
— Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете.
Две улицы мы шли молча. Не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой.
Она сказала мне, когда я уходил:
— Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание.
Каждый день я хожу к Саше П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг.
Мама сказала, что я неспособен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца.
Ничего подобного. Я скучаю, если хотя бы один день не вижу моего товарища. У меня просто потребность у него бывать.
Начистив ботинки, я спешу к нему. Его дача на берегу, через три улицы.
Я иду по набережной и тихо напеваю: «Невольно к этим грустным берегам…»
Вхожу в сад. Вся семья П. на веранде. Мама, он и две его сестренки — Оля и Галя. Оле четырнадцать, Гале шестнадцать лет. А мне пятнадцать.
Все рады, что я пришел. Саша говорит мне:
— Если хочешь, сегодня мы сходим на взморье. Пофилософствуем.
Девушки недовольны. Они хотели поиграть со мной в крокет, посидеть в саду. Саша говорит:
— Часик поболтай с девчонками. А я пока дочитаю книгу.
Я иду с девушками в сад. Мы располагаемся в беседке.
И говорим о всевозможных вещах.
Мне больше нравится Оля, но я больше нравлюсь Гале. Драматический узел. Все страшно интересно. Это — жизнь.
Мы долго сидим в беседке. Потом гуляем по саду. Потом сидим на берегу. И, наконец, снова располагаемся в беседке.
Уже темнеет. Я прощаюсь с сестрами. Галя что-то шепчет мне на ухо. Я не слышу. Но она не хочет повторить. Мы смеемся.
Наконец я окончательно прощаюсь и в прекрасном настроении спешу домой.
И вдруг по дороге вспоминаю, что я позабыл попрощаться с Сашей и позабыл о том, что мы собирались пойти с ним на взморье.
Мне страшно неловко. Я возвращаюсь к их даче. Подхожу к забору. У калитки стоит Саша.
Он говорит мне:
— Сегодня я окончательно понял, что ты приходишь не ко мне, а к моим сестрам.
Я горячусь, пробую доказывать, что я хожу именно к нему. И вдруг сам убеждаюсь, что я не к нему хожу. Он говорит:
— Наша дружба построена на песке. Я убежден в этом.
Мы холодно прощаемся.
Через два дома от нас жила девушка Ирина. Она была рыженькая, но настолько хорошенькая, что можно было часами ею любоваться.
Мы, мальчишки, часто подходили к ее забору и смотрели, как она лежит в гамаке.
Она почти все время лежала в гамаке. Но не читала. Книга валялась на траве либо лежала на ее коленях.
А вечером Ирина уходила гулять с Олегом. Это такой студент. Путеец. Очень интересный. В пенсне. Со стеком в руках.
Когда он направлялся к ее дому, мы, мальчишки, кричали:
— Ириша, Олег идет!
Ира безумно краснела и бежала к нему навстречу.
Я не знаю, что именно у них произошло, но только в конце лета Ирина бросилась с пристани в воду и утонула. И ее не нашли.
Все дачники ужасно жалели ее. И некоторые даже плакали. Но этот студент Олег очень легко отнесся к ее смерти. Он по-прежнему ходил на пристань со своим стеком. Смеялся. Шутил с товарищами. И даже стал ухаживать за одной курсисткой Симочкой.
И мы, мальчишки, были раздосадованы его поведением. Мы ненавидели от всей души этого студента со стеком.
Когда однажды он сидел на пристани, мы с берега стали стрелять в него из рогаток.
Он ужасно рассердился на нас. Закричал. Погнался за нами. Но когда он гнался за одним, другие в него стреляли.
Мы стреляли в него так, что он наконец побежал домой, закрыв голову руками.
Три дня мы обстреливали его дачу. Мы стреляли в каждого, кто выходил из его дома. Даже стреляли в его мамашу. И в кухарку. И в гостей. И в собаку. И даже в кошку, которая выходила погреться на солнышко.
Мы выбили несколько стекол на веранде. И довели его до того, что он вскоре уехал.
Он уехал с распухшим носом. Это кто-то из нас выстрелил в него из рогатки, когда он с вещами шел на пристань.
У меня — ученик. Это писарь Главного штаба. Я готовлю его к экзаменам.
Через два месяца он будет держать экзамен на первый классный чин.
У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед.
Это великолепное условие. И я по три часа в день и больше сижу с этим оболдуем, который не очень-то смыслит в науках.
Все свои знания я стараюсь переложить в его туманные мозги. Я заставляю его писать, думать, считать. Я заканчиваю урок, только когда он начинает вякать, что у него болит голова.
И вот он прилично выдержал экзамен. И пришел ко мне сияющий.
Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится.
Мы с ним пошли на его квартиру.
И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед.
У меня помутилось в глазах, когда я увидел его машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин.
Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину.
Давясь от смеха, писарь сказал:
— Ничего. Смажете керосинцем. Протрете. Купите шины. И будет приличная машина.
С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал:
— Да что вы, в своем уме! Разве можно ее чинить!
За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля. Он давал восемьдесят пять копеек. Но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок.
Даже теперь, когда прошло тридцать лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания.
Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни.
И вот воспоминания о моем детстве закончены.
Передо мной тридцать восемь историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня.
Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий.
Однако ничего особенного я не увидел в этих историях.
Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны. Но не более печальны, чем это обыкновенно бывает.
У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери.
У каждого случаются школьные огорчения. Обиды. Волнения. И каждого страшит гроза, наводнения и бури.
Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску.
Тогда я сложил все эти истории вместе. Я захотел увидеть общую картину моего детства, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни.
Но и в общем этом аккорде я не увидел ничего особенного. Обыкновенное детство. Немного трудный ребенок. Нервный. Обидчивый. Весьма впечатлительный. Со взором, устремленным на то, что плохо, а не на то, что хорошо. Пожалуй, пугливый из-за этого. Но совсем не слабенький, а скорей даже сильный.
Нет, события детских лет не могли испортить мою дальнейшую жизнь.
Я снова был обескуражен. Непосильная задача — найти причину моей тоски. Убрать ее. Быть счастливым. Радостным. Восторженным. Таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом!
Но, может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло еще в более раннем возрасте?
В самом деле, почему же я отбросил младенческие годы? Ведь первые впечатления бывают не в шесть и не в семь лет. Первое знакомство с миром происходит раньше. Первые понятия возникают в два и в три года. И даже, может быть, в год.
Тогда я стал думать: что же могло случиться в этом ничтожном возрасте?
Напрягая память, я стал вспоминать себя совсем крошечным ребенком. Но тут я убедился, что об этом я почти ничего не помню. Ничего цельного я не мог вызвать в своей памяти. Какие-то обрывки, куски, какие-то отдельные моменты, которые тонули в общей серой пелене.
Тогда я начал припоминать эти обрывки. И, припоминая их, я стал испытывать еще больший страх, чем тот, который я испытал, думая о своем детстве.
Значит, я на верном пути, — подумал я. — Значит, рана где-то совсем близко.
V. Перед восходом солнца
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил.
Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте.
Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом.
Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери.
И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом.
Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх? Или душевное волнение ребенка? Да, вероятно, страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь.
Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет. И потом снова все тонуло в тумане.
И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к трем и четырем годам моей жизни. Некоторые же касались и двухлетнего возраста.
И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с двух до пяти лет.
С 2 до 5 лет
Что кажется нам сладким на язык,
То кислоту в желудке производит.
На одеяле — пустая коробка от спичек. Спички во рту. Кто-то кричит: «Открой рот!»
Открываю рот. Выплевываю спички.
Чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек.
Кто-то плачет. Я плачу громче и оттого, что горько, и оттого, что отняли.
Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неописуемой красоты. Они куда-то едут.
Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сидении. Сидение синее. Должно быть, это пролетка извозчика.
Лакированные туфельки едут на извозчике.
Не отрываясь, я смотрю на эти туфельки.
И больше ничего не помню.
Блюдце с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку.
Отнимаю эту ложку. Сам буду кушать.
Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо, в глаза.
Невероятный крик. Это я кричу.
Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее.
Человек поднимает птицу. Зачем? Чтоб она улетела? Она не может улететь. Она неживая. Она на палке.
Кто-то говорит: готово.
Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне два года и три месяца.
Мягкий полосатый диван. Над диваном круглое окошечко. За окошечком вода.
Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды.
Иду по коридору. Возвращаюсь.
Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился. Кричу и плачу.
Мать открывает дверь. Говорит:
— Сиди тут. Никуда не уходи.
Двор. Солнце. Летают большие мухи.
Сижу на ступеньках крыльца. Что-то ем. Должно быть, булку.
Кусочки булки бросаю курам.
Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня.
Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, подскочив, клюет мою булку. С криком ужаса я убегаю.
На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня.
А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу.
Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол.
Я отчаянно реву.
Кто-то кричит:
— Он боится собак. Прогоните ее!
Собаку прогоняют.
Посматривая на кошку, я ем кашу.
Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня. Вдруг идет нищий с мешком. Кто-то говорит ему:
— А вот возьмите мальчика.
Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу. Кто-то говорит:
— Не отдам, не отдам. Это я нарочно.
Нищий уходит со своим мешком.
Мать держит меня на руках. Бежит. Я прижимаюсь к ее груди.
Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву.
Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрей.
Вот мы уже дома. В комнате.
Мать кладет меня на постель.
Вдруг сверкает молния. Гремит гром.
Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром.
Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках.
Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку. Проглатывает ее.
Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки.
Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает.
Я боюсь тигров. Плачу.
Мы уходим из сада.
Мы снова дома. Мама говорит отцу:
— Он боится зверей.
Я сижу на высоком стуле. Пью молоко. Попалась пенка. Плюю. Реву. Размазываю пенку по столу. За дверью кто-то кричит страшным голосом. Приходит мама. Она плачет. Целуя меня, она говорит:
— Умирает дядя Саша.
Размазав пенку по столу, я снова пью молоко. И снова за дверью ужасный крик.
Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу. Мать берет меня на руки.
Я кричу еще громче. Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце.
Мать успокаивает меня. Говорит:
— Ты боишься полотенца? Я уберу его.
Мать снимает полотенце, прячет его. Укладывает меня в постель. Я снова кричу.
И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери.
С плачем я засыпаю.
И вот передо мной двенадцать историй крошечного ребенка.
Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел.
Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку.
Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжигает рот. Кричит в темноте.
Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.
Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки.
Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно.
Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной?
Может быть, несчастное происшествие случилось до двух лет? — неуверенно подумал я.
В самом деле. Ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в три и не в четыре года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца.
Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. Именно тогда, а не позже и могло произойти несчастное происшествие.
Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню?
До двух лет
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне.
Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень.
Серый плотный туман окутывал первые два года моей жизни. Он стоял передо мной, как дымовая завеса, и не позволял моему взору проникнуть в далекую таинственную жизнь маленького существа.
И я не понимал, как мне разорвать этот туман, чтобы увидеть драму, которая разыгралась на рассвете моей жизни, перед восходом солнца.
Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что не было, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст.
Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками.
Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти.
И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения.
Вот складки какого-то одеяла. Какая-то рука из стены. Высокая колеблющаяся тень. Еще тень. Какая-то белая пена. И снова длинная колеблющаяся тень.
Но это были хаотические видения. Они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали, и за ними снова была — пустота, тьма, ничто… Как сказал поэт:
Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума.
И мне не удалось проникнуть в этот мир.
Нет сомнения — это был иной мир, иная планета, с иными, необыкновенными законами, которые не контролируются разумом.
Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе? — подумал я. — Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики?
Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей?
Но ведь, даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней.
Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни.
Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы, — их вывели ученые, наблюдая над животными.
Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо.
Неважно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма — рефлекс, то есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция, этот ответ и является защитой организма от опасностей.
В чем же заключается этот ответ?
Два основных нервных процесса характеризуют рефлекторную деятельность — возбуждение и торможение.
Комбинация этих процессов дает тот или иной ответ. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится, в сущности, к простейшей функции — к мышечному движению. То есть в ответ на любое раздражение происходит мышечное движение или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру.
И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу.
Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освященный тысячелетиями, охраняет маленькое существо.
И, стало быть, первое знакомство с миром происходит по принципу этого рефлекса. И первые встречи с вещами вырабатывают привычку так или иначе к ним относиться.
Я прошу извинения — мне приходится говорить о предметах, весьма вероятно, знакомых просвещенному читателю.
Мне приходится говорить об элементарных вещах в расчете на то, что не все читатели твердо знают эти вещи. Быть может, они кое-что из этого позабыли и им нужно напомнить. Иные же просвещенные читатели, надо полагать, и вовсе ничего не знают, не находя интересным копаться в формулах, взятых из жизни собак.
А те, которые все знают и все помнят и, быть может, сами в этом работают, — те пусть не посетуют на меня, пусть без раздражения пробегут глазами две небольшие главки.
Я буду говорить о высшей психической функции, вернее об истоках ее — о рефлексах.
Это все равно что говорить о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом — истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла.
Когда-то великий ученый Ньютон вывел закон тяготения, увидев яблоко, упавшее с дерева. Не менее простая сцена позволила великому русскому ученому Павлову вывести закон условных рефлексов.
Ученый заметил, что собака в одинаковой мере реагирует и на еду, и на шаги служителя, который несет эту еду. И на еду, и на шаги слюнная железа собаки действовала одинаково. Стало быть, подумал ученый, в мозгу собаки возникают два очага возбуждения, и эти очаги между собой условно связаны.
Шаги служителя ученый заменил вспышкой света, стуком метронома, музыкальным звуком — слюнная железа собаки действовала одинаково. В том, конечно, случае, если эти новые раздражители хотя бы несколько раз совпали с моментом кормления.
Эти новые раздражители (свет, звук, гамма), повторенные несколько раз (в момент кормления), создавали новые нервные связи, весьма условные по своему характеру.
Другими словами — условный стук (или любой иной раздражитель) вызывал у собаки представление о еде. И на этот условный сигнал собака реагировала совершенно так же, как она реагировала на еду.
Эту условную нервную связь, которая возникала в коре мозга между двумя очагами возбуждения, ученый назвал «временной связью». Это была временная связь, ибо она исчезала, если не повторялись опыты.
Это было поразительное открытие.
Тогда ученый усложнил свои опыты.
Через лапу собаки он пропускал электрический ток. Эта операция сопровождалась стуком метронома.
Эта операция была повторена несколько раз. И в дальнейшем только лишь один стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию.
Другими словами — условный раздражитель (метроном) создавал очаг возбуждения в коре мозга, и этот очаг «зажигал» второй очаг (боль), хотя раздражитель этого очага отсутствовал. Нервная связь между двумя очагами продолжала существовать.
Тогда ученый увидел, что можно чисто материальными средствами вмешиваться в работу центральной нервной системы, можно строить любые нервные связи по своему усмотрению.
Ученый получил возможность управлять поведением животного, создавать в его мозгу новые механизмы.
Найден был общий физиологический закон, в основе которого лежала простейшая функция высшей психической деятельности — рефлекс.
Этот закон в равной мере относился как к норме, так и к патологическому состоянию.
Это было великое открытие, ибо оно рассеивало мрак в той области, в которой в первую очередь должна была быть абсолютная ясность, — в области сознания.
Только ясность в этой области позволяла человеческому разуму идти дальше, а не возвращаться вспять — к дикости, к варварству, к мраку.
Это было величайшее открытие, ибо оно в одинаковой мере относилось и к животному, и к человеку, и тем более к младенцу, поведение которого не контролируется сознанием, логикой.
И в свете этого закона поведение младенца становилось ясным.
Младенец знакомится с миром, с окружающими вещами по принципу этого условного рефлекса.
Каждый новый предмет, каждая новая вещь создает в коре мозга младенца новые нервные связи, новые отношения. Эти нервные связи, так же как и у собаки, чрезвычайно условны.
Стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию. Крик, хлопанье дверью, выстрел, вспышки света, любой раздражитель, случайно совпавший, скажем, с моментом кормления ребенка и повторенный несколько раз, мог создать сложные нервные связи в мозгу младенца.
Вид шприца вызывал у собаки рвоту. Вид любого предмета, случайно причинившего ребенку боль, мог и в дальнейшем причинять ему страдания.
Правда, для возникновения этого рефлекса нужна была повторяемость. Ну что ж! Повторяемость могла случиться.
Но ведь эти нервные связи названы были временными. Они погасали, если не повторялись опыты.
Тут был вопрос, который следовало тщательно продумать. Ученый предложил только лишь простейший принцип, проверенный им на собаках. Психика человека сложней. Умственное развитие человека не остается на одном уровне — оно изменяется, прогрессирует. И, стало быть, изменяются и нервные связи — они могут быть чрезвычайно сложны и запутанны.
Смерть помешала ученому продолжить свои опыты над животными, близкими человеку, — над обезьянами. Эти опыты были начаты.
Опыты над человеком не были произведены в той мере, как это надлежало сделать.
Это великое открытие — этот закон условных рефлексов, закон временных нервных связей — я хотел применить к своей жизни.
Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни.
Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть оттого, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд.
Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу.
Но снова передо мной лежало препятствие — я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни.
Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, — я бы распутал дальнейшее. Нет, все было окутано туманом забвения.
А мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое.
Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни.
Это были три дома. Но один дом сгорел. В другом доме я жил, когда мне было два года. В третьем доме я провел не менее пяти лет, начиная с четырехлетнего возраста.
И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето.
Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома.
Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил трехлетним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить.
И тогда я пошел к тому дому, в котором я прожил пять лет.
У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома.
Боже мой! Как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор.
Я узнал почти все. Но как это было не похоже на то, что было в моей памяти.
Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял захудалый трехэтажный домишко.
Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик.
Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса.
Какие иные глаза были тогда и теперь!
Я поднялся на третий этаж и нашел дверь нашей квартиры.
Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо. И судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь.
Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти.
Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный.
В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем ни ночью.
Днем я слонялся по комнате — не мог ни лежать, ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны.
Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро.
Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза.
Это даже не были сны. Это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался.
Я стал принимать бром, чтоб погасить эти кошмары, чтоб быть спокойней. Но бром плохо помогал мне.
Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров.
Узнав, что я принимаю бром, врач сказал:
— Что вы делаете! Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас оттого, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир.
И тогда я рассказал врачу свой последний сон, и он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился и не поверил ему.
Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены.
Врач сказал:
— Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука — это хобот. Хобот — это фаллос. У вас сексуальная травма.
Я не поверил этому врачу и возмутился. И он с обидой ответил мне:
— Я вам растолковал сон по Фрейду. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла.
Тогда я пригласил еще несколько врачей. Один смеялся, говоря, что толкование снов — это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение.
Среди этих врачей был один весьма умный врач. И я был ему очень признателен. И даже хотел стать его учеником. Но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав. Я не поверил в его лечение.
Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. Он был правоверный фрейдист. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана.
Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов.
Однако меня поразил метод его лечения.
Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди.
Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла, в сущности, из одного источника, из одного культа — из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая, медицина развивалась и культивировалась на единственной основе — на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа — сына Аполлона, бога врачевания, у греков — Асклепия.
Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых. Наконец, замечательных врачей — Гиппократа, Галена.
Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения.
Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон. И утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страдания.
Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение.
Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения.
История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий. Причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален.
Как же, однако, возникла эта идея — толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину?
Я не мог ответить себе на эти вопросы.
И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий забытый мир младенца.
Что же такое сон с точки зрения современной науки?
Прежде всего это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее, все высшие психические функции исключены, низшие функции — открыты.
Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром. И во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушённые желания.
Это происходит оттого, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное: оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты больших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров.
Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж — это кора мозга. Здесь — центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных сил.
Два эти этажа соединены между собой нервными связями, о которых мы говорили.
Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки.
Низший этаж продолжает бодрствовать. Однако отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени.
Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть. Но он возникает в сновидениях.
Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля.
И, стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его и что можно изгнать светом логики, светом сознания[2].
Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение.
Вместе с тем приходится удивляться: современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем на заре человеческой культуры, несколько тысячелетий назад, возникла идея — найти то, что во время сна не контролируется.
Мы не знаем, кому принадлежит честь создания древней медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека.
Дальнейшее показало, что можно иным путем, не только через сон, найти причину патологического торможения.
Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей. И те в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства.
Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов. Чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг.
Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным.
И только в свете современной физиологии эта идея — проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение — становится ясной.
Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума.
Итак, два этажа имеет наш мозг — высший и низший.
Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных.
Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного.
Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими. Побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе.
Казалось, именно в этой борьбе — источник многих нервных страданий.
Однако беды лежат совершенно не в этом.
Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная.
Этот конфликт высшего с низшим мог (допустим) привести к некоторым сексуальным психоневрозам. И если б наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе единственную причину, — она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений.
Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология.
Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте.
Этот порок, эту ошибку легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым.
Неточность в первоначальных установках, расплывчатость в формулировках борьбы высшего с низшим создавали неточный вывод, уводили в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений. А это не определяло дела. Это было лишь частью одного целого.
В конфликте высшего с низшим, в столкновении атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека Фрейд видел источник нервных страданий. Фрейд писал: «Запрещенные ходом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания, эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде…» Стало быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами — высокий разум подвергнут сомнению.
История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стало быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы.
Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума ошибочны, искусственны, не нужны.
Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа, но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, исказив ее, упростив, снизив до уровня тупоумных людей.
Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения фашизма.
Лучше варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший прогресс сознания.
Нелепость!
Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от прежних страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые, чем прежде.
Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если б такая возможность имелась — источник страданий остался бы. Ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить. Мы можем только лишь научиться обращаться с ними. И мы должны этому научиться с тем искусством, которое достойно высокого сознания.
Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Уменье обращаться с ними освободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским смирением.
Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка.
Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало источники наших бед.
И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто.
Это заторможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства.
И вот, все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках.
Ночью откроются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания уснут. И тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях.
Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы наконец понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни, перед восходом солнца.
Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел. Однако ни одного сна полностью я не мог припомнить. Я забыл.
Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чем эти сны.
И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь.
VI. Черная вода
Как свинец, черна вода,
В ней забвенье навсегда.
Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство.
Я давно собирался туда съездить. И вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню.
Это была деревня Пески по Неве, недалеко от Шлиссельбурга.
Более двадцати лет я не был в этих местах.
Пароход не остановился у деревни Пески. Там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке.
Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань.
Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти.
Я шел по улице, и все здесь до боли мне было знакомо. Кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях.
Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили.
Во дворе стояла немолодая женщина. У нее в руках было весло. Она только что прогнала какого-то теленка со двора. И теперь стояла разгневанная, разгоряченная.
Она не захотела со мной говорить. Но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил.
Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям.
Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей. И женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям.
С грустью я возвращался к своей лодке.
С грустью я шел по деревенской улице. Только улица и дома были те же. Обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтоб никогда сюда не вернуться. Они умерли.
Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить.
С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своих поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным.
Все показалось вздором, чушью в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня.
Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться? Стоит ли «по-хозяйски» располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой?
Не лучше ли безропотно прожить, как живется, и уступить свое жалкое место иным побегам земли?
Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах. И мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить, даже говорить, когда все так глупо, бессмысленно, обидно.
Мне показалось, что легче и проще умереть, чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был бы я поражен, если б тогда мне сказали о том, о чем теперь я знаю, — это было вовсе не мужество, это была крайняя степень инфантильности. Это было продиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление. Это было бегство.
Я решил прекратить свои поиски. И с этим решением я заснул.
Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что, даже проснувшись, я продолжал дрожать.
Я зажег лампу и записал свой сон, чтоб утром о нем подумать, хотя бы из любопытства.
Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне.
В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река. Мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое — бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю.
Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял. Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду. Эту темную, черную воду… И вдруг вспомнил стихи Блока:
Этот сон был похож на мой сон.
Я бежал от черной воды, от «забвенья навсегда».
Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море. Борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колено в воде. Или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной. И вдруг вода поднимается все выше и выше. Страх охватывает меня. Я убегаю.
Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута — и комната наполняется водой.
Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов.
Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой?
Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происшествия. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра.
Нет сомнения, вода была связана с каким-то сильным ощущением. Но с каким?
Может быть, я вообще боюсь воды? Нет. Наоборот. Я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем. Могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтобы волны были почти у крыльца моего дома.
Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто.
А что, если это не любовь к воде, а страх?
Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх?
Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить?
Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтоб быть настороже, чтоб она не застала меня врасплох?
Может быть, это тот страх, который не доходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненный туда логикой, контролем разума?
Я засмеялся — так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно.
He оставалось никакого сомнения — страх к воде присутствовал в моем разуме. Но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем.
Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами.
Конечно, не в полной мере его образами — они, несомненно, были слишком бедны. Они изменялись вместе с развитием. Но символика их, видимо, оставалась прежней.
Мутная бурая река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок «спасен». Но угроза осталась.
Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть.
Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются. Всех ребят погружают в воду. У них не остается страха. Почему же я был устрашен?
Значит, вода не была первопричиной, — подумал я. — Значит, имелись еще какие-то объекты устрашения, связанные с водой.
Тут я вспомнил принцип условных рефлексов.
Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть налажена условная нервная связь.
Только лишь вода, в которую меня погружали, не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде, но вода вызывала страх, ибо нервные связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла устрашать.
Однако с чем же связана вода? Какого рода «яд» она содержала? В чем заключается второй несчастный раздражитель, «зажигающий» комбинацию столь бурного ответа?
Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись нервные связи.
Впрочем, этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограничены в своем количестве. Раздражители немногочисленны. Но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель.
Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках.
Дальнейшее показало, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения — их оказалось не два, а несколько. И они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей.
Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ.
Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они угасают или исчезают вовсе.
Ну что ж. Вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость несомненно была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель, но мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться.
Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть. Ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную, ложную связь. А она была неправильна, ошибочна — это очевидно.
Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, мог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боится.
Снова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой.
Доказательства опасности воды были на каждом шагу.
В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть.
Какие веские доказательства опасности воды!
Нет сомнения — это могло устрашить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно.
Эти своего рода «ложные» доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы устрашения, питала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильней и крепче утверждаться.
Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей, оно только перестраивает их, поднимает эти ложные доказательства на уровень своего развития. И, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на больную почву.
Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна. Но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме.
Но если это так, если вода была одним из элементов устрашения, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору!
Ведь именно водой меня и лечили. Именно водой и пробовали избавить меня от тоски.
Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море — путешествовать и купаться.
Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска.
Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение.
А ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью.
Лечение, впрочем, не создавало безвыходного положения. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил. Я перестал лечиться.
Для того чтобы не лечиться, я выдумал нелепую теорию о том, что для полноты здоровья человек должен все время и без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью.
Таким образом я освободился от лечения.
Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня устрашало. Страх продолжал существовать.
Этот страх был не осознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало.
Этот страх жил ночной жизнью, в сновидениях. А днем, в столкновении с объектом устрашения, он проявлялся только косвенным образом — в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача.
Мы знаем, что такое страх, знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы. В основе их — стремление избежать опасности.
Симптомы страха разнообразны. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич.
Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц.
Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям.
В основе этих симптомов была «целесообразность» — они преграждали мой путь к «опасности», они подготовляли бегство.
Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым.
Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от «опасности».
Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как мы в дальнейшем увидим, были весьма сложны.
Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать «опасности». Но как поступает взрослый?
Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью?
Нет, я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды. И эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием.
В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и в какой-то мере к желанию овладеть водой, «освоить» ее. Я пробовал научиться плавать. Но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках.
Я научился плавать только юношей, поборов этот страх.
Это была первая победа и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим.
Мое сознание и в дальнейшем не уводило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорей встретиться с моим могущественным противником, чтобы еще раз помериться с ним силами.
Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх.
Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже в малодушии.
Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная, тем не менее я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку.
Было начало лета, и таких путей не могло быть.
Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад. И повел батальон через реку.
Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился.
Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы. И я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно.
Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию.
Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны. Об их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете — как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью.
Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом. Но как странно шла борьба! Какие странные пути были найдены для сомнительной победы!
Изучением воды тридцатилетний человек хотел освободиться от страха. Борьба пошла по линии знания, по линии науки.
Это было поразительно, ибо сознание участвовало в этой борьбе. Я не в полной мере понимаю, как возникли эти пути. Сознанию не были известны механизмы несчастья, и, быть может, поэтому избран был общий путь, как бы и верный, но для данного случая ошибочный, даже комичный.
Все мои тетради, записные книжки стали заполняться сведениями о воде.
Эти тетради сейчас передо мной. С улыбкой я просматриваю их. Вот записи о самых сильных бурях и наводнениях в мире. Вот подробнейшие цифры глубин морей и океанов. Вот сведения о наиболее бурных водах. О скалистых берегах, к которым не могут подойти корабли. О водопадах.
Вот сведения об утонувших людях. О первой помощи утопленникам.
Вот запись, подчеркнутая красным карандашом:
«71 процент земной поверхности находится под водой и только 29 процентов суши».
Трагическая запись! Красным карандашом приписано:
«3/4 земного шара — вода!»
Вот еще трагические записи, из которых можно увидеть, каков процент воды в теле людей, животных, растений:
«Рыбы — 70–80 %, медузы — 96 %, картофель — 75 %, кости-50 %…»
Какая проделана гигантская работа! Какая бессмысленная!
Вот целая тетрадочка исписана сведениями о ветрах. Это понятно: ветер — причина наводнений, причина бурь, штормов.
Кусочек из записи:
«3 метра в 1 секунду — шевелятся листья;
10 метров в 1 секунду — качаются большие ветви;
20 метров в 1 секунду — сильный ветер;
30 метров в 1 секунду — буря;
35 метров в 1 секунду — буря, переходящая в ураган;
40 метров в 1 секунду — ураган, разрушающий дома».
Под записью справка: тай — чрезвычайный, фунг — ветер. Тайфунг в 1892 году (остров Маврикия) — 54 метра в секунду!
Вот еще одна тетрадь о наводнениях в Ленинграде.
Перелистывая эти мои тетради, я сначала улыбался. Потом улыбка сменилась скорбью. Какая трагическая борьба! Какой «интеллектуальный» и вместе с тем варварский путь нашло сознание для того, чтобы путем знаний «освоить» противника, уничтожить страх, одержать победу!
Какой трагический путь был найден! Он был в соответствии с моим умственным развитием.
Этот путь нашел отражение и в моей литературе.
Но тут я должен оговориться. Я вовсе не хочу сказать, что этот путь — страх и желание уничтожить его — предопределял мою жизнь, мои шаги, мое поведение, мою меланхолию, мои литературные намерения.
Вовсе нет. Мое поведение оставалось бы точно таким же, как если бы страх отсутствовал. Но страх усложнял шаги, усиливал недомогание, увеличивал меланхолию, которая могла существовать и без него, в силу иных причин, в силу тех обстоятельств, кои в равной степени относились и ко всем людям.
Страх не предопределял путей, но он был одним из слагаемых в сложной сумме сил, действующих на человека.
Было бы ошибкой не учитывать этого слагаемого. Но ошибка была бы еще грубей — воспринимать это слагаемое как сумму, как нечто единственное, действующее на человека.
Только в сложном счете решался вопрос.
Мы видели эту сложность в моем поведении. Основной двигатель был не страх, а иные силы — долг, разум, совесть. Эти силы оказались значительно выше низменных сил.
Мое поведение было в основном разумным. Страх не вел меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне, нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать «опасностей», если не было более высоких чувств или обязанностей.
В общем прессе он давил на меня и главным образом воздействовал на мое физическое состояние.
Мое сознание намерено было устранить его. Умственное развитие избрало путь знаний. Профессиональные навыки литератора также приняли участие в этой борьбе. Среди многих тем, которые меня занимали, была тема, связанная с водой. К этой теме я имел особую склонность.
Полгода я провел над материалами Эпрона, изучая историю гибели «Черного принца».
Работая над этой книгой, я тщательно обследовал все, что к этому относилось. Я выезжал на место работ, знакомился с водолазным делом, собирал литературу о всех изобретениях в этой области.
Закончив книгу «Черный принц», я тотчас принялся собирать материалы о гибели подводной лодки «55». Эту книгу я не закончил. Тема перестала меня занимать, ибо к этому времени я нашел более разумный путь для борьбы.
Итак, изучением воды во всех ее свойствах я хотел освободиться от несчастья, от неосознанного страха. Этот страх не относился даже к воде. Но вода вызывала страх, ибо она была условно связана с иным предметом устрашения.
Борьба против этого, повторяю, находилась в соответствии с моим умственным развитием.
Какая трагическая борьба! Какое горе и какое поражение она мне сулила! Какие удары были предназначены для моего жалкого тела!
О каких же бедах от высокого сознания можно говорить?
Пока можно лишь говорить о разуме, которому не хватает знаний. Можно говорить о маленьком несчастном дикаре, который бредет по узкой горной тропинке, едва освещенный первыми лучами утреннего солнца.
Итак, первые шаги в поисках несчастного происшествия были сделаны.
Несчастное происшествие возникло при первом знакомстве с окружающим миром. Оно произошло в предрассветных сумерках, перед восходом солнца.
Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей.
Эта случайность создала неверные, болезненные представления о некоторых вещах, в том числе о воде.
Это была драма, в которой моя вина была не больше, чем страданье.
Однако эта драма до конца еще не раскрыта.
Надо было найти условные нервные связи, которые вели от воды к чему-то неизвестному, к чему-то, может быть, еще более страшному. Без этого вода не была бы предметом ужаса.
И вот, уверенный в своих силах, я пошел дальше в поисках моего несчастного происшествия.
VII. Закрывайте двери
Змею мы рассекли, но не убили.
Она срастется — и опять жива.
Я часто видел нищих во сне. Грязных. Оборванных. В лохмотьях.
Они стучали в дверь моей комнаты. Или неожиданно появлялись на дороге.
В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался.
Я стал думать — почему я вижу нищих. Чем они меня устрашают? Не есть ли нищий — второй условный раздражитель, подобный воде?
Я перелистал свои воспоминания, надеясь среди них найти устрашающие меня сцены.
Нет, образ нищего отсутствовал в моих воспоминаниях. Только лишь одна короткая сценка относилась к трехлетнему возрасту — мать шутливо протянула меня нищему.
Может быть, этот нищий устрашил меня? Может быть, остался неосознанный инфантильный страх, оживающий в моих сновидениях?
Я вспомнил о тех нищих, которых я встречал на улице. Нет, никакого страха я к ним не чувствовал. Никакого волнения не испытывал.
А ведь этот страх должен и днем присутствовать в какой-то, хотя бы самой незначительной степени. Мы видели этот деформированный страх к воде. Он и днем выражался в странных симптомах. Он нашел отражение во всей моей жизни. Я боролся с этим неосознанным страхом путем знаний. Была проделана гигантская борьба. Следы этой трагической бессмысленной борьбы остались в моих записных книжках, в моей литературе.
Тогда я раскрыл свои записные книжки, рассчитывая на их страницах найти следы новой грандиозной борьбы, следы новых схваток с неосознанным противником.
Однако в записных книжках я на этот раз не нашел того, что искал. Не было ни цифр, ни справок. Не было ничего такого, что могло говорить о повышенной заинтересованности к новому объекту.
Тогда я перелистал свои сочинения, книги.
Нет сомнения, тема нищего меня весьма интересовала. Но это был нормальный интерес литератора к социальному явлению.
Эта тема присутствовала только лишь в той степени, в какой ей надлежало присутствовать в сочинениях сатирического писателя. Мне даже показалось, что эта тема недостаточно полно и широко взята.
Я был озадачен. Как же так? Я видел нищих во сне. Нищие меня устрашали. Это очевидно. Однако проходила ночь, вставало солнце, и след нищего терялся в его лучах.
Тогда я снова стал обдумывать свою жизнь, стараясь вспомнить сцены, чем-либо связанные с нищим.
Однако ничего существенного мне не удалось припомнить из этой области. Никаких нищих я не мог вызвать из забвения.
Но вот, напряженно думая о своем детстве, я увидел какой-то нелепый сон.
Пароход. На палубе толпа пассажиров. Эта толпа аплодирует мне. Из толпы выходит весьма моложавый старик. Он цветущий, подтянутый, краснощекий. С цветком в петлице.
Почтительно поклонившись мне, старик произносит:
— О, благодарю вас, молодой человек! Вспомните, какой я был дряхлый, когда мне было восемьдесят лет. Теперь, когда мне стало шестьдесят, я чувствую себя отлично.
Я отвечаю:
— Очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь.
Старик берет меня под руку. Мы с ним торжественно шествуем. Доходим до какой-то двери. Дверь открывается. Старик исчезает.
Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать.
А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость.
Я стал думать об этом толстомордом старике — не видел ли я его в жизни? Нет, эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть.
Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых.
Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить.
Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где же я видел эту тяжелую резную дубовую дверь? Нет сомнения, я где-то ее видел. Я отлично ее помню. Помню даже медную дощечку на ней. И фамилию на этой дощечке — Чистяков.
Какой же это Чистяков?
Я стал перебирать в своей памяти фамилии. Нет, среди знакомых фамилий этой не имелось.
Был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне?
Любопытства ради я открыл энциклопедический словарь, чтобы посмотреть, как звали этого художника. И с удивлением увидел, что имя и отчество его совпадало с тем, что я произнес во сне.
Это был знаменитый русский художник Павел Петрович Чистяков.
Неожиданно я вспомнил — он был начальником моего отца по Академии художеств.
И вдруг с необычайной отчетливостью я припомнил забытую сцену.
Зима. Снег. Васильевский остров.
Я с матерью иду по улице. Мы останавливаемся у двери, на которой медная дощечка: «Павел Петрович Чистяков». Я звоню. Дверь открывает швейцар. Мама говорит:
— Скажите его превосходительству, что пришла вдова художника Зощенко.
Швейцар уходит и, вернувшись, говорит:
— Его превосходительство просит вас обождать здесь.
Мы садимся на деревянный диван. Долго сидим, поглядывая на широкую шикарную лестницу. Мы ждем очень долго. Я начинаю хныкать. Мне скучно. Неприятно так долго ждать. Я говорю матери:
— Если он так долго не идет, значит, он не нуждается в нас. Мама, давай уйдем.
Мама тихо говорит мне:
— Не он, а мы нуждаемся в нем. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. А сколько мы получим, это будет зависеть от Павла Петровича.
Проходит час. Наконец по лестнице спускается старик в черном сюртуке. Старик весьма стар, сухощав, бледен.
Мама почтительно кланяется ему. И о чем-то просит.
Старик что-то брюзгливо отвечает, делая сильное ударение на «о».
Беседа продолжается три минуты.
Мы уходим.
Мама берет меня за руку. И мы снова идем по улице. Я говорю:
— Мама, вот уж я бы не стал так вежливо говорить, как ты с ним говорила.
Мама отвечает:
— Что же делать, Мишенька, — мы от него зависим.
— Все равно. Он плохо с тобой разговаривал. И плохо попрощался — сразу отвернулся.
Мама начинает плакать. Я говорю маме:
— Да, но он со мною поступил еще хуже, чем с тобой. Он даже не поздоровался со мной и не попрощался. И то я не плачу.
Мама плачет еще сильней. Чтобы утешить ее, я говорю:
— У меня есть двадцать копеек. Если хочешь, я найму извозчика, и мы поедем домой.
Я нанимаю извозчика, и мы садимся с мамой в пролетку.
Мне показалось, что эта сцена в передней имела значение в моей жизни.
Мне показалось, что эта сцена устрашила меня.
В самом деле. Снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий был я сам.
Я стоял в передней с протянутой рукой. Я просил. И мне подавали. Быть может, я боялся стать нищим? Боялся очутиться в качестве жалкого просителя? И вот почему образ нищего устрашил меня.
Я стал думать о нищих, которые во множестве бродили по старым дорогам моей страны. И о великой революции, которая поставила своей задачей уничтожить это бедствие.
Я стал думать о том прошлом мире, в котором я родился и жил. О том мире, который создал нищих, просителей, людей, которые кланяются, клянчат, унижаются.
Вероятно, этот мир устрашил меня. Вселил неуверенность. Создал пугало в образе нищего.
Я вспомнил этот мир. Вспомнил людей, окружающих меня. Вспомнил взаимоотношения.
Нет сомнения, это был несчастный мир. Он нес с собой болезни не менее опасные, чем те, о которых я пишу в этой книге. Он мог вселить тревогу, беспокойство, страх. Нет сомнения, он мог создать пугало в образе нищего.
Итак, я вспомнил этот мир, в котором я родился. Мир богатых и нищих. Мир просителей и подающих. Мир, который меня устрашил.
Какое странное и смешанное чувство я испытал! Какую боль я почувствовал, когда вдруг понял, что этот мир я никогда больше не увижу. И какую радость при этом я испытал!
Но чему же я радовался? О чем сожалел? Что оставил я в том прошлом мире, который оплакивал? И почему я оплакивал то, что меня устрашало?
Я не мог понять. Не мог выразить словами причину этой своей боли, своего сожаления. И тогда я рассказал об этих своих чувствах одной одинокой женщине. Она была моя сверстница. Но она больше знала о прошлом мире.
Она сказала:
— Я испытываю такие же чувства. Но только они не случайны, как у вас. Я не перестаю оплакивать прошлый мир, хотя уже минуло восемь лет с тех пор, как мы его потеряли.
Я сказал:
— Но ведь прошлый мир был ужасный мир. Это был мир богатых и нищих. Он мог устрашать людей. Это был несправедливый мир.
— Пусть несправедливый, — ответила женщина, — но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но не ярких, скучных и будничных, какие мы видим. Новый мир — это грубый мужицкий мир. В нем нет той декоративности, к какой мы привыкли. Нет той красивости, какая радует наш взор, слух, воображение. И вот в чем наша боль и наше сожаление. Что же касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопчется по ноге.
Уйдя от этой женщины, я стал думать — так ли это, как она сказала?
Мне захотелось припомнить какие-нибудь изящные сцены из прошлого. Я принялся думать о шелковых тканях, о музыке в гостиных, об утонченных словах, произнесенных при встречах, о лакированных экипажах, проезжающих по улицам.
Я припомнил несколько сцен. Нет, они не были связаны с душевным волнением. Они не вошли в мои воспоминания. Должно быть, они были привычны для моего взора. Должно быть, они были ничем не удивительны, повседневны.
Об этих сценах я, вероятно, и не вспомнил бы, если б не подумал о том, о чем думаю теперь, стараясь понять, откуда возникла эта боль, эта радость и сожаление.
В студенческом кителе, со стеком в руках, я иду по берегу моря.
Сестрорецкий пляж. Жарко. Лето. Играет симфонический оркестр.
На горячем песке расположились люди. Шикарные женщины в шляпах, с зонтиками в руках. Чахлого вида мужчины в пенсне, в пиджаках.
Мило прогуливаются детишки. Они в шляпах, в чулочках, в башмаках.
Какая-то девчурка хнычет.
— Маменька, — говорит она, — пожалуйста, разреши мне снять чулочки.
— Нет, это неприлично, — говорит мать. — Мы снимем чулки, когда пойдем купаться.
Кругом чинно, скучно. Почти не видно загоревших тел. Почти не слышно криков, возгласов, смеха. Кто-то визжит, входя в воду. Кто-то завывая читает стихи. Кому-то на подносе несут пиво.
Боже мой, как нестерпимо скучно!
Похлопывая стеком по узким своим брюкам, я подхожу к моим знакомым. Это — знаменитый адвокат Н. и его жена, мадам Н. Н.
Мне нравится жена этого адвоката. Я немного ухаживаю за ней.
Мадам Н. Н. улыбается, когда я подхожу. Стыдливо прикрывает свое тело, наглухо затянутое в шикарный купальный костюм. Помахивает белым веером из страусовых перьев.
Я сажусь рядом.
Мадам Н. Н. кокетничает со мной. Однако разговор не клеится. Рядом муж. Это пресно.
— Серж, — говорит она супругу, — ты бы, право, пошел к воде. Не нужно купаться, но один раз окунуться — это следует, мой друг. Это полезно для твоего здоровья.
Серж безропотно сдирает с себя чесучовый пиджак. Отстегивает шелковые подтяжки. Раздевается.
Я вижу чахлое его тело. Впалую чахоточную грудь. И жалкие руки, лишенные мускулов.
Увидя на себе мой взор, судебный работник бормочет:
— Дух выше, молодой человек. Дух, а не тело — вот в чем наша забота, наша красота.
Осторожно ступая на песок, Серж, как по гвоздям, идет к воде.
Его руки, худые и безжизненные, болтаются, как плети.
Изящная гостиная. Шелковая мебель. Кружева. Тюль. Фарфоровые безделушки. Французская речь.
Хозяин — бледный, томный, усталый. Нечто декадентское в его лице.
Плавно жестикулируя, он читает свои стихи. Он читает поэму о какой-то «первоначальной» красоте, к которой должны стремиться люди, об утонченной страдающей душе, блуждающей в грубом мире, в мире низменных страстей. Чтение прерывается каким-то криком в передней.
Хозяин морщится. Страдальчески наморщив лоб, выслушивает горничную, которая что-то ему тихо докладывает.
Неожиданно на пороге гостиной появляется женщина. Она немолода. Плохо одета. Седые ее волосы торчат из-под шляпки.
— Ты что же со мной делаешь, Пьер? — говорит она.
И, увидев гостей, продолжает: — Нет, я не погляжу, что у тебя гости. Пусть все знают, какой ты негодяй. Твой покойный отец — мой родной брат — велел ежемесячно выдавать мне по сто рублей. А ты что делаешь? Ты что, ирод, издеваешься надо мной!
Наморщившийся, как от зубной боли, хозяин тихо говорит:
— Уйдите, тетя Лизет. Отец не говорил мне этого. Подавайте в суд.
Горничная и хозяин выпроваживают тетку. Неожиданно та падает на пороге.
— Притворяется, — говорит хозяин. И, вытащив из кармана кредитку, швыряет тетке.
Дверь гостиной закрывается. Мы не видим продолжения. Закрыв глаза рукой, хозяин извиняется перед гостями за невольную сцену. Кто-то из гостей говорит:
— Как совпала ваша поэма с тем, что случилось. Какой грубый мир! И какое счастье, что его можно избежать, отгородиться от него поэзией, душевным одиночеством…
Хозяин продолжает читать прерванную поэму.
На ступеньках лестницы сидят рабочие. Они грязные, оборванные. Некоторые из них в лаптях.
Это рабочие-сезонники. Они достраивают дом во дворе. И вот сегодня, в воскресенье, они пришли к домовладельцу, чтоб получить свой недельный заработок.
Кто-то из них говорит:
— Нет, они не любят сразу платить. Они поманежат людей, а потом уже платят.
Кто-то из рабочих встает и, подойдя к двери, несмело стучит.
В дверях появляется горничная. Она в белом передничке. На голове ее накрахмаленная белая наколка.
Горничная говорит:
— Ну что вы стучите, дьяволы… Кажется, сказано вам — барин занят. Приходите вечером.
Сезонник говорит:
— Вечером придешь, скажут — утром приходите. Ведь каждую неделю такая канитель. Сделайте милость, доложите барину — дескать, люди ждут…
Горничная с досадой говорит:
— Барин занят. Не будет сегодня платить. Уходите к лешему.
Дверь захлопывается.
Я сижу на подоконнике с Валей. Валя — дочь этого домовладельца. Нам по пятнадцати лет. У нас нечто вроде флирта. Вот уже час мы сидим на подоконнике и о чем-то болтаем.
Я спрашиваю Валю:
— Валечка, а чем занят ваш папа?
Смущенно потупив глазки, Валя говорит:
— К нему опять пришла Анель. Когда была жива мама, она не смела приходить. Теперь она приходит. Я боюсь, что папа на ней женится. Она с утра у него. Они собираются ехать на бега.
Я смотрю на сезонников, расположившихся на ступеньках лестницы. Некоторые из них курят. Другие пьют и закусывают.
Мы с Валей смотрим в окно. Дождь прошел. Мы выходим во двор.
Как забытые видения, проходят передо мной эти маленькие сцены из прошлой жизни. Какие неприятные сцены, какие горькие воспоминания! Какая нищенская красота!
Так вот почему я рад, что больше не увижу ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости, нищеты и незаслуженного богатства! Вот почему я рад, что не увижу больше узкогрудых чахоточных людей, в сердце которых уживались высокие изящные чувства и варварские намерения.
Значит, нет никаких мотивов для сожаления. А оно было, это сожаление, и оставалась эта боль. И я снова не мог понять, откуда эта боль возникает.
Быть может, она возникает оттого, что я видел печальные сцены прощанья с этим ушедшим миром. Я был свидетелем того, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота, эта декоративность, изящество.
Я вспомнил одного поэта — А. Т-ва.
Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции, в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет.
Какую страшную перемену я наблюдал! Какой ужасный пример я увидел!
Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны.
Передо мной было животное более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта.
Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, — чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал.
Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне.
Боже мой, что было в этой книжечке!
Ведь когда-то поэт писал:
Теперь, через десять лет, та же рука написала:
В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1922 г.), все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их.
В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении:
Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения.
Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться. Перестал лепетать слова — ланиты, девы, перси. Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле, — голым, нищим, омерзительным.
Этот поэт Т. действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который он заслуживал.
Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо.
Он был красив. Его седеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное — харю с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять.
Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть.
Я отдал поэту почти все, что было в моих карманах. И за это он хотел поцеловать мою руку.
Я стал стыдить его за те унижения, которые он избрал для себя.
Поэт усмехнулся. Унижения? Что это такое? Унизительно не жрать. Унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно. Все остальное идет вровень с той реальной жизнью, которую судьба ему дала в обмен за прошлое.
Через час я снова проходил по этой же улице. К моему удивлению, поэт по-прежнему стоял на углу и, кланяясь, просил милостыню.
Оказывается, он даже не ушел, хотя я дал ему значительные деньги. Я и до сих пор не понимаю — почему он не ушел. Почему он не тотчас бросился в пивную, в ресторан, домой. Нет, он продолжал стоять и кланяться. Должно быть, это его не угнетало. А может быть, даже и доставляло интерес. Или не пришло еще время для его завтрака, и поэт для моциона остался на улице?
Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту».
Хватая за руки прохожих и грубо бранясь, Т. требовал денег.
Я не знаю его дальнейшей судьбы.
Образ этого поэта, образ нищего остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.
Я мог страшиться такой судьбы. Мог страшиться таких чувств. Такой поэзии.
Я мог страшиться образа нищего.
И вот, думая об этом несчастном поэте, я невольно стал вспоминать поэзию моего времени.
Я вспомнил вдруг чувствительные и грустные романсы, какие пели тогда, — «О, это только сон», «Гори, гори, моя звезда», «Хризантемы в саду».
Не скрою от вас — у меня появились слезы на глазах, когда я вдруг припомнил эти позабытые звуки.
Так вот откуда сожаление, — подумал я. — Значит, я оплакиваю не тот «красивый мир» — богатых и нищих, я оплакиваю ту печальную поэзию, которая была мне сродни. Может быть, она действительно была хороша — эта поэзия?
Я стал вспоминать стихи моего времени.
Это были отличные стихи, отличная поэзия. Поэзия Блока, Есенина, Ахматовой.
Но какая боль в ней чувствовалась! Какие печальные мелодии напевали эти поэты! Почему?
Только лишь потому, что их не удовлетворяла та жизнь, которую они имели? Тот общественный строй, который они на себе испытали? Нет, вряд ли.
Я вдруг вспомнил строчки из В. Брюсова:
Почему же он так сказал? Почему он не сказал, что встречает приветственным гимном тех, которые уничтожат несправедливость, вопиющее неравенство, нищету? Нет, мы знаем, что поэт приветствовал революцию. Примкнул к ней, пошел вслед за ней, чтоб увидеть новый мир, новых людей. Но почему все же он нашел такие жестокие слова в отношении самого себя?
Я стал перелистывать стихи Брюсова, его дневники, письма.
Я увидел, что это очень неплохой поэт. Но какой он неровный! Какая меланхолия одолевает его по временам! Какие истерические нотки слышатся в его музыке, в его мыслях! Какая катастрофа присутствует в его сердце!
Нет сомнения, он не считал себя здоровым, полноценным человеком. И вот почему он так сказал.
Должно быть, он не хотел, чтоб искусство находилось в дрожащих руках неврастеников. Не хотел, чтобы оно воспитывало прежние чувства, прежних людей.
Какие жестокие слова были произнесены! Какой адский выход был найден!
Но, может быть, эта катастрофа, истерика и меланхолия были свойственны только лишь большим поэтам, в силу их высокой миссии, высокой чувствительности, высокого сознания?
Может быть, все остальные поэты бодрыми голосами напевали торжественные гимны природе?
Я стал перелистывать стихи моего времени.
Нет. Все то же самое. Только хуже. Бедней. Ужасней.
Блок, как в фокусе, соединил в себе все чувства своего времени. Но он был гений. Он облагородил своим гением все, о чем он думал, писал.
Строчки малых поэтов, лишенные этого благородства и вкуса, были ужасны:
Какой цветистый нищенский язык! Какая опереточная фантазия у неплохого, в сущности, поэта!
Нет, неприятно читать эти стихи. Нестерпимо слышать эту убогую инфантильную музыку. Отвратительно видеть эту мишуру, эти жалкие манерные символы.
Я перелистываю поэтические сборники моего времени.
С холодным сердцем, без капли волнения я читаю то, что мы читали и, должно быть, любили:
Нет, мне не жаль этой утраченной поэзии. Не жаль потерянных «нездешних цветов».
Мне не жаль и потерянной бодрости, которую я встречаю в иных стихотворениях:
Бог с ней, с этой бодрой поэзией! Она отвратительна:
Я перелистываю роскошные журналы моего времени. Вот Бальмонт поэтически пишет о подруге Эдгара По:
Чаровательница и рабыня своих женских страхов, женщина, полюбившая ангела, демона, духа, кого-то, кто больше, чем человек, и потому испугавшаяся — нежная Сибилла, заманившая и себя и другую душу в колдования любви…
И еще:
Вестник Запредельного, глашатай глубин и носитель тайн, бессмертный Эдгар, взявший в своем мировом служении великую тяжесть необходимости явить нам, как может быть одинока душа Человека среди людей…
Слезы давно уже высохли на моих глазах. Нет, я ни о чем больше не жалею. Я не жалею о том мире, который я потерял.
Однако куда же я забрел? — подумал я. — В какие же психологические дебри завел меня нищий, за которым я покорно пошел с надеждой найти причину моего страха перед ним!
Не знаю, какие новые шаги мне предстояли и какие ждали меня разочарования, если б этим путем я пошел дальше.
Но я спохватился. Я понял, что я неверно рассуждаю, неверно иду.
Ведь мне надо было найти причину моего младенческого страха перед нищим, а не причину боязни взрослого человека.
Разве младенцу понятны мои тревоги, волнения, чувства, стихи и прошлый мир, с которым я прощался?
Разве младенцу понятен образ нищего?
Нет, образ нищего не есть образ, понятный младенцу.
В таком случае как же он возник? Отчего он появлялся в моих снах?
Я вспомнил принцип сновидений. Вспомнил, что такое сон с точки зрения современной науки.
Я повторю, хотя бы вкратце. Это имеет первостепенное значение.
Два этажа имеет наш мозг. Высший этаж — кора мозга и подкорковые центры. Здесь источники приобретенных навыков, центры условных рефлексов, центры нашей логики, речи. Здесь — наше сознание. Нижний этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных инстинктов.
Два эти этажа, как мы говорили, нередко находятся в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже или изгоняют вовсе.
Ночью высший этаж погружается в сон.
Сознание гаснет, перестает контролировать.
А так как заторможение опускается не ниже подкорковых центров, то низшие силы оживают и, пользуясь отсутствием контроля, выявляются в сновидениях. Оживают страхи, заторможенные или оттесненные сознанием.
Вот какова общая картина сна. И вот каков механизм, лежащий в основе наших сновидений.
Казалось бы, весьма просто, с помощью сновидения, обнаружить причину патологического торможения, увидеть то или иное заглушённое чувство, понять образ, возникший в снах.
Да, это было бы весьма просто, если б высший и низший этажи «разговаривали» на одном языке. Однако «обитатели» этих этажей не имеют одинаковой речи. Высший этаж мыслит словами. Низший этаж мыслит образами.
Можно допустить, что такое образное мышление свойственно животному и в одинаковой мере младенцу.
В силу такого образного мышления сновидения нередко приобретают символический характер. Это понятно — простейшие образы, соединенные вместе, могут создать символ. И сложность этих символов неодинакова. Эта сложность меняется в зависимости от развития человека.
Мы видели, как вместе с умственным развитием меняются и усложняются условные нервные связи. В одинаковой мере и сновидения меняют свой смысл, меняют свое значение в зависимости от роста сознания, в зависимости от характера человека, от его индивидуальности.
Поэтому, чтоб понять образ низшего этажа, нужно разговаривать на языке младенца, нужно видеть его глазами. И при этом нужно расшифровывать символику, которая возникает в силу образного мышления младенца, учитывая, конечно, рост и развитие человека.
Значит, образ нищего — символический образ. Значит, этот образ мог возникнуть только лишь в силу дальнейшего умственного развития ребенка. И нет сомнения, что в основе этого образа были заложены иные, более примитивные образы, понятные младенцу.
В силу этого образ нищего следует расчленить на простейшие составные элементы.
Какие же элементы могли создать образ нищего как объект устрашения? Можно допустить, что символ возник по признакам поступков нищего.
Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет.
Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Из этих элементов мог в дальнейшем возникнуть символический образ нищего.
Со всей отчетливостью я вдруг понял, что я боюсь не нищего, а его руки. Я боюсь не нищего, который что-то у меня возьмет, я боюсь руки, которая что-то у меня отнимет.
Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Я понял, что эта устрашающая меня рука — второй условный раздражитель в сложной комбинации моего младенческого психоневроза.
Ведь именно эта рука пыталась схватить меня, когда я во сне бежал по синему полю, спасаясь от черной воды. Именно эта рука хотела что-то взять, отнять, украсть.
В этой руке нищего, вора и, может быть, убийцы имелись те простейшие элементы, из каких в дальнейшем был создан столь ужасный для меня символический образ нищего.
Значит — вода и рука.
Какой прочной условной связью могли соединяться два эти найденные раздражителя! Какая роковая повторяемость могла произойти в жизни младенца!
Однако что же именно обозначала эта рука? И что она хотела взять у меня?
Что берет нищий, вернее, его рука? Она берет то, что подают: деньги, хлеб, еду — милостыню.
Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему же это сожаление сопровождалось страхом? Это было непонятно.
Тогда я стал вспоминать детали одного сна, в котором фигурировал нищий. Я сижу за каким-то большим столом. Раздается звонок. Потом стук. Я подбегаю к двери не с тем, чтобы открыть ее, а с тем, чтоб проверить — хорошо ли она закрыта. Нищий стоит за дверью. Он тянет ее к себе. Напрягая силы, я не позволяю нищему открыть дверь. Происходит борьба. Сердце мое колотится от страха и от физических усилий.
Ужас охватывает меня, когда дверь приоткрывается. Однако я делаю усилие и закрываю дверь. Закрываю на ключ, на цепочку. С облегчением возвращаюсь к столу.
Разве это был нищий за дверью? Может быть, это был вор? Нет, вор не стал бы стучать и звонить. Это был именно нищий, который хотел что-то у меня отнять.
Что же хотел он отнять?
Я снова не мог понять. Но зато я понял, что этот страх я испытывал не только во сне. Я испытывал его и днем. Ведь это я — мальчик, а потом юноша и, наконец, взрослый — кричал: «Закрывайте двери!» И каждый вечер тщательно проверял крючки и запоры на дверях, на окнах. Я не мог заснуть, если дверь была открыта. Если на дверях не было крючка или задвижки, я ставил стул и на стул укладывал чемодан или какие-нибудь вещи с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату.
Стало быть, этот сон реально обоснован. Стало быть, страх присутствовал не только в сновидениях.
К чему же относился этот страх? Что хотел отнять у меня нищий? Ведь я никогда ничего не жалел. Напротив, я даже радовался, если у меня пропадала какая-нибудь вещь. Мне казалось, легче и проще жить без вещей.
Что же в таком случае устрашало меня? Какая потеря казалась мне невозвратимой? Что защищал я с таким страхом и трепетом?
И что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду, наказывала и заставляла в страхе биться маленькое несчастное сердце?
VIII. Тигры идут
Над ранами смеется только тот,
Кто не бывал еще ни разу ранен.
Когда я захотел узнать, что обозначает рука и что она намерена взять у меня, я стал испытывать необыкновенный страх.
Такой силы страх я раньше не испытывал даже ночью. Теперь он возникал и днем, главным образом на улице, в трамвае, при встрече с людьми.
Я понимал, что этот страх возникает оттого, что я дотрагиваюсь до самых глубоких ран, тем не менее этот страх всякий раз потрясал меня. Я стал спасаться от него бегством.
Это было нелепо, невероятно, даже комично, но страх исчезал, когда я добирался до своего дома, до своей лестницы.
Уже в подъезде он оставлял меня.
Я пробовал бороться с ним. Хотел подавить его, уничтожить — волей, иронией. Но он не подчинялся мне. Он возникал еще в большей степени.
Тогда я стал избегать улицы, людей. Почти перестал выходить из дому.
Однако страх вскоре проник и в мою комнату. Я стал страшиться ночи, темноты, еды. Перестал спать на кровати. Спал на полу, на тюфяке. Почти перестал есть. Насильно проглоченный кусок хлеба вызывал тошноту, рвоту.
Казалось, все было кончено. Казалось, приближается развязка — бессмысленная, дикая, постыдная.
Уже ничто не интересовало меня. Игра, казалось, была проиграна. Борьба кончилась поражением. Я находился в полном подчинении у страха. Уже мрак стал окутывать мою голову. Наступала гибель, более страшная, чем я предполагал[3].
Пришли дни, когда я не мог ни лежать, ни сидеть. Необыкновенно слабый, я мотался из угла в угол, задыхаясь от ужасных сердечных припадков и от невыносимых спазм во всем теле.
На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. По временам я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них. Но они были непонятны.
Я искал руку, ее значение, ее связь с тем, что меня так устрашало. Но сны ничего не говорили о руке. Они говорили о тиграх, которые входят в мою комнату.
Я и раньше видел подобные сны. Но теперь они были необыкновенно реальны.
В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением.
Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти.
Тигры не всегда входили в комнату. Иной раз они оставались за дверью. И тогда раздавался их ужасающий громовый рев. Этот рев сотрясал комнату. Звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах.
Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями о пол.
В один из худших для меня дней в моем помраченном уме мелькнула догадка.
Что, если, — подумал я, — тигр есть символ? Такой же символ, как образ нищего.
Ведь принцип сновидений одинаков. Образное мышление низшего этажа психики и дальнейшее развитие ребенка непременно создают символику.
В образе нищего я увидел простейшие элементы. Я увидел руку и действие этой руки — она берет, отнимает. Должно быть, и в образе тигра следует увидеть нечто более примитивное, доступное пониманию малыша.
Тигр — хищный зверь. Он что делает? Бросается на свою жертву, хватает ее, уносит, терзает. Он пожирает ее. Зубами и когтями рвет ее мясо.
Неожиданно возникли ассоциации с рукой. С этой страшной жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватает.
Нет сомнения, эти образы были одного и того же порядка.
Рука нищего, вора приобретала новые качества, свойственные дикому зверю — тигру, хищнику, убийце.
Я вспомнил давний сон. Быть может, даже это не был сон. Быть может, память сохранила то, что когда-то произошло наяву. Но это осталось в памяти как сновидение.
Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату. Образ в углу. Лампадку.
Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной. Я кричу. В ужасе просыпаюсь. Хочу вскочить с кровати. Но не могу. Кровать затянута сеткой.
Если это сон, то нет сомнения — он относится к давнему времени. Маленькая кровать, затянутая сеткой, определяет младенческий возраст. В самом деле — этот сон слишком примитивен, прост. Взрослый ребенок не мог увидеть такой сон. Должно быть, этот сон был когда-то увиден младенцем.
Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась взять, схватить ребенка. Вряд ли сон повторял дневное происшествие. Дневной страх был, видимо, в меньшей степени. Иначе не возник бы сон.
Что же в таком случае произошло днем?
Видимо, днем рука что-то взяла, схватила, отняла у младенца.
Что же она могла взять, схватить такое, что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу.
Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка? Соска? Грудь матери? Питание?
Должно быть, питание. Скорей всего — грудь матери, та грудь, которая кормит младенца, дает ему жизнь, питание, радость.
Должно быть, эта грудь была отнята рукой.
Если рука отняла грудь, лишила питания, то с точки зрения младенческой логики это страшная рука, она могла совершить новое, еще более тяжкое преступление. Об этом преступлении и говорит сон. Рука нищего, вора явилась ночью в новом ее значении — она пришла за самим младенцем. Она хотела взять его, схватить, унести.
Как же, однако, возник дневной страх, столь усиленный и усложненный ночью? Что именно случилось днем?
Впрочем, днем, может быть, ничего особенного и не произошло. Может быть, было только лишь то обычное, повседневное, что бывает в жизни каждого младенца, — рука матери отнимает грудь.
Быть может, маленький жадный малыш, устрашенный этим частым повторением, не без волнения следил за рукой, отнимающей питание, грудь, жизнь. Быть может, рука отца, однажды положенная на грудь матери, еще более устрашила ребенка.
Но ведь в жизни каждого ребенка повторяется то же самое — рука отнимает грудь, наказывает, купает. Почему же у других это проходит бесследно, не травмирует их, не оставляет ран? Ну что ж — мы разбираем исключительный случай. Мы говорим о психоневрозе. Мы видим перед собой крайне чувствительную психику младенца — будущего художника, творца, фантазера. Мы видим пример, когда столь чувствительная психика способствует возникновению болезни.
Мы говорим в данном случае не о норме, а о патологии.
Итак, рука отнимала грудь, питание. Рука являлась за ребенком, чтобы взять, схватить, унести его.
Но почему же эта рука ассоциировалась с тигром? Значит, что-то произошло еще?
И вот, анализируя этот символический образ тигра, я увидел сон, который подтвердил точность и правильность этого символа.
Я увидел длинный коридор. Очень светлый. Со множеством окон. Что есть духу я бегу по этому коридору. Кто-то гонится за мной. Слегка обернувшись, я вижу человека, в руке которого нож. Длинный, блестящий, сверкающий нож. Этот нож занесен надо мной.
Рванувшись вперед, я выбегаю из коридора. Двор. Камни. Я падаю на камни. Надо мной синее небо, солнце. Тишина…
Я тотчас понял этот сон. Окна коридора мне дали точный ориентир. Это были огромные светлые окна больницы, видимо, операционной.
Нет сомнения, рука с ножом — рука врача, хирурга.
Неожиданно я вспомнил давний рассказ моей матери. Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было два года. Эта операция была сделана без хлороформа, спешно, неожиданно — начиналось заражение крови.
Я смутно помню этот рассказ. Я запомнил главным образом то, что мать говорила о своем переживании. Она слышала мой ужасный крик. И потеряла сознание.
Вот все, что я запомнил из рассказа матери.
Я стал осматривать свое тело, надеясь найти какой-нибудь шрам, разрез, оставшийся от ножа хирурга.
Я нашел этот шрам. Он был величиной почти в три сантиметра. Должно быть, это был весьма глубокий разрез, если шрам остался на всю жизнь.
Бедный малыш! Можно представить его ужас, когда страшная рука, принесшая ему столь много бед и волнений, вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце.
Нет сомнения — эта рука, вернее, обладатель этой руки в своих качествах мог приравниваться к тигру. Это была рука хищника, лапа кровожадного зверя.
Бедный малыш даже не представлял себе, что режут, зачем. Он лежал с задранными кверху ножонками, чувствовал адскую боль и видел руку с ножом — знакомую руку нищего, вора, хищника, убийцы.
Какое поразительное роковое совпадение!
Какое утверждение травмы! Какая психическая кастрация! Какой в дальнейшем бурный ответ мог происходить при столкновении с условным раздражителем!
Но только ли такой бурный ответ мог возникнуть при столкновении со вторым условным раздражителем — рукой? Нет. В равной мере такой ответ мог возникать при столкновении с третьим условным раздражителем. Этим третьим раздражителем являлась грудь. Грудь матери. Грудь, которая соединялась условной нервной связью с рукой.
Я снова вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель, условно связанный с другим (даже и при отсутствии второго), создавал два очага возбуждения, равных по силе, ибо между двумя очагами имелась условная нервная связь.
Стало быть, увиденная грудь создавала у младенца второй очаг возбуждения, тот очаг, который возникал при виде руки — руки вора, нищего, хищника, убийцы.
Какая страшная картина открывалась передо мной! Какая жалкая жизнь предназначалась ребенку, юноше, мужчине! Какой характер и какое поведение было предопределено.
Я стал вспоминать рассказы моей матери. Она не раз говорила мне о моем детстве, младенчестве. Она всякий раз улыбалась, рассказывая о том, какой я был трудный, сложный и капризный ребенок.
Еще бы! Адский конфликт присутствовал чуть не с первых дней моей жизни. Я должен был отказаться от груди, бросить питание, чтоб не испытывать этот постоянный страх, постоянное волнение. Но я не мог этого сделать. Я не мог отказаться от питания. Даже испытывая ужас, я не смел отказаться от груди. Мать, улыбаясь, говорила, что бросила меня кормить грудью, когда мне было два года и два месяца.
— Это было уже неприлично, — улыбаясь, говорила мать. — Ты уже ходил, бегал, лепетал наизусть стишки. Тем не менее ни за что не хотел бросить грудь.
Мать смазывала сосок хиной, чтоб я получил наконец отвращение к этому способу еды. Содрогаясь от отвращения и от ужаса, что грудь таит в себе новые беды, — я продолжал кормиться.
Это было понятно. Это была борьба. Она разгоралась тем сильнее, чем больше было возможности потерять то, что я защищал.
Моя бедная мать, улыбаясь, рассказывала мне о моем детстве. Но она всякий раз переставала смеяться, когда речь заходила о моих некоторых странностях.
Я не мог заснуть, если лежал в постели с матерью. Я засыпал тогда, когда был в постели один. Причем засыпал только в полной темноте. Даже свет лампадки меня раздражал. Мою кроватку завешивали одеялами.
Припоминая эти странности, мать говорила, что все это, вероятно, возникло из-за нее. Когда она меня кормила грудью, она однажды испытала необыкновенный страх, необыкновенное волнение, тревогу.
Быть может, эти чувства, говорила мать, «я всосал с ее молоком».
Летом были ужасные грозы. Эти грозы, говорила она, были почти каждый день. И вот однажды разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила во двор нашей дачи. Была убита корова. Загорелся сарай.
Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель. Но упал неловко. Повредил руку. Мать тотчас пришла в себя. Но всю ночь она не могла меня успокоить.
Можно представить новое переживание несчастного малыша. Удар грома произошел, быть может, в тот момент, когда ребенок взял сосок в свои губы. Вероятно, не без опаски ребенок прикоснулся к груди — ведь она таит в себе такие опасности: может прийти рука, может взять, унести, наказать… И вдруг адский удар грома, падение, бесчувственное тело матери. Какое новое доказательство опасности груди!
Что такое гром, гроза — это было непонятно младенцу. Ведь он впервые знакомился с миром, впервые сталкивался с вещами. Этот гром мог произойти оттого, что губы прикоснулись к груди. Кто докажет ему противное?
Мать говорила, что все лето продолжались грозы. Стало быть, удары грома могли несколько раз совпасть с моментом кормления младенца. Стало быть, условный рефлекс мог без труда утвердиться в чувствительной психике младенца, в той психике, которая уже была подготовлена к новым бедам от руки и груди.
Я слышал по ночам рев тигра. Этот рев напоминал отдаленные раскаты грома. Быть может, эти громовые раскаты являлись отзвуком грозы, грома, удара. Быть может, они фантастическим образом соединились с грудью матери и придали этому объекту новые необыкновенные свойства.
Пусть не улыбается читатель на эти мысли. Ведь речь идет о младенце. Речь идет о начале его жизни, когда еще отсутствует свет разума, когда нет логики, нет сознания. Речь идет о маленьком животном, которое знакомится с окружающим миром, с этим страшным миром, где на каждом шагу нужно защищаться от опасностей.
Символический образ тигра как бы соединил в себе эти опасности.
Рев тигра или льва, когда-нибудь услышанный ребенком в зоологическом саду, довершил этот символический образ.
Я открыл свои записные книжки с расчетом найти в них соответствующие записи, с надеждой увидеть следы нового поединка — борьбы с хищниками путем знаний, кои были в соответствии с моим умственным развитием.
Однако в записных книжках никаких сведений о тиграх я не обнаружил.
Ну что ж! Я в жизни не сталкивался с тиграми. Я видел их только в клетках. Я был в безопасности от них. И тут не было резона защищаться путем знаний.
Но вот, разыскивая в своих записных книжках сведения о тиграх, я натолкнулся на целую серию однообразных записей.
Эти записи крайне удивили меня. Они были медицинского характера и касались главным образом паралича, удара, кровоизлияния в мозг.
В моих записных книжках было много медицинских справок, но справки об ударах повторялись необыкновенно часто. Тут были объяснения причин, перечисления симптомов, способы лечения и профилактики.
Было похоже на то, что я опасался удара. Но я не полнокровен. Скорее сухощав. И молод. Казалось бы, мне нечего было страшиться столь печального конца.
И вот, задумавшись о причинах моей осторожности, я неожиданно ассоциировал эту болезнь — удар, паралич, кровоизлияние — с ударом молнии, грома, с тем ударом, которым я был когда-то устрашен.
Неужели же это тот забытый удар грома? Неужели вместе с моим развитием он претерпел такие изменения и выродился в новое пугало?
Но ведь удар грома был связан с грудью моей матери.
Неожиданно я вспомнил свою книгу «Возвращенная молодость». Я писал ее еще слепой рукой. Я тогда еще не понимал многого. Мои поиски тогда были направлены главным образом на сознание. Я слишком мало уделял внимания тому, что было за порогом сознания.
Что же водило мою руку в той книге? Несомненно, страх.
Эта книга была оборонительной. Я защищался от опасностей. Я приводил доказательства опасностей и указывал, как бороться с ними.
Стареющий профессор в этой повести женится на молодой девушке. Именно по этой причине профессора разбивает паралич. С ним происходит удар, кровоизлияние в мозг.
Стало быть, эта мысль — удар — неотступно следовала за мной. И я доказывал ее состоятельность. Стало быть, нервные связи по-прежнему условно соединяли два объекта устрашения.
Я не стал пока распутывать всю цепь мыслей вокруг этих «больных» предметов. Но мне стало совершенно очевидно, что четвертый условный раздражитель в сложной комбинации моего психоневроза несомненно был — удар, гром, выстрел.
Итак, несчастное происшествие найдено.
Маленькое бездумное существо, знакомясь с окружающим миром, ошиблось, восприняв опасными те вещи, кои не были опасны.
Вода и рука стали предметом устрашения.
Грудь и в равной мере еда стали доставлять ребенку волнение, страх, иногда ужас.
Конфликт возник на пороге младенческой жизни.
Поразительное стечение обстоятельств увеличило этот конфликт, подтвердило правильность страхов. Чувствительная психика младенца доказала их условную состоятельность.
Тигр стал символом опасности.
Между силой раздражения и ответом возникла, казалось, непонятная пропасть. Тем более непонятная, ибо в самом ответе лежало противоречие — отказ и одновременно стремление, страх и любовь, бегство и защита.
Четыре весьма условных раздражителя стали сопровождать ребенка по шатким путям его жизни.
Они действовали на младенца с огромной, подавляющей силой, ибо нередко они действовали сообща, почти одновременно, тесно увязанные между собой условными временными связями.
Временные связи! Да, они были бы временными, если б они возникли в примитивной психике собаки. Вероятно, они были бы разорваны и погасли, если б ум оставался неизменным. Но ум изменялся, росло сознание, и вместе с этим изменялись и перестраивались доказательства опасности. Взаимодействие было тесным — доказательства были также весьма условные.
Однако, казалось бы, что эта рука могла быть пугалом только лишь в детском возрасте. Нет! Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической.
Этот символ был вровень умственному развитию человека.
За что же стала карать эта рука?
Она стала карать именно за то, за что карала она в младенческой жизни, — за еду, грудь.
Условные доказательства — подлинные, логичные и вместе с тем условные — всюду следовали за едой!
Когда-то мать смазала сосок хиной, чтоб ребенок не стремился к груди. Еда показалась отравой, ядом. Это подтвердилось. Еда нередко несла отраву, боль, болезни.
Когда-то гром, удар, совпал с кормлением. И это имело подтверждение. Еда создает полнокровие — способствует удару, кровоизлиянию в мозг.
Значит, надо избегать еды. Но избегать ее нельзя. Тогда смерть.
В таком случае как же надо поступать? Надо есть и страдать за еду. Должно быть, это норма.
Я вспомнил, как я ел. Почти всегда стоя, крайне торопливо (могут отнять), небрежно, без интереса. Я ожидал за еду расплаты, и она являлась, эта расплата, — болезни, спазмы, тошнота.
Я глотал порошки, чтоб нейтрализовать эту опасность от еды. Мне казалось — наука, медицина избавят меня от этой опасности.
В огромном количестве я поглощал лекарства, отравляя себя этим еще больше.
Однако финал был печальный, гибельный. Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды.
Этот отказ от еды дважды возникал в моей жизни. И я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой, страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой.
Карающая рука наказывала за еду. Но грудь матери была едой только лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность.
Значит, и за образом женщины мне рисовалась карающая рука? Значит, в одинаковой мере я должен был страшиться женщины, избегать ее, ждать расплаты, наказания?
С трепетом я перелистал свои воспоминания. С трепетом вспомнил мою юношескую жизнь. Мои первые шаги. Мои первые любовные встречи. Да, нет сомнения — я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрашенный ожидаемой расплатой.
Сцены из младенческой жизни разыгрывались в мои взрослые годы.
Но ведь я не всегда избегал? Да, не всегда. Не каждая женщина страшила меня. Меня страшило то, что страшило младенца.
Но чего именно я страшился, будучи взрослым? Какой расплаты я ждал? Какие огорчения сулила мне женщина?
Я вспомнил сцену убийства, виденную мной в детстве («Выстрел»). Муж застрелил любовника своей жены. Карающая рука, вооруженная громом, ударом, выстрелом, расплатилась за женщину, которая почти нагая прибежала к нам на веранду.
Разве это не доказательство опасности женщины? Разве не следует за ней по пятам выстрел, удар, нож? Женщина — это любовь. Любовь — это опасность.
Я вспомнил девушку, которая бросилась в воду из-за любви. Я вспомнил дядю Георгия, который заболел чахоткой из-за того, что он (мама сказала) любил много женщин.
Я вспомнил книги, в которых описывались убийства из-за любви, ужасные казни, отравления, поединки.
Условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной.
Карающая рука — мужа, брата, отца — сопровождала этот образ.
Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии — вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено.
Нечто подлинное присутствовало в этих доказательствах. Логика не была поколеблена. Условность казалась истиной. Тем не менее восприятие было болезненным, условным. Сила ощущения и сила ответа не соответствовали раздражению.
Необычайная картина стала раскрываться перед моим взором.
В одно мгновение я вдруг понял все, чего не понимал. В одно мгновение увидел себя таким, каким я был, — темным маленьким дикарем, устрашенным каждой тенью. Затаив дыхание, озираясь, прислушиваясь к рычанию тигров, я шел и бежал сквозь заросли леса. И что могло быть у меня в сердце, кроме тоски и усталости!
Нет, меня не взволновало то, что я вдруг увидел, понял. Меня это ужаснуло, потрясло, ввергло в отчаяние.
Я вспомнил чьи-то слова: «О мои горькие опыты! И зачем я захотел все знать! Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся».
Но это была минутная слабость, минутное отчаяние. Оно возникло от стыда, что я раньше ничего не знал, что я раньше не догадывался — какая чушь, какой вздор сжимает меня в своих объятьях.
С холодным рассудком я продолжал додумывать тягостные последствия моего несчастного происшествия.
Я вспомнил историю о том, как впервые у меня возник сердечный припадок («Финал»). Что произошло тогда? Была вечеринка, банкет. Сестра милосердия Клава повела меня в свою комнату. Мы там целовались. Потом я уехал в деревню, в полк. Лег в постель под утро, часов, вероятно, в пять. А в шесть часов первые бомбы упали на деревню.
Я с точностью помню. Я засыпал с воспоминаниями об этой женщине. И едва я заснул, как страшный взрыв бомбы потряс дом.
Мой мозг, быть может, в то утро ослабленный алкоголем, воспринял этот удар как должное. Ожили давние инфантильные представления. Надо было избегнуть дальнейших «ударов», дальнейших встреч с этой женщиной.
Я почувствовал себя плохо. Я стал задыхаться. Ответ организма был невротическим, бурным. И вместе с тем целесообразным — я покинул «опасные» места, разорвал опасную связь.
Нет, долг и совесть не были забыты. Я уехал, чтоб вылечить сердце, чтоб снова вернуться в строй. Я уехал именно с этим твердым намерением.
Я вспомнил историю о том, как я заболел в последний раз («В Туапсе»).
Что случилось тогда? Я сидел в шезлонге на палубе теплохода. Я прекрасно себя чувствовал. Я с радостью думал о том, что встречу в Москве друзей и женщину, которая любила меня и которая мне нравилась.
Я с точностью вспомнил, как не без огорчения я подумал об ее муже. Я симпатизировал ему. И мне было совестно его обманывать. Он очень любил меня. Он был очень добр ко мне. Казалось, он даже снисходительно относился к моему «роману» с его женой. Что же в этом случае устрашило меня? Маленький револьвер, который был на его поясе? Ни разу такая мысль не мелькала в моей голове. Но, может быть, она возникла в темных подвалах моей психики?
Я сидел в шезлонге и любовался морем. Я пристально смотрел на поверхность воды. Быть может, за порогом сознания возникли давние ассоциации, давние связи с водой, рукой, женщиной.
В жалкой гостинице Туапсе я валялся на полу. Я с точностью помню, как я встал с постели и перешел на пол. Я перешел в тот момент, когда раздался удар грома и началась гроза. Быть может, я хотел избежать кровати, на которой когда-то разыгралась младенческая драма? Иначе ничем не объяснить этот дикий, нелепый переход. Не разрывая связей, я уходил от этих связей, бежал от них.
Значит, младенческие сцены разыгрывались с той огромной силой, какая может поражать. Но ведь я же был в полном сознании? Да, я был в полном сознании. Но мое сознание не знало, откуда возникают беды. Оно не корректировало поступков, ибо не понимало их. Я был в полном подчинении у своих страхов, о присутствии которых я не имел понятия. Мое сознание не видело этих страхов. Оно лишь видело искаженные симптомы этих страхов. Они казались болезнью, симптомами тех болезней, которые я терпел.
Этот болезненный ответ возник тогда с такой бурной силой, ибо все четыре раздражителя предстали передо мной почти одновременно.
В этом ответе лежала целесообразность. Я хотел из Туапсе выехать в Москву, но мое тяжелое состояние и в особенности сердечные припадки преградили путь[4]. Я отказался от поездки в Москву. Я вернулся домой.
Это было бегство — самый простой, вульгарный оборонный рефлекс.
Это было бегство и притворство.
Но я, повторяю, не всякий раз бежал и не всякий раз притворялся больным. Я бежал и притворялся только тогда, когда в той или иной степени сталкивался с «больными» предметами.
Я вспомнил один удивительный случай. Даже теперь, пятнадцать лет спустя, краска заливает мое лицо.
Я шел под руку с одной женщиной. В Петергофе. Мы вышли к морю. Неожиданно я почувствовал себя плохо. Казалось — сердце останавливается. Я стал задыхаться.
Моя спутница была напугана силой моего припадка. Она хотела мне помочь. Но я просил ее уйти, оставить меня одного, говоря, что мне обычно легче, когда я остаюсь один. Не без обиды она ушла и спустя два дня с необычайной жестокостью сказала мне, что я нарочно разыграл сердечный припадок, чтобы расстаться с ней, чтоб бросить ее.
Я был возмущен, поражен ее низостью. Я поссорился с ней.
И вот только теперь я понял, что она была права.
Нет сомнения, я «разыграл» этот припадок, притворился больным. Но я понятия не имел, что это так.
Я вспоминаю Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях.
Значит, я бежал и от нее? Этого не может быть. Я ее любил. Это вздор.
Нет, это не было вздором. Я действительно бежал от нее.
Но почему? Только лишь потому, что она была женственна и этим напоминала мне мою мать? Но ведь она вовсе не была похожа на мою мать. В ее облике не было никакого сходства. Ну что ж. Я и не страшился образа моей матери. Я страшился лишь того, что было связано с рукой и громом.
Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятьях.
Я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям. К моим маленьким рассказам о моей жизни. Теперь эти рассказы освещены иным светом. Теперь в них можно увидеть почти все.
В них можно увидеть четыре условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой.
В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство. И ту горечь, которой была омрачена моя жизнь.
И то отношение к женщинам, которое было ими не заслужено.
Какую горькую и печальную жизнь я испытал!
Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново!
IX. Опасные связи
Страшишься ты раздвоенного жала
Ничтожного червя…
Значит, это был сексуальный психоневроз? Нет, это не был сексуальный психоневроз, но в сложную комбинацию психоневроза вошли и сексуальные мотивы.
Однако они вошли тогда и в той степени, как это соответствовало росту и развитию человека.
В первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали.
Мы видели, как возникали механизмы психоневроза. Они возникали по принципу условных рефлексов. Условные нервные связи соединяли четыре «больных предмета». Одним из этих «предметов» была грудь матери. Но это была грудь — питание, еда. Этот объект был увязан с чувством голода, а не эроса. Потеря объекта, казалось, несет гибель, уничтожение младенцу. Борьба и душевный конфликт не выходили за пределы инстинкта самосохранения.
Фрейд считает, что все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям, что в основе наших чувств, и даже в основе чувств младенца, лежит эрос. Но данный пример говорит иное. В механизмах этого психоневроза отсутствует сексуальное. И только лишь дальнейшее развитие ребенка внесло этот мотив.
Пусть этот мотив возник в самом крайнем детстве, но в момент возникновения условных механизмов его не было. Даже если допустить, что, кроме чувства голода, кроме радости утоления его, младенец испытывает еще то неопределенное ликование и ту радость, потеря которых есть в дальнейшем потеря эроса, потеря либидо, как это называет Фрейд, то даже и эта потеря не характеризует еще возникновение психоневроза.
Не от страха кастрации происходит потеря либидо, потеря радости и ликования. Любой страх способствует кастрации.
Страх и душевный конфликт ребенка возникли на основе более грубых, материальных, вещественных причин. Предметы, в условном значении которых младенец ошибся, — вот что явилось источником психоневроза и вот что создало страх и потерю радости.
Радость утоления голода стала сопровождаться страхом. Условные нервные связи соединили эту радость с бедой. Именно эта условная связь уничтожала радость и несла кастрацию.
Чувство голода и страх потерять питание — вот что за порогом сознания нашло живейший отклик и весьма подготовленную почву.
Наш бессознательный мир сформирован не только биологической сущностью. Нет сомнения, этот мир постоянно испытывал и испытывает иные давления, давления извне. Борьба за существование, добывание пищи, труд — вот что с огромной силой влияет на подсознание.
Именно в этой области возникают страхи — страх потерять питание, страх погибнуть, страх лишиться еды, работы.
Стало быть, далеко не все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям. Страхи, возникшие на основе социальных мотивов, не менее действенны. Они могут иной раз даже главенствовать в глубинах нашего подсознания. И, уж во всяком случае, они в большей степени подготовляют почву болезненным представлениям.
Бессознательный мир — это более обширный и более разнообразный мир, чем тот мир, который можно вообразить, имея в виду только лишь сексуальные импульсы. Нет сомнения, в этом мире с огромной силой действуют и сексуальные мотивы. Но они далеко не единственны. И патологические торможения в сексуальной сфере являются лишь составной частью патологических торможений, характеризующих психоневроз.
Механизмы головного мозга, открытые Павловым, подтверждают это с математической точностью.
Не учитывая законов условных рефлексов, нельзя обнаружить и точных причин нервных страданий.
Не учитывая возникших механизмов, Фрейд и в норме, и в патологии видел действие иных сил — конфликт высшего с низшим, столкновение атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека.
В запрете этих влечений Фрейд увидел причину психоневроза.
Но ведь запрет этих животных влечений и вся борьба в этой сфере есть всего лишь нравственная категория. Она должна вести теорию к поискам нравственных страданий.
Именно так и получилось. И больше того. Столкнувшись с иными силами не сексуального порядка, теория стала подчинять эти силы силам сексуального характера. Даже в чувстве голода теория увидела эрос. В страхе потерять питание теория обнаружила страх кастрации.
Теория вынуждена была это сделать. Иначе «не сходились концы», не оправдывалась основная идеалистическая формулировка.
Теория замкнулась в поисках сексуальных страданий. Я вовсе не отвергаю их огромную силу, их значение и действенность в течении психоневроза. Я подозреваю максимум бед за этими силами. Но было бы неверно увидеть всю беду только в этом.
С этой ошибкой я столкнулся на первом же практическом уроке. Я рассказал читателю (V глава «Перед восходом солнца») о том, как врач-фрейдист разъяснил мой первый сон.
Врач не понял значения руки, которую ребенок увидел во сне. Ему показалось, что ребенок ассоциировал эту руку с хоботом слона. И что хобот — это фаллос.
Рука нищего, рука вора, отнимающая питание, лапа хищника, зверя, тигра превратилась в сказочный атрибут, вовсе не опасный, не страшный и, уж во всяком случае, не понятный младенцу.
Этот пример говорит о том, как теория пробует все подчинить сексуальному. Ошибка обнаруживается здесь с поразительной ясностью.
Но ведь практика утверждает, что психоанализ по методу Фрейда излечивает. Нет сомнения — может излечивать. Всякое знание в этой области, любой, даже приблизительный, контроль разума над низшими силами приносит облегчение.
Свет логики изгоняет или оттесняет эти силы.
Психоанализ Фрейда, столь тщательно разработанный, должен излечивать в тех случаях, когда имеют место сексуальные раздражители. Вернее, в тех случаях, когда первоначальные условные раздражители превратились в условные сексуальные раздражители.
Но можно подозревать, что это излечение не будет полным, вернее, окончательным. Ибо врач и больной все время сталкиваются с нравственными категориями и сквозь них не видят механизмов, которые нужно исправить. Не видят нервных связей, которые нужно разорвать.
Эти условные нервные связи продолжают существовать и действовать. Это сулит возврат к болезни и, видимо, огромную сопротивляемость.
Вся суть излечения состоит в том, чтобы найти эти связи и разорвать их, разъединить объекты устрашения, показать их истинную ничтожную сущность.
Итак, за порогом сознания оказался обширный малоисследованный мир, низший мир, мир животного.
Первые впечатления младенца с огромной силой вошли и задержались в нем. Они оказались ошибочными, неверными. И в силу этого они определили болезнь, создали конфликт, затормозили развитие и усложнили поведение и характер.
Умственное развитие не исправило ошибок. Напротив, оно усугубило их, доказало логичность и возвело «больные» предметы в символы.
Условные связи продолжали существовать. Условные доказательства — ложные и подлинные — продолжали питать и укреплять нервные связи.
Это была болезнь, болезнь против логики, против здравого смысла. Это был психоневроз, обнаружить который поначалу было не так-то просто.
Поведение человека в основном оставалось разумным. Поступки ничем не отличались от поступков нормального здорового человека. Силы иного порядка — общественные, социальные — воздействовали в первую очередь и определяли характер поведения. И только иной раз в поступках обнаруживалось какое-то «чудачество», какая-то странность.
Это чудачество в особенности было заметным в мелочах повседневной жизни.
На кровати было удобней спать, но я чаще спал на диване.
Удобней было есть за столом. Но я ел стоя, торопливо, иной раз на ходу. Стоя и торопливо мылся в ванне. Тщательно закрывал двери моей комнаты, страшась неизвестно чего.
Я делал десятки странных поступков. Они казались вздорными, нелогичными. Но в них была своя железная логика, логика человека, который желает избежать встречи с «больными» предметами. Только лишь в этих встречах можно было обнаружить болезнь.
Быть может, в дальнейшем по странным поступкам человека, по его чудачествам врачи будут восстанавливать картину его болезни, будут находить истоки его бреда. Быть может, это будет проще, чем искать причину в снах. Ибо все поступки «чудака» инфантильны и они почти в точности воспроизводят сцены из младенческой жизни.
Был период, когда меня страшила улица. Я стал избегать ее. Перестал ходить пешком. Поначалу это казалось чудачеством. Однако за этим чудачеством лежала «целесообразность». Дома меньше опасности. На улице — коровы, собаки, мальчишки, которые могут побить. На улице можно заблудиться. Можно потеряться, исчезнуть. Могут украсть цыгане, трубочисты. Могут задавить экипажи, машины. Вне дома— вода, женщина, война, газы, бомбы, самолеты…
Нервные связи соединяли улицу с десятками бед.
Условные доказательства опасности улицы были многочисленны. Улица и опасность стали тождественны. Связь между ними неразрывна. Обилие доказательств привело к финалу — страх и желание избежать улицы. Именно на улице я впервые испытал страх.
Женщина в одинаковой мере, как и улица, несла с собой доказательства опасности. Условные нервные связи соединяли женщину с множеством бед.
Борьба и противоречия в области чувств были здесь еще более велики. Но и борьба, и противоречия отнюдь не шли по нравственным путям.
Фрейд считает, что в женщине мы видим обычно мать или сестру. И вот причина запретов и торможения. Цивилизация и мораль — вот, дескать, беды, которые приводят человека к страданиям. Нет сомнения, что первые впечатления ребенка, первые возникшие ощущения могут относиться к матери и сестре. Это естественно. Но конфликт создает не только эта нравственная категория и не только страх наказания, конфликт возникает при встрече с «больными» предметами. «Больные» предметы отождествляют мать и в дальнейшем женщину. Не эрос и в связи с этим нравственная борьба несет торможение. Торможение возникает от страха, который условно связан с «больными» предметами[5].
Не эдипов комплекс, а нечто более простое и примитивное присутствует в наших бессознательных решениях.
Нет сомнения — нравственная борьба существует, и она может быть велика, но не она создает болезненный конфликт, не только она определяет характер болезни, характер поведения.
Условные связи и условные доказательства опасности — вот что определяет дело. Обилие и точность условных доказательств — вот что создает и усугубляет болезнь.
Причем, достигая максимума, эти доказательства заставляют полностью отказаться от встречи с «больными» вещами.
Вот почему катастрофа чаще всего происходит не в юношеские годы, она происходит в зрелом возрасте — в 35–40 лет. До этого человек как-то обходится, маневрирует, избегая «больных» предметов. Они еще не в полной мере устрашили его.
Но обилие «доказательств» лишает последних надежд.
Как известь при склерозе откладывается в наших артериях и ломает их, так и эти доказательства, откладываясь и нагромождаясь в нашей психике, устрашают нас, изолируют от жизни, омертвляют ткани, кастрируют и ведут к гибели.
Вот где, быть может, одна из причин раннего увядания, ранней смерти, дряхлости.
Нет сомнения, это был весьма тяжелый случай психоневроза. Задеты были главные артерии, по которым струилась жизнь.
Еда и любовь, вода и карающая рука предопределяли печальнейший финал. Гибель была неизбежна. Гибель от голода, страха и, может быть, даже от жажды. Страх наказания и мания преследования могли иметь место в финале.
Этот финал легко было назвать психической болезнью. Между тем это был всего лишь бурный ответ (верней, комплекс ответов) на условные раздражители. Причем ответ целесообразный с точки зрения бессознательной животной психики. В основе этого ответа лежал оборонный рефлекс. В основе ответа была защита от опасности, страх животного, страх младенца.
Разум не контролировал этот ответ. Логика была нарушена. И страх действовал в губительной степени.
Этот страх цепко держал меня в своих объятьях. И он не сразу оставил меня. Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять.
Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачавшие мою жизнь.
Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой. Но этот бой был уже неравный.
Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врага, эти крики перестали меня страшить.
И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, находил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать.
Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой я встречал его сопротивление.
И тогда объятья страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.
Но чего стоила мне эта борьба!
С распоротым брюхом я валялся в постели. Мое оружие — бумага и карандаш — лежали рядом со мной. И у меня иной раз не было даже силы поднять мою руку, чтобы взять их снова.
Казалось, жизнь оставляет меня.
Как сказано у Гете:
Я был убит, растерзан, искромсан, с тем чтобы снова возникнуть из праха.
Я лежал почти бездыханный, ожидая, что вот еще раз вернется мой противник и тогда все будет кончено. Но он не вернулся.
По временам появлялись привычные симптомы, но они не сопровождались страхом.
Жизнь стала возвращаться ко мне. И она возвращалась с такой быстротой и с такой силой, что я был поражен и даже растерян.
Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный, с огромной радостью в сердце я встал с моей постели.
Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием.
Я не знал этого раньше.
Моя голова стала необыкновенно ясной, сердце было раскрыто, воля свободна.
Почти потрясенный, я следил за каждым моим движением, поступком, желанием. Все было крайне ново, удивительно, странно.
Я впервые почувствовал вкус еды, запах хлеба. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых.
Я почти заметался, не зная, куда мне девать мои варварские силы, столь непривычные для меня, столь не скованные цепями.
Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды.
Я чуть было не натворил много бед, не соразмеряя своих новых шагов и поступков.
И тогда я задумался над своей новой жизнью. И она показалась мне не столь привлекательной, как вначале. Мне показалось, что я стал людям приносить больше горя, чем раньше, когда я был скованный, слабый. Да, это было так.
Передо мной был выбор — вернуться назад, не закрепив завоеванного, или идти дальше. Или отдать свои новые силы искусству — тому, чем я раньше был занят по необходимости, не умея в полной мере реализовать своих чувств иначе как на бумаге.
Но теперь мой разум был свободен. Я волен был распоряжаться как хочу.
Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.
Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.
Оговорюсь — я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю — оно зависит от причин, возникающих извне.
Однако отчего же пришло излечение? Какие механизмы были исправлены? Почему давние страхи простились с моей особой?
Они простились со мной только лишь потому, что свет моего разума осветил нелогичность их существования.
Эти страхи были увязаны с теми объектами, кои не были опасны в той мере, как это воспринял младенец.
Разорвать эту условную, неверную, нелогичную связь — вот в чем была задача.
Я разорвал эти связи. Разъединил подлинные беды от условных объектов устрашения. Придал этим объектам устрашения их истинное значение. И в этом и заключалось излечение. Отсутствие логики лечилось логикой.
Однако разорвать эти условные нервные связи не всегда было простым делом. Некоторые связи были необычайно сложны, запутанны, противоречивы. Кое-что было столь абсурдным, даже комичным, что, казалось, не может иметь значения. Но тут всякий раз нужно было учитывать позицию младенца, нужно было видеть его глазами, мыслить его образами, страшиться его страхами.
Гром, вода и рука варьировались на разные лады. Нервные связи от этих предметов иной раз тянулись к другим объектам. Воображаемые опасности от этих объектов были иной раз смехотворны. И тем не менее, несмотря на смехотворность этих опасностей, страхи уживались и действовали на протяжении всей жизни.
Карающая рука в равной мере относилась и к еде, и к женщине, и к работе. И ко всему моему поведению. Удар, выстрел, кровоизлияние в мозг — вот ожидаемая расплата. И сила ощущения здесь явно не соответствовала раздражению.
Я рассказывал сон о том, как вода заполнила однажды мою комнату, о том, как она выступила из всех щелей пола и стала подниматься и для меня возникла угроза гибели. Даже и в этом нелепом сне надлежало увидеть страх младенца и последствия этого страха, его условную символику.
Я не считаю возможным перечислять здесь все, с чем я столкнулся. Эта книга — не лечебник. Помимо того, имеется обширная литература по психоанализу. И подобные случаи, несмотря на ошибочный вывод, перечислены Фрейдом с исчерпывающей точностью.
Однако в отношении условных связей необходимо сказать следующее.
Разрывая эти условные нервные связи, я всякий раз поражался, недоумевал — как они могли существовать, как могли они действовать. Но они действовали, и в той степени, в какой это было губительно для существования. И тут всякий раз нужен был «разговор с собакой», чтоб уничтожить их.
Я разорвал и уничтожил эти условные связи, принесшие мне столь много бед.
И, разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с «больными» предметами.
В основе этого заторможения лежал обыкновенный оборонный рефлекс.
Я не могу сказать, что этот рефлекс исчез полностью. Некоторые симптомы механического порядка остались. Но логика их полностью обезвредила — они перестали сопровождаться страхом. И в силу этого они стали постепенно угасать.
Быть может, для полного их угасания потребуется еще пятнадцать лет. Ну что ж, это в пределах человеческой жизни. Приятно будет умирать с сознанием, что механизмы мозга совершенно обновились.
Моему знакомому физиологу я обещал не делать в своей работе никаких обобщений.
Я запомнил предостережение его — ничего не обещать людям.
Ну что ж! Ведь я говорю только лишь о своей жизни, о своих печальных днях и о днях освобождения.
Я не выхожу за пределы моей болезни, которую мне удалось убрать.
Однако нет сомнения, люди, имеющие мои свойства, мою чувствительную психику, могут терпеть подобные же бедствия. И тут, мне думается, можно сделать некоторое обобщение — в пределах тех болезней, которые обобщаются названием «психоневроз».
Однако если наука не согласится со мной или найдет мое обобщение слишком смелым, то я и не буду на нем настаивать.
Значит, подумаю я, моя болезнь была в некотором роде исключительной. И господь бог помог мне унести ноги вопреки существующим правилам, по которым мне надлежало закончить мой бренный земной путь столь плачевным образом.
И еще одно обобщение я вынужден сделать. Законы условных связей относятся ко всем людям. Не в одинаковой мере, но в той или иной степени они опасны даже и тем людям, кои не имеют моей чувствительной психики.
Эти условные связи опасны всем людям, разум которых не контролирует их. Я вспомнил одну необыкновенную историю. И вслед за ней я вспомнил еще целый ряд историй. И некоторые из них я вам расскажу.
Равнодушным тоном, не повышая голоса, молодая женщина рассказывает мне о своем горе.
Она хотела иметь ребенка. Она и муж были бы тогда счастливы. Только в ребенке они видят полное воплощение их любви.
Но рок преследует ее. Она беременна в третий раз. И в третий раз ей, видимо, не придется рожать. Беременность проходит крайне неправильно и с такими болезненными явлениями, что врачи снова настаивают на аборте. В третий раз ей придется лечь на операционный стол.
Я смотрю на измученное, необыкновенно усталое лицо молодой женщины. Слезы, вероятно, выплаканы раньше. Осталось равнодушие, покорность, почти безразличие. И только по судорожно сжатым рукам я вижу внутреннее ее смятение, ад и неравную борьбу, которая кончится поражением.
Я немного поражен силой ее горя.
Мне вдруг показалось, что реакция на это горе не соответствует его истинным размерам.
И тогда я спросил женщину — не была ли связана ее первая беременность с каким-нибудь огорчением.
— Нет, — сказала женщина, спокойно посмотрев на меня.
Потом, смутившись и покраснев, женщина сказала:
— Первая беременность? Самая первая? Но ведь она была не теперь, не при муже.
Необыкновенно смущаясь, женщина сказала, что в первый раз она была беременна, когда ей было семнадцать лет. Она была ученицей. Ей пришлось скрывать эту беременность от родителей, от школы. Она скрывала это до последнего месяца. Потом она уехала за город к подруге и там родила мертвого ребенка. Она совсем забыла об этом, и вот почему она сказала, что огорчений не было. Конечно, были, И огромные.
Тотчас все стало ясным. Она скрывала свою беременность, ужасалась этому, страшилась, отчаивалась. Протест ее был велик, горе необыкновенно. Беременность и горе связались воедино, стали тождественны.
Условный рефлекс остался. Нервные связи не были порваны даже тогда, когда изменилась обстановка. Мозг не отметил перемену в судьбе. Новая беременность вновь была воспринята как горе. Ответ организма был бурным.
Еще ничего я не сказал женщине, но уже сама она вдруг поняла, что с ней. Заламывая руки, она сказала:
— Неужели это так? Неужели это идет оттуда?
Я сказал женщине:
— Да, это так. Вам надо разорвать эти условные связи. Надо разъединить прошлое от настоящего. Надо контролировать свои поступки и свое состояние.
Смятение, а потом торжество я прочитал на лице этой женщины.
Через неделю она мне звонила, что ей лучше. Через месяц она сказала, что ей почти хорошо и она будет рожать ребенка.
Она действительно родила благополучно.
Весьма красивый молодой человек вошел в мою комнату.
Он был высокий, здоровый, даже цветущий. Однако в глазах его было что-то удивительно печальное. Какое-то горе я прочел в его взоре. Темные, почти черные тени лежали под глазами.
Он сказал:
— Выслушайте меня. Я знаю, что вы не врач. Но мне почему-то кажется, что вы можете мне помочь.
Со всей откровенностью я сказал, что я сам едва справился со своими бедами и категорически отказываюсь разбираться в чужих недомоганиях.
Тогда он заплакал. Я не преувеличиваю. Слезы обильно потекли из его глаз. И как-то по-детски он стал вытирать их руками.
В этом его жесте было что-то крайне инфантильное, ребяческое. Желая утешить его, я просил рассказать, что с ним.
Обстоятельно он стал рассказывать о своей болезни. У него невроз желудка, и в такой степени, что он вынужден все больше изолироваться от людей. Он лечится давно, ездит на курорты. Но улучшения нет. Напротив, ему хуже. Он несчастен. Он избегает общества. Он потерял все радости жизни. Тошнота, рвота, спазмы желудка и кишечника — вот его печальный удел.
Я спросил — был ли произведен анализ.
Молодой человек сказал:
— Да. Найдена была излишняя кислотность. Диагноз — невроз желудка в тяжелой форме.
Я спросил:
— Когда усиливаются ваши припадки? При каких обстоятельствах?
— Они усиливаются на людях, — сказал он, — в обществе.
— А дома бывают эти припадки?
— Дома очень редко.
— А когда? Когда вы кого-нибудь ждете? Женщину?
Он молча кивнул головой. И я стал задавать ему вопросы, извинившись, что вмешиваюсь в его интимную жизнь. Бледнея и краснея, он отвечал.
Потом я стал расспрашивать об его детстве. Он мало помнил о нем. Но вдруг рассказал историю, которую он слышал от своей матери. Мать однажды заснула, когда он был у ее груди. Она очнулась от дремоты, когда ребенок был почти синий. С трудом его вернули к жизни.
Я не стал больше расспрашивать молодого человека. Нервные связи были весьма явственны. Ответ организма был очевиден. Страх и желание избежать гибели лежали в инфантильном ответе. Условные связи не были порваны.
Однако необходим был тщательный последовательный анализ. Я написал записку с моим заключением и направил молодого человека к врачу. К врачу-фрейдисту, ибо врача-павловца не было.
В дни моей юности я встретил одну удивительную женщину.
Она была необыкновенно привлекательной. Но казалось, что она была создана только для любви и ни для чего больше.
Все ее помыслы и намерения были направлены на любовь. Ничто иное ее не интересовало и не трогало. Она была как бы сконцентрирована только лишь в одном направлении.
Нечто бурное было в ее темпераменте. Как метеор она неслась сквозь чужие жизни.
Все мужчины, с которыми она встречалась, были опалены ее страстью.
Некоторые из них погибли из-за любви к ней. Один повесился в подъезде ее дома. Другой стрелял в нее. И она была ранена. Третий едва не задушил ее. Четвертый растратил ради нее огромные деньги и был судим и выслан.
Если бы она была умней, она своим существованием, быть может, сумела бы поколебать мировой порядок.
Несчастный ее муж не имел силы ее бросить. Пораженный, он смотрел на ее связи. Прощал ей все ее прегрешения. Он считал ее необыкновенной, единственной. Он не видел в ее поведении распутства. Он полагал, что это ее норма.
Когда он узнал, что я встречаюсь с ней, он пришел ко мне и молча положил листок бумаги на мой стол — это был список ее любовников. Этим он предостерегал меня от нее. Этим он хотел сохранить ее для себя.
Нет, она не принесла мне несчастья. В те годы, в годы моей меланхолии, казалось, ничто не трогает меня.
Почти равнодушный, я расстался с ней, и она была обижена тем, что я не повесился и даже не поплакал. И даже был, кажется, рад.
Она уехала на Урал. И оттуда на Дальний Восток. И я одиннадцать лет ее не видел.
И вот однажды я встретил ее на улице. Оказывается, она давно уже вернулась в свой родной город. Ну что ж, нет ничего удивительного в том, что я ничего не слышал о ней, — она живет весьма тихо, нигде не бывает. Ей все надоело — и люди, и чувства.
Я внимательно взглянул на нее. Нет, она была по-прежнему привлекательна. Ее бурная жизнь не отразилась на ее внешности. Мне даже показалось, что она стала красивей, чем раньше. Но вместе с тем какая чудовищная перемена произошла с ней!
Она стала медлительной, вялой, безразличной. Усталость и апатия были во всем ее облике. Глаза ее были погашены. Но ведь ей тридцать лет. Как это могло случиться?
— Все надоело? — спросил я ее. — Никого не любите?
Пожав плечами, она сказала:
— Никого. Все надоело. Кроме отвращения, я не испытываю никаких чувств.
— Это пресыщение?
— Должно быть, — сказала она. И ее глаза затуманились необыкновенной грустью.
— Что-нибудь случилось, произошло за эти годы?
— Нет, — сказала она. — Ничего не произошло. Все то же самое, что и было…
— Да, но было немало, — сказал я. — Были драмы, скандалы, стрельба, аборты три раза в год…
Усмехнувшись, она сказала:
— Конечно, раз это приносит только огорчения, то на что мне это.
И вдруг в этом ее ответе, сказанном простодушно, необдуманно, я увидел все, увидел причину ее «пресыщения».
Все время и непрестанно ее любовь, ее желания были связаны с несчастьями. Когда-нибудь должен прийти конец? И он пришел. Любовь и несчастье стали тождественны. Условные связи прочно соединили их воедино. Пусть лучше не будет желаний, чем снова беда.
Я снова взглянул на молодую женщину. Я было начал ей говорить о причинах ее несчастья. Но замолчал. И не потому, что она не поняла бы меня. Нет, мне показалось, что ей лучше остаться такой, как сейчас.
Мы стали прощаться. Она протянула свою вялую руку. Безразличным взором скользнула по мне. И, медленно шагая, побрела по улице.
Мне стало жаль ее. Я хотел ей крикнуть, задержать ее, чтоб сказать, что с ней. Но не сделал этого.
Пусть она останется такой, как сейчас, — подумал я.
Нет, теперь я добродушно взираю на все, что вокруг меня происходит, я не имею привычки анализировать чужие поступки и не вижу особой радости разбираться в чужих делах. Я живу так, как надлежит жить человеку, — в меру думая и не делая из своей головы аппарата по розыску чужих бед.
Но первые годы, столкнувшись с этими делами, я наблюдал за людьми с огромным интересом и волнением.
Меня особенно волновали те болезненные «ответы» людей, которые происходили вне контроля разума. Эти ответы были иной раз столь чудовищны и нелепы, что, казалось, непонятно их значение. Но, подумав, я всякий раз убеждался в целесообразности этих ответов. Конечно, с точки зрения здравого смысла эта целесообразность была нелепой. Но я тотчас находил в ней смысл, если переводил эту нелепость на язык животного или младенца.
В любом невротическом симптоме я находил страх или притворство. В любом поведении невротика и даже иной раз в его смерти было бегство, было желание уйти от «больных» предметов, было бессилие разорвать условные связи.
Я расскажу вам несколько поразительных историй. Они подлинные.
В мою комнату вошла студентка. Она была весьма молодая, миловидная женщина.
Она сдавала последние экзамены. И ей понадобился материал по моей литературе.
Она беседовала со мной, почти не поднимая глаз. Но в конце беседы она осмелела. И даже стала со мной кокетничать.
Уже все было сказано, и надо было уходить, но она не уходила.
Потом она ушла, взяв разрешение прийти завтра, чтобы посоветоваться о своей работе.
Она пришла на другой день. И была немного печальна. Она стала говорить, что она замужем за студентом, что у них маленький ребенок. Только ребенок и учеба наполняют ее жизнь. И что это очень хорошо. Было бы ужасно, если б ей кто-нибудь понравился, если б кого-нибудь она полюбила. Тогда была бы катастрофа, потому что она не смогла бы обмануть мужа. Ей пришлось бы ломать жизнь, учебу, свою судьбу и судьбу мужа.
Я с удивлением слушал ее речи. Я сказал ей, что она не должна допускать эти чувства. Едва слышно она ответила:
— Кажется, поздно. Я боюсь, что я полюбила.
Нет, она не сказала, что полюбила меня. Но я увидел это в ее глазах, во всем ее облике, в жестах.
Она была весьма смущена. В этом ее чувстве действительно было что-то неловкое. Да, я был помоложе, покрасивей, но в этой ее стремительности все равно лежало что-то неестественное. В той быстроте можно было заподозрить авантюризм. Она боялась, что я могу так подумать. Я видел ее внутреннюю борьбу — она хотела уйти, но не ушла, потому что поняла, что я не сделаю шага, чтоб снова встретиться с нею.
Она хотела прийти через два дня. Но не пришла. И я был искренне рад этому.
Она пришла через две недели. Пришла бледная, изменившаяся. Пришла, опираясь на палку.
Она сказала, что тяжело заболела. Что год назад она упала на состязании по легкой атлетике. Зашибла ногу. И вот теперь снова ушиб дал о себе знать. У нее опухоль в колене. Она едва может ходить. Она едва пришла, чтоб сказать мне о своем чувстве, которое теперь должно погаснуть в ее сердце.
Я тотчас понял причину болезни.
Я сказал ей:
— Выкиньте меня из головы. И вы тотчас будете здоровы. Вы заболели, чтоб не приходить ко мне. Ваши ноги перестали вам служить, ибо вы сами сказали, что это будет катастрофа, если вы кого-нибудь полюбите. Болезнь вас защитила. Она избрала наиболее уязвимое место.
Женщина была умна. Почти с улыбкой она слушала мои слова. Потом стала смеяться. И она смеялась так, что палка упала из ее рук.
Сквозь смех она сказала:
— Это поразительно. Это несомненно так.
Мы дружески с ней расстались. И она ушла, позабыв в моей комнате палку.
Это очень давняя история. И я бы не вспомнил о ней. Но выводы, которые я сделал, неожиданно воскресили эту историю в моей памяти.
Кисловодск. Полустанок Минутка. Через дом от меня живет студент Федя X. Он здесь, на Кавказе, так же как и я, на практике.
Федя — студент-математик. Милый юноша. Немного застенчивый. Великолепно поет под гитару.
Почти всякий день он приходит ко мне. И я слушаю его музыку.
Поиграв, он начинает говорить о девушках. Ему не везет. Вот уже все студенты обзавелись «симпатиями», а у него нет никого. Когда же наконец это случится?
Это случилось под конец лета. Федя влюбился в свою ученицу. Он давал урок по физике гимназистке последнего класса.
Он полюбил ее. И она, видимо, увлеклась им. Мы стали встречать их в курзале и на скамейках парка.
Неожиданно пришла беда. Федя заболел. Он заболел экземой. Экзема началась на его подбородке и перекинулась на щеки.
Для Феди это было несчастье в высшей степени. Он и без этого был застенчив, но теперь лишаи совершенно обескуражили его. Он перестал встречаться со своей ученицей. Ему было совестно, что она увидит его ужасные багровые пятна.
Это была нервная экзема. И врачи стали лечить Федю мазями и кварцевым светом. Но болезнь усиливалась. Возникло подозрение, что у больного отравление крови, сепсис. Федя почти перестал выходить из дому. Он плакал, говоря, что только при его невезении могло так случиться. Ведь это случилось на другой день после того, как ученица призналась ему в своем чувстве.
В конце августа я возвращался с Федей в Петербург. Мы ехали с ним в одном вагоне. Уже на другой день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на его щеках поблекли. К концу пути лицо у Феди стало почти чистым.
Федя не расставался с зеркальцем. С восторгом он убеждался, что болезнь покидает его. С печальной улыбкой говорил, как ему не повезло. На что ему его здоровье, если теперь нет той, кого он полюбил.
Снова говорю — я бы и не вспомнил эту историю. Но я вспомнил ее, ибо со всей очевидностью увидел теперь причину его болезни — это была защита, оборона, бегство.
Страх, в котором надлежало разобраться, преграждал шаги. Неосознанный страх нарушил работу органов секреции. Химизм тела несомненно был расстроен. Отравление могло произойти по причинам внутренним, а не извне.
Эту историю я также не вспомнил бы, если бы мои выводы не совпали с ней.
Умирал мой знакомый. Он был одинокий. И смерть его была страшной, даже ужасной.
Это было в девятнадцатом году.
Он был старый журналист. Воспитанный прошлой жизнью, он был ярый противник новой жизни.
Горе и лишения озлобили его еще больше. Пылая ненавистью, он писал статьи, которые, конечно, нигде не печатали. Он посылал эти статьи за границу, отправлял их со случайными людьми.
Я много спорил с ним, доказывал, что он не прав, что он не видит России, не понимает народа, считает, что народ — это только лишь небольшая прослойка интеллигенции. Что не следует свои мысли отождествлять с мыслями народа. Именно тут его ошибка. И ошибка многих.
Мы поссорились с ним. И я перестал его навещать. Но я снова пришел к нему, когда узнал, в каком он положении.
У него был нервный паралич. Правая сторона его тела была неподвижна. Однако он был по-прежнему неукротим.
Свои статьи он диктовал знакомой стенографистке.
И по-прежнему пересылал их за границу, понимая, что ему несдобровать, что дело это раскроется. Но он шел на это. Его идеи были выше его страхов.
За месяц до смерти он ослеп.
Я зашел к нему. Он лежал неподвижный, слепой, беспомощный. Я стал с ним говорить. И он отвечал кротко, смиренно, подавленный своим новым несчастьем. Главным образом он жалеет, что теперь окончательно лишен возможности работать — он даже не может прочитать, что написано.
Неожиданно улыбка промелькнула на его лице. Он сказал:
— Зато теперь я в безопасности. Кому я теперь нужен в таком состоянии.
Он умер. И я позабыл о нем. И только теперь вспомнил. Я вспомнил его улыбку, в которой я прочел какое-то облегчение, даже радость. Мне теперь кажется, что он ослеп, чтобы не писать. Этим он защитил себя от опасности.
Нет, я понимаю, что существуют другие, «настоящие» болезни, которые по всем правилам медицины приводят больного к параличу и к слепоте. Но в данном случае мне показалось, что разрушение и гибель этого человека произошли не по установленным правилам науки.
Я вспомнил еще целый ряд историй. Я вспомнил множество историй. И все они убеждали меня в справедливости моих выводов.
Это были истории неразорванных условных связей, истории тягчайших болезней, катастроф, драм.
Но я вспомнил и счастливые истории разорванных связей, связей, вовремя порванных и потому неопасных.
Я вспомнил одного циркового артиста. Ему не удавался номер. Он трижды падал в сетку. Это было на спектаклях. Это был почти скандал. Публика улыбалась. Артисты покачивали головами, говоря, что вряд ли он теперь сможет делать этот номер.
Тотчас после третьей неудачи, когда публика разошлась, артист снял сетку, натянутую под куполом цирка, и дважды выполнил свой номер.
Он разорвал то, что начинало связываться. Он разорвал условную связь — номер и неудачу. Номер снова стал увязан с удачей.
Я вспомнил еще один поразительный случай разорванных, недопущенных связей.
Когда хоронили одного знаменитого летчика, диктор по радио ошибся. Вместо фамилии погибшего летчика он назвал фамилию другого знаменитого летчика, который присутствовал на похоронах.
Этот летчик слегка побледнел и смутился, когда была ошибочно названа его фамилия. Тотчас после похорон летчик отправился на аэродром, сел в самолет и взлетел к небу. Он сделал высотный рекорд, намного перекрыв себя самого. Он доказал себе, что ошибка эта — вздор, случайность. И случайность эта не будет увязана с его дальнейшей судьбой.
В самом начале нервные связи, которые могли утвердиться, были разорваны. Это было мужественное решение.
Я вспомнил множество историй разорванных и неразорванных связей. И все они с математической точностью утверждали законы, открытые Павловым.
И в норме, и в патологии законы условных рефлексов были непогрешимы.
В них лежал ключ многих страданий.
И тогда я подумал о тех людях, которые уже умерли. О тех людях, которые страдали, так и не узнав причину своих страданий.
С волнением я вспомнил о своих записях, которые я делал в дни своей ужасной хандры. Ведь я записывал все, что относилось к меланхолии, к болезням.
В моем черном списке были замечательные и великие люди, прославленные творчеством, делами. Неужели же и они подчинялись этим законам? Неужели же и их сжимал в объятьях такой вздор?
И тогда я немедленно захотел увидеть причину их страданий, причину их меланхолии, гибели. С трепетом я стал перелистывать мои материалы. Нет, я увидел, что все основное стоит на месте. Все причины их гибели — именно те причины, которые были найдены историками, социологами. Ничто из главного не было здесь поколеблено. Поступки и поведение были предначертаны иными давлениями — извне. Но в общей сумме страданий этих людей я снова увидел новое слагаемое, которое не учитывалось. А оно иной раз было велико. Оно иной раз давило с такой силой, которая была смертельной.
С волнением я перелистываю мои материалы.
И вот оживают тени прошлого, величественные тени, перед которыми мы склоняемся.
X. Горе уму
Кто высоко стоит, тот знает грозы
И, падая, ломается в куски…
Что заставляет меня писать эту книгу? Почему в тяжкие и грозные дни войны я бормочу о своих и чужих недомоганиях, случившихся во время оно?
Зачем говорить о ранах, полученных не на полях сражений?
Может быть, это послевоенная книга? И она предназначена людям, кои, закончив войну, будут нуждаться в подобном душеспасительном чтении?
Нет. Я пишу мою книгу в расчете на наши дни. Я приравниваю ее бомбе, которой предназначено разорваться в лагере противника, чтоб уничтожить презренные идеи, рассеянные там и сям.
Но ведь гитлеризм не имеет своей философии. Он «с бору и с сосенки» нахватал чужие мысли. О каких же презренных идеях я говорю? Я говорю именно об этих нахватанных идеях — искаженных, упрощенных, сниженных до уровня звероподобных людей.
Беда была невелика, когда произносились салонные речи о бедах, исходящих от разума. Это было полбеды, когда в плане словесной баталии господа литераторы говорили о счастии жить в лесах и в пещерах. И там, вдали от городской сутолоки, искать спасения от машин, от цивилизации, от дальнейшего роста сознания.
Но это уже беда, если подобные речи талдычит солдат, претендующий на мировое господство.
А он талдычит эти слова, исказив их, доведя до предела и крайности. Он восклицает, слыша звон, но не зная, где он: «Образование калечит людей…», «Интеллигенция — это отбросы нации…», «Я хочу, чтоб моя молодежь была бы как дикие звери…», «Сознание приносит людям неисчислимые беды…»
На заре человеческого разума увидеть закат и желать его! Какое это мрачное желание и в какой темной и низкой душе оно возникло!
Мир померкнет на тысячу лет, если этот ефрейтор на сером коне победителя въедет на весенние поля, столь еще мало вспаханные сохой науки.
Этого не случилось. И не может случиться. Тем не менее «в защиту разума и его прав» следует писать.
И вот одна из причин, почему в грозные дни войны я пишу это мое сочинение.
Но не только поэтому я пишу мою книгу.
Я пишу ее с надеждой, что она будет полезна людям.
Быть может, в этом моем желании усмотрится некоторая, что ли, наивность, напрасная цель, неверные домыслы. Я не позабыл слова физиолога: «Ничего не обещайте людям».
Но я обещаю в умеренной степени.
Одним, быть может, книга моя доставит отдых, развлечение. Другим вернет душевное равновесие. Третьих рассердит, заставит задуматься. Заставит сойти с Олимпа, чтоб послушать, что произносит неуч, с которым случилось нечто такое, что случается только с собаками.
— Боже мой! — воскликнут они. — Заговорила собака! Дает честное слово, что она все это испытала на собственной шкуре. Господа, давайте посмотрим, так ли все это, как она говорит.
И тут, быть может, на время отвернувшись от собак, они возьмутся за младенцев, кои, вырастая в зрелые существа, доставляют науке столь немыслимые хлопоты и волнения.
Прелестные эти сцены — внимание к людям — услаждают мой взор, устремленный в небесные дали.
Именно эти дальнейшие сцены заставляют меня писать мою книгу, заставляют сойти с пути, усыпанного розами.
Да, путь был бы усыпан розами, если б я закончил мою книгу в той поэтической форме, в какой я начал. Ах, это была бы славная книженция, составленная из маленьких изящных новелл, взятых из моей жизни!
С улыбкой радости читатель держал бы эту книгу в своих руках.
Да и мне было бы куда как легче, проще. Ведь без труда, почти локтем левой руки, с божественной легкостью я писал эти маленькие новеллы, помещенные в моей книге.
И вот взамен их вы теперь видите нечто вроде исследования, с сухими, потусторонними словами — рефлекс, симптомы, нервные связи…
Ах, зачем это! Для чего менять кукушку на ястреба, летящего в небе? Зачем писателю быть еще фельдшером? Господа, велите ему писать так, как он начал.
С превеликим удовольствием я исполнил бы это законное требование. Однако тема не допускает этого сделать. Она не влезает в изящные рамки художественной литературы, хотя из почтения к читателю я и стараюсь ее туда как-нибудь втиснуть.
Темой же пренебречь нельзя. Она исключительной важности, по крайней мере лично для меня. Ради нее я и взялся за это сочинение. Ради нее я избрал скорбный путь.
Скорбный путь! Да, я предвижу постные речи, хмурые взгляды, едкие слова.
Я как бы уже слышу скрипучие голоса о ненужности такого внимания к собственному телу, о вреде излишнего контроля над самим собой. К чему, скажут, иметь такой настороженный ум в его каком-то новом, сомнительном качестве.
Я предвижу это. Однако финал моей книги, надеюсь, рассеет эти сомнения.
Итак, на чем мы остановились? Не на словах ли Байрона:
Нет, мы остановились не на этих печальных словах.
Мы остановились на черном списке замечательных и прославленных людей. Потрясенный несчастьями, хандрой этих людей, а подчас и стремлением их к смерти, я захотел узнать: по каким причинам возникали у них эти несчастья. Не по тем ли самым, что у меня?
Мы видели, в каком сложном счете было обнаружено мое страдание, составленное из многих слагаемых.
Теперь, умудренный опытом, я захотел узнать, из каких слагаемых создавалось страдание людей, отмеченных в моем списке.
Вернее, я захотел узнать одно из этих слагаемых, ради которого была задумана моя книга.
Нет, это нелегко и непросто сделать. Это надлежит сделать весьма осмотрительно, с полным учетом всего, что окружало этих людей. Эти люди были разных эпох, разных характеров, разных направлений. И, стало быть, не одни и те же силы действовали на них извне. Не одни и те же причины создавали душевный конфликт.
Нередко душевный конфликт возникал у людей, почти минуя биологические основы, действуя вне их. Таков, видимо, душевный конфликт Пушкина. Безвыходное положение в России — вот что лежало в основе его конфликта и вот что привело поэта к гибели.
Печальная судьба России, кризис, переживаемый мировым революционным движением, создали пессимизм и скепсис Герцена — и, стало быть, в какой-то степени душевный конфликт. Однако печальная судьба России не привела Чернышевского к меланхолии. Чернышевский верил в счастливый исход борьбы, он верил в крестьянскую революцию.
Вот в каком сложном счете решаются вопросы о силах, действующих на человека.
Однако столь сложных примеров я постараюсь избежать. Я возьму только тех людей, на которых слишком явно действовали физиологические силы.
Я возьму примеры клинического порядка.
С превеликой осторожностью я подхожу к моему краткому исследованию.
Нет, это даже нельзя назвать исследованием. Это материалы для исследования. Это эскизы, наброски, отдельные штрихи, по которым лишь отчасти можно восстановить истинную картину.
В начале моей книги я дважды упоминал имя Эдгара По, имя замечательного писателя, влияние которого было огромным на судьбу всей мировой литературы.
Личная же его судьба была безрадостна, беспросветна, ужасна.
Эдгар По писал:
«У меня такая угнетенность духа, которая погубит меня, если будет продолжаться…»; «Ничто не может мне доставить радости или хотя бы малейшего удовольствия… Чувства мои в данную минуту поистине в жалостном состоянии…»; «Убедите меня, что мне надо жить…»
Он писал эти слова, когда ему было меньше тридцати лет. В сорок лет он умер. Вся сознательная его жизнь была заполнена бедой, удивительной тоской, причины которой были ему непонятны.
Я не имею под рукой достаточных материалов, чтобы тщательно исследовать жизнь этого человека. Но даже скудные материалы говорят о крайне чувствительной психике, о болезненном сознании, о неврозах, какие нельзя не заметить.
Я отмечу несколько фактов, взятых из биографических материалов. Я отмечу те факты, какие мне кажутся характерными, какие имели значение или влияли на болезненную психику Э. По.
Его родители жили в нищете. Они умерли, когда ребенку было два года. Приемный отец взял его на воспитание.
Когда приемный отец пришел его взять (пишет биограф), мальчик находился в каком-то оцепенении. Нянька успокаивала ребенка тем, что совала в его рот хлеб, намоченный в вине.
В пятилетнем возрасте ребенок едва не погиб. Он упал с дерева. Причем упал в воду, в пруд. Мальчика вытащили из воды почти мертвого, без пульса. Его едва вернули к жизни.
Когда ему исполнилось шесть лет, его повезли в Англию. Все биографы отмечают, что длительное морское путешествие произвело на него необычайно сильное впечатление.
Один из биографов пишет: «Дважды совершенное путешествие по воде предрешило многое в развитии отличительных черт Э. По…»
Другой биограф (Гаррисон) отмечает, что «на его впечатлительный характер чрезвычайно повлияли два океанских путешествия».
Тот же биограф отмечает, что Э. По весьма долго не мог научиться плавать, хотя настойчиво стремился к этому. С необыкновенным упорством он старался постичь эту науку. Однако он научился плавать, уже будучи взрослым. И даже достиг в плавании рекорда, проплыв однажды несколько миль.
Однако плавание нередко заканчивалось бедой. «Однажды, — пишет биограф, — он вышел из воды весь покрытый волдырями» (!).
Нередко плавание заканчивалось рвотой.
Мы видим сцены необыкновенной ясности. Человек, несомненно, преодолевал какие-то огромные внутренние преграды, возникающие вне сознания. Можно смело сказать, что вода действовала на Э. По угнетающим образом. Оборонный рефлекс сопровождал любое столкновение с водой. Неосознанный страх присутствовал при встрече с условным раздражителем.
Я не берусь восстанавливать общую картину психоневроза Э. По. Но я могу отметить, что объекты устрашения и условные связи, ведущие к ним, весьма явственны. Можно подозревать, что отношение к женщинам было весьма неблагополучным. Эдгар По пишет женщине, которую он любит (Ел. Уитман):
«Я избегал вашего присутствия и даже города, в котором выжили…»
Интересно отметить, что Э. По избегал этой женщины, так как он (не имея на то никаких оснований) считал ее замужней. И только потом он «в этом разуверился».
Мотив, для того чтобы избежать этой женщины, был поистине необыкновенным. Понадобились нравственные, искусственно придуманные мотивы, для того чтобы оправдать свое, казалось бы, непонятное бегство.
В другом письме Э. По пишет этой женщине:
«Я не смел говорить о вас, тем менее видеть вас. В течение целых лет ваше имя ни разу не перешло моих губ… Самый шепот, касавшийся вас, пробуждал во мне трепещущее чувство, смутно слитое из страха, восторженного счастья и безумного необъяснимого ощущения, которое ни на что не походит так близко, как на сознание вины…»
С поразительной ясностью Э. По раскрывает картину своей беды. Сам того не подозревая, он дает тщательный анализ своего психического состояния. Он находит в своем состоянии элементы: страх, радость и вина.
Нет сомнения, что школа Фрейда увидела бы в этом так называемый эдипов комплекс. Другими словами, увидела бы в этом тайное и подавленное влечение к своей матери. Она увидела бы в этом нравственный запрет и боязнь наказания, которое налагается на человека в условиях цивилизованной жизни.
Биографы отмечают, что Эдгар По любил образ своей матери. Всю жизнь он не расставался с медальоном, в котором был ее портрет.
Должно быть, и в этом маленьком факте школа Фрейда увидела бы истинное оправдание своих выводов.
Тем не менее выводы эти не оправдываются. Мы снова видим здесь нечто иное, чем эдипов комплекс. И вот почему.
Мать Эдгара По умерла, когда ребенку было два года. Сомнительно, что годовалый ребенок мог испытывать нравственное волнение или страх наказания за свои младенческие чувства к матери.
Но еще более сомнительно, что эти чувства и волнения ребенок испытывал после двух лет. Он не мог их испытывать. Он не видел матери — она умерла.
Стало быть, ребенок не мог подавлять или запрещать свое влечение к матери, в какой бы форме оно ни было. И, стало быть, если возник запрет, то он возник по иным причинам, не оправдывающим соображения Фрейда об эдиповом комплексе.
Какие же в таком случае могли быть иные причины? Только те, о которых мы говорим в нашей книге.
Не нравственные мотивы и не страх наказания за свои младенческие «влечения», иного характера страх — страх к предметам, в условном значении которых младенец ошибся, — вот что имеет место.
Оборонный рефлекс мог возникнуть только лишь на основе этих «вещественных» мотивов. Все остальные мотивы были продиктованы дальнейшим развитием. Нет сомнения — они могли оказывать влияние на поведение субъекта. Однако сомнительно, что эти мотивы могли носить патологический характер.
Итак, среди болезненных представлений Э. По мы находим несколько элементов весьма явственных — вода, мать, женщина. Можно допустить, что имелись еще и иные объекты устрашения.
Однако и найденные объекты с достаточной ясностью говорят нам о патологическом характере отношения к ним.
Не понимая, что с ним и каковы причины его несчастья, Э. По стал пить. Этим он хотел сбросить с себя оцепенение, хандру, торможение, которые возникали у него при столкновении с объектами его устрашения.
Умер Э. По неожиданно и при странных обстоятельствах. Он выехал из Балтиморы в Филадельфию. Поездной кондуктор нашел его на полу в каком-то странном оцепенении. Его отправили в больницу. И там он вскоре умер. Свидетели его смерти писали, что и в больнице он все время находился в каком-то судорожном состоянии.
Весь путь его жизни, его болезни, тоски и гибели имеет следы патологии, имеет, как мне кажется, следы неверных условных связей, ошибочно возникших при первом знакомстве с окружающим миром.
О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование.
Впрочем, психика Гоголя с чертами огромных противоречий весьма сложна. И добиться исчерпывающего анализа, видимо, не представляется возможным без некоторых документов, каких мы не нашли в записях современников Гоголя.
Я отмечу только лишь то, что мне кажется бесспорным.
Нет сомнения, что болезнь Гоголя складывалась не только по причинам физического характера. Герцен, например, считал, что «николаевский режим вел Гоголя в сумасшедший дом». В этих словах было нечто справедливое.
С огромной силой Гоголь изобразил николаевскую Россию. Он нашел беспощадные и точные слова, изображая помещичью жизнь, николаевский строй и пошлую, фальшивую мораль общества.
На этих своих литературных позициях Гоголь был революционером, демократом, истинным представителем народа.
Однако Гоголя устрашили и безрадостные картины, какие он нарисовал, и революционность, о которой он не помышлял.
Разлад оказался весьма велик между художником и человеком, между реальной жизнью и желанием увидеть Россию иной.
Он хотел вырваться из тисков этого конфликта. Но не смог этого сделать. Он не смог и не захотел пойти по той дороге, по которой шли Белинский, Чернышевский и революционная демократическая молодежь.
Гоголь сделал шаг, с тем чтобы примириться с печальной действительностью, но этот шаг привел его в стан его же врагов.
Это и было трагедией Гоголя, той трагедией, которая усугубила его болезнь, ускорила его гибель.
Однако, помимо этой трагедии, Гоголь нес в себе и другую трагедию — конфликт физиологического порядка, который столь бурно отразился в его болезни, в его психоневрозе.
Черты этого психоневроза отчетливо видны на протяжении всей жизни Гоголя.
Эти болезненные черты были замечены окружающими в раннем его детстве.
В 1815 году (Гоголю 5–6 лет) «вельможа и благодетель» Трощинский писал отцу Гоголя:
«…Да будет вам известно, что я трактовал с Наталинским (врачом) о слабости здоровья Марии Ивановны и о золотушных припадках вашего Никоши…»
Эти непонятные «золотушные» припадки стали повторяться и в юности, и в зрелые годы.
Эти припадки достигали иной раз огромной силы. И тогда Гоголь не находил себе места — «не мог ни лежать, ни сидеть». При этом иной раз у него возникала тоска в той степени, какая позволила ему однажды воскликнуть: «Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».
Однако врачи не находили у Гоголя сколько-нибудь серьезной, органической болезни. Его лечили от золотухи, от ипохондрии, от «геморроидов», от желудочных заболеваний.
Лечение не имело успеха, и физическое состояние Гоголя стремительно ухудшалось.
Однако были моменты, когда многолетняя болезнь Гоголя мгновенно исчезала. И тогда он вновь чувствовал себя здоровым и юношески свежим. Гоголь не раз отмечал эту странность своей болезни.
В 1840 году Гоголь писал (Погодину): «Дорога сделала надо мной чудо. Свежесть и бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал».
В письме (2 января 1846 г.) Гоголь писал А. П. Толстому:
«Я худею, вяну и слабею и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей силы выбросит из меня недуги все вдруг…»
Стало быть, Гоголь и сам чувствовал, что его болезнь не есть нечто раз навсегда данное, органическое. Это болезненное «нечто» может уйти, исчезнуть и не вернуться к нему. Уже это одно обстоятельство позволяет нам предположить в болезни Гоголя ту болезнь, о которой мы сообщаем в нашей книге.
Допустим, что наше предположение правильно. Допустим, что Гоголь чем-либо был травмирован в младенческом возрасте.
Как исследовать эту травму? Как проанализировать течение этой болезни?
Мне кажется, что это возможно сделать по тем особенностям и странностям, какие характерны для поведения Гоголя в его личной жизни.
Какие же странности мы наблюдаем в поведении Гоголя?
Этих странностей немало. Однако основной странностью можно считать отношение Гоголя к женщине.
Известно, что Гоголь не был женат. И не стремился к этому. Более того, мы не знаем ни одного сколько-нибудь значительного увлечения Гоголя.
В 1829 году Гоголь писал матери о своем чувстве к какой-то незнакомке, которую он назвал «божеством, слегка облеченным в человеческие страсти».
Слова, найденные для описания своей влюбленности, необычайны и для исследователя чрезвычайно важны:
«Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние!.. Если грешникам уготован ад, то он не так мучителен! Нет, это не любовь была… В порыве бешенства и ужаснейших терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз — вот было одно-единственное желание… С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Я увидел, что мне надо бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь…»
Даже если это не реальная любовь, а всего лишь фантазия, выдумка, то и в этом случае аналитический характер этой выдумки остается.
Страх, ужас, муки, смерть — вот что идет рука об руку с женщиной! Вот что сопровождает любовь.
И только бегство может сохранить жизнь. И вот это бегство мы видим на протяжении всей жизни Гоголя.
Он избегал женщин. И, вероятно, не знал их[6]. Хотя и понимал, что столь длительное воздержание не может не отражаться на его здоровье.
Гоголь писал о К. Аксакове:
«Если человек, достигнув 30 лет, не женился, то он делается болен…»
Несомненно, эти слова Гоголь относил и к самому себе. Тем не менее он не изменял своей жизни. И не мог ее изменить, так как препятствия были значительны и вне его власти.
Какого же рода были эти препятствия?
Видимо, неосознанный страх, возникающий в силу оборонных рефлексов, тот страх, в котором так красноречиво признался сам Гоголь в письме о своей влюбленности.
Каким же образом возник этот страх? Когда? И на чем он был основан?
Этот страх мог возникнуть только лишь в младенческом состоянии. Ибо только младенческий возраст мог создать страх, до такой степени лишенный логики.
Но ведь этот страх относился к женщинам. К кому же именно он первоначально возник?
Он мог возникнуть к матери, вернее, к тем объектам устрашения, какие были условно связаны с матерью. Ведь по закону условных рефлексов ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней, с той только разницей, что страх к матери усложнялся противоречиями и уживался вместе с радостью и стремлением.
В дальнейшем любой образ женщины мог вызвать этот противоречивый страх, ибо в младенческом уме ребенка, как и в низшем этаже нашей психики, мать и женщина, видимо, отождествляются — и по вещественным, материальным признакам (грудь, рука, тело), и по ощущению радости.
Но если условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью, то эти чувства должны проявляться и в отношении к матери.
Разве так обстоит дело у Гоголя?
Да, именно так. Отношение Гоголя к матери было в высшей степени противоречивым и странным.
Его «почтительная сыновья любовь» к матери уживалась с нежеланием ее видеть. Он находил разные предлоги и мотивировки для того, чтобы не поехать к ней, и для того, чтобы она не приехала к нему.
Он отговаривался делами, нездоровьем и тем, что он дома испытывает хандру.
Он писал матери (в декабре 1837 г.):
«Когда я был последний раз у вас, я думаю, сами заметили, что я не знал, куда деваться от тоски… Я сам не знал, откуда происходила эта тоска…»
В другой раз, когда Гоголь поехал к матери, он почувствовал эту тоску уже в экипаже.
Гоголь, который отлично переносил любую дорогу и даже считал, что дорога — его лекарство, на этот раз не мог ее вынести. Его «нервическое» состояние дошло до таких пределов, что он решил вернуться в Москву.
И он действительно с полпути вернулся назад, не доехав до своего имения.
Гоголь любил свою мать на расстоянии и всячески избегал встречи. И в этом он дошел до того, что свои письма к ней, посылаемые из Москвы, он не раз помечал заграничными городами — Веной, Триестом.
Вот обстоятельства, которые поставили в тупик многих биографов Гоголя. Этот обман казался загадочным, непонятным.
На самом же деле он объяснялся весьма просто — нежеланием Гоголя увидеться с матерью, бегством от нее. Пусть она думает, что он за границей, иначе она снова будет настаивать на встрече.
Но, может быть, он делал это, чтоб не совершать длительного путешествия? Быть может, ему, обремененному делами и заботами, было не до того? Нет, мать не всегда настаивала на его приезде. Она сама хотела бы побывать в Москве.
В таком случае Гоголь, может быть, стеснялся ее, стыдился ее провинциального вида? Нет, судя по письмам, Гоголь уважал ее, почитал, испытывал к ней истинные чувства, оберегая ее от волнений и забот.
Видимо, нечто иное удерживало его от встреч с матерью.
Это нечто иное было неосознанным, инфантильным. Условные связи явственно тянулись к объектам устрашения — к дому, к матери, к женщине.
Эти связи на протяжении всей жизни оставались неразорванными и действовали губительно.
Когда однажды встречи с матерью нельзя было предотвратить, Гоголь нашел весьма холодные и неприятные слова, говоря об ожидаемой встрече. Он писал Данилевскому (декабрь 1839 г.):
«Желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маменьке меня видеть, приглашаю ее в Москву на две недели…»
По-видимому, мать была невольной виновницей младенческого конфликта.
Но ведь в уме младенца мать — это не только мать, это еще питание, еда и радость утоления голода. Значит, и в этой области должны быть странности, «чудачества», непорядки, быть может, даже в большей степени, чем в иной, ибо условные связи здесь еще более прочны, так как «столкновения» с этим объектом постоянны и нет возможности их избежать.
Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказался принимать пищу и морил себя голодом.
Последние же дни он вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих.
Тогда его стали кормить искусственно, силой. Он кричал и умолял не трогать, «не мучить» его.
Однако отказ Гоголя от еды не возник из-за какой-либо желудочной болезни или от отсутствия аппетита.
Доктор Тарасенков пишет:
«Пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой, кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита…»
Тот же Тарасенков пишет:
«Он не хотел в этот день ничего есть и, когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».
Может быть, это было «религиозное исступление», какое видят в этой голодовке многие биографы?
Нет. Религиозный мотив, быть может, и имел значение, но он не был основным и даже существенным.
Мы знаем, что духовные особы — духовник и приходский священник — уговаривали Гоголя есть.
Известно, что приходский священник почти силой заставил Гоголя «принять ложку клещевинного масла».
Более того. Толстой обратился с просьбой к митрополиту Филарету «воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника» — приказать Гоголю принимать пищу и слушаться распоряжения врачей.
Митрополит велел передать Гоголю свое приказание, говоря, что «сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача».
Однако и это высокое приказание не произвело перемены в мыслях больного. Ибо в основе отречения от еды лежали не религиозные мотивы.
Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет:
«За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объяснял, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета и притом оттого, что его лечили» (!).
Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды.
Во-первых, мешают спазмы и судороги (симптом оборонного рефлекса?). Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться, другими словами — о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает.
Вот в каком счете решался вопрос о голодовке Гоголя.
Однако как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду — в мемуарах, в письмах, в воспоминаниях.
По воспоминаниям мы узнаем, как иной раз Гоголь «священнодействовал» за обедом, как торжественно приступал к еде и какое значение он придавал хорошему обеду.
В своих письмах (к Данилевскому) Гоголь называл ресторан «храмом» и даже «храмом жратвы» (!).
В мемуарах мы читаем, что Гоголь иной раз сам приготавливал пищу, готовил обед. Причем делал это он весьма торжественно и серьезно.
С. Аксаков пишет:
«Он от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло. И я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром».
Значит, отношение к еде у Гоголя было несколько странным и даже преувеличенно торжественным.
Причем эта странность выражалась постоянно и была замечена всеми мемуаристами.
М. П. Погодин пишет о том, как некто Бруни, говоря о Гоголе, воскликнул: «Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит, — он ест за четверых».
П. Анненков пишет:
«Получив тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой».
С. Аксаков пишет:
«Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом…»
М. Погодин пишет:
«Первой заботой Гоголь имел устроить утреннее чаепитие. Запасы отличного чая у него никогда не переводились. Но главным делом для него было набирать различные печения к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики — это уже только знал он и никто более… Начинаются наливания, разливания, смакования, потчевания и облизывания. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем…»
Это удивительное пристрастие Гоголя замечено было даже его товарищами по школе.
Некто Любич сообщал:
«В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей — конфект и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая, даже в классах, во время занятий…»
И еще запись о школьных годах Гоголя:
«Он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас. Гоголь или сам приготовлял его из моченых груш, или покупал его на базаре…»
При этом необыкновенном пристрастии Гоголь подчас жаловался на отсутствие аппетита, на несварение желудка, на всяческого рода недомогания. Однако в основном это преувеличенное и торжественное отношение к еде оставалось.
Однако всякий раз, приступая к еде, Гоголь (как сообщают свидетели его обедов) «капризничал», нервничал, а иногда и сердился.
П. Анненков пишет:
«Гоголь поразил меня, однако, капризным взыскательным обращением с прислужником. Раза два он менял блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным».
Ф. И. Иордан пишет:
«Спросив какое-нибудь блюдо, Гоголь едва, бывало, дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира почти бросал ему блюда, говоря: "Синьор Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить"».
Как бы младенческие инфантильные сцены разыгрываются перед едой. Какое-то необыкновенное волнение присутствует перед этим торжественным процессом.
Мы знаем, как противоречиво складываются чувства и желания человека, основанные на первых младенческих представлениях. Иной раз страх, связанный с желанием, не гасит его, а, напротив, усиливает. Происходит как бы борьба за объект устрашения, который могут отнять. И временная победа над этим объектом увеличивает торжество победителя. Однако окончательная победа остается за страхом.
И механизм этой победы иной раз основан на ослаблении контроля. Науке известно, что кора мозга, ослабляя свой контроль (в силу утомления, болезни, старости), позволяет вновь возникнуть оттесненным животным и младенческим силам[7].
Переутомленный, ослабленный болезнью, мозг Гоголя (вернее, кора мозга) перестал контролировать даже в той неполной степени, в какой этот контроль осуществлялся в молодые годы. И вот мы видим трагические сцены голодовки, видим неосознанный страх, который постоянно присутствовал к еде. Младенческие представления и животные силы, не контролируемые сознанием, одержали верх.
Однако условные нервные связи соединяли с опасностью не только еду, женщину, мать. Они соединяли еще целый ряд объектов — дом, ночь, кровать.
И в силу этого «опасности» возникали на каждом шагу. И борьба с этими опасностями была тягостной, непосильной. Можно было спасаться только бегством. Только бегство разрывало эти связи, избавляло от опасностей.
Именно бегство характеризует поведение Гоголя. Только садясь в экипаж, он чувствовал освобождение, отдых, здоровье.
Сколько раз он писал, как исцелила его дорога.
По словам Смирновой (1840 год), «Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс…»
Далее Гоголь сообщает о себе:
«Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога — мое единственное лекарство — оказала и на этот раз свое действие…»
Еще бы — дорога уводила его от опасностей. Неосознанный страх покидал его. Вот что служило исцелением…
Но это было временным исцелением. Та же дорога вновь вела его к женщинам, к еде, к лечению, за которым следовало здоровье, а за здоровьем — еще большие опасности, еще большая возможность встретиться с тем, что его страшило.
Положение было «безвыходным», ибо даже болезнь не служила облегчением. Ведь болезнь связана с постелью, с кроватью. А кровать была условно связана с той тягостной драмой, которая когда-то разыгралась в младенческом возрасте.
Интересно отметить, что многие из биографов и мемуаристов заметили странное отношение Гоголя к кровати. На кровать он почти не ложился, хотя кровать и стояла в комнате. И даже на диван он не всегда ложился. Он предпочитал дремать, сидя в кресле.
П. В. Анненков «сокрушался и тревожился», видя «такую причуду» Гоголя.
Анненков так описывает ночи, проведенные с Гоголем:
«Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике и сидел вплоть до света…»
Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то «замирание», когда он ложится на кровать, и, кроме того, он «боится обморока». Далее Анненков сообщает:
«Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрение о капризе своего жильца…»
Оказывается, помимо инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет и нет бегства.
Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя!
Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений.
Какие тягчайшие страдания испытал великий поэт! Какую боль мы испытываем за эти его страдания! Их не было бы, если б контроль над низшими силами был осуществлен.
Эти страдания, испытанные Гоголем, не снижают образ великого художника, поэта, литератора. Не омрачают нашу память о нем. Гоголь был на уровне знаний своего времени. Но уровень науки был недостаточно высок. Наука того времени блуждала в потемках в этой области. Она не смогла помочь Гоголю. Или даже разъяснить ему, как разъясняет теперь нам.
Передо мной на письменном столе лежат еще несколько исследований. И выводы в одинаковой мере сходятся.
Я не стану затруднять читателя подробностями этих исследований. Мне кажется, что и два приведенных примера достаточно убеждают.
В чем убеждают? Хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами.
Однако я приведу еще несколько коротких примеров из этой области.
Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени… Некрасов пишет:
«Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстройства печенки…»
Долгие годы Некрасова лечили от этой болезни.
Однако после смерти тело было вскрыто и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии.
Доктор Белоголовый, присутствовавший при вскрытии, пишет:
«Для 55 лет он сохранился изрядно. Никаких болезней, кроме конституционного специфического расстройства, не было»[8].
Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже семнадцатилетним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал:
Эта хандра, «болезненно развитая», происходила не от болезней тела. Причины ее лежали в ином. Даже при поверхностном анализе можно было убедиться в наличии бессознательных представлений, подчас одерживающих верх.
Предполагалось, что у Салтыкова (Щедрина) опухоль в мозгу. Так как у него были, как пишет доктор Белоголовый, «судорожные сокращения в мышцах тела до такой степени сильные, что писание стало для него не только затруднительным, но и почти невозможным».
В 1881 г., пишет Белоголовый, «эти подергивания стали чрезвычайно велики и приняли вид Виттовой пляски».
Кроме того, у него возникли «боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным поражением глазного аппарата».
Эти симптомы и «мучительные припадки свойственной ему хандры» навели врача на мысль, что у Щедрина «имеется опухоль или киста в мозгу».
Однако по вскрытии (как сообщает тот же врач) ни опухоли, ни кисты, ни каких-либо изменений в тканях мозга не было обнаружено.
Причины, несомненно, гнездились в функциональных расстройствах, в бессознательных представлениях, в сфере ошибочных чувств, ошибочных ответов на те раздражения, кои не соответствовали силе и целесообразности этих ответов.
Вероятно, современная наука в первую очередь произвела бы анализ психики, прежде чем высказывать предположения об опухоли в мозгу.
Такого рода анализ, быть может, сохранил бы жизнь величайшего романиста Бальзака.
История его любви (к Ганской) есть история его болезни и гибели.
В течение многих лет он переписывался с этой женщиной. Он ее любил с той силой, на какую способен человек столь большого сердца и столь большого ума.
На расстоянии (они жили в разных странах) она не была ему «опасна». Но когда она захотела уйти от мужа, чтоб приехать к нему, он написал ей: «Бедная привязанная овечка, не покидай своего стойла».
Однако она «покинула свое стойло». Она приехала (в Швейцарию) — чтобы повидаться с Бальзаком. Однако это была несчастная встреча. Бальзак почти избегал Ганскую.
Биографы были поставлены в тупик его поведением.
Один из биографов пишет: «Он почувствовал боязнь узнать ту, которую любил».
Другой биограф пишет: «Он испугался слишком большого счастья» (!).
Третий биограф делает вывод: «У него была скверная комната, и он стеснялся приглашать ее к себе».
Какой вздор! И какие пошлые мотивы найдены для объяснения бегства, обороны, страха!
Но вот у Ганской умер муж. Все нравственные мотивировки отпали. Никаких отступлений больше не могло быть.
Бальзак должен был поехать в Польшу, чтобы жениться на Ганской.
Биограф пишет, что это решение ехать необыкновенно взволновало его. «Сев в коляску, Бальзак чуть было не остался там навсегда».
С каждым городом, приближаясь к цели путешествия, Бальзак чувствовал себя все хуже и ужасней.
У него началось удушье в такой степени, что дальнейший путь казался ненужным.
Он приехал в Польшу почти развалиной.
Слуги поддерживали его под руки, когда он вошел к Ганской.
Он бормотал: «Моя бедная Анна, я, кажется, умру прежде, чем дам Вам свое имя».
Однако это его состояние не оборонило его от венчания, которое было назначено заранее.
Последние дни перед этим Бальзак был почти парализован. Его внесли в церковь сидящим в кресле.
Он вскоре умер. Умер 50 лет от роду. Это был человек огромной физической силы, огромного темперамента. Но это не спасло его от поражения[9].
Мы видим на этом примере, какой силы может иной раз достичь противник. И какая иная оборона требуется для победы над ним, над ложными инфантильными представлениями, столь устрашающими наш бессознательный мир.
Таких примеров поражения, примеров тоски, болезней и гибели можно привести немало. Но я этим ограничусь.
Я отмечу только, что, не находя причин своих несчастий, иные люди обращались к разуму как к главному виновнику этих бед. И тут нетрудно было спутать. Люди видели перед собой, казалось бы, наглядные примеры: высокий ум чаще других терпит страдания. Казалось, эти страдания относятся ко всякому высокому уму. Казалось, высокий ум несет беду, горе, болезни. Однако эти страдания вовсе не относились к высокому уму. Они относились к уму, главным образом связанному с искусством, с творчеством, в силу особых специфических свойств этого ума, в силу склонности этого ума к фантазиям, к сверхчувствительным восприятиям. Именно эти особые свойства ума (чаще всего наследственного характера) давали большую возможность для возникновения ошибочных нервных связей, почти всегда основанных на ложных младенческих фантазиях.
Однако это вовсе не означает, что все люди искусства, творцы и фантазеры, обязательно несут с собой болезни и воздыхания. Эти болезни возникают в силу несчастного стечения обстоятельств. А свойства ума являются только лишь благодатной почвой для их возникновения[10].
Вот где кроется ошибка. И вот где истоки хулы, произнесенной разуму. Высокое сознание не является чем-то опасным. Даже для сверхчувствительного ума, склонного к фантазиям, вовсе не обязательны страдания и психоневрозы.
Есть множество примеров, когда высокая одаренность и даже гениальность вовсе не сопровождается безумием, неврозом, болезнями. Напротив, мы наблюдаем в этих примерах абсолютное здоровье и норму во всех отношениях.
Абсолютное здоровье вовсе не лишает возможности быть творцом, художником. Напротив, абсолютное здоровье — это идеал для искусства. Только тогда искусство может быть полноценным. И таким, как оно должно быть. Правда, абсолютно здоровый человек может иной раз предпочесть реальную жизнь бесплодным фантазиям. Ему, пожалуй, будет некогда забивать свою голову придуманными персонажами. Он предпочтет, быть может, думать о живых людях, о подлинных чувствах. Он предоставит фантазировать людям, кои и без того мыкаются среди своих фантазий, не умея в полной мере реализовать свои чувства в силу своих страхов и заторможений.
Вот почему мы чаще видим искусство и болезни в опасной близости.
И вот почему могло показаться, что искусство есть достояние нездоровых, безумных людей и подчас — кретинов.
Вовсе нет! Но именно эти, неполноценные люди заподозрили, что разум несет беду. Именно они объявили «горе уму».
Они, быть может, не ошиблись в отношении себя. Но они единицы. Они не должны были бы свои невзгоды приписывать всем людям, которые слишком далеки от подобных бедствий.
Здесь кроется обычная ошибка философов, литераторов, поэтов. Свои чувства и домыслы они нередко отождествляют с чувствами «всего человечества».
Л. Н. Толстой считал, что «непротивление злу» спасает людей от множества бед. Быть может, это спасало Толстого. Но эта идея была абсолютно чуждой людям.
В русском народе Гончаров увидел Обломовых. Быть может, обломовщина была характерна для писателя, но она отнюдь не характеризовала русский народ.
Бальзак в своем романе «Шагреневая кожа» утверждал ту мысль, будто жизнь гаснет и укорачивается с каждым возникшим желанием.
Страшась своих чувств и желаний, Бальзак предложил всем страшиться их, пугая непокорных смертью.
Это была вопиющая ошибка.
Напротив, человеческая жизнь сгорает тем ярче и тем длительней, чем меньше болезненных препятствий для этого горения. Человеческий организм — это не ведро с драгоценными соками, которые можно расплескать, растерять, растратить от многих столкновений с жизнью. Это «ведро» наполняется по мере расхода. Однако оно пустеет, если вовсе не расходовать его содержимого.
Эта ошибка запутала многих и многих людей.
Это были ошибки против общества, против физиологии, против логики. В них мы усматриваем логику не полностью здоровых, а иной раз и вовсе больных людей.
И в свете этих, весьма заметных, ошибок становится понятной философская ошибка Достоевского, который сказал: «Слишком высокое сознание и даже всякое сознание — болезнь».
Достоевский не был здоровым человеком. Его жена оставила запись о своем первом впечатлении о нем:
«Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу, человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда».
Можно допустить, что болезненное состояние его (эпилепсия) ухудшалось от непомерной умственной работы. И, вероятно, это позволило писателю сделать столь крайний вывод.
Однако нам кажется, что не работа, а сложный «ответ», комплекс «ответов» на внешние раздражители способствовал его состоянию.
Быть может, и в этой моей книге кто-либо усмотрит ошибку, подобную тем, о которых я сейчас говорю. Но ведь я утверждаю только то, что относится лично ко мне и отчасти к людям искусства. А то, что относится к людям иных профессий и занятий, я отнюдь не утверждаю. Я только делаю предположение.
XI. Разум побеждает смерть
Близок вой похоронных труб,
Смутен вздох охладевших губ…
В одном из юношеских писем Гоголя есть удивительная и печальная фраза:
«Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним…»
Значит, Гоголь видел не только свое собственное «немедленное бегство от счастья», он также видел и бегство других.
Куда же бежали эти люди? В каких краях они находили себе спасение от той химеры, какую они создали себе?
Они бежали в те края, какие вовсе не спасали их. Они бежали в края болезней, в края безумия, смерти.
Они бежали в эти края, чтоб именно этими крайними средствами спастись от ужасов и страхов, от бед и волнений, в сущности даже не осознанных ими.
Значит, они бежали и к смерти? Разве в смерти можно видеть облегчение? Разве страх смерти меньше того неосознанного страха, который держит человека в своих руках?
Ведь мы знаем, какой силы этот страх, какое иной раз безумие вселяет в человека мысль о смерти. И тем не менее мы видим многие примеры, когда стремятся к смерти, добиваются ее, видя в ней спасение, выход, облегчение.
Как же «примирить» эти два столь крайние полюса? Нет сомнения, их можно примирить, если взглянуть, что происходит за порогом сознания.
Ребенок (и животное) не знает, что такое смерть. Он может видеть в этом — исчезновение, уход, отсутствие. Но сущность смерти ему еще не ясна. Это понятие входит вместе с развитием ума. В низших этажах психики смерть, видимо, не рассматривается как акт наиболее страшный (вернее, «опасный») из всех актов человеческого состояния.
В 1926 году, когда катастрофа была для меня слишком близкой, когда противоречия и конфликты ужаснули меня и я не находил выхода, я увидел странный сон.
Я увидел, что в мою комнату входит Есенин, который недавно умер, повесился. Он входит в комнату, потирая руки, счастливый, довольный, веселый, с румянцем на щеках. Я в жизни никогда его таким не видел. Улыбаясь, он присаживается на кровать, на которой я лежу. Наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать.
Содрогаясь, я проснулся. Подумал: «Он явился за мной. Все кончено. Я, вероятно, умру».
Но вот шли годы. Я позабыл об этом ночном инциденте. И только теперь, вспоминая все, что было, припомнил этот сон. И тотчас понял, что он обозначал для меня в то время. Ведь он обозначал — посмотри, как мне теперь хорошо, взгляни, какой я теперь счастливый, здоровый, беззаботный. Милый друг, поступи, как я, и ты будешь в безопасности от тех ужасных бед, которые нас с тобой раздирали.
Вот что обозначал этот сон, угодливо подсунутый мне обитателями низшего этажа, которые страшатся опасностей значительно, видимо, больше, чем страшатся смерти, ибо не понимают, что это такое, вернее, они не понимают ее так, как мы понимаем ее разумом.
Не этим ли объясняются многие нелепые смерти — от чепухи, от вздора, от незначительных болезней? Не в этом ли кроется одна из причин иных самоубийств, столь похожих на поспешное бегство, на бегство животного?
Такого рода самоубийства инфантильны в высшей степени. За этим стремлением к смерти слишком заметен неосознанный детский страх перед сомнительной опасностью, перед сомнительным конфликтом.
Патологический характер этого стремления несомненен. И мы еще раз убеждаемся в том, что контроль разума необходим.
Но, может быть, вмешательство разума излишне в иных случаях, в тех случаях, какие можно назвать нормальными?
Нет, мне кажется, что и в этих случаях контроль разума необходим.
В самом деле, какие чувства мы испытываем, когда видим смерть? Что происходит в нашей психике, в нашем «высшем этаже», когда мы «лицезреем» смерть?
Большинство людей испытывает страх, тоску и даже ужас.
А правильно ли это хотя бы с точки зрения продолжения жизни? Нет, это абсолютно неправильно, опасно и даже губительно.
Тут я вынужден более обстоятельно говорить о смерти — о том состоянии, которое в человеческой жизни более неизбежно, чем какое-либо иное состояние.
Мне кажется, что разговор об этом не противоречит принципам социалистического реализма. При величайшем оптимизме, социалистический реализм отнюдь не закрывает глаза на все, что происходит вокруг. И ханжески не отдаляет решений по тем вопросам, какие надлежит решить.
Отношение к смерти — это одна из величайших проблем, с которой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена (в литературе, в искусстве, в философии), но она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности. А ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться. Поздно сожалеть, что мысли о смерти застали врасплох.
Один немецкий антифашистский писатель рассказал мне удивительный случай. Друг этого писателя попал в застенок. Его там пытали. Но он выдержал пытку. А когда он столкнулся с тем, что он должен был умереть, — душа его дрогнула. Мысль о смерти впервые пришла к нему. Она застала его врасплох, когда он был слаб и измучен. Эта мысль так его устрашила, что он отказался от своей идеи, чтоб спасти свою шкуру. Из тюрьмы он прислал покаянное письмо, с отчаянием разъясняя, что с ним случилось.
Рассказывая об этом случае, писатель сказал мне:
— Я раньше думал, что вопросы смерти мы должны предоставить писателям старого мира. Нет, мы должны писать о смерти. Мы должны думать об этом вопросе не меньше, чем люди думают о любви.
Это несомненно так. И вы сейчас увидите почему.
Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти.
П. В. Анненков пишет, что «лицезрение смерти ему было невыносимо».
Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда однажды он близко столкнулся со смертью. Умерла сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был дружен. Уже на первой панихиде Гоголь почувствовал себя ужасно. Он был потрясен и поражен этой смертью. Сам факт смерти так на него подействовал, что это заметили все окружающие.
Доктор Тарасенков пишет:
«Смерть ее не столько поразила мужа и родных, как поразила Гоголя… Он, может быть, впервые здесь видел смерть лицом к лицу…»
Видимо, это замечание современника Гоголя было правильным. Нет сомнения, Гоголь видел смерть, но здесь он, быть может, впервые по-настоящему задумался о ней. И тогда, как он сам признался своему духовнику, на него «напал страх смерти».
Уже на первой панихиде, вглядываясь в лицо умершей, он (по словам А. С. Хомякова) сказал: «Все для меня кончено».
И действительно, с этого дня Гоголь был в постоянном расстройстве. И, вероятно, думая о смерти и о прожитой жизни, он однажды сказал: «Все чушь, все ерунда…»
Он заболел. По словам П. А. Кулиша, он заболел «той самой болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него нашел страх смерти…»
Через несколько недель Гоголь умер.
Мы описывали его конец. Это была смерть без борьбы, это была безропотная смерть, стремление к смерти. Страх присутствовал в чувствах. Он ускорял и приближал развязку. Он действовал в той губительной степени, какая была замечена окружающими.
Но ведь подобный страх испытывал не один только Гоголь. Его испытывают многие люди, большинство.
Об этом страхе и даже ужасе перед фактом смерти нам подряд сообщают — история, мемуары, письма.
Потемкин — фаворит Екатерины — буквально «выл от страха смерти». Современники писали о нем: «Малодушный страх и ужас смерти обуял его, он стал хандрить и тосковать».
Императрица Елизавета Петровна «ужаснулась смертью» и даже стала пить, чтобы рассеять страшные мысли об этом.
Царь Михаил Федорович, задумавшись о конце, «впал в неподвижность» и умер «от многого сиденья, холодного питья и меланхолии, сиречь кручины».
Смерть ужасала людей. И люди высокого ума и высокого таланта не в меньшей степени поддавались этому страху.
Сестра композитора Глинки пишет:
«Он так боялся смерти, что до смешного ограждал себя от всяких малостей…»
Тоска раздирала Мопассана, когда он писал:
«Что бы мы ни делали, все равно придется умирать. Во что бы мы ни верили, к чему бы ни стремились, мы все-таки должны умереть. Чувствуешь себя раздавленным тяжестью сознания…»
Л. Н. Толстой, ужасаясь, писал:
«Сорок лет работы, муки и успехов для того, чтобы понять, что ничто не существует и от меня останутся только гниль да черви…»
Толстой впоследствии изменил свое отношение к смерти, и эта запись его нам тем более интересна, хотя бы для сравнения, которое мы сделаем ниже.
Устрашенный смертью, Блок писал, желая, должно быть, скорей увидеть финал:
Итак, мы видим, что страх в непомерной степени присутствует при столкновении со смертью, даже при мысли о ней.
Причем мы видим, что этот страх обескураживает людей, делает их покорными, робкими, беспомощными. Он обезоруживает и делает их еще более податливыми смерти.
Как сказано у Шекспира:
Это есть точные и верные слова. Страх лишает возможности бороться. Он ускоряет гибель. Быстрей, стремительней ведет к концу.
Заставая же нас врасплох или в болезненном состоянии, страх тем более беспощаден. Именно он более, чем что другое, «влечет нас к смерти».
Это отлично знают люди, которые были на войне. Я помню (в ту войну) солдаты, усмехаясь, говорили: «Пуля найдет труса». И это в самом деле так. Ибо устрашенный человек поступает неразумно, бестолково. Он тычется, как слепой, без учета обстановки. Страх парализует его, лишает гибкости, сопротивления. Такой человек делается физически слабым, беспомощным, суетливым. И тогда пуля скорей находит его.
И это в одинаковой мере относится и к условиям обычной, мирной жизни. Устрашенные, трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой.
Значит, и в этих случаях, так сказать, «в норме», разум должен прийти на помощь. Он должен уничтожить страх.
Да, но как это делается? Легко сказать: не надо бояться смерти. Извольте уговорить человека, что смерть не так страшна. Не поверит. Поднимет на смех. И будет, пожалуй, еще больше страшиться своего конца.
Какой же путь находит разум для того, чтобы уничтожить страх, для того, чтобы не страшиться смерти? А он находит его. Мы убеждаемся в этом на многочисленных примерах абсолютного бесстрашия, удивительного мужества и на тех примерах, которые говорят нам о презрительном отношении к смерти, пренебрежении к ней.
Здесь нет нужды вспоминать прошлое. Мы видим это на многих примерах наших дней.
Можно вспомнить хотя бы комсомольца Александра Матросова, который своим телом прикрыл вражеский пулемет. Он сделал это сознательно. Он пренебрег собой. Страх перед смертью исчез, когда возникло желание помочь товарищам, спасти их, добиться победы.
Один офицер Красной Армии рассказал мне не менее поразительный случай, который произошел в этом году.
В землянке, в блиндаже, находилось двенадцать офицеров и два телефониста. Один из офицеров, вытаскивая из кармана платок, случайно выронил на пол ручную гранату. Граната зашипела. Дверь землянки была закрыта. И не имелось возможности тотчас выбросить эту гранату.
Как поступил этот советский офицер? Только несколько секунд оставалось ему для размышления. Он упал на эту гранату. Прикрыл ее своим животом. И она, взорвавшись, буквально уничтожила этого офицера. Причем ни один человек в землянке больше не пострадал. Весь удар и все осколки офицер принял на себя.
Он спас товарищей. Страх перед смертью был ничтожен в сравнении с тем чувством, которое было в сердце этого замечательного человека.
Нет сомнения, таких фактов можно найти немало из истории прошлого и из истории наших дней.
Эти факты говорят о том, что разум, идея и высокие чувства нередко побеждают страх.
Но ведь мы, говоря о страхе смерти, имели главным образом в виду не исключительные случаи, не те случаи, когда смерть была необходимой для достижения высокой цели. Мы имели в виду не героическую смерть, а смерть обычную, так сказать повседневную.
Среди случаев этой обычной смерти мы хотели увидеть бесстрашие к ней. По этим примерам мы хотели узнать, как поступал разум этих людей для того, чтобы уничтожить страх.
Такие примеры бесстрашного и мужественного отношения к смерти мы находим в большом количестве. Ломоносов писал перед смертью:
«Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют…»
Своему другу по Академии (Штелину) он сказал:
«Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только, что не мог я совершить все то, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии».
Мужественно и просто умирал Суворов. Уже на смертном ложе он, улыбнувшись, спросил Державина — какую эпитафию тот напишет на его могиле.
Наполеоновский министр, знаменитый Талейран, один из умнейших (как мне кажется) людей, писал:
«Я понемногу слабею и знаю, как все это может кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других глупостей. Не время ли кончить».
Л. Н. Толстой (по словам Гусева) сказал:
«Почти чувствую возможность радостно умереть».
Репин за несколько месяцев до смерти писал (К. И. Чуковскому):
«Пожалуйста не думайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел… Прежде всего, я не бросил искусства. Все мои последние мысли о нем… Больше полгода я работаю над картиной "Гопак". Такая досада: не удастся кончить…»
Далее Репин пишет:
«В моем саду никаких реформ. Скоро буду копать могилу. Жаль — собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных сил, да и не знаю, разрешат ли…»
Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало.
Однако как же поступали эти люди, чтоб уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия?
Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса.
Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтоб выпить кружку молока.
В сенях я увидел крест. Обычный березовый крест, который устанавливается на могилах. Видимо, кто-то умер в этой избе. И вот приготовлен крест для покойника.
Я было хотел уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени. И вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой и в розовых портках, предложил мне войти в дом.
Выпив кружку молока, я спросил хозяина — кто именно здесь умер и где покойник.
Хозяин усмехнулся в бороду и сказал:
— Никто не умирал. И нет покойника. Что касается креста, то это я для себя его приготовил.
Вид у хозяина был далеко не предсмертный. Глаза его светились весело. Походка была твердая. И даже на пухлых щеках его играл румянец.
Посмеявшись, я спросил, зачем понадобилась ему такая торопливость.
Снова усмехнувшись, хозяин ответил:
— Так. Был исключительный момент. Но потом он миновал.
Когда, попрощавшись, я снова вышел в сени, хозяин, похлопав ладонью по кресту, сказал:
— А знаешь, милый человек, когда сей крест мною приготовлен? Семнадцать лет назад.
— Тогда хворал, что ли?
— Зачем хворал. Маленько испужался смерти. И сделал себе крест в напоминание. И можете себе представить — привык к нему.
— И страха теперь нет?
— И страха нет. И смерти нет. В другой раз интересуюсь умереть — нет, не идет, проклятая. В свою очередь, должно быть, испужалась моего характера…
И вот, вспоминая эту историйку, я с точностью понял, в чем заключалась борьба этого человека со своим страхом.
Она заключалась в привычке. В привычке относиться к смерти как к чему-то обычному, естественному, обязательному. Мысль о смерти перестала быть случайной, неожиданной. Привычка к этой мысли уничтожила страх.
Мы говорили о том, как Гоголя ужаснула смерть. Окружающие увидели эту реакцию. По словам В. С. Аксаковой, окружающие, желая переменить строй мыслей Гоголя, заговорили «о возможности с малых лет воспитать так ребенка, чтоб смерть не была для него нечаянностью».
Вот это отсутствие «нечаянности», вот это и есть основной мотив борьбы со страхом.
Нет сомнения, люди, столь спокойно относящиеся к смерти, заблаговременно о ней думали. Мысль о ней не явилась для них неожиданной.
Они видели в смерти естественное событие, закономерность все время обновляющейся жизни. Они привыкли думать о ней как об обычном конце. И поэтому умирали так, как должен умирать человек, а не животное, — без растерянности, без паники, с деловым спокойствием. И это придавало их жизни некую величавость, даже торжественность.
Такое разумное отношение к смерти, быть может, даже удлиняло жизнь этих людей, ибо в их жизни отсутствовал основной противник — животный, не всегда осознанный страх.
Привычка думать о смерти как о чем-то обычном, естественном уничтожает страх. Однако эта привычка может создать некоторые даже крайности, пожалуй, ненужные в этом деле.
Мы находим примеры слишком уж спокойного и даже отчасти любовного, нежного отношения к смерти. Это уж, я бы сказал, совершенно ни к чему.
Случаи такого крайнего отношения не лишены, впрочем, комичности и хотя бы по этой причине допустимы в человеческой жизни.
Известный библиотекарь Эрмитажа (конец XVIII ст.) И. Ф. Лужков, по словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Он бесплатно рыл могилы для бедных. До страсти любил писать эпитафии. И проводил на кладбище иной раз целые дни.
Не довольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем. И окна его домика выходили на кладбище, как иной раз выходят в сад.
Лужкову принадлежит нижеследующая эпитафия, высеченная на надгробной плите одного родственника:
«Паша, где ты? — Здеся. — А Ваня? — Подалее немного. — А Катя? — Осталась в суетах».
Таким же отношением к жизни — как к суете, ненужной и, в сущности, рядом с величием смерти лишней — прославился еще один человек. Это был отставной вице-губернатор Шевелев (40-е годы прошлого столетия).
Тот специально узнавал у гробовщиков, где имеются покойники, и, прихватив с собой подушку, шел по адресам. И там, где ему понравилось, он с разрешения хозяев оставался на два-три дня. Причем принимал самое деятельное участие во всей суете. Обмывал покойников, снаряжал их в последний путь и по ночам читал над ними то, что полагалось.
Лично для себя он задолго до смерти заказал гроб с какой-то особой прорезью для глаз. Конечно, такая прорезь особых выгод покойнику не давала. Сквозь эту прорезь покойник мог видеть самую малость. А его самого уже вовсе не было видать. Поэтому Шевелев вовремя спохватился. И велел увеличить прорезь до размеров своего лица. Причем куплено было какое-то «толстое морское стекло», каковое и было приспособлено к гробу. Получилось весьма мило. Сквозь стекло можно было любоваться покойником, не поднимая крышку гроба.
Однако смерть не торопилась приходить за этим любителем захоронений. Гроб несколько лет простоял в его кабинете. И многие гости, «любопытствуя, влезали в него», чтоб посмотреть, какая панорама раскрывается перед ними сквозь стекло окошечка.
Не без улыбок, вероятно, хоронили этого господина. Должно быть, сквозь стекло забавно было видеть серьезное, вдумчивое лицо покойника, сказавшего новое слово в деле захоронения людей, в деле спасения их от мирской суеты.
Вот это отношение к жизни как к какой-то напрасной суете — вот это и есть та крайняя степень, какая весьма характерна для людей, слишком привыкших к мыслям о смерти. Должно быть, и в этом деле требуется некоторая осторожность и разумная мера.
Впрочем, возможно, что возвышенный похоронный стиль требует упоминания, что жизнь — суета. Возможно, что это говорится просто так, для красивого словца и, так сказать, для поднятия морального духа среди покойников.
Видимо, это так, судя по эпитафии, каковая до последнего времени красовалась на Смоленском кладбище:
Подлец какой! Уговаривает, что отдых здесь, а самого с поверхности земли небось калачами сюда не заманишь.
Видимо, все это пишется просто так, по традиции, по требованию сердца к возвышенным словам.
Так или иначе, и сквозь эти крайности видна некая разумность в отношении к смерти — привычка относиться к ней как к закономерному, естественному концу.
XII. Разум побеждает страдания
Чем свод небес прозрачней и ясней,
Тем кажутся нам безобразней тучи,
Летящие по синеве его…
Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди!
Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути.
Эти страдания происходят и от физических причин, и от причин, лежащих в глубинах психики, и от причин внешних, которые иной раз с немалой силой влияют на ту сложную сумму дел и поступков, какая именуется человеческой жизнью.
Эти страдания нередко сопровождаются страхом.
Страх довершает картину жизни.
Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти.
Однако разум побеждает страх. Разум находит пути к счастью. Разум создает науку — науку достойной и справедливой человеческой жизни.
Вооруженные этой наукой, люди научились и учатся ломать препятствия на своих путях, учатся создавать иные, более лучшие, более достойные условия для своего существования.
И, борясь на этих путях, люди шаг за шагом оттесняют страхи, какие непрерывно владеют ими.
Так, например, в нашей социалистической стране люди избавились от основного страха, связанного с поисками работы, а стало быть, и питания. И в этом отношении у нас нет людей, которые страшились бы за свою судьбу. (Я, конечно, не беру в расчет военные годы, когда людям пришлось испытывать неслыханные страдания и в том числе некоторым людям — голод.)
Разум научился освобождать людей от многих физических страданий. Наука борется с этими страданиями с той энергией, которая достойна удивления, радости и наших надежд.
Наука изучила многие из этих страданий. Она изучила механизмы этих страданий. И к многим из этих механизмов были найдены ключи.
Однако еще не полностью подобраны ключи к тем сложным интимным механизмам, какие возникают в глубинах нашей психики и действуют на нас, как мы видели, в столь непомерной степени.
Не без робости я попробовал подобрать эти ключи. Ну что ж, если люди скажут, что эти ключи не подходят к их, быть может, изощренным механизмам, то я и примирюсь на этом, уйду, как слесарь, который, поковыряв замок, так и не открыл его в силу своей малой квалификации или по причине вчерашней выпивки.
В общем — не знаю, как для других дверей, а для моих дверей ключи подходят.
Разум избавил меня от многих страданий.
— Кто с разумом рассматривает природу, — сказал один философ, — на того и природа взирает разумно.
Иные люди, не зная, откуда берутся страдания, согласны примириться с ними. И они мирятся, ссылаясь на бога и провидение.
И даже, быть может в силу своих характеров, пробуют гордиться этим. Мы знаем, как страдание было возвышено в искусстве, в литературе, в живописи.
Мы помним, какие возвышенные слова произносили литераторы, говоря о том, что страдания облагораживают людей, очищают их, поднимают на высшую ступень добродетели.
Печальное и трагикомическое зрелище — видеть таких страдальцев, кои вместо борьбы предлагают людям кичиться болячками.
Должно быть, месяца за два до своей смерти Алексей Максимович Горький прислал мне удивительное письмо.
Это письмо я называю удивительным, потому что это необыкновенно мужественное письмо о страдании. И написано оно Горьким, когда страдания его были велики.
Вот что писал Горький:
«…Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если бы Вы дали в такой же форме[11] книгу на тему о страдании! Никогда и никто еще не решался осмеять страдание, которое для множества людей было и остается любимой их профессией. Никогда еще и ни у кого страдание не вызывало чувства брезгливости.
Освященное религией "страдающего бога", оно играло в истории роль "первой скрипки", лейтмотива основной мелодии жизни.
Но в то время, когда "простые люди" боролись против его засилия, хотя бы тем, что заставляли страдать друг друга, тем, что бежали от него в пустыни, в монастыри, в "чужие края", литераторы — прозаики и стихотворцы — углубляли, расширяли его "универсализм", невзирая на то, что даже самому страдающему богу страдание опротивело и он взмолился: "Отче, пронеси мимо меня чашу сию".
Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить…
Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович. Высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру.
Вы можете сделать это. Вы отлично сделали бы эту работу. Мне кажется, что вы для нее и созданы. К ней и — осторожно — идете, слишком осторожно, пожалуй!..»
И вот, перечитывая этот отрывок письма Горького, я вновь поражаюсь его словам. И тому, что Горький сумел найти эти слова, страдая сам. И тому, что он с такой точностью понял, чем я был тогда озабочен. Именно этими вопросами я тогда был занят, собирая первые материалы для этой моей книги, первоначально названной «Ключами счастья».
Я написал было ответ, однако не послал его, так как я узнал, что Горькому хуже. Я не хотел тревожить его, больного.
В этом ответе я писал, что именно такая книга у меня намечена. Однако, писал я, в этой книге я бы хотел не только высмеять страдальцев, но и найти хотя бы некоторые причины страданий, для того чтоб понять, откуда возникают эти страдания.
Первый экземпляр моей книги я обещал прислать Горькому.
Как больно и как печально, что Горького нет. Я мысленно посвящаю ему эту мою книгу.
Разум побеждает страдания. Но «страдальцы» отнюдь не хотят сдавать своих позиций.
Именно они объявили горе разуму и стали опасаться его, решив, что все страдания происходят от него и ни от чего больше.
Чем же, однако, разум так не угодил, чем рассердил и разгневал страдальцев?
Некоторые причины мы нашли, по которым разум и даже будущее его подверглось сомнению.
Мы развенчали эти сомнения по мере своих слабых сил. Однако, быть может, мы что-нибудь еще пропустили? Может быть, мы не учли что-нибудь такое, исключительное, из-за чего разум можно бесспорно признать неполезным или виновным в людских страданиях?
Как будто бы нет. Я мысленно просматриваю все, что относится к людям, все, что составляет их жизнь, — далекие путешествия, свидания друзей, работу, любовные встречи, искусство поваров и кухарок, беседы в жактах, речи защитников и прокуроров, спектакли в театрах, хлопоты в учреждениях…
Нет, решительно нет! Разум не приносит страданий. В любом из этих дел разум не является лишним. Напротив.
Наоборот. Боже мой! Какие счастливые надежды зажглись бы в наших сердцах, если б высокий разум присутствовал на каждом шагу, при каждой малости, при каждом вздохе.
Может быть, впрочем, имеется подозрение, что любовные мотивы при наличии высокого разума звучат заглушен-но и тем самым приносят людям меланхолию и печаль?
Нет. Как будто бы нет. Все нормально.
Что же тогда остается? Потеря такой, что ли, птичьей легкости, потеря непосредственности барана? Но это уж не настолько приносит страдания людям, чтоб отказаться от разума.
Извольте выслушать одну небольшую историю, по которой вы увидите, что и в этой области разум, в конечном счете, одерживает верх.
Однажды Флоберу сделали операцию. У него был какой-то нарыв на щеке.
По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной (Луизе Колэ) меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди — подвергаются непрестанному процессу порчи и гниения.
Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет:
«Как будто недостаточно всей этой гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти… Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого вида и вкуса — все это дает необычайно заманчивую картину человеческой особи. И подумать только, что это любят!..»
Нет, конечно, так нельзя было писать. Тем более женщине, которую любишь. Тут надо было обуздать свое высокое сознание. Не умничать. Попридержать себя. В крайнем случае извиниться, если разум увлек тебя в такие дали и ты произнес лишнее.
Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась.
Мы не знаем, в каких именно словах возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные.
Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины:
«Раньше я казался вам возвышенным — теперь кажусь жалким… Что же я сделал, боже мой, что? Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами, как с женщиной последнего сорта… Я не понимаю ваших обид и ссор…»
Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной. Так что в этом отношении разум восторжествовал и высокое сознание указало, как надлежало поступить.
Дама вновь расцвела и продолжала считать Флобера возвышенным. И маленькая любовная история, в которой присутствовал ум и отсутствовала непосредственность, была забыта.
Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите — даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий.
«Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть, чтобы истребить».
Так сказал Горький. И я целиком разделяю его мнение. Чтоб истребить страдание, существует наука. Она сделала немало. Но впереди предстоит сделать еще больше. Огромный и светлый путь лежит впереди.
Быть может, найдены будут многие и многие ключи, открывающие самые тайные механизмы страданий. Быть может, найдены будут еще и иные причины страданий, те, о которых мы еще не знаем.
Быть может, даже будет раскрыто то, что сейчас весьма занимает науку, — вопросы излучения.
Только лишь робкие шаги сделала наука в этой области. И нет сомнения, разум поднимет завесу над тем, что скрыто от нас еще в большей степени, чем было скрыто в тайных механизмах больших полушарий.
Быть может, и в этой области найдены будут некоторые причины страданий, от которых можно освободиться.
Все живое излучает. Вот что без слишком большой уверенности найдено современной наукой. Все живые ткани способны излучать энергию, близкую по своим свойствам электричеству.
Были найдены разного рода лучи и разного рода токи.
Первоначально возникло мнение, что эти лучи возникают только лишь в силу химической реакции, которая происходит в крови. Так, например, было найдено, что кровь лягушки выделяет ультрафиолетовые лучи.
Подобное излучение было обнаружено и у животных, и у человека.
Было замечено, что кровь больных (скажем, больных саркомой, раком) не излучает. Старость и дряхлость излучает в малой степени.
Затем было найдено, что излучает не только кровь, излучают — мышцы, мозг, кожа, нервы…
Было найдено, что мозг излучает электромагнитные волны. И эти волны вполне улавливаются антенной. И что эти весьма ощутимые волны создаются движением электронов, летящих со скоростью света.
Оказалось, что сложный мозг человека, имеющий бесчисленное количество клеток (свыше 12 миллиардов), способен принимать и удерживать огромное количество электронов. Во всяком случае, оказалось, что мозг является, видимо, центром сложной электрической цепи.
Было найдено, что расстроенная мозговая деятельность проявляется особой формой и особой частотой волн. Иными словами — величина и напряжение тока меняется в зависимости от состояния мозга.
Мозг истериков, невротиков, эпилептиков в иных случаях создает токи, во много раз превышающие норму. Это в одинаковой мере относится и к некоторым видам психических болезней.
Лучи, возникающие в тканях живых организмов, названы были митогенетическими лучами. Это открытие имело обширную литературу, однако судьба этого открытия мне не полностью известна — я слышал, что эти лучи будто бы взяты под сомнение. Не был доказан характер (и происхождение) этих весьма слабых, малоинтенсивных лучей.
Однако судьба этого открытия не меняет дела. Наличие в нашем организме токов и всякого рода излучений не оставляет сомнения. Еще значительно раньше этого открытия было известно, что некоторые животные, в особенности глубоководные, обладают свойством излучения. Известно, например, что морской скат оглушает свою добычу весьма сильным электрическим ударом (до 80 вольт).
Было известно, что и люди являются носителями некой электрической энергии.
Знаменитый художник Ван Гог в своем письме пишет о Гогене:
«Зачастую наши беседы оживлялись исключительно сильным электрическим флюидом. Иногда же мы кончали беседу с усталыми головами, как электрические батареи после разрядки».
Видимо, открытие биотоков и всякого рода излучений живого организма не является чем-то новым.
Эти излучения, эти токи есть, видимо, нечто бесспорное, неотделимое от всего, что живет.
Это свойство живых тканей не противоречит общему принципу, найденному и в отношении всех тел. Было найдено, что в основе строения атомов лежит сложный электрический заряд.
Причем это относится к атомам[12] любого вещества.
Стало быть, вещество является носителем сложных электрических зарядов[13].
И, стало быть, электрический заряд есть в каком-то счете основной состав материи, это есть, видимо, первичный материал, из которого создан мир.
Наука не вполне знает, что такое электричество и сколько имеется видов этой энергии.
Однако многие соотношения в этой области известны.
Распад или расщепление атома — это превращение материи в энергию.
Одно из самых элементарных соотношений — это то, что электрический ток любого порядка вызывает вокруг провода, по которому он идет, магнитные силы. И всякое изменение электрического поля сопровождается возникновением магнитных полей.
И принцип этот в одинаковой мере относится к токам любого свойства.
Стало быть, любые излучения есть электромагнитные излучения.
Это относится и к свету, и к теплу, и к радио, и, видимо, к биотокам, ибо все виды этой энергии возникают с помощью электрических волн.
Эти электромагнитные волны распространяются лучеобразно, подобно тому как на поверхности воды распространяются волны от упавшего камня.
Если это так, то должно существовать и влияние электромагнитных волн на окружающую материю.
Стало быть, мозг человека, находящийся в сложной электрической цепи и в сложных электрических отношениях, несомненно, испытывает разнообразнейшие влияния.
Можно смело сказать, что мозг не является чем-то обособленным, каким-то единым изолированным хозяйством. Он не огражден от всякого рода влияний. Он не замкнут в себе. Это противоречило бы элементарным принципам.
Мы знаем, что деятельность больших полушарий характеризуется двумя основными процессами — возбуждением и торможением.
Стало быть, если говорить о каких-либо влияниях извне, то эти влияния в первую очередь отнесутся именно к этим процессам. И если действительно аппарат нашего мозга не замкнут в себе, то влияния извне могут сказаться на том или ином изменении этих процессов. Причем эти изменения, видимо, могут последовать как в соответствии с внутренними импульсами, так и вопреки им.
Во всяком случае, если допустить, что влияние извне имеется хотя бы в самой малой степени, то процессы возбуждения и торможения не протекают только лишь от единых внутренних причин, замкнутых в человеческом теле.
Другой вопрос — какой силы эти влияния и каково происхождение этих влияний.
Такого рода вопрос наука решить пока не сумела. И далее предположений, иной раз весьма сомнительных, не пошла.
Однако и в нашу задачу не входит решение этого вопроса. В нашу задачу входит только лишь сделать предположение о наличии этих влияний и возможных последствиях этого на деятельность больших полушарий мозга.
Мне кажется, что сомнений нет — влияние извне имеется. Известен опыт, произведенный А. Г. Гурвичем. Ученый доказал, что две луковицы, посаженные рядом, влияют друг на друга. Короткие ультрафиолетовые лучи, возникающие в одной луковице, способствуют и вызывают усиленное деление живой клетки в соседней луковице.
Во всяком случае, если эти луковицы отделить друг от друга пластинкой, не пропускающей ультрафиолетовые лучи, то рост этих луковиц замедляется и значительно ослабляется процесс деления клетки. Стало быть, эти лучи являются ближайшей причиной клеточного деления. И, стало быть, такого рода влияние извне на живые ткани бесспорно.
Видимо, бесспорно, что все живые существа в той или иной степени оказывают влияние друг на друга. Видимо, не только мозг находится в сложной цепи электрических отношений, видимо, весь организм животного не есть нечто локализованное в своем едином хозяйстве.
Целый ряд такого рода влияний извне мы знаем на практике жизни. Мы знаем хотя бы, что крайняя степень неврастении, психической угнетенности неблагоприятно действует на окружающих. Окружающие, в свою очередь, начинают в какой-то мере испытывать подобную угнетенность. Иной раз даже незнакомый человек, вошедший в комнату, влияет неблагоприятно — окружающие начинают чувствовать какую-то «неловкость», скованность, начинают чувствовать, что им «не по себе».
Такого рода примеры подтверждают, что влияния извне имеются. И что влияния эти в первую очередь сказываются на процессах торможения, происходящих в мозгу.
Если это так, если существует влияние, если мозг человека улавливает излучения, возникающие извне, то как отражаются эти внешние колебания на человеческой психике? Какое значение имеет этот внешний «фон» для поведения человека?
Нам кажется, что не следует преуменьшать значения этих влияний. В какой бы малой степени они ни были, они играют роль в психической жизни.
Допустим, что мозг человека начал испытывать весьма сильное влияние, и оно выразилось в усиленном торможении. Не зная, почему возникла эта заторможенность, человек непременно постарается мотивировать эту свою угнетенность какой-либо материальной или нравственной причиной.
На здоровой психике человека такая случайная, иной раз фальшивая мотивировка не отразится сколько-нибудь существенно. Заторможенность уйдет, и мотивировка забудется. Однако для психики нездоровой (в особенности при случаях психоневроза) такая неверная мотивировка весьма существенна, ибо причина угнетенности будет разыскиваться среди тех «больных» предметов, среди тех объектов устрашения, с какими произошли «столкновения». Тем самым эти «больные» предметы еще в большей степени будут утверждены в психике как предметы опасные. Иными словами, ложные доказательства опасности утвердятся.
Нет сомнения, эти вопросы весьма нелегко поддаются анализу, и предположения здесь следует делать весьма осмотрительно, однако принцип соотношений уже можно увидеть.
Все эти вопросы — вопросы дальнейших поисков науки.
Что касается силы внешних влияний и происхождения их, то эти вопросы тем более не поддаются еще учету.
В науке не раз высказывались предположения о космических влияниях, о влияниях солнца и звезд на органическую жизнь Земли. Вопросы эти древнего происхождения. И наука прошлого не раз склонялась к решениям, по которым организм животного рассматривался как микрокосмос.
Во всяком случае, современная наука вовсе не отвергает значение тех излучений и той энергии, какие получает извне наша планета.
Были открыты так называемые космические лучи. Они представляют собой поток огромной силы и состоят из электрических зарядов, которые бомбардируют нашу Землю.
Падая на границу нашей атмосферы, они способны деформироваться, способны превращаться в иные силы[14].
Энергия этих электрических зарядов чрезвычайно велика, однако, падая на нашу Землю, заряды эти весьма ослабляются в своей энергии.
Во всяком случае, наука ведет огромную работу по изучению интенсивности этих излучений. В свое время этим был занят погибший при аварии стратостата Т. Усыскин. Им были проделаны измерения до 22 километров. Установлено, что на высоте 5 километров интенсивность излучения в 6 раз превышает интенсивность на уровне моря. На высоте же 10 километров эта интенсивность лучей в 40 раз больше, чем на уровне моря.
Стало быть, энергия лучей, проходящих атмосферу, чрезвычайно снижается. И, видимо, влияние этих лучей не столь существенно, как иной раз предполагается теми, кто хочет снизить значение человеческой жизни и человеческого разума.
Во всяком случае, будущая наука решит вопросы о силе этого влияния и о значении этого влияния на психику и поведение человека. И если окажется, что влияние это сколько-нибудь имеет значение и тем самым люди испытывают некоторые страдания, о которых они не знают, разум человека и в этой области принесет освобождение.
Нейтральный атом (ядро, заряженное положительно, и окружающие это ядро отрицательно заряженные электроны) способен делиться на две заряженные частицы. Процесс этого деления называется ионизацией.
XIII. Разум побеждает старость
Но старость, черт ее дери, с котомкой и клюкой
Стучится, черт ее дери, костлявою рукой.
Однажды я шел с моим другом по улице, беседуя с ним о старости.
Мой друг склонялся к тому, что старость не так уж отвратительна, как многие думают. Он напомнил мне слова Л. Толстого о старости: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна».
Я спорил с моим другом. В то время я не без страха взирал на людей, которые гаснут, дряхлеют, превращаются в жалкую рухлядь.
Я спорил с моим другом, доказывая ему, что старость есть нечто ужасное, даже ужаснее, нежели смерть. Это есть потеря и ослабление чувств, желаний, намерений. Что может быть хуже?
У меня тогда были неверные мысли о старости, и вот почему я так спорил.
Когда мы, беседуя, свернули с Невского на Фонтанку, произошел несчастный случай. Мой друг оступился, упал, и проходящий грузовик слегка задел его. Ранение было не слишком велико. Оно выразилось в царапинах щеки и уха. Однако верхняя губа оказалась изрядно рассеченной.
Я вызвал карету скорой помощи и отвез моего стонущего друга в больницу. И там тотчас его положили на стол, чтобы зашить рассеченную губу.
Я присутствовал при этой операции, крепко сжимая руку своего товарища, который страшно нервничал и стонал.
Перед тем как приступить к операции, хирург (молодая женщина) обратился с вопросом ко мне, так как у пострадавшего необычайно вспухла губа и он не смог бы ответить. Женщина-хирург спросила:
— Сколько лет вашему знакомому?
Я не знал. Пожал плечами. Сказал:
— Вероятно, ему лет за сорок. Однако какое это имеет значение? Скорей делайте операцию — видите, в каком он состоянии.
Женщина-хирург, тоже пожав плечами, сказала:
— Это имеет не маленькое значение. Если ему меньше сорока-пятидесяти лет, я сделаю ему пластическую операцию. А если пятьдесят, так я… так зашью… Нет, все будет хорошо и как полагается, но уже, конечно… не то что… как бывает при пластической операции.
Тут пострадавший, услышав эти слова, застонал и заметался на столе. Рассеченная его губа не позволила ему вступить в пререкания с врачом. Подняв руку, он выкинул четыре пальца и, потрясая ими, как бы говорил: только сорок, только, черт возьми, сорок, делайте пластическую операцию.
Слегка поломавшись, женщина-врач приступила к пластической операции.
Нет, губа была зашита порядочно, шрам был невелик, но моральное потрясение еще долго сказывалось на моем друге. Он позабыл о том, что его задела машина, его потрясение было в ином — он не мог позабыть слова хирурга о пятидесятилетних людях, которым можно зашивать губы так, как иной раз зашивают матрацы, стегая грубой ниткой через край.
Вот эта душевная боль моего стареющего друга осталась у него надолго. Эта боль осталась и у меня. И о старости я стал думать еще хуже, чем я до сих пор думал.
И решил с ней бороться.
Нет, я никогда не мечтал жить долго, никогда не хотел жить до ста лет. Я не видел в этом прелести или удовольствия.
Но я бы хотел жить так, чтоб не особенно стареть, чтоб не знать жалкой слабости, дряхлости, уныния. Я бы хотел до конца своих дней быть сравнительно молодым. То есть таким, который не потерял бы в битвах с жизнью некоторую свежесть своих чувств. Вот это примирило бы меня со старостью. Я не стал бы так гнушаться этих предстоящих лет. Я бы ожидал мою старость не столь озлобленно и не с таким отвращением, какое было в моем сердце.
Но как это сделать? — думал я. — Как поступать мне, чтобы объятия старости не были бы для меня слишком чувствительны? Что нужно сделать для того, чтобы в старости чувствовать себя здоровым, цветущим, сравнительно молодым, если не юным?
Неужели человеческий разум не придет на помощь в этом весьма законном желании?
И вот тогда я стал присматриваться ко всем старикам. Из них я выбирал себе таких, у которых были яркие щеки, твердая походка, гладкая кожа, крепкие руки, гибкие ноги и молодые, сияющие глаза.
Я не столь часто находил таких стариков, но, когда находил, не выпускал их из вида. Я следил за ними, присматривался к их жизни, к их поведению, к их привычкам.
Я хотел, наблюдая за ними, вывести какое-нибудь правило, по которому не угасает молодость.
Я не мог вывести такого правила, ибо каждый из этих стариков жил по-разному, по-своему, не придерживаясь каких-либо норм.
Я стал расспрашивать многих цветущих стариков об их секретах. И они охотно мне отвечали.
Впрочем, каждый из них говорил по-разному, каждый имел свои особенности и свои мотивировки, по которым он считал, что его жизнь продолжает цвести.
Один старик, которому было 70 лет, так ответил мне:
— Я никогда не курил. Табак изнашивает наши ткани. И вот, быть может, причина, отчего я молод.
Другой старик, которому было не меньше лет, сказал:
— Табак не влиял на меня в дурную сторону. Но я всегда занимался спортом, физкультурой. Спал при открытом окне. Вот что, вероятно, подействовало на меня благоприятно.
Третий замечательный и даже великолепный старик, юношески бодрый и свежий (а это был Бернард Шоу), ответил мне на одном обеде, который давали в его честь. Усмехаясь, писатель сказал:
— Вот уже тридцать пять лет я не ем мясо. Не найдете ли вы в этом обстоятельстве причины моей молодости?
Нет, в этом обстоятельстве я не нашел причину молодости 75-летнего старика.
Я тем более не нашел этой причины, ибо рядом со мной сидел другой 70-летний старик (а это был Ф. Кон), который сказал:
— Я всю жизнь ем мясо. И тем не менее здоров и бодр. Причины в ином — я работаю, работа меня увлекает, я точен и аккуратен в работе, как часы. И вот, быть может, тот секрет, который вы ищете.
Еще один старик, весьма выдающийся деятель искусства М., сказал:
— Причина моей молодости — работа, вдохновение. Вот откуда я черпаю мою сравнительную свежесть. Но зато когда работа закончена — я выдуваюсь, как резиновая свинка, которой прокололи бок.
Еще один замечательный старик (а это был народный артист Ю.) сказал:
— Видите ли, в чем дело, — я много ем, много работаю, я все делаю много, я ни в чем себя не ограничиваю. Не запрещаю себе ничего из того, что мне хочется. И знаю, когда я начну себя ограничивать, когда начну бояться, когда страх проникнет в мое сердце, — тогда я погиб. Тогда и жизнь, и молодость закончатся одновременно.
Мне очень понравился этот ответ. Но это правило было не для меня — я не привык много есть и не привык исполнять все мои желания. И не намерен был изменять своим привычкам. Однако вторую часть ответа я признал справедливой.
Еще один человек, которому было 70 лет, а выглядел он сорокалетним (это был датский писатель М. А. Н.), ответил мне, взглянув на свою молодую жену:
— Я люблю.
Смутившись, жена этого человека сказала:
— Нет, нет, не только это. Мой муж любит свою литературную работу. Он много работает. И вот причина, которую вы ищете.
Еще один цветущий старик, которому на вид было 40, а на самом деле ему было 63 года (это был поэт Ц.), сказал мне, тяжко вздохнув:
— Я молод оттого, что ем помидоры, клюкву и морковь. Но что толку в моей молодости.
И тут, продолжая тяжко вздыхать, поэт рассказал мне маленькую историйку, случившуюся с ним. В него влюбилась молодая девушка — студентка Н. Она однажды осталась у него. И они были счастливы. Наутро, когда поэт вышел в коридор, девушка, сидя перед зеркалом, случайно увидела паспорт, его паспорт, который лежал на столе.
Когда поэт вернулся в комнату, он застал девушку в слезах.
Сквозь рыдания она сказала:
— Боже мой! Я не знала, что вам столько лет. Я бы никогда не пришла к вам. Боже мой, как я низко пала!
Я утешил поэта, сказав, что девушка глупа. И вот почему она так сказала. Однако мое сердце сжалось. Но потом утешилось, когда я подумал, что я ищу молодость вовсе не для любовных встреч. А если они и будут происходить, то паспорт можно будет прятать.
Еще один старик, от которого пахло винным перегаром, сказал мне:
— Только вино поддерживало мои силы. Только вино давало мне бодрость, молодость и, если хотите, юность.
Я внимательно взглянул на этого старика. Нет, это была не молодость и не юность. Разбухшее лицо, красные, слезящиеся глаза и дрожащие руки говорили об ином. Они говорили об эпитафии, которой надлежало бы увековечить скорую кончину старика:
«Здесь покоится жалкое тело, разлученное с жалкой душой».
В общем, я расспрашивал еще многих и многих стариков. И все они отвечали по-разному. Все они находили свои правила, годные им, но, быть может, не совсем пригодные другим людям.
Однако некоторые их правила были полезны для меня, и я ими воспользовался. Тем не менее молодость ускользала от меня даже в мои 30 лет.
И тогда я стал думать о таком правиле, которое надлежало мне найти для своих надобностей, для своей жизни, для своих свойств.
И вот мне показалось, что я нашел это правило и что оно пригодно для меня в высшей степени.
Я имел в виду то, о чем я пишу в этой книге.
Я имел в виду контроль, который я в дальнейшем установил для того, чтобы освободить мой разум и мое тело от низших сил, от их страхов и ужасов, от их действия, каковые выражались в бессмысленной, дикой, ошибочной обороне перед тем, перед чем обороняться не следовало.
И вот в силу этого мой разум и мое тело стали свободными от множества препятствий и бед. И от страданий, какие я покорно сносил, полагая, что это так и должно быть.
И это мне дает надежду, что старость не коснется меня в столь ужасной степени, какую мы иной раз наблюдаем.
Эпилог
Сознание — это такая вещь, которую люди приобретут — хотят они этого или нет.
К. Маркс. Из переписки 1843 г.
И вот моя книга подходит к концу.
Что остается еще сказать? Сказано немало. Остается добавить, как это полагается в финалах, о судьбе героев.
Основной герой — это отчасти я, отчасти та страдающая личность, ради которой и было предпринято мое сочинение.
Обо мне, пожалуй, все сказано, что можно было сказать.
Юношеские мои годы были выкрашены черной краской, меланхолия и тоска сжимали меня в своих объятьях. Образ нищего преследовал меня на каждом шагу. Тигры подходили к моей кровати, даже когда я не спал. Рев этих тигров, удары и выстрелы довершали картину моей печальной жизни.
И куда бы я ни обращал свой смущенный взор — всюду я видел одно и то же.
Гибель ожидала меня в любой момент моей жизни.
Я не захотел погибнуть столь плачевным образом.
Я захотел изменить свою несчастную судьбу.
Я предпринял атаку против тех врагов, каких я обнаружил путем следственного розыска.
Этих врагов оказалось немало.
Среди них один — неосознанный страх — был обращен в бегство вместе со своим коварным оборонным оружием.
Другие мои враги сдались на милость победителя.
Некоторые из них были мной уничтожены. Другие были закованы в кандалы и брошены в свою прежнюю темницу.
Я вышел победителем. Я стал иным после этой битвы. Мало сказать иным — возникла новая жизнь, совершенно непохожая на то, что было раньше.
Временами противник делал попытки вернуть свои позиции. Однако мой разум контролировал все его действия, и эти попытки прекратились.
Значит, победа принадлежит разуму, сознанию?
Но разве этот контроль, постоянная бдительность, настороженный взор не приносят, в свою очередь, огорчений, несчастий, тоски?
Нет. Этот контроль, эта бдительность и настороженность были нужны только лишь во время сражений. В дальнейшем я обходился без этого и жил почти добродушно, как живет большинство.
Но разве от этих битв не пострадало мое ремесло художника? Разве победивший разум не изгнал вместе с врагами то, что мне было дорого, — искусство?
Нет. Напротив. Моя рука стала тверже. И голос звонче. И песни веселей. Я не потерял мое искусство. И тому порукой мои книги за последние двенадцать лет. Тому порукой эта моя книга. Она написана во многих жанрах. И жанр художника здесь вовсе не слабей.
Значит, подобный контроль сознания над низшими силами можно осуществлять без всякого вреда для себя?
Да. Но такой контроль надлежит делать людям, умеющим профессионально мыслить, умеющим анализировать. Такой контроль необходимо произвести только лишь с помощью врача. Я остерегал читателя от дилетантских попыток, приводя в пример первые свои поражения.
Я знаю, что имеется немало противников, кои выступают и будут выступать, понося этот метод контроля да и сам контроль.
Что лежит в этом протесте и какие доводы приводят противники?
Некоторые из них считают, что такой контроль неосуществим. А если и осуществим, то это и не контроль вовсе, а нечто вроде самогипноза.
Это, конечно, вздор. Элементы самогипноза отсутствуют. А если иной раз и возникают, то от них нет вреда.
Иные противники считают, что подобный контроль и весь процесс анализа доступен только лишь немногим. Дескать, это наука для немногих, она, дескать, не массового характера как метод для излечения.
Ну что ж. И болезнь, связанная с психикой, относится весьма к немногим. Эта болезнь также не носит массового характера. И, стало быть, мотив противника неоснователен.
Есть и еще довод у противников. Заторможенность, говорят они, есть в некотором роде биологическая необходимость. Если возникает заторможенность (пусть и патологического характера), то она возникает оттого, что этого требует тот или иной неполноценный организм, неполноценный от рождения. Такая заторможенность есть в некотором роде норма. С ней надлежит примириться. Как и надлежит примириться с тоской и меланхолией. Ибо счастье человечества не в свободной воле и не в свободном разуме. Счастье — в тех тисках, которые ограничивают людей в их желаниях.
Эти мотивы обычно приводят те люди, которые страшатся заглянуть в самих себя, те люди, которых сжимают страхи, сжимают низшие силы, не позволяя им поднять свою голову, чтоб увидеть мир, освещенный ослепительным солнцем.
Именно об этих людях сказано у поэта:
Эти люди согласны провести свои дни при свете ночника, только чтоб не потревожить своих страхов.
Каждая страница моей книги будет вызывать у таких людей лихорадку.
Уже я слышу их визгливые голоса.
Когда-то один человек, неглупый, но крайне скованный, сжатый неосознанным страхом, почти уничтоженный им в его личной жизни, писал мне:
«Не думайте, что я вылечился от неврастении, я только изобрел способ… Неврастения состоит в тоске (главным образом). Значит, надо ассимилировать себе тоску. Вот и весь способ. Я внушил себе, что это состояние неизбежно и что к нему надо привыкнуть».
Вы понимаете, что сказал этот человек? Он сказал, что к тоске нужно привыкнуть. Не изгнать ее, не уничтожить, не исследовать причины этой тоски, а привыкнуть к ней, полюбить ее.
Какие рабские чувства! Какое раболепство перед страхом! Как явственно видны причины протеста!
Такого рода примеры протестующих «страдальцев» еще более убеждают меня, что контроль разума необходим.
В 1936 году я получил одно ужасное письмо. Крестьянин (Воронежской области) из мести зарубил топором семью своего соседа. У соседей была давняя ссора, и вот этот крестьянин, охваченный бешеным чувством ненависти, наконец совершил свое кровавое преступление.
Этого человека, естественно, приговорили к высшей мере. Находясь в камере, этот малограмотный человек читал книги и среди них повстречался и с моей книгой «Возвращенная молодость».
Я не знаю, что понял этот человек, прочитав мою книгу, но одну идею он уразумел. Он понял, что человек может и должен руководить собой.
Пораженный этой простой мыслью, преступник написал мне письмо о том, что, если б он знал об этом, он не совершил бы своего преступления. Но он не знал, что можно управлять своими чувствами.
Это необыкновенное письмо я опубликовал (в 1941 году) в «Ленинградском альманахе». Сейчас у меня нет под рукой этого письма. Но это письмо следовало бы прочитать. Оно написано малограмотной рукой. Но мысли в этом письме так ясны и так страшны, что я сосчитал своей обязанностью навязывать людям свои мысли о необходимости руководить собой, о необходимости управлять своими чувствами.
Не дело, чтобы низшие силы одерживали верх. Должен побеждать разум.
Послесловие
Итак, книга закончена.
Последние строчки этой книги я дописываю 8 октября 1943 года.
Я сижу за столом в своем номере на десятом этаже гостиницы «Москва».
Только что по радио сообщили о разгроме немецких войск на Днепре. Наши доблестные войска форсировали Днепр. И вот теперь гонят противника дальше.
Итак, черная армия, армия фашизма, армия мрака и реакции пятится назад.
Какие счастливые и радостные слова! Впрочем, иначе и не могло быть. Не могло быть, чтоб победили люди, выступившие против всего, что дорого народам, — против свободы, против разума, за рабство, за звериный вой вместо человеческой речи.
Наша доблестная Красная Армия гонит и уничтожает противника, черные мысли которого стали еще черней.
Ночь. Передо мной листы моих рукописей.
Я перелистываю их и вношу последние поправки.
Сквозь занавешенные окна пробивается рассвет.
Я открываю дверь и выхожу на балкон.
Холодное октябрьское утро. Тишина. Москва еще спит. Улицы пустынны и безлюдны.
Но вот где-то на востоке розовеет небо. Наступает утро. Лязгая железом, проходит первый трамвай. Улица заполняется народом.
Холодно.
Я возвращаюсь в свой номер. Собираю разбросанные листы моей законченной книги. Мысленно прощаюсь с ней. Восемь лет эта книга была в моей голове. Восемь лет я думал о ней почти ежедневно. Восемь лет — это не маленькая часть человеческой жизни.
Мне приходят на ум прощальные стихи. Нет, я, быть может, произнесу их когда-нибудь в дальнейшем, когда буду прощаться не с этой книгой и не с восьмью годами моей жизни, а со всей жизнью.
Это стихи греческого поэта:
Звезды и месяц я заменю чем-нибудь иным, более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так:
А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов — спелые груши, арбузы и дыни…
Никогда не забудете
Рассказы о партизанах
Предисловие
Война подходила к концу. Немецкие войска стремительно отходили на запад под натиском Красной Армии.
Ленинградская область была уже почти вся очищена от гитлеровских захватчиков.
И вот в эти дни, ранней весной 1944 года, в Ленинград стали съезжаться партизаны из освобожденных районов.
Был устроен торжественный парад. И это поистине было незабываемое зрелище. По улицам Ленинграда шли юноши и девушки, старики и подростки. Шли колхозники, студенты, учителя. Шли простые люди, не пожелавшие гитлеровского рабства. Шел народ, изгнавший врага со своей родной земли.
Почти все партизаны шли с оружием — с автоматами, винтовками, карабинами. Это оружие было главным образом немецкое, отнятое у врага в кровавых боях.
Некоторые из партизан были обмотаны пулеметными лентами. У некоторых за поясом торчали ручные гранаты.
Многие только что вышли из лесов, из землянок.
Это действительно был необыкновенный парад, который уже никогда нельзя повторить или организовать в том непосредственном виде, в каком он тогда происходил.
В те дни во многих учреждениях были устроены встречи партизан с ленинградцами.
На этих товарищеских встречах партизаны рассказывали о своих боевых делах, о своей подрывной работе в тылу врага, делились воспоминаниями о недавних суровых и героических днях.
Многие из этих рассказов я вкратце записал. И после нескольких вечеров моя записная книжка была заполнена необыкновенным материалом для большой героической повести о партизанах.
Однако, когда я стал писать эту повесть, я понял, что обычная повествовательная форма не вмещает в себя столь сложный и огромный материал. Причем этот материал нельзя было урезать или ограничить привычными рамками сюжетной повести. Это гасило документальность и уводило подлинную жизнь к приглаженной беллетристике, что мне казалось здесь неуместным.
Я отложил работу с надеждой, что когда-нибудь в дальнейшем я найду иную форму, иные литературные границы, которые позволят мне подать этот исключительный материал в некоторой его гармонии.
И вот теперь, спустя два года, я снова обратился к этой работе.
Сначала я было остановился на сборнике партизанских рассказов. Но и это оказалось неприемлемой формой. Такого рода сборник не выводил материал из неподвижности. Общая картина оставалась смазанной, хаотичной.
Тогда мне показалось, что если отдельные рассказы сложить правильно, то есть в должном порядке, как, допустим, складывают кубики, — получится то, что я ищу, — такое литературное произведение, в котором можно (хотя бы частично) изобразить картину, какую я представил себе, слушая рассказы партизан.
Именно так и сделана моя книга, каждый рассказ которой является главой повествования о том, как народ помог Красной Армии победить немцев. И о том, как немцы, потерпев поражение, долго не могли понять, почему с ними случился подобный казус.
Однако повествование мое не претендует на сколько-нибудь полную картину партизанского движения в Ленинградской области.
Для этого потребовался бы обширный и систематически подобранный материал. Я же свою книгу строил на случайных рассказах, на нескольких стенограммах и на тех беседах с партизанами, какие мне довелось иметь весной 1944 года.
Но я и не ставил своей задачей писать историю партизанского движения в области. Основная моя цель была иной и более скромной — мне хотелось в художественной форме, основанной на подлинных фактах, показать людей и их поступки на фоне грандиозной борьбы.
Январь 1947 Ленинград
1. Вот что они обещали
В деревню Черенково гитлеровцы вошли в августе сорок первого года.
Они сразу отдали жителям приказ не выходить на улицу до особого распоряжения. И люди два дня сидели по своим домам, не зная, что вокруг происходит.
На третий день гитлеровцы велели жителям собраться на площади, там, где обычно бывали собрания.
Люди собрались на этой площади и долго стояли в ожидании. Думали, что кто-нибудь из немцев сейчас приедет и что-нибудь им скажет.
Однако, видят, никто не приезжает. И только по улице ходит патруль из двух гитлеровцев. Но эти ходят молча, покуривают, искоса поглядывая на собравшихся.
Наконец один из патрульных сердито говорит людям:
— Зачем ви стоите спиной к наша картина? Или ваша тупой затылок имеет свои глаза?
А на площади помещалась Доска почета. Там обычно выписывались имена передовиков сельского хозяйства. Доска эта находилась несколько в стороне, за деревянной трибуной, и поэтому люди не обратили на нее внимания. И вот теперь видят — на этой Доске почета гитлеровцы наклеили свой плакат. Огромный плакат, отпечатанный разноцветными красками.
Сверху плаката имелась надпись по-русски: «Вот что обещает Германия русскому крестьянину».
В верхнем правом углу этого плаката изображен небольшой кирпичный домик под зеленой крышей. Вокруг домика палисадник с цветами. А около цветов нарисована стройная дама с лейкой в руках. Мило улыбаясь, она поливает цветы. Она поливает круглую грядку, посреди которой на палке золотой стеклянный шар.
Причем этот верхний рисунок обведен особой, весьма нарядной изящной рамкой.
Пониже рамки нарисована внутренность этого домика. Красиво убранная комната. Цветы. Картины в золотых рамах. Тюлевые занавески на окнах. Пианино с раскрытыми нотами.
Помимо этого — зеркала, ковры, фарфоровые статуэтки.
Посреди комнаты стол. На столе самовар. Обильная еда — мед, консервы, ветчина, варенье.
И за этим столом показана крестьянская семья за чаем.
Все сидят важные, надутые, в гордых позах. Мужчины бритые, в крахмальных воротничках. Старенький дед и тот в крахмальной рубашке. Но у дедушки — бородка, подстриженная клинышком. Причем дедушка чай не пьет. Он уже изволил откушать и теперь держит в руках карманные часы и на них с восхищением смотрит. Видимо, художник хотел показать, что даже дедушка имеет свои карманные часы и вот как он этим доволен.
Что касается женщин, то немецкий художник выписал их с особым старанием. Они в модных прическах. У всех брошки на груди. Серьги в ушах. И на руках кольца, браслеты, запястья.
И чай пьют женщины из чашек, красиво оттопырив свои мизинчики.
Дети выписаны тоже старательно. У мальчиков проборы на головах. У девочек пышные цветные банты.
Вот такую чисто немецкую идиллию изобразил художник, желая показать, что эта картина является идеалом и нашей крестьянской жизни.
Без улыбки нельзя было глядеть на этот плакат, до того художник фальшиво и как-то не по-нашему изобразил тихое крестьянское счастье, в котором крахмальный воротничок и золотые браслетки являются высшим достоинством.
Люди улыбались, рассматривая эту картину. Но особенно всех рассмешила комнатная собачка, которую художник спешно пририсовал на коврике подле стола. Это была небольшая белая собака, вроде болонки, — с кисточкой на хвосте и с голубым бантиком на шейке. В ленивой позе она лежала на пестром коврике — сытая и довольная, отвернув свою мордочку от чашки с молоком.
И вот люди с улыбкой глядят на эту изнеженную собачку, а один, нарочно глубоко вздохнув, говорит:
— Всю, говорит, свою жизнь я мечтал иметь в своем крестьянском хозяйстве именно такую болонку или мопсика. И вот, говорит, теперь Германская империя осуществила мои лучшие надежды — преподносит мне этот драгоценный подарок.
Люди громко рассмеялись. И тогда другой, пожилой крестьянин говорит:
— А ты на их подарки не надейся. Подарил барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки.
Снова раздался взрыв смеха. И тогда немецкий патруль сердито посмотрел на смеющихся. И вскоре всем было велено разойтись по домам.
На другой день житель этой деревни комсомолец Володя Рощин покинул свою деревню. Он ушел в лес и там примкнул к партизанскому отряду. И почти полгода он не знал, что делается в его деревне.
Но вот весной сорок второго года командир отряда, давая указания разведчикам, сказал Рощину:
— А ведь ты, Володя, кажется, проживал в деревне Черенково? Вот и сходи туда, выясни — имеется ли там фашистский гарнизон. И если имеется, то в каком количестве.
С большим волнением Володя отправился в эту разведку. С волнением он шел по знакомым дорогам, мечтая поскорей увидеть свою родную деревню.
Вот он миновал поля. Миновал перелесок. Спустился к реке. И тут вдруг увидел, что его деревни нет.
Почти бегом он дошел до тех огородов, где начиналась его деревня. Теперь ее не было. Она была сожжена, или взорвана, или непонятно, что с ней случилось. Но только даже трубы лежали на земле. И все плетни были повалены. Лишь стояли обожженные деревья и кусты, но они были сухие, как веники.
Не без труда Володя нашел то место, где еще недавно находился его дом. Теперь там остался один каменный фундамент. Да лежали еще обугленные головешки. И больше ничего.
Сам не зная для чего, Володя Рощин пошел вдоль деревенской улицы. И там среди праха и разрушения он вдруг увидел знакомую Доску почета. Она нетронутая стояла позади поваленной деревянной трибуны. Однако фашистского плаката на ней уже не было. Вернее, там висели обрывки этого плаката, помытые дождем и снегом.
Володе вспомнилась красноречивая надпись, какая была на этом плакате: «Вот что обещает Германия русскому крестьянину».
Еще раз Володя прошелся по пустынной улице. С одной березы с карканьем поднялись вороны. Там висел повешенный. Он был разут, в одном белье. Но кто это был, разобрать не представлялось возможным.
Володя Рощин вернулся в свой отряд и доложил командиру, что в деревне Черенково фашистского гарнизона не имеется и что не имеется и самой деревни, которой нацисты обещали крахмальные воротнички и золотые браслетки.
2. Добрый день, господа
В деревню Батово фашисты, к удивлению всех, завезли партию балалаек.
Несколько больших ящиков они выгрузили на станции и там прикрыли их брезентом. А два ящика из этой партии они доставили в деревню на крестьянской телеге.
Привез эти балалайки штатский немец средних лет. Это был усатый, франтовато одетый немец в соломенной шляпе и с тросточкой в руках.
Когда везли балалайки, он сидел позади телеги, свесив вниз свои толстые ноги в желтых ботинках. В одной руке у него была сигара, в другой — тросточка.
По-русски этот немец говорил вполне порядочно. Именно поэтому (как он сам доложил обществу) владелец музыкальной фирмы послал его на Восток.
Вокруг его телеги собрались люди. Но это были ребята и женщины. Мужчин среди них не было. И немец выразил сожаление, что нет мужчин, так как именно их может заинтересовать то, что он привез.
Когда ящики сняли с телеги и поставили во двор, немец произнес краткую речь перед собравшимися. Он снял свою соломенную шляпу и сказал:
— Добрый день, господа! Владелец моей фирмы направил меня в русскую деревню продать этот товар крестьянам, для того чтобы они, добросовестно работая на Германию, имели бы по вечерам разумное развлечение в меру своих музыкальных способностей.
Тут немец сказал несколько слов о влиянии музыки на работоспособность человека. И подчеркнул, что идея завезти балалайки в деревню всецело одобрена военным командованием. Именно военное командование разрешило послать музыкальный груз по железной дороге, что сейчас не является обыкновенным делом. Однако родственная связь с одним штабным генералом позволила владельцу его фирмы послать эти балалайки вне всякой очереди, наравне с авиабомбами.
Сказав о военном командовании, немец энергично взмахнул своей тросточкой, как бы подчеркивая этим всю военную значительность его коммерческой операции.
Потом немец сказал, что отпуск балалаек будет производиться в обмен на сельскохозяйственные продукты. Он вынул из кармана записную книжку и зачитал, из какого расчета будет происходить мена. Так, например, за балалайку нужно будет сдавать 16 килограммов зерна, или 40 куриных яиц, или 2 кило масла, или 1,5 куры.
Это расписание, сколько надо сдавать за каждую взятую балалайку, немец обещал вывесить на воротах. Закругляя свою речь, немец сказал:
— Итак, завтра, в воскресенье, я открываю продажу балалаек. Объявите об этом всему населению вашей, так сказать, уважаемой деревни. С богом, господа.
Тогда одна женщина, которая слушала эту речь, сказала немцу, что он, видимо, напрасно привез сюда свой товар, так как у них в деревне никто на балалайках не играет.
Немец не без тревоги спросил:
— Разве у вас в деревне такая перемена? На чем же у вас теперь играют?
Женщина сказала:
— Сейчас у нас вообще никто не играет. А до войны некоторой симпатией пользовалась у нас гитара, отчасти аккордеон и, наконец, рояль, находящийся в нашем клубе. Но во всяком случае не балалайки.
Немец сказал:
— Не знаю, господа, у нас во всех справочниках отмечено, что вы играете на балалайках и что это ваш любимый национальный инструмент.
Многие засмеялись, а женщина сказала:
— До войны у нас в деревне был великорусский оркестр, куда входили и балалайки. Но самостоятельной игры на балалайке, как бывало когда-то, у нас давно уже нет. Во всяком случае, я не помню, когда это было.
Немец торопливо спросил:
— А как у вас в других деревнях?
Ему ответили:
— Вероятно, то же самое. Конечно, могут найтись любители балалаечной игры, но редко, и это главным образом подростки лет по тринадцати.
Немец сердито сказал:
— Черт вас знает, русских, чего вы так быстро меняетесь. У нас сказано про вас одно, а у вас теперь не то, другое.
На следующий день немец все же открыл продажу балалаек.
На воротах он укрепил вывеску с нарисованной балалайкой. А под вывеской наклеил листок с указанием, из какого расчета можно приобрести себе балалайку.
На дворе стоял длинный стол. И там, помимо балалаек, лежали еще губные гармошки и свистульки из пластмассы. А также красовались весы и различная тара для сельскохозяйственных продуктов.
Немец нервно ходил по двору, помахивая своей тросточкой и приглашая зайти каждого, кто ошибочно или из любопытства заглядывал во двор.
Однако за весь день никто у него ничего не купил. За исключением, впрочем, одной свистульки, каковую он продал одному семилетнему малышу.
Через день немец грузил свои ящики на подводу. Он был крайне сердит и расстроен. И он сказал одному человеку, который пользовался доверием у немцев:
— Ну хорошо, допустим, ошибся владелец моей фирмы — послал в деревню то, в чем здесь никто не нуждается. Но что же смотрело военное командование, давая срочное разрешение везти сюда балалайки? Вот в этом, к сожалению, я вижу стратегическую ошибку, основанную на неточном знании противника в разрезе его современности.
Чертыхаясь по-русски и по-немецки, коммерсант сел в телегу позади ящиков и отбыл на станцию.
3. Акулина из Берлина
Вскоре после своего прихода гитлеровцы открыли в селе Воронихи биржу труда.
На бирже сидел специальный писарь — записывал желающих ехать на работы в Германию. А так как желающих не оказалось, то этот писарь просто так сидел, в окно глядел.
Видя, что нет желающих ехать в их фашистскую Германию, гитлеровцы провели особую агитационную кампанию на этот счет. На бирже труда они вывесили листок с указанием, какие льготы получает всякий записавшийся. И в газете стали печатать корреспонденции с мест от имени неизвестных русских лиц, с благодарностью отзывающихся о своей поездке в Германию. Но корреспонденции эти писались в таком возвышенном стиле, что у всех вызывали улыбки.
Не довольствуясь этим, гитлеровцы кинули по деревням своих агитаторов, которые разъясняли, что такое Германия и какое великое счастье там работать. Нет, конечно, в дальнейшем никакой агитации и никаких записей не происходило, в дальнейшем гитлеровцы просто хватали людей и отправляли их в свою фашистскую страну, но в первые дни они пожелали соблюсти некоторый европейский этикет.
В общем, в село Воронихи было брошено два агитатора.
Приехала легковая машина, и оттуда выпорхнули две девицы, прекрасно одетые. Причем совершенно одинаково. У одной маленькая плюшевая шляпка на левом боку. И у другой на левом боку точно такая же шляпка. У одной черная сумка крокодиловой кожи. И у другой такая же.
И обе в одинаковых шелковых платьях. И коралловые бусы на шее.
Но, как говорится, на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Не успели эти девицы выскочить из машины, как сразу попросили у населения чего-нибудь покушать. Им дали молока и по две лепешки, и они так жадно это ели, как будто их месяц перед тем вовсе не кормили.
Люди спросили их — кто они, откуда. Жеманясь, они ответили:
— Мы частные лица. Только что прибыли из Германии, по которой путешествовали ради собственного интереса. И вот теперь хотим поделиться путевыми впечатлениями.
Скорей всего, эти девицы были латышки, но, может быть, и польки. Во всяком случае, у одной, которая была повыше ростом, чувствовался сильный иностранный акцент. И другая, поменьше ростом, разговаривала несколько странно — в нос, как будто у нее был насморк.
Покушав, одна сказала другой:
— Милочка, я беру себе левую сторону деревни, а ты бери себе правую. Через час мы снова сойдемся у машины и поедем дальше.
Та, которая была поменьше ростом и говорила в нос, зашла в первый попавшийся двор и попросила хозяйку собрать всех желающих выслушать ее экстренное сообщение о результатах поездки по Германии.
Человек тридцать собралось во дворе, и девушка сказала им следующее:
— Я только что прибыла из Германии. Объездила Латвию, Эстонию и Литву. Побывала в Дрездене и Берлине. Ах, если б вы знали, как там великолепно живут люди. Ходят в рестораны, в кафе. Посещают танцевальные залы, где танцуют с утра до вечера, совершенно не чувствуя войны…
Встал с места один немолодой колхозник. Извинился, что перебивает ораторшу. Сказал ей:
— А для чего вы нам об этом говорите, дамочка? Что мы, танцевать туда, что ли, поедем? Или как вы понимаете ваши слова?
Девица сказала:
— Я вам говорю об этом для того, чтобы вы имели понятие, какие бывают страны в Европе, какие бывают настоящие культурные страны, куда поехать одно удовольствие. Там блеск, сверкающая жизнь, какую вы даже представить себе не можете, находясь в вашей деревне.
Немолодой колхозник сказал, снова перебив оратора:
— Ну, допустим, что там немцы живут прилично, что вряд ли, так как союзники их сверху бомбят. А вот другие, и в том числе русские, как там у вас живут?
Девица сказала:
— Вот об этом я и собираюсь вам говорить. Взять хотя бы тех же иностранных рабочих, и в том числе русских. Они тоже хорошо живут, приятно проводят время. Слов нет, они много работают, однако у них хватает время и для того, чтобы…
Не договорив, девица стала почему-то всхлипывать, поторопилась раскрыть свою сумочку, чтоб достать носовой платок.
И, достав платок, начала плакать.
Люди спросили ее:
— Что с вами? Чего вы плачете?
Девица сказала:
— Нет, просто так… Вспомнила, как живут иностранные рабочие…
Немолодой колхозник, ранее задававший вопросы, сказал:
— Да уж наверно приятно живут, раз у вас слезы брызнули.
Девушка заплакала еще сильней, и тогда колхозник сказал ей:
— Эх, ты… Акулина из Берлина…
Сквозь рыдание и слезы девушка сказала:
— Это ужас, ужас, как там живут иностранные рабочие. Их морят голодом, заставляют работать до потери сознания. А русских и за людей не считают. Держат в сараях, как скот. Бьют, убивают. Это хуже, чем каторга, для тех, кто туда поедет…
И она стала так плакать, что пришлось принести ей кружку воды, для того чтобы она немного успокоилась.
Выпив воды, она пришла в себя и стала пудриться.
Тут пришла ее подруга и, увидев ее заплаканной, сказала:
— Что с тобой, милочка? Почему ты плакала?
Та сказала:
— Немножко развинтились нервы.
Подружки вышли со двора и пошли к машине.
И та, которая плакала, тихо сказала одной посторонней женщине:
— Там моя подруга тоже беседовала с вашими людьми. Пусть они не верят тому, что она сказала. Вы им передайте то, что слышали от меня.
Женщина ответила ей:
— Конечно, передадим. В этом вы можете не сомневаться.
4. Всякому свое
Некоторое время колхоз «Большая Речица» держался при фашистах, но вскоре был получен приказ из Берлина — поделить колхозную землю между крестьянами.
Многие колхозники, по своей привычке относиться к земле как к своей кормилице, взволновались, когда речь зашла о разделе. Захотели поскорей узнать, какой будет надел и будет ли земля полагаться малолетним.
Навели справки у старосты. Но тот и сам толком ничего не знал и только делал вид, что он в курсе всех берлинских распоряжений.
Этот староста сам ожидал приезда сельскохозяйственного офицера, чтоб выяснить, как делить землю. И, не дождавшись его, съездил ненадолго в Порхов, чтоб там проконсультироваться.
И там он выяснил, что надел будет крайне небольшой. Один гектар на трех едоков. Причем малолетние ничего не получают.
Это сообщение многих привело в уныние. Особенно в унылое состояние впал некто Фоминков, немолодой колхозник пятидесяти девяти лет. В свое время он критически относился к колхозной жизни и последним по счету перешел в колхоз. Воспитанный на прежних понятиях, он мечтал об единоличном хозяйстве. И вот когда речь зашла о разделе, он проявил исключительный интерес и больше всех шумел, ожидая своего счастья. Однако, узнав, какой будет надел, Фоминков сразу упал духом и стал ругать фашистов и старосту.
Староста сказал ему:
— А ты не удивляйся, что надел такой маленький. Весь левый берег делиться не будет. Та земля отойдет одному германскому промышленнику для его лесопильного завода.
На это Фоминков еще больше забранил фашистов и с энтузиазмом отозвался о прежней колхозной жизни и о советской власти, которая заботливо относилась к их крестьянским нуждам и не разбазаривала землю на сторону. Так сказать, перестроился человек, но вот с таким сильным запозданием.
Сначала раздел земли производили по плану, с тем чтобы потом произвести размежевку на земле.
К этому времени прибыл сельскохозяйственный офицер. И хотя по-русски он почти не понимал, тем не менее он вызвался произнести вступительное слово перед крестьянским обществом.
Никто его речи не понял, поскольку у него русские и немецкие слова были вперемешку. Но одну фразу — о том, что крестьяне есть низший класс, все отлично поняли. Эту фразу гитлеровец произнес особенно четко.
Когда офицер кончил говорить, староста, не привыкший еще к новым гитлеровским порядкам, сказал:
— Кто желает высказаться по данному вопросу?
Тогда Степан Фоминков взял слово и сказал:
— Тут господин германский офицер обронил фразу, что крестьянство есть низший класс. Обидно слышать эти слова хотя бы и от гитлеровца. Из прошлогодней лекции мы с вами узнали, что все население земного шара на три четверти крестьянство. И оно, главным образом, поит и кормит многих и многих, и в том числе и этого немецкого оратора…
Староста зашикал на Фоминкова. Лишил его слова и пригрозил, что отнимет у него один надел за политически невыдержанную речь в присутствии немецкого офицера.
Наконец стали производить раздел. Староста объявил, что он сам получает 12 наделов. Никто не возражал, поскольку было ясно, что этот немецкий подголосок уже имеет согласие свыше на такое количество земли. Но когда староста объявил, что его родной брат Антон — пьяница и хулиган — тоже получает 12 наделов, все этому возмутились. И Фоминков, позабыв все на свете, крикнул:
— За что ж ему, трепачу, двенадцать наделов?! Ведь он всегда ругал советскую власть.
Фашистский офицер сидел в своей машине как истукан. Но когда он услышал эти слова, он крикнул, приподнявшись со своего сиденья:
— Больше нет софецкая власть!
Фоминков хотел было еще что-то сказать, но староста снова на него зашикал и запретил ему что-либо говорить. И при этом сказал:
— Взять хотя бы нашего Фоминкова. Ему полагается четыре надела. Но я сильно сомневаюсь, что он их получит сполна. Кто такой этот Фоминков с точки зрения нового немецкого порядка? Какую ценность он собой представляет для обширной Германской империи? Один его сын служит в Красной Армии. А другой его сынок как будто бы находится среди партизан. Сам же Фоминков до крайности невоздержан на язык. И за все эти его минусы я вычитаю с нашего Фоминкова три надела. Вот и рассчитайте теперь, сколько получит наш Фоминков. Он получит один надел.
Услышав, что он получит один надел, Фоминков растерялся. Он побежал к машине, чтоб высказать гитлеровскому офицеру свои соображения.
Однако фашистский солдат не подпустил его к машине. И тогда Фоминков сказал старосте:
— Ты в своем ли уме — давать мне один надел. Ну-ка сообрази — как я обойдусь с моим семейством при одном наделе? Ведь я же с голоду начну пухнуть, что может бросить тень на Германскую империю, на их новый немецкий порядок.
Староста сказал Фоминкову:
— Всякий получает свое. Ты же получишь один надел, и не более того. А если тебе этого мало, то наймись ко мне на работу.
Фоминков с удивлением говорит:
— Что значит «наймись на работу»? Да ты, никак, предлагаешь у тебя батрачить?
Староста говорит:
— Да, я желаю тебя взять в батраки. Посуди сам — могу ли я обработать всю свою землю? Ведь помимо того у меня шесть дарственных коров. Гуси. Овечки. Четыре кабанчика.
Не переставая изумляться, Фоминков говорит:
— Да ты, дядя с барок, что, серьезно зовешь меня в батраки?
Староста говорит:
— Предлагаю это тебе самым серьезным образом. И заявляю всему уважаемому крестьянскому обществу, что отныне свою земельную политику мы будем строить именно так, чтоб у нас завсегда имелись свои батраки, без которых нам теперь не обойтись.
И тогда брат старосты Антошка крикнул:
— Нам теперь, ясно, без батраков не обойтись.
Фоминков снова побежал к машине, чтоб поговорить с фашистским офицером, но солдат навел на Фоминкова свой автомат и снова не подпустил к машине. И тогда Фоминков сказал, обращаясь к обществу:
— Взгляните на их нахальство… в мои зрелые годы… в батраки меня нанимают…
И, подойдя к старосте, Фоминков крикнул ему:
— Не для того столько лет воспитывала меня советская власть, чтоб ты с фашистами хватал меня за глотку!
И с этими словами Фоминков дернул старосту за бороду так, что тот со стоном упал на коленочки. Офицер велел отвести Фоминкова в комендатуру. А староста, поднимаясь с земли, крикнул Фоминкову:
— Попробуй только вернуться с комендатуры. До гробовой доски ты у меня теперь с батраков не выйдешь.
Однако Фоминков не вернулся. Он шумел в комендатуре, и гитлеровцы отправили его в концлагерь. И что с ним сталось в дальнейшем, никому не известно.
5. Вас это не коснется
Весной сорок первого года Лиза Повелихина закончила школу и сразу стала готовиться к экзаменам для поступления в планово-экономический институт. Все лето она решила посвятить занятиям.
Но мать прислала ей письмо из деревни. Пишет: «Нечего тебе делать в городе. Приезжай в деревню. Здесь попьешь молока, отдохнешь и еще лучше подготовишься к своим экзаменам».
Лиза так и сделала. Приехала в деревню. Но буквально на второй день ее приезда началась война.
Девушка решила вернуться в город. Ей не хотелось быть бездеятельной. Но мать сказала ей:
— Не пущу в город. В такой жуткий момент останься тут со мной. А если не хочешь сидеть без дела — готовься к своим экзаменам, которые когда-нибудь да состоятся, поскольку война не будет вечно продолжаться.
Лиза осталась. И хотя теперь занятия не шли на ум, но девушка заставила себя сидеть над книгами.
Между тем нацисты неожиданно заняли деревню. Поблизости не было боев, и никто не предполагал, что так может случиться. Но это случилось, и тогда девушка сказала своей матери:
— Что же мне теперь делать?
Мать сказала:
— Бежать теперь поздно. И тебе остается только одно — сиди тихонько в избе, учись, занимайся. Когда-нибудь война кончится, и тогда ты первая из всех сдашь на «отлично» свои экзамены, имея такую длительную подготовку.
Как в тумане проходили дни при фашистах. Лиза помогала матери по хозяйству. Несколько раз ходила вместе с жителями деревни на работы. А в свободное время по-прежнему склонялась над книгами. Читала, составляла конспекты. Но все это делала она как-то машинально, без чувства и должного внимания, хотя где-то в душе и теплилась неясная надежда, что все это ей в дальнейшем пригодится.
И вот однажды Лиза сидит у открытого окна. Читает. И что-то записывает на листочке.
Неожиданно книга ее захлопнулась. Лиза подняла глаза. Перед окном на улице стоял гитлеровский офицер — молодой, франтоватый, с хлыстиком в руках. Этим своим хлыстиком он и захлопнул книгу.
Несколько раз перед тем Лиза видела этого офицера. Он всегда с улыбкой посматривал на нее. И даже как-то раз заговорил с ней. Что-то спросил ее по-немецки. А Лиза прилично знала язык. Все понимала и немного разговаривала. Она ответила ему по-немецки, но разговора не стала поддерживать — ей было неприятно беседовать с врагом.
И вот теперь этот офицер стоял перед окном и с улыбкой смотрел на девушку. Спросил ее:
— Что вы изволили читать? Роман?
Лиза ответила:
— Нет, это учебник политэкономии. Я готовлюсь к экзаменам.
Офицер весело рассмеялся. Сказал:
— Птичка моя, это напрасный труд. Это вам больше никогда не пригодится.
— Почему? — спросила Лиза с удивлением. Офицер сказал:
— Нам не понадобятся образованные люди в России.
Лиза воскликнула:
— Вам не понадобятся, но нашей стране они будут нужны.
Офицер снова рассмеялся. Сказал:
— Ваша страна, мадмуазель, изменит свое лицо до полной неузнаваемости. Она не будет в том прежнем виде, в каком вы ее привыкли видеть и понимать. Нет сомнения, здесь будут проживать русские люди, нужные нам. Но это будут мастеровые, ремесленники, работники сельского труда. Но интеллигенции среди них абсолютно не будет.
С недоумением Лиза спросила:
— Где же, по-вашему, будет интеллигенция? Куда же она денется?
Похлопывая хлыстиком по своей ноге, офицер сказал:
— Ну, не знаю, душечка. За Урал уедут. Во всяком случае, здесь ваши интеллигенты проживать не будут. Иначе они помешают нашим планам, с которыми они, очевидно, не пожелают согласиться.
С волнением Лиза спросила гитлеровца:
— Поэтому вы и расстреляли нескольких человек из нашей сельской интеллигенции?
Гитлеровский офицер сказал:
— Я не знаю, почему они были расстреляны. Возможно, что именно поэтому они и пришли к своему печальному концу.
Все это гитлеровец говорил легким, веселым тоном, как будто речь шла о самых простых, повседневных делах.
Ужасное волнение охватило Лизу. Она побледнела, и руки у нее стали дрожать.
Мать, увидев ее в таком состоянии, замахала на немца руками и сказала ему, воспользовавшись тем, что он не понимает по-русски:
— Хватит, понимаешь! Довольно! Прекрати к черту беседу с ней. Иди к своим.
Фашист по-русски действительно не понимал, но на этот раз он понял, что его просят удалиться. Кисло улыбнувшись, он попрощался с Лизочкой. И отвесил полупоклон мамаше, на которую он заметно обиделся за то, что та энергично махала руками перед его лицом.
Когда нацист ушел, Лиза бросилась на кровать. Волнение ее душило. Никогда она раньше не задумывалась, кто она — русская или кто такая. Почему-то раньше она не придавала этому значения. А сейчас она вдруг поняла, что происходит что-то ужасное и такое, которое может уничтожить ее родную страну, может уничтожить русских или превратит их в бессловесных немецких рабов.
Мать села рядом с Лизой, стала утешать ее и гладить. И тогда девушка расплакалась, разрыдалась.
Мать сказала ей:
— Что тебе думать об этих делах? Есть люди, которые и без тебя об этом заботятся. Чем ты можешь помочь? Лучше снова сядь за свои книги. Это вернет тебе душевное спокойствие.
На другой день Лиза снова села заниматься. Но на этот раз Лиза села не у окна, а на кухне. И машинально стала читать, не вникая в дело.
Мать пришла с улицы и сказала ей:
— Там опять этот брандахлыст прошел мимо нашего дома и заглянул в окно. Неприятно будет, если эта личность повадится к нам.
Вдруг дверь отворилась, и на кухню вошел этот офицер. Вошел, как в пивную, — развязно, весело и даже не постучался.
На мамашу он не обратил внимания, и та, увидев фашиста, ушла из кухни. А с Лизой он весело поздоровался и сказал ей:
— Мне показалось, радость моя, что вчерашний наш разговор вас немного расстроил. И вот я специально пришел вас утешить, сказать вам, что перемена в вашей стране не всех коснется, и уж во всяком случае вас это не коснется. Хорошенькие женщины менее всего будут подвержены переменам судьбы. Глядите спокойней на свое будущее.
Сдерживая свою ненависть к этому холеному офицеру — наглому и самоуверенному, Лиза сказала:
— Зачем вы так говорите? Речь не обо мне. Но я русская, и ваши слова о моей стране, не скрою от вас, ужасно меня смутили.
Улыбаясь, офицер сказал:
— О, я вижу, вы горячая патриотка. Не знал, что русские, в силу их мягкой славянской натуры, способны на сильные чувства, да еще к такому отвлеченному предмету — к отчизне. Зачем вам, крошка моя, страдать об отчизне? Наше отечество там, где нас любят. Вам будет у нас хорошо. Вы увидите такой европейский комфорт, который вам и вашим оборванным подругам в глаза не снился.
Лиза вдруг почувствовала непреодолимое желание ударить этого гитлеровского офицера. Едва сдержавшись от нахлынувших чувств, она сказала ему тем грубым тоном, который заставил фашиста насторожиться:
— Я не хочу об этом говорить. Оставьте меня одну.
Мать в этот момент вошла на кухню и тоже сказала офицеру:
— Давай, давай уходи к лешему. Нечего тебе болтаться на кухне.
Пожав плечами, немец ушел. Мать сказала дочери:
— Придется дверь закрывать на задвижку.
Лиза сказала:
— Теперь это неважно. Я ухожу в партизанский отряд.
Мать воскликнула:
— Никуда не пущу. И не думай об этом.
Девушка сказала:
— Нет, я твердо решила это сделать. Я приблизительно знаю, где стоит этот отряд, который был сформирован при райкоме. Не удерживай меня.
Мать стала бормотать сквозь слезы:
— А как же твоя подготовка к экзаменам… Ты же так мечтала поступить в институт…
Девушка ответила:
— Вот для этого, мамочка, я и пойду в партизанский отряд. Это и будет моей подготовкой к экзаменам. Никакие экзамены не состоятся, пока не прогонят гитлеровцев. И все погибнет, если они тут останутся.
Продолжая плакать, мать сказала:
— Иди, доченька, если находишь нужным. А фашистам я скажу, что ты, допустим, ушла к своей старшей сестре в Славковичи.
На другой день Лиза Повелихина взяла в комендатуре пропуск на станцию Славковичи. Но туда она не пошла.
Попрощавшись с матерью, она ушла в лес. И после нескольких дней блужданья примкнула к партизанскому отряду, который в дальнейшем вошел в Третью партизанскую бригаду.
6. Топчите свой рай
Таня[15] работала на огороде. Вскапывала гряды. Перепачканная и перемазанная, она присела отдохнуть. Вдруг подходит к ней незнакомый молодой человек. Лет ему 18, не более. Одет простенько. Черная курточка на нем. Ушанка на голове.
Подходит он ближе, присаживается недалеко от Танечки. Улыбается ей. И та в ответ ему улыбается и снова берется за лопату.
Молодой человек говорит ей:
— Ну, как у вас в деревне живется?
Таня отвечает:
— Сам знаешь как — немцы же тут.
Паренек говорит:
— Слушай, говорит, я к тебе питаю большое доверие. Помоги нам в одном деле.
Танечка говорит:
— А ты кто такой? Откуда прилетел на крыльях?
Тот отвечает:
— Я разведчик с партизанского отряда.
Тане еще не приходилось видеть партизан, и она немного взволновалась тем, что он сказал. Спросила его, что ему требуется.
Тот говорит:
— Видишь ли, я принес листовочки, и надо будет раскидать их по твоей деревне. Ты здешняя, и тебе это не составит особого труда.
— А какие листовочки? — спрашивает Таня.
Тот отвечает:
— В листовках напечатано обращение партизан к крестьянам — что им делать и как поступать против фашистов.
Таню зажгло это предложение, и она сказала:
— Хорошо, я согласна разбросать листовки по деревне. Давай их сюда.
Молодой партизан засмеялся, сказал Тане:
— Или ты думаешь, что я такой тюфяк и листовки держу у себя в шапке? Листовки оставлены в роще. Я положил их в дупло одного дерева. И пусть теперь это дупло будет нашим почтовым ящиком.
И тут он объяснил Тане, как найти это дерево. И дал совет, как принести эти листовки и как их разбросать, чтобы не попасться гитлеровцам.
Потом он попрощался с Таней и ушел, поблагодарив ее за содействие.
Тане не терпелось ждать. Работа не спорилась. И она пошла в рощу, чтобы отыскать почтовый ящик.
Без труда она отыскала нужное дерево. И там в дупле нашла пачку листовок. Их было пятьдесят штук.
Таня стала читать. В листовках было сказано: «Крестьяне! Кто вы — собственники своей земли или батраки у гитлеровцев? Морите их голодом, не давайте им продуктов. Создайте им тяжелую, непереносимую жизнь. Иначе они закабалят вас и сделают рабами фашистских помещиков».
Таня принесла эти листовки домой и дома ничего своим родным не сказала, чтобы не тревожить их. И в этот же день к вечеру она раскидала эти листовки по дворам. Одну же листовку ей удалось наклеить на забор на самом видном месте.
На другой день Таня вышла со двора, чтобы посмотреть, висит ли на заборе ее листовка. И вдруг на улице она увидела странное шествие. Идет староста и с ним вместе немецкий унтер-офицер. А позади верхом едут два казака в немецкой форме. Такие казаки у нацистов были набраны из военнопленных. Они были у них вроде полиции.
Таня поняла, что дело обстоит нехорошо. Бросилась домой. Схватила оставшиеся листовки. Схватила еще патроны, которые она однажды подняла на дороге. И эти листовки и патроны забросила в крапиву на дворе.
И только успела она это сделать — во двор входит староста и с ним унтер-офицер. А за ними во двор въезжают казаки.
Староста говорит Тане:
— Такая у нас была тихая деревня, и вот теперь по твоей милости будем терпеть неприятности.
Таня решила ни в чем не признаваться и поэтому сказала:
— Почему по моей милости? Это надо доказать.
Староста говорит ей:
— Вчера видел, как ты моталась по деревне. Наверно, ты и подкинула эти антинемецкие листовки.
Таня говорит:
— Мало ли я зачем ходила со двора. Я гуляла и листовок не видела.
Староста велел казакам караулить Таню, а сам с унтер-офицером пошел в дом и там произвел обыск. Но они ничего не нашли. И тогда они арестовали Таню и увели ее.
Они посадили ее в темный чулан. И там она просидела сутки без еды и даже без питья.
Потом они произвели допрос, на котором присутствовал переводчик. И на этом допросе они били Таню резиновой палкой по голове так, что она дважды теряла сознание.
Три дня ее водили на допрос и три дня нещадно били. А потом сказали ей:
— Ты напрасно скрываешься. На одной листовке мы обнаружили отпечаток твоего пальца. Вероятно, ты копала землю, руки у тебя были жирные, и вот остался на бумаге этот отпечаток. Мы его проверили, и теперь у нас нет сомнения — ты разбросала эти листовки. И мы тебя будем судить показательным судом, чтобы другим крестьянам неповадно было держать связь с партизанами.
Когда Таню вели в чулан, переводчик ей тихо сказал:
— Держись проще на суде. Прикинься дурочкой. И раскайся во всем. Иначе они тебя повесят.
Таня с удивлением посмотрела на переводчика, но он ушел.
На другой день гитлеровцы устроили в деревне показательный суд. Нет, в дальнейшем немцы без всякого суда вешали каждого, кого подозревали в партизанской деятельности, но тогда они, вероятно, не настолько еще боялись партизан, они еще не понимали, что такое партизанское движение и в каком оно масштабе. Они думали, что таким показательным судом они образумят крестьян, остерегут их от связи с партизанами. Так или иначе, они устроили показательный суд.
Три фашиста сидели за столом. Это были судьи. А четвертый, хорошо говоривший по-русски, был обвинителем.
Этот обвинитель сразу стал так кричать и топать ногами, что Таня поняла — ей пощады не будет.
Обвинитель кричал, показывая на Таню:
— Умертвите эту змею! Конечно, она молодая, ей всего восемнадцать лет, но вы не принимайте это в расчет, уничтожьте ее. Нет сомнения, она поступила слепо, несознательно. Она защищала свою кривую, убогую деревню, защищала свое бедное жилье только потому, что она не знала и никогда не видела другой жизни. Если бы она посмотрела, как живут у нас в Германии, она не совершила бы этого преступления. Но она его совершила, и пусть теперь меч правосудия без жалости коснется ее шеи.
Потом, обратившись к Тане, обвинитель сказал ей:
— Теперь ты что-нибудь говори.
Таня сказала:
— Я не знаю, как живут люди в Германии. Может быть, и очень хорошо. Но это не меняет картины. Я защищала не свою, как вы говорите, кривую деревню, я защищала советскую власть. И вот почему я бросила листовки против вас.
Обвинитель, вскочив со своего места, крикнул:
— А зачем, зачем ты защищала советскую власть? Что дала тебе советская власть? Шелковые платья? меха? бриллианты? Или, может быть, горничную или лакея? Разве рай тебе предоставила советская власть? Где твой особняк, гостиная, духи, избранное общество, утонченные разговоры? Где хотя бы комфортабельная жизнь, о которой мечтает каждый человек в Европе?
Таня сказала:
— При чем тут особняк? При чем тут бриллианты и лакеи? Разве в этом дело? Моя мать была поденщица. Она стирала белье для здешнего помещика. Она не знала грамоты. И мой отец был малограмотный. Он занимался хлебопашеством. И он с хлеба на квас перебивался со своей семьей. А теперь мой старший брат полковник Красной Армии. Другой мой брат педагог. Он учитель на селе. Моя сестра заканчивает медицинский институт. Я же в этом году собиралась идти в техникум и пошла бы, если бы не война. Вот что дала нам советская власть. Это наша, своя, мужицкая власть. И она сделает для нас все, что требуется. Разве можем мы в этом сомневаться? Я защищала эту власть и родину, где я родилась.
Кто-то из публики крикнул:
— Она правильно говорит!
Тогда обвинитель снова стал кричать. Он топал ногами и прямо бесновался, видя, что судьи сидят нахмурившись и им весьма недовольны. Он кричал, обращаясь к публике, которая толпилась на улице у открытых окон и в дверях:
— Не слушайте, что она говорит. Топчите свой рай! Топчите свой советский рай — он больше никогда к вам не вернется.
Судьи не велели обвинителю больше говорить. И он сел на стул, вытирая платком свое мокрое лицо.
Потом, недолго посовещавшись, гитлеровцы вынесли приговор расстрелять Таню.
Однако фашисты, вероятно, хотели вызвать симпатии к своей власти. Они тогда еще думали, что это возможно. Они уже начинали страшиться, что в своем тылу они наживают столько врагов. И вот теперь, на что-то надеясь, они сказали, обращаясь к публике:
— Смертную казнь мы заменим ей пожизненной работой. Она будет отправлена в Германию. Там она поработает и забудет свои поверхностные взгляды, вызванные тем, что она не видела иной жизни. Однако не значит, что мы каждого помилуем. Каждый из вас будет немедленно повешен или расстрелян за содействие партизанскому движению.
На другой день рано утром Таню посадили в телегу и повезли.
Таня лежала в телеге голодная, без сил. Лежала и ни о чем не думала. Ей в тот момент было безразлично, что с ней будет и куда ее везут.
Однако везли ее долго, и Таня подумала, что везут ее, должно быть, не на станцию, иначе давно бы уже приехали.
Тот, кто правил лошадью, одет был в немецкую шинель. Он обернулся к Тане. И тут она увидела, что это был переводчик, тот самый, который перед судом уговаривал ее прикинуться несознательной, а на суде он то и дело прикладывал к своим губам палец, как бы упрашивая ее не болтать лишнего. И вот теперь этот переводчик обернулся к Тане и сказал:
— Хорошенький урок ты мне дала на суде. Ты показала, что можно не страшиться немцев, как страшился я. И вот я договорился с одним из них, подкупил его, и он дал мне возможность отвезти тебя на станцию и сдать там под расписку.
Таня молча смотрела на говорившего. А тот, усмехнувшись, продолжал:
— Но ты не такой уж ценный груз. И фашисты не станут проверять, где ты находишься. И я как-нибудь вывернусь из этого дела — сам распишусь за них.
Таня спросила:
— А зачем вам все это надо?
Тот говорит:
— Собственно говоря, я и сам не знаю зачем. Видишь ли, я русский, работаю у гитлеровцев переводчиком. И черт меня знает, как это я зашился с ними. Испугался, струсил, хотел сохранить свою драгоценную жизнь. И поэтому стал работать на них. И вот, понимаешь, не было дня, чтоб я спокойно жил с тех пор. Раньше даже мыслей не было — что такое родина, народ. А теперь только об этом и думаю, когда это мне, сама понимаешь, менее всего нужно.
Помолчав, переводчик добавил:
— И вот решил хоть частично загладить свою вину — повез тебя…
Таня спросила:
— Куда?
Тот говорит:
— Да вот привез тебя к твоим партизанам. Они где-то тут, совсем близко. Иди к ним, если хочешь.
И с этими словами он остановил телегу. Таня вышла на дорогу. Говорит ему:
— Так давайте пойдем вместе, если вас настолько совесть мучает.
Тот говорит:
— Да нет, мне уже поздно перекраивать свою жизнь. Привез семью из Полоцка, немецкий шоколад привык кушать, завяз по уши. И твое предложение — мне это теперь все равно как лекарство покойнику.
Он вынул из кармана небольшой пакет и подал его Тане.
Таня спросила:
— Это что?
Тот говорит:
— Там хлеб, сало и немного шоколаду. Подкрепись и иди все прямо по лесной дороге. Я специально посмотрел карту. Там у фашистов крестиком отмечено, где стоят партизаны. Ты им скажи, что их местопребывание немцам уже известно. Пусть они отойдут куда-нибудь в лес поглубже.
Переводчик больше ничего не сказал. Он стегнул лошадь и быстро уехал.
Таня долго стояла на дороге. Потом она позавтракала и пошла лесом.
Но она недолго шла. Ее окликнули партизаны, и она рассказала им, что случилось с ней.
7. Мы напрасно остались
Фронт приближался к деревне. Гул стоял от орудий. И все небо было красным от пожаров.
Две сестры — Василиса и младшая, Маргарита — стали обсуждать, как им поступить — остаться ли тут или уйти в лес, как это многие сделали.
А у младшей сестры Маргариты был трехлетний ребенок, сын. И она из-за него решила остаться в деревне. Она сказала Василисе:
— Ну куда я пойду с такой крошкой. Этим я погублю ребенка. Наступает осень. И где же такому малышу вынести все невзгоды, с которыми мы столкнемся в лесу.
Тогда Василиса решила уйти одна. Но тут сестра Маргарита опасно заболела, и Василиса не могла оставить ее в беспомощном положении. И поэтому ей пришлось остаться.
И вот скоро гитлеровцы вошли в деревню.
Во все дома они разместили своих солдат. А у сестер домик был небольшой, чистенький, как игрушка. И им поместили офицера с его денщиком.
Сестры перешли на кухню. И там повесили занавеску, чтобы своим присутствием не мешать немцам.
Офицер был среднего возраста, худой, высокий, в очках. Причем он был очень брезгливый и мнительный.
Посуду для еды он взял у сестер, но всякий день он заставлял своего денщика кипятить посуду заново. И денщик сказал сестрам, что его офицер боится заразы и вот почему он это делает.
А младшая сестра Маргарита некоторое время жила с мужем в Латвии, и там она научилась говорить по-немецки и по-латышски, и поэтому она понимала, что говорил ей денщик.
Сестры выразили удивление, что бывают такие брезгливые и мнительные люди. Но солдат сказал, что его офицер человек большой учености и такие люди обычно имеют свои причуды. Этот денщик сказал:
— Всем известно, что образование губит людей — лишает их силы, здоровья, храбрости и спокойствия. Наш офицер не раз предостерегал мир от этой грозной опасности, от образования, ненужного людям. И вот теперь на примере моего офицера я вижу, что это так. И вы можете посулить мне золотые горы, но высшего образования вы от меня никогда не дождетесь.
Однако при всей своей брезгливости офицер не был опрятным человеком. Он постоянно кашлял и плевал. Плевал за кровать, когда лежал. А когда ходил по комнате, то плевал во все углы и даже на стенку. Неизвестно, была ли у него чахотка или что другое, но он все время откашливался и плевался. И тут сестры увидели, что его чистота и аккуратность не соответствуют мнению, которое существует о немцах. Впрочем, дома он, может быть, вел себя иначе.
Причем этот офицер никогда сам дверь не открывал в свою комнату. Он не хотел браться за ручку двери. А если денщика не было, чтобы открыть дверь, то он вынимал из кармана носовой платок и через платок брался за ручку. А потом этот платок бросал на пол.
К сестрам он тоже относился с крайней брезгливостью. Он морщился, когда проходил через кухню. И выражал нетерпение, если не было денщика, чтобы открыть дверь.
Нельзя сказать, чтобы сестрам было больно или огорчительно видеть к себе такое отношение. Скорей всего, это было смешно. Сестры были очень аккуратны. И в кухне у них всегда было удивительно чистенько. В конце концов, им было наплевать, что думает о них этот фашист и как он к ним относится.
Но однажды денщик сказал сестрам, что им следует уходить к соседям всякий раз, когда его офицер возвращается домой. Что постоянные разговоры, шушуканье и крики ребенка беспокоят офицера, мешают ему думать и не позволяют спать. Пусть ночью сестры находятся здесь, на кухне, а вечером и днем пусть они будут где-нибудь в другом месте.
Конечно, сестрам обидно было выслушать такой приказ, но возражать они не смели. Они с ребенком переселились в сарай и старались больше не входить в дом.
А когда наступили холода, сестры решили выложить в сарае печку. И уже приступили к этой работе. Но ребенок неожиданно захворал, простудился. И сестры вынуждены были вернуться на кухню.
Ребенок горел, как в огне. У него была очень высокая температура. И тут сестры увидели, что офицер очень обеспокоен болезнью ребенка. Он несколько раз присылал денщика, чтобы узнать, как чувствует себя ребенок и какой у него жар.
Младшая сестра Маргарита была даже тронута таким сочувствием. Ей хотелось, чтобы все любили ее ребенка и тревожились за него. Но Василиса сказала ей:
— Тут что-то не так. Я чувствую, что мы напрасно остались.
Наконец снова пришел денщик и спросил, не болит ли у ребенка горло?
Сестры ответили, что у ребенка горло чистое, но у него, вероятно, воспаление легких, поскольку он кашляет и хрипло дышит.
Денщик сказал:
— Мой офицер опасается, что у вашего ребенка дифтерит. Если скарлатина, то это ничего. Мой барин перенес в детстве скарлатину. Но дифтеритом он не болел. И теперь озабочен, нет ли у ребенка дифтерита.
Сестры уверили денщика, что дифтерита нет, но это не успокоило офицера. Он сам вышел на кухню и, прикрывая рот платком, сказал, что он сейчас пошлет за полковым врачом, чтобы выяснить, какая болезнь у ребенка.
Вечером пришел фашистский врач. Он с сестрами не поздоровался и не сел на предложенный стул. Он велел подать чайную ложку и стал осматривать у ребенка горло. И он так вращал этой ложкой, что даже согнул ее. Маргарита схватила за руку врача, умоляя не причинить ребенку боли. Но врач отстранился от нее и крикнул офицеру, который находился в своей комнате:
— Але, Густав… Поздравляю, у ребенка чистое горло, можешь не опасаться…
Василиса сказала врачу:
— Вероятно, у ребенка воспаление легких. Послушайте его.
Но врач не стал слушать ребенка. Он махнул рукой и пошел в комнату офицера. И там он некоторое время пробыл у него. Потом они вышли вместе, обнявшись за плечи, и на прощанье нежно поцеловались. И было удивительно видеть такое трогательное и сентиментальное отношение двух друзей. Ну что ж — и звери между собой бывают ласковы.
На четвертый день ребенок умер. И сестры понесли его на кладбище хоронить.
Маргарита не плакала. Она двигалась машинально и была как деревянная. Но делала все, что ей говорила сестра.
Похоронив ребенка, сестры пошли прочь. Они молча шли, ничего не говоря друг другу. Потом они увидели, что идут не к дому, а в другую сторону. И тогда Василиса сказала:
— Надо было бы зайти домой взять какой-нибудь еды и что-нибудь из вещей.
Маргарита ничего не ответила, и они снова пошли. Они шли до вечера, пока не наткнулись на партизанскую заставу.
Партизаны отвели их в свой отряд. И в этом отряде Василиса осталась санитаркой. Что касается Маргариты, то она продолжала болеть, и ее в скором времени отправили самолетом на Большую землю.
8. Не продаю свою родину
Комсомолец Николай Соколов вместе с родными проживал в деревне Рассадники, Порховского района.
Семья Соколовых была большая — отец, мать, три малолетние дочурки и два сына — Николай шестнадцати лет и, двумя годами младше его, Володя.
Когда немцы подходили к деревне, многие жители ушли в лес. Ушел и Яков Соколов со своим старшим сыном Николаем. Но Яков тогда сильно хворал, у него была сердечная болезнь, опухали ноги, и он с трудом ходил. И поэтому решил вернуться в деревню, после того как немцы прислали в лес делегата, который сказал жителям:
— Без страха возвращайтесь в деревню. Каждому вернувшемуся немцы гарантируют личную свободу. Наоборот — оставшиеся будут расстреляны и их дома сожжены.
И вот Яков Соколов решил вернуться, но его сын Николай сказал ему:
— А ведь я, отец, не могу вернуться в деревню. Я комсомолец, и мне не полагается быть при немцах.
Отец сказал ему:
— Ты же знаешь, как я хвораю, и, вероятно, скоро умру. На кого я оставлю свою многочисленную семью? Ты у меня старший сын, и я убедительно прошу тебя вернуться со мной.
Николай пожалел отца и вернулся. Но он вернулся еще и потому, что партизанское движение в то время только начиналось, оружия ни у кого не было, и непонятно было, что делать в лесу и как там находиться.
В общем, отец и сын вернулись. А через несколько дней немцы окружили дом Соколовых и двух братьев, Володю и Николая, вытащили на улицу.
На улице стоял немецкий офицер и рядом с ним староста.
Почтительно кланяясь офицеру, староста сказал ему:
— Осмелюсь доложить, господин офицер, один из этих подростков есть политическое лицо — комсомолец. Как прикажете с ним поступить?
Офицер пристально посмотрел на Николая, махнул своей перчаткой, которую держал в своей руке, и сказал всего лишь одно слово: «Полицай».
Мать Николая вскрикнула, услышав это. Она подумала, что ее сына забирают в полицию, в тюрьму. Но староста ей сказал:
— Позволяете себе кричать в присутствии офицера. А речь идет всего лишь об учебе. Вашего Кольку мы направляем в город Порхов на кратковременные курсы полицейских.
Николай невольно вскрикнул, когда услышал эти слова. Побелев как бумага, он сказал старосте:
— Ты что — с ума сошел, направлять меня в полицию? Не для этого я пробыл в комсомоле два года.
Староста схватил Николая за плечи и стал со злобой его трясти, говоря:
— Вот поэтому тебя и направляют в полицию, чтобы ты забылся там от своих политических заблуждений.
Тогда офицер сказал:
— Этот подросток не надо полицай. Он — обоз…
Староста перестал трясти Николая и сказал ему:
— В полицаи мы направляем тех, кто идет туда добровольно, желая всей душой принести пользу Германии. Ты же от этого отказался и вот теперь получай скуку — будешь трястись в обозе.
Коля сказал старосте:
— И в обозе я не буду служить. Я не стану на них работать.
Усмехнувшись, староста сказал Николаю:
— Ну, это мы посмотрим, как ты у них не будешь служить. Они выбьют из тебя лишние мысли.
Николая увели, и родные долгое время его не видели.
Но вот однажды из Латвии шел обоз в сторону немецкого фронта. Это был огромный обоз из крестьянских телег, которых было не меньше сотни. И там среди извозчиков находился Николай Соколов.
Когда обоз проходил по деревне, Николай соскочил с телеги и громко крикнул:
— Стой! Бросай вожжи…
Обоз остановился, и Николай снова крикнул:
— Бросай вожжи… Не продаем свою родину!
Извозчики стали шуметь и кричать. И многие из них, побросав вожжи, кинулись бежать с криком: «Не продаем родину!»
Николай прибежал домой. Он бросился к отцу и сказал ему:
— Папа, вон что они с нами делают — заставляют возить грузы для своего фронта. Ведь это значит, что я помогаю им воевать. А я комсомолец и должен другим показать пример.
Отец посадил Колю на лавочку, обнял его и сказал:
— Я всецело понимаю тебя, сынок. Давай придумаем что-нибудь, пока они не пришли за тобой.
И только отец произнес эти слова, как вдруг в избу ворвался староста и вслед за ним немецкий ефрейтор. Увидев Николая, староста крикнул:
— Вот он, из-за которого разбежался весь обоз!
Николай сказал старосте:
— Или ты думаешь, что я изменник и буду работать на германскую армию?
Немецкий ефрейтор подошел к Николаю и ударил его так, что Николай упал и с кровью выплюнул несколько зубов.
Мать закричала. Девчонки заплакали. Отец подбежал к Николаю.
А тот, поднимаясь с пола, увидел на лавке нож, и отец, увидев это, крикнул:
— Коли его, сынок!
И Николай ударил ефрейтора ножом так, что тот без звука упал.
Староста пронзительно закричал, но отец прикрыл его рот рукой, и они оба, схватившись, упали на пол. Отец подмял под себя старосту и крикнул Николаю:
— Беги скорей, сынок, я держу его…
Коля бросился к выходу, но крики старосты уже услышали на улице. И в избу ворвались немецкие солдаты.
В общей суматохе Коля успел выбежать из дома. Он миновал улицу и бежал теперь полями, стараясь достигнуть леса. Но тут немецкие солдаты стали в него стрелять из автоматов. Николай упал и остался лежать на дороге. Он был убит.
Немцы схватили Якова Соколова и увели его с собой.
Володя с матерью перенесли убитого Николая в сад и хотели его тут похоронить, но староста не разрешил им этого сделать. Он сказал: «Отнесите убитого туда, где он был убит, и там закопайте его. И никакого камня или даже знака я не разрешаю вам положить на его могилу».
Мать не могла исполнить этого приказания, она так плакала, что не в силах была приподняться с земли. Но тут снова немцы ворвались к Соколовым и крикнули им: «Все до единого выходите во двор».
Володя Соколов понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Он схоронился в сенях и во двор не вышел.
И тогда фашисты расстреляли его мать и трех его сестренок.
Вечером, когда стемнело, Володя бежал в лес. И там партизаны приняли его в свой отряд.
Володя Соколов был назначен разведчиком в Семнадцатый отряд, входящий в Третью партизанскую бригаду.
9. Надо отвечать огнем
Мать ушла в город за солью. Семнадцатилетняя девушка Тося осталась одна.
Она вынула из-под подушки тетрадочку и стала перечитывать свои стихи.
Где-то послышались ружейные выстрелы. С тетрадочкой в руках Тося выбежала на улицу, чтобы посмотреть, где стреляют.
Из соседнего дома вышел молодой человек — Петя Лютов. Из всей мужской молодежи он один остался в деревне. Он прихрамывал, и поэтому его не взяли в армию. И немцы, видя, что он калека, отнеслись к нему невнимательно — не назначили его никуда. Но он сам себя назначил — заготовлял продовольствие, доставал оружие и патроны для партизанского отряда, стоящего за Шелонью.
Итак, Петя Лютов вышел из дома и прислушался к выстрелам. Сказал:
— Где-то близко стреляют. Ну да вряд ли что-нибудь серьезное — слишком далеко от фронта.
Увидев тетрадочку у Тоси, Петя улыбнулся. Спросил:
— Что, поэтесса, опять стихи сочиняешь?
Вместо ответа Тося сказала:
— Петя, вот ты умный, студент третьего курса, медик. Должен все знать. Скажи, почему у людей бывает потребность писать стихи?
Улыбаясь, Петя ответил:
— Стихи пишут те люди, у которых чувства идут не на реальные дела, а на свои мечты. На бумаге у них «ах» и «ох», а на деле они пас. По-моему, это несчастные люди.
— А Пушкин? — обиженно спросила Тося.
Петя сказал:
— Пушкин писал от избытка своих чувств. Но это бывает крайне редко. Большинство пишет…
Петя не договорил. Пули совсем близко просвистели над головой. Со стороны огорода Петя и Тося неожиданно увидели немецкий отряд, который неторопливо двигался по шоссе. Впереди идущие солдаты по временам стреляли из автоматов. Отряд приблизился к деревне.
Петя торопливо сказал:
— Похоже на то, что это карательный отряд. Ведь немцы знают, что партизаны у нас бывают.
Теперь пули роем звенели в воздухе. По улицам метались люди, не зная, что предпринять. Петя крикнул:
— Скорей к реке! Там окопы…
Тесня друг друга, люди побежали к реке. Там на берегу Шелони были вырыты окопы. Когда-то здесь происходили учения Красной Армии, и вот с тех пор остались эти окопы.
В одной небольшой землянке набилось человек тридцать. Люди стояли, напуганные неожиданностью. Прислушивались к выстрелам, которые продолжались. В землянке было много детей. Но они не плакали. Только лишь некоторые дрожали, прижимаясь к взрослым. Сжав Тосе руку, Петя сказал:
— Как это унизительно, Тося. Однако будем надеяться, что здесь нас не тронут.
Неожиданно открылась дверь землянки. Показался молодой фашистский солдат с гранатой в руках. Люди прижались друг к другу, ожидая, что сейчас солдат бросит гранату. Однако солдат, постояв секунды две, удалился, прикрыв дверь землянки. Он, вероятно, рассчитал, что ранит себя, если кинет гранату с этой открытой позиции.
Взобравшись на крышу землянки, солдат опустил гранату в трубу. В печке раздался оглушительный взрыв. Однако печка была сложена крепко, выдержала взрыв. Никто не был ранен.
Люди стояли в землянке, оглушенные и подавленные.
Снова открылась дверь, и опять появился тот же солдат. Он сказал по-немецки:
— Черт возьми, они целы!
Потом добавил по-русски:
— Наверх! Бистро…
Люди вышли из землянки, поднялись из окопов на поле. Там еще стояло человек сорок. Фашисты скомандовали:
— Идите в свой деревня Горуха. Бистро…
Люди пошли полем, недоверчиво оглядываясь. И тогда фашисты открыли пулеметный огонь.
Некоторые сразу упали. Но многие побежали вперед по открытому полю. И там, сраженные пулями, падали и падали.
Почти теряя сознание, Тося побежала вдоль обрывистого берега. Кто-то с силой толкнул ее в спину. И тогда она сползла с обрыва к реке. Рядом с ней оказался Петя Лютов. Схватив Тосю за руку, он тащил ее вперед.
Некоторое время они бежали по берегу. Увидев рыбацкую лодку, вскочили в нее, чтобы переплыть на тот берег. Но подбежало еще несколько человек. Люди уселись и не без труда оттолкнулись от берега. В лодке оказалось девять человек. Она была уже на середине реки, когда с берега стали стрелять. Трое сразу были убиты. Остальные попадали на дно лодки. И лодку тихо понесло по течению.
Тося выглянула на берег. Два солдата стояли на берегу и стреляли из автоматов. Их пули снова стали задевать лодку. Еще была убита одна женщина, и Петю Лютова ранило в руку. Рука его повисла, как плеть.
Казалось, спасенья нет. К счастью, река делала поворот, и лодку скрыло за кустами. Выстрелы продолжались, но пули летели стороной.
Из девяти человек на берег вышло пять.
Тося легла на землю и не захотела подняться. И когда товарищи сказали, что надо идти, Тося ответила:
— Никуда не пойду. Оставьте меня тут. Если на земле есть такие звери, которые так жестоко и бессмысленно уничтожают людей, то мне не хочется жить. Я хочу умереть.
Перевязывая свою рану куском рубашки, Петя Лютов спокойно сказал:
— А что ты удивляешься, что есть такие звери? Ведь это нацисты, гитлеровцы. И потом они далеко не бессмысленно уничтожают людей. Они этим хотят ослабить нашу страну. Они ведут подлую войну на истребление нашего народа, хотя и прикрываются враньем. И на это, Тося, надо отвечать огнем, а не слезами или нытьем. Дело слишком серьезно. Говорю тебе об этом как комсомолец. Никакого малодушия сейчас не должно быть. Никакого колебания. Встань и иди, если не хочешь, чтобы я тебя презирал.
Открыв глаза, Тося взглянула на Петю. Тот сказал:
— А если ты такая тонкая, возвышенная поэтесса и непременно хочешь умереть, увидев то ужасное, что мы сейчас пережили, так иди и умирай. Не возражаю. Да только умирай с пользой для дела. В борьбе с врагом. А не тут, в кустах, с лягушками и червями.
Тося поднялась с земли. Ей теперь неловко было глядеть в глаза своим товарищам. Подойдя к Пете, она сказала:
— Сама не понимаю, что такое произошло со мной.
Петя Лютов молча пожал ей руку. Ничего не ответил.
Молча шли и остальные.
Шли кустарником. Потом пошли лесом. Знали, что тут, где-то за Шелонью, стоит партизанский отряд.
Партизаны, услышав выстрелы, послали вперед своих разведчиков узнать, что происходит.
И тут разведчики встретили идущих лесом и повели их к командиру отряда.
10. Мы вас не звали
Группа женщин работала у деревни Дряжи, недалеко от Порхова. Немцы послали их сюда ремонтировать дорогу.
Работали женщины без охраны. Им ежедневно лишь указывали, какой надо выполнить урок.
Стояли холодные дни, и работающие иной раз забегали погреться на кухню. Там в одном доме, недалеко от дороги, помещалась немецкая кухня. И повар разрешал погреться у плиты.
Этот повар любил пошутить с русскими женщинами. Он разрешал им бывать на кухне. Мужчин же, наоборот, отгонял от крыльца. Даже иной раз, по своей фашистской шутливости, скорей для забавы, чем всерьез, прицеливался в них из пистолета, который он носил в кобуре под своим белым халатом.
Забегала на кухню и Маша А-ва. Но она забегала редко. Ей неприятен был этот толстый повар, постоянно весело настроенный. Когда Маша входила на кухню, повар всякий раз начинал подмигивать и лопотать по-немецки что-то такое, от чего он сам и его помощник покатывались со смеху.
И вот однажды Маша работала на дороге, и к ней подошел какой-то незнакомый человек. Спросил ее вежливо, тихо, наклонившись к ней:
— Будьте любезны, гражданка, скажите — вы лично сильно пострадали от фашистов?
От неожиданности Маша не сразу поняла этот вопрос, переспросила незнакомца. Тот сказал:
— Ну, может быть, из близких у вас кто-нибудь убит или расстрелян. Или, может быть, враги ваш дом в деревне сожгли. Какую именно потерю вы понесли от фашистов?
Маша сказала:
— Нет, на этот счет у меня как раз все благополучно. Мама жива и здорова. И мои детишки находятся при ней в деревне. Бабушка же проживает в Порхове. И она тоже там ничего не потеряла. Так что я не могу сказать, что лично я как-либо пострадала.
Незнакомец сказал Маше:
— Ну, тогда разговор с вами отпадает. Тогда укажите мне на какую-нибудь женщину, которая наиболее сильно пострадала от фашистов.
Маша ответила:
— Таких у нас имеется немало. И даже есть одна, у которой фашисты расстреляли мужа и трех ее детей. Но зачем вам все это? Для чего вы собираете эти сведения?
Незнакомец сказал:
— Отвечу с полной откровенностью, чтобы вы не думали, что тут какая-нибудь провокация. Я разведчик из ближайшего партизанского отряда[16]. Мы еще вчера заметили, что ваши работающие женщины нередко забегают на кухню. И вот мы собираемся размочить одно дело. Хотим засыпать отраву в какой-нибудь их кухонный котел.
Маша сказала:
— И что же, вы ищете такую женщину, которая пошла бы на это?
Партизан сказал:
— Да, ищем такую, которая желала бы отомстить врагам за свою беду, за свое несчастье. Такую женщину, которая пошла бы на это с пылающим сердцем. Потому что дело это, вы сами понимаете, крайне рискованное. И если фашисты схватят ее за руку, то можно представить, что произойдет и что с ней будет.
Маша сказала:
— Так дайте я это сделаю. Зачем вам непременно надо, чтобы у меня дом сожгли или кого-нибудь убили?
Партизан сказал:
— Нет, это, конечно, не обязательно. Мы просто хотели этим облегчить вашу задачу. А если вы согласны и без этого, тогда отлично. Это показывает, какая вы истинная патриотка своей родины.
Маша сказала:
— Короче говоря, дайте сюда порошок. Я сегодня же сделаю то, что вы просите.
Партизан подал ей порошок и сказал:
— Это очень сильный яд. Одной порции хватит отравить роту солдат.
Маша спросила:
— Как его сыпать, куда?
Партизан сказал:
— Лучше всего высыпать его в суп, но можно и во второе. Вкуса и цвета яд не имеет. И покушавший отравленную пищу не поймет, что это отрава. Он ничего не заметит, пока его не схватит окончательно.
Маша взяла порошок и пошла на кухню.
И вот стоит она у плиты, греется и посматривает, что там у них варится в котлах. В одном котле кофе с молоком, в другом — свинина с картошкой. Супа же нет.
На кухню пришел помощник. Вместе с поваром он взял начатую свиную тушу, и эту тушу они понесли во двор, в сарай.
Маша поспешно высыпала в кофе порошок, а что осталось на бумажке, она всыпала во второе. И только она успела это сделать, на кухню вернулся повар.
На дворе ему было холодно, он продрог, и поэтому он сразу налил себе полстакана кофе и принялся его пить, бормоча: «Корошо».
Вернулся и помощник. Он тоже налил себе кофе, стал пить. А Маша почему-то не уходит. Стоит, смотрит на них. И что-то, должно быть, в ее облике было угрожающее. Она молчала, но всем своим видом как бы говорила: «Мы вас не звали сюда. А пришли, так вот и кушайте начинку, если вам позволяет аппетит». Во всяком случае, повара, взглянув на нее, нахмурились, отвернулись.
Маша немного постояла на кухне и ушла. Она вернулась к своей работе. И не меньше часа еще работала. И все поглядывала на кухню — не вынесут ли ее поваров на носилках. Но этого не случилось.
На другой день было воскресенье. И Маша отпросилась у немцев в Порхов, навестить свою бабушку.
А у бабушки одна ее знакомая работала в городской больнице. До немцев она работала в палатах уборщицей, а при немцах ее перевели работать по двору. И Маша упросила бабушку сходить к этой женщине, узнать у нее — не привозили ли в больницу отравленных фашистов.
Бабушка пошла к ней и, вернувшись, сказала Маше:
— Под самый вечер вчера привезли в больницу двадцать восемь солдат. Из них двадцать загнулось еще в пути. Остальные держатся, но вряд ли поправятся.
Маша вернулась в деревню и в понедельник вышла на прежнюю работу. Ожидала, что арестуют работающих, если повар успел проговориться, что он пускал их на кухню. Однако повар одним из первых отправился в иной мир. Вслед за ним туда же, молча, ушел и его помощник.
В следующее воскресенье Маша выяснила у бабушки, что и остальные фашисты тоже, как говорится, вскоре откланялись.
Маша сказала бабушке:
— Теперь я спокойна. Я выполнила свою задачу.
11. Так что же вам надо?
В городе Пушкине Мария Васильевна проживала с тридцать девятого года. Она там работала вахтером на электростанции.
Когда стало известно, что немцы приближаются, Мария Васильевна вырыла две ямы и закопала туда свое имущество. Однако уйти не решалась — кругом шли бои.
Немцы вошли в город Пушкин 17 сентября. И, к удивлению Марии Васильевны, они отнеслись к населению прилично. Стало известно, что у них был приказ по армии — не раздражать людей, не сердить их, чтобы они не уходили к партизанам. И поэтому фашисты временно прекратили свои грабежи и насилия, стали вежливы и даже провели эвакуацию гражданского населения.
Тех, у кого были дети, они везли поездом до Гатчины. А потом на крестьянских подводах до Гдова.
А в деревне Леонтьево Порховского района проживали родные Марии Васильевны. И она попросилась у немцев к своим родным. Ей разрешили, и она со своими двумя детьми приехала в деревню.
Немцы и там не позволяли себе ничего лишнего. И даже они подчеркивали свою показную гуманность и доброту. Этим они хотели ослабить партизанское движение, прекратить новый приток сил к партизанам. Это входило в их военные планы.
Но эти меры не дали им ожидаемых результатов. Деревня Леонтьево да и кругом другие деревни наладили крепкую связь с партизанами. И некоторые жители стали уходить в лес.
Собралась уйти и Мария Васильевна. Но партизаны, которые нередко заходили в деревню побеседовать с жителями, сказали ей:
— У тебя двое детей, и это затруднит твое пребывание в лесу. Лучше оставайся тут, и этим ты еще больше принесешь нам пользы — будешь давать нам сведения и выполнять некоторые наши поручения.
И тогда партизаны стали давать Марии Васильевне различные поручения. Иной раз они просили ее сходить в Порхов — узнать, где именно стоят военные части. Или просили ее выяснить, на каком мосту какая охрана. Ходила Мария Васильевна и в военный городок — разузнавала, сколько там людей.
А в самом Порхове проживала родная сестра Марии Васильевны. И Мария Васильевна нередко у нее бывала. И там она сумела наладить связь с порховчанами, среди которых много было желающих уйти к партизанам.
Но к тому времени партизаны перестали брать людей без оружия. И они просили Марию Васильевну передать порховчанам, что кто желает быть партизаном — пусть несет с собой оружие, пусть добьется и достанет его. И это для каждого добровольца будет лучшей рекомендацией, чем какая-нибудь горячая характеристика на бумаге.
Достать же оружие было нелегким делом. И главное, вынести оружие из Порхова почти не представлялось возможным. Немцы следили за этим и останавливали подозрительных людей.
Но однажды староста приказал Марии Васильевне отвезти в Порхов снегозадержатели — деревянные щиты, которые были изготовлены в деревне Леонтьеве Мария Васильевна повезла эти щиты, сдала их. А на обратном пути некоторые из добровольцев положили в ее телегу всякого рода оружие и сами пошли вперед.
Мария Васильевна благополучно вывезла это оружие из Порхова. И добровольцы сердечно благодарили ее. И с оружием в руках они ушли в лес.
Между тем немцы стали подозревать, что именно в деревне Леонтьево налажена связь с партизанами. И, в частности, их подозрение пало на Марию Васильевну. Но никаких доказательств у них не было, а без этого они не хотели арестовывать людей, чтобы, согласно приказу, не раздражать их.
И тогда старосту деревни Леонтьево вызвали в уезд, и там немцы побеседовали с ним в присутствии какого-то их референта по русским вопросам. Немцы сказали старосте:
— Кажется, к вашим людям мы относимся теперь вполне прилично. Не тесним их. Распустили колхозы. Даем торговать. Предоставляем льготы. Наши солдаты иной раз приносят вашим детям котелок супа или дают им бомбошки, леденцы. Так что ж вам еще надо?
Староста говорит:
— Сам не понимаю, что им требуется.
Фашисты говорят старосте:
— Ваши люди не чувствуют благодарности к нам. Мы имели такую надежду, что вы все сразу откажетесь от советской власти, но теперь мы видим, что это не так. Люди по-прежнему уходят к партизанам, по-прежнему стремятся вернуть то, что у них было; или, говорят, ваши люди не понимают возможностей иной жизни, или мы не разбираемся, что такое с вами.
Староста говорит:
— Сам не перестаю дивоваться, что такое с людьми.
Гитлеровцы говорят:
— Ты староста, и, значит, ты и руководи своими людьми. В противном случае мы в порошок их сотрем. И только пока мы не можем на это пойти по тактическим соображениям.
Староста говорит:
— А что я могу сделать? Я сам шестую неделю не сплю — пугаюсь партизан.
Нацисты говорят ему:
— А ты поговори с людьми. Объясни им, как нехорошо уходить к партизанам. Как неблагородно с их стороны покидать тех, которые так прекрасно к ним относятся, дают их детям бомбошки, суп. Сам найди какие-нибудь слова, идущие от твоего сердца. Иначе мы просто тебя повесим.
В грустном настроении староста вернулся в деревню. А так как он пугался не только партизан, но и всех жителей, имеющих к ним отношение, то он сказал Марии Васильевне, низко сняв перед ней свою шапку:
— Марья Васильевна, вы уж как-нибудь потише орудуйте, чтобы это не настолько в глаза бросалось.
Однако тишины в деревне не получилось. Наоборот, случилось происшествие более шумное, чем когда-либо раньше.
В деревне проживали два добровольца, два человека, которые давно уже решили уйти к партизанам. Однако оружия они никак не могли достать. И поэтому три месяца сидели в деревне.
Но кому надо собаку ударить, тот палку сыщет. Через деревню Леонтьево проезжали грузовые машины. И два шофера задержались тут. Они хотели приобрести себе крупы, масла, яичек.
Добровольцы заманили гитлеровцев в амбар и там, связав, отобрали у них оружие. И с этим оружием ушли в лес.
После этого в деревню Леонтьево нацисты прислали карательный отряд. И тогда многие жители ушли к партизанам.
12. Он приказал молчать
Валя Г.* стояла у окна. По улице деревни Фотинино ходили нацистские солдаты. Они галдели, смеялись, играли в чехарду.
Странно веселятся эти победители. То у них чехарда, то они играют в карты, то пьют с необыкновенными криками и стрельбой. И все время, не переставая, кушают.
Какой-то их белобрысый солдат, сидя на скамейке у ворот, играет на губной гармошке. Играет удивительно, искусно, с переливами. Но песенка чужая, непонятная, не трогает ни ум, ни сердце.
Валя прислушалась к этой чужой музыке. Сердце сжалось от тоски. Впереди неизвестно что. Какой-то новый фашистский порядок.
За окном стало темнеть. Мать окликнула Валю:
— Не торчи у окна. Ложись спать.
Девушка молча выпила свой остывший чай, присела на постель.
В этом рассказе (как и в некоторых других рассказах) фамилию я не публикую — для этого хотелось бы иметь согласие тех лиц, о которых идет речь.
Мать со вздохом сказала:
— Где-то теперь наш Василий…
Это мать вспомнила о своем брате Василии, который месяц назад ушел в лес к партизанам. И вот ничего о нем не известно — жив ли или схвачен немцами.
В избе стало совсем темно. За окном затихли голоса. Где-то, грохая ногами, прошел немецкий отряд. Потом опять все затихло.
Вдруг кто-то постучал в окно. Кто-то тихо побарабанил пальцами по стеклу.
Валя открыла дверь. В избу вошел дядя Василий.
Мать сказала:
— Ну вот, хорошо, не побоялся прийти. Садись ужинать. Рассказывай.
Дядя Василий отказался от ужина. Торопливо сказал:
— Я зашел на минуточку. За радиоприемником. Хочу отнести его в лес. Там у нас один мастерит передатчик, так вот нужны некоторые детали.
Дядя Василий полез на чердак, достал приемник, заваленный разным хламом, и стал прилаживать его, чтобы нести на плечах.
Мать сказала:
— Тяжело нести на плечах. Да и немцы могут увидеть поклажу. Давай я завтра отвезу его на телеге куда тебе надо.
Дядя сказал:
— А верно, сестра, отвези-ка ты его на телеге в деревню Овсище. И отдай Марье. А я от нее возьму. Мне оттуда рукой подать.
Дядя Василий попрощался с сестрой и племянницей и снова ушел в темноту. Валя сказала матери:
— Ах, надо было бы мне пойти с дядей Василием. На что мне тут оставаться в деревне.
Мать сказала:
— Ну вот, будешь в свои семнадцать лет ходить по лесу. Не надо этого делать.
Рано утром девушка вынесла радиоприемник на двор и положила его в телегу. Стала маскировать сеном. Но приемник был громоздкий, в красном деревянном футляре. Как ни закрывай его сеном, он горбом торчит на телеге.
Девушка принесла мешок картошки, положила этот мешок на сено, рядом с приемником. Теперь горб из-под сена возвышался не так одиноко и подозрительно.
Мать запрягла телегу. Но Валя не взяла мать с собой. Сказала ей:
— Довезу одна. Вдруг схватят — пусть уж буду одна в ответе.
Стали открывать ворота, чтобы ехать. И вдруг во двор вошли четыре фашистских солдата.
Или кто-нибудь им сказал о приемнике, или они сами увидели движение во дворе, но только они сразу подошли к телеге и, разворошив сено, вытащили радиоприемник.
Грубо толкая мать и дочь, они повели их в комендатуру и там посадили в одну камеру.
Мать и дочь решили молчать, не признаваться ни в чем. Не хотели подводить Василия, которого враги могли бы захватить в деревне Овсище.
Уже на первом допросе Валя поняла, что вряд ли их оставят в живых.
Следователь был немолодой, ожиревший человек с маленькими свиными глазками и с удивительно неподвижной каменной физиономией. Он допрашивал не крича и бил по лицу с какой-то тупой вялостью, со скукой и равнодушием.
Кто он был — немец или русский — нельзя было понять. Может быть, даже и русский. У нацистов было правило наказывать руками русских. И для этой цели они выискивали себе всяких выродков.
Во всяком случае, это животное неизвестной породы отлично говорил по-русски.
Увидев, что женщины упорствуют и молчат, следователь сказал им, не повышая голоса:
— Потерять зрение не такая уже беда, когда впереди предстоит виселица, но все-таки неприятно. Так вот, потеряете глаза, если не скажете, куда везли радиоприемник и где находится партизанский отряд.
Этот подлец был опытный палач. Он заметил, что мать защищает свою дочь, выгораживает ее. И поэтому он стал производить свои опыты над дочкой, а не над матерью. А мать заставлял сидеть рядом.
Он брал в руки кинжал, с силой замахивался, но ранку около глаза наносил неглубокую. Хотя всякий раз казалось, что кинжал пробил глаз.
Эту пытку он продолжал три дня. Но не добился своего. Однако на третий день мать стала бормотать что-то несвязное. Она лишилась рассудка.
На четвертый день Вале объявили, что она и ее мать будут повешены.
В поле сколотили деревянный помост с двумя виселицами.
Четко шагая, пришел взвод фашистских солдат во главе с офицером.
Толпа человек в триста молча стояла вокруг помоста. Это были жители деревни Фетинино и ближайших деревень Ново-Сокольского района.
Фашисты пригнали сюда людей, чтобы они здесь, у помоста, увидели всю непреклонность нацистской силы.
Два солдата привели мать и дочь. И те без сил опустились на траву.
Офицер вышел на помост, но сам он говорить не стал. Вслед за ним поднялся на помост штатского вида человек, который сказал зрителям:
— Господин офицер доверил мне сообщить вам, что сейчас будут повешены две женщины за их содействие партизанам. С каждым из вас будет поступлено одинаково, однако вы можете избежать такой участи. Для этого надо понять, что к прошлому нет возврата — советская власть не вернется, и потому бессмысленно помогать партизанам. Новый немецкий порядок требует от вас единственного благоразумного пути — безропотно работать на благо великой Германии…
Неожиданно кто-то свистнул в толпе. Свисток был короткий, но резкий. Немецкий доверенный прервал свою речь. Офицер гневно взглянул на толпу. Толпа молчала.
Доверенный вопросительно взглянул на офицера, но тот не разрешил продолжать речь. Он что-то сказал, и тогда два солдата бросились к своим жертвам. Они подняли на ноги мать Вали и повели ее к помосту.
Валя, закрыв лицо руками, упала ничком в траву.
Вдруг раздался чей-то пронзительный крик:
— Злодеи!
Валя приподнялась на локте и, страшась взглянуть на виселицу, посмотрела на толпу. Толпа глухо гудела. То в одном, то в другом месте раздавались крики: «Злодеи»…
Офицер вышел на помост и крикнул, повелительно взмахнув рукой:
— Молчите!
Кто-то снова пронзительно свистнул, и снова раздались крики: «Злодеи!»
Офицер что-то сказал солдатам, и восемь автоматчиков бросились к толпе, чтобы схватить тех, кто кричал. Но там люди замолкли, и солдаты остановились в нерешительности.
И тогда в другой стороне раздались крики: «Злодеи». Офицер снова отдал приказание, и еще восемь автоматчиков кинулись к толпе. Но и там смолкли крики.
Но вот совсем в другой стороне, позади офицера, кто-то громко и отчетливо произнес:
— Товарищи, не подчиняйтесь фашистским злодеям!
Выхватив револьвер из кобуры и потрясая им, офицер гаркнул:
— Я приказал молчать!
В ответ раздались свистки и крики.
Минуту офицер стоял в нерешительности. Он был бледен, и руки у него дрожали. Потом, взяв с собой остальных солдат, он поспешно повел их по рядам людей, стараясь водворить спокойствие. Но гул по-прежнему стоял в толпе. Люди гудели, не раскрывая рта.
Вдруг Валя почувствовала, что кто-то берет ее за плечи и тащит по земле. Девушка приподняла голову, но кто-то тихо сказал ей:
— Лежи… Не поднимайся… Мы оттащим тебя в сторонку…
Как куль с зерном, Валю потащили по земле. И люди вокруг нарочно так встали, что издали этого было не видно.
Валю оттащили к оврагу. Она сползла вниз. И там снова кто-то взял ее за плечи и подтащил к кустам.
Теперь Валя лежала в кустах. А люди, которые притащили ее сюда, быстро ушли.
Кругом по-прежнему продолжался шум, раздавались свистки и крики.
Потом все смолкло.
Не сон, а какое-то забытье охватило девушку.
Но вот кто-то наклонился над ней. Валя открыла глаза. Перед ней стояла жительница деревни Ветинино — тетя Дарья. Она сказала Вале:
— Гляди, в деревню не заходи. Они повсюду тебя ищут. Вечером иди в лес… Вот возьми, я припасла тебе покушать.
Тетя Дарья подала Вале лепешку, несколько вареных яиц и бутылку молока.
Валя выпила немного молока и заснула.
Она проснулась, когда солнце было на западе.
Быстро стемнело. И тогда девушка встала и пошла к лесу.
Всю ночь она шла лесом. И только под утро ее окликнули партизаны. Но это были партизаны не из отряда ее дяди. Это были партизаны из Третьей бригады, которой тогда командовал товарищ Литвиненко.
Только через месяц Валя Г., уже будучи разведчицей, встретила своего дядю Василия и рассказала ему о том, что произошло.
13. Лиха беда — начало
Колхозник Василий Терентьевич М. отстал от партизанского отряда. Отряд этот за несколько часов до прихода фашистов в деревню был сформирован секретарем районного комитета.
Василий Терентьевич замешкался в доме, прощаясь со своими близкими. И когда он вышел на улицу — секретарь райкома уже увел свой многочисленный отряд.
Василий Терентьевич пытался догнать этот отряд. Но не догнал. Лишь встретил в лесу небольшую группу молодых колхозников, почти подростков, бежавших от нацистов из разных деревень. В этой группе было семь человек.
Теперь эти семь человек и восьмой — Василий Терентьевич пошли лесом с надеждой разыскать партизанский отряд секретаря райкома. Блуждали целые сутки и наконец поняли, что их надежды напрасны. Вероятно, пошли на розыски не в том направлении.
Василий Терентьевич сказал:
— Создается такая ситуация, что нужно самим действовать, самим положить начало отряду. Среди нас, к сожалению, нет членов партии, лишь я один шесть дней назад подал заявление о приеме меня в кандидаты. Считаю поэтому своей обязанностью не отстраняться от предстоящих трудностей. Возьму руководство в свои руки, если вы не будете возражать.
Все охотно согласились. И новый командир отряда повел свой крошечный отряд поближе к деревням, чтобы наладить связь с населением и чтобы пополнить свои ряды.
Отряд вскоре пополнился одиночными людьми, которые то и дело уходили от врагов. Присоединился к отряду и один красноармеец, отставший по болезни от своей отступающей воинской части.
Можно было рассчитывать, что отряд и в дальнейшем будет увеличиваться. Однако с оружием было убийственно плохо. Из семнадцати человек, что насчитывалось в отряде, только лишь один красноармеец имел винтовку. У остальных оружия не было. Правда, нашли в поле еще один немецкий автомат, но он бездействовал — не было патронов. Да еще имелся в отряде один старинной конструкции револьвер с барабаном. Принес этот револьвер молодой шестнадцатилетний колхозник Филиппов. Он показал людям, как надо обращаться с его древним оружием, но при первом же выстреле патрон разорвало в барабане, и Филиппов поранил себе руку.
Между тем положение в отряде было крайне тяжелое. Еду раздобывали по деревням, но украдкой, ночью, не без труда. Пробовали достать оружие у крестьян, но безуспешно.
Василий Терентьевич устроил собрание. Сказал партизанам:
— Положение имеем критическое. Ходим по лесу буквально как осенние мухи. Между тем у нас есть точное указание, как нам следует поступать в районах, занятых врагом.
Василий Терентьевич достал из кармана сложенный вчетверо газетный листок и сказал:
— Мы уже с вами слушали по радио третьего июля сего года… Еще раз напомню вам…
Партизаны лежали под соснами. Василий Терентьевич встал, и вслед за ним поднялись партизаны. Развернув газетный листок, Василий Терентьевич стал читать: «В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия…»
Василий Терентьевич снова аккуратно сложил газетный листок и, спрятав его в карман, сказал:
— Всей душой мы согласны выполнить это указание. Всей душой мы будем стремиться создать врагу эти невыносимые условия, такие условия, чтобы у врага ноги в коленях сгибались при одном только слове «партизан». Но для разрешения этой задачи нам надо иметь оружие.
Помолчав, Василий Терентьевич сказал:
— Нет у нас оружия и нет указания, как и где его взять. А это не бочки для огурцов, за которыми мы ездили в район. Это в районе мы нажимали и требовали бочки. А тут и требовать не с кого. Тут и района нет. И нет нашего уважаемого секретаря райкома, отряд которого мы пока не сумели разыскать. Тут мы сами себе предоставлены. Сами с себя должны требовать и сами на себя должны нажимать.
Снова помолчав, Василий Терентьевич сказал:
— Спрашивается, где взять оружие? Имеется единственный ответ — взять его надо у противника, поскольку мы находимся в его тылу. Но пока мы противника не видим. Стало быть, в первую очередь надо его увидеть.
Еще раз помолчав, Василий Терентьевич сказал:
— Допустим, увидели врага. Спрашивается — как взять у него оружие, имея в отряде одну винтовку, один бездействующий автомат и забавный пистолетик товарища Филиппова? Думал я, думал и вот что придумал. Выйдем, друзья мои, на дорогу, допустим на шоссе, и там возьмем оружие у встречного врага. Однако возьмем с умом. Возьмем у такой воинской единицы, которую мы без особого риска можем подавить силой нашего оружия. Что же это за воинская единица, которую мы можем подавить? Допустим, едут два мотоциклиста. Берем у них два автомата. С двумя автоматами берем оружие у шести врагов. А имея восемь автоматов, мы уже свободно будем действовать в дальнейшем. Вот как нам надо поступить, для того чтобы у нас было оружие. Конечно, вместо дороги можно еще сходить в деревню и там взять оружие у полиции, но это хуже и неожиданностей больше. Нет, уж лучше сходим на шоссе и поглядим, что там. Учтем при этом, что в отряде есть неплохой стрелок, товарищ Киселев, получивший в свое время значок за стрельбу.
Один из партизан, сорокалетний Киселев, встал с земли и сказал со смущенной улыбкой:
— Василий Терентьевич, так ведь значок-то я семнадцать лет назад получил, когда в Красной Армии проходил учебу.
Василий Терентьевич сказал:
— Стрельба не забывается. Вот если бы у тебя зрение ослабло или ты сам ослаб, ну тогда другое дело. А про тебя этого не скажешь.
Киселев взял винтовку у красноармейца и сказал:
— Вон в ту шишку на дереве попробую прицелиться. До нее, я так думаю, сорок шагов.
Василий Терентьевич сказал:
— И хоть жаль мне патрона, но попробуй.
Киселев выстрелил. Шишка закачалась, но не упала. Василий Терентьевич сказал:
— Все-таки качнулась шишка, значит, пуля близко прошла.
Воспрянув духом, Киселев сказал:
— К винтовке надо привыкнуть, после чего можно делать чудеса.
Партизаны встали и нестройной толпой, как ходят по грибы, медленно двинулись лесом.
Два дня партизанский отряд товарища М. высматривал дороги и шоссе. Но от шоссе пришлось сразу отказаться. Движение там было слишком большое.
Стали следить за грунтовой дорогой. Выбрали удобную позицию, откуда дорога была видна на целый километр.
Вот фашисты провезли зенитное орудие. Но за орудием шла автомашина с солдатами. Потом прошел обоз из двадцати крестьянских телег. Но на каждой телеге сидели автоматчики. Потом проехало четыре грузовика. И, наконец, ближе к вечеру вдали на дороге показалось облачко пыли. Шла какая-то отдельная машина.
С огромной скоростью приближалась эта машина. И вскоре партизаны увидели легковую открытую машину, в которой сидело четыре офицера.
Василий Терентьевич сказал Киселеву:
— Останови машину. Бей шофера.
На расстоянии сорока метров Киселев выстрелил. Шофер качнулся в сторону и головой повалился на дверцу машины. Один из офицеров вскочил с сиденья, чтобы схватить рулевое колесо, но не успел. На полном ходу, ломая кусты, машина въехала в канаву и, повернувшись боком, грузно упала, врезавшись в землю.
Один из седоков, пролетев метров десять, остался лежать без движения. Остальные седоки лежали у машины, тоже не двигаясь.
Партизаны бросились к ним. Один из офицеров, приподнявшись на локте, выстрелил из револьвера, и пуля его обожгла плечо одного партизана.
Через минуту в руках партизан были четыре револьвера. Помимо того в машине нашли автомат. Но автомат был помят при падении. Однако патроны к нему имелись, и партизаны зарядили свой автомат.
Еще партизаны не успели убраться с дороги, как вдали снова показалось облачко пыли.
Шла грузовая машина, в которой везли части разбитого самолета. Три солдата сопровождали этот груз сомнительной ценности.
Шофер грузовика резко остановил свою машину, приблизившись к месту аварии. Три солдата и шофер бросились к лежащей на боку машине. Вероятно, подумали, что здесь несчастный случай, авария.
Стрелок Киселев и красноармеец Анисимов, у которого в руках остался заряженный автомат, взяли свое оружие на изготовку.
Вот фашисты сошлись вместе, чтоб, вероятно, поделиться своими впечатлениями. И тогда Василий Терентьевич подал знак рукой, чтоб стреляли. Красноармеец дал очередь, и два немца упали. Третий отскочил в сторону, взявшись за свой автомат, но пуля Киселева сразила его. Шофер побежал по дороге. Киселев выстрелил в него, но не попал. И шофер скрылся.
Теперь в руках партизан было четыре автомата.
Василий Терентьевич сказал:
— Лиха беда — начало… Уже с этим оружием мы сможем приступить к более крупной операции.
14. Не забудут до новых веников
Николай Иванович Травушкин считался в отряде неосторожным человеком. Когда ему об этом говорили, он сердился и доказывал, что он более осторожен, чем кто-либо, что он взвешивает все обстоятельства, как на аптекарских весах, и, только рассчитав все, поступает так, как подсказывает обстановка.
Такое мнение о Травушкине сложилось, вероятно, потому, что в начале своей партизанской деятельности он имел привычку оставлять гитлеровцам какую-нибудь памятку. Обычно он писал на листочке какое-нибудь предостережение, угрозу, а то и просто несколько слов, например: «Мстим за кровь советских людей».
И конечно, оставляя такие записки, он не раз задерживался для этого и тем самым не раз подвергал свою жизнь опасности.
Некоторые из товарищей говорили Травушкину, что писать такие записки — это есть, по их мнению, романтизм, совершенно излишний в такой смертельной войне.
На это Травушкин сердился и, как всегда немного заикаясь, говорил:
— В-вы не понимаете м-моей мысли. Х-хочу, чтобы фашисты покрепче з-запомнили, как ходить по нашей советской земле.
Однако вскоре Травушкин оставил эту свою привычку писать фашистам. Он нашел, что это недостаточно действует на них и что им нужны более сильные ощущения. Не записками, а пулей и гранатой нужно укреплять их память.
И поэтому, вместо записок, Травушкин стал уничтожать и сокрушать все, что было возможно, — все, что относилось к гитлеровцам.
Вот какой боевой огонь горел в сердце товарища Травушкина! Вот какая неукротимая ненависть пылала в его душе!
А ведь до войны он был обыкновенный колхозный счетовод. Он, правда, был городской житель, но у него оказались слабые легкие, и он, по совету врача, переехал в деревню и там стал работать колхозным счетоводом.
Пять лет он тихо и незаметно проработал в деревне и, вероятно, так бы и проработал всю жизнь, если бы не война.
И фамилия его и профессия говорили о мирных делах, о полях и о безмятежных просторах, о тихом конторщике, пьющем чай из белой глиняной кружки с обломанной ручкой.
Но это было до войны. Теперь же эта фамилия устрашала фашистов более чем танк, идущий на них.
Травушкин не сидел на одном месте. И даже если отряд уходил передохнуть от боевых дел, Травушкин отпрашивался у командира — «сходить поразведать, что там у них».
И шел, взяв с собой одного или двух человек. Заходил в деревни, там, где это было возможно. Пугал полицейских. Тревожил и беспокоил врагов. Снимал охрану с мостов и с переездов. И нападал на проходящие машины и мотоциклы.
Это был неистовый человек, не знающий, что такое страх и какого он цвета.
Вот что однажды случилось летом сорок второго года.
С двумя разведчиками Травушкин шел «поглядеть, что там у них». Разведчики были молодые ребята по семнадцати лет. Вите Королеву даже не хватало до семнадцати. Он выглядел совсем подростком с нежным румянцем на щеках. Саша Горелов казался более взрослым, более строгим и сдержанным.
Часа три они молча шли по лесной, едва заметной тропе. Но вот показалась заросшая травой дорога. Травушкин надломил молодую елочку, чтобы не сбиться на обратном пути, и партизаны вышли на дорогу.
Еще шли часа два. Наконец где-то вдали послышался свисток паровоза. Потом партизаны услышали шум поезда, лязганье буферов. Видимо, партизаны подходили к какой-то станции.
Свернули с дороги, пошли лесом. Витя Королев сказал:
— Гроза идет…
Травушкин, добродушно усмехнувшись, сказал:
— Н-ну, ну… Еще неизвестно, к-как будет…
Витя Королев, переложив из кармана в карман связку веревок, сказал Травушкину:
— Хорошо бы, дядя Коля, взять нам хотя бы одного фашиста. Командир очень просил. Хотел поговорить с ним — что они предпринимают против партизан.
Саша Горелов сказал, строго поглядев на Витю:
— Смотря как сложатся обстоятельства.
Травушкин промолчал.
Партизаны вышли к опушке леса. Далее шел невысокий кустарник. За ним виднелась насыпь и железнодорожные пути. За путями стояло красное кирпичное здание в один этаж.
Подойдя ближе к насыпи, партизаны залегли в кустах.
Был жаркий июльский день. По платформе ходили солдаты. Гражданской публики почти не было. И только несколько человек жалось в сторонке.
Окна станции были раскрыты. И там в помещении виднелись солдаты. Они обедали, ожидая, видимо, посадки.
Небольшой состав из 12 классных вагонов стоял на путях. Другой состав из теплушек маневрировал.
Вот отцепили две теплушки, и паровоз подвел их к деревянному складу для разгрузки.
Травушкин тихо сказал:
— С-сходить бы на платформу… С-сунуть бы им г-гранату в окно… 3-запомнили бы, к-как обедать у нас…
Саша Горелов сказал:
— Неосторожно поступите, дядя Коля. Погодите, скоро стемнеет.
Маневренный паровоз подошел к составу классных вагонов. С паровоза сошел машинист в черном комбинезоне, с масленкой в руках. Он направился к станции. Вслед за ним показался какой-то железнодорожник. На плече он нес свернутые носилки.
Травушкин сказал:
— В-вот бы мне такие носилки… Я бы с-сходил на платформу…
Вдруг Травушкин, сорвавшись с места и пригибаясь к кустам, побежал к теплушкам…
Вот он скрылся за хвостом теплушек и через минуту появился вновь. В руках у него был фонарь. Должно быть, этот фонарь он снял с какой-нибудь теплушки.
Медленно шагая по путям, Травушкин вышел со своим фонарем на платформу.
Раза два он прошел по платформе, помахивая фонарем, и вдруг, проходя мимо станции, бросил в открытое окно гранату. Он бросил ее почти не поднимая своей руки. Бросил как-то снизу вверх. Так что люди, идущие рядом, не заметили, что он сделал.
Раздался оглушительный взрыв. Стекла посыпались на платформу. Упали люди. Но Травушкин был уже за углом здания.
Из помещения неслись крики и вопли. На платформу суетливо выбегали перепуганные солдаты.
С поднятым пистолетом выбежал офицер и, что-то крикнув солдатам, повел их цепочкой оцепливать станцию.
На платформе вновь появился Травушкин. На этот раз фонарь в его руке был зажжен, хотя едва наступали сумерки.
Высокий, худой, вовсе не похожий на железнодорожника, Травушкин, помахивая своим фонарем, прошел сквозь гущу солдат и, медленно шагая, пошел по рельсам.
Идя по путям, он миновал платформу и вышел теперь к станционному складу, у которого разгружались теплушки.
Взрыв на станции взбудоражил солдат, разгружавших вагоны. Пугливо посматривая на станцию, солдаты тихо перекидывались фразами, обсуждая событие.
Травушкин дважды прошел мимо склада и вдруг, сильно махнув рукой, пустил гранату в открытую дверь склада. И сам упал в ложбину за рельсами и прижался к земле всем телом.
Раздался оглушительной силы взрыв. Но это не был один взрыв, это было несколько взрывов, слившихся почти в один непрерывный грохот.
Как смерч пронесся воздух над головой Травушкина. Сверху посыпались камни, обломки, песок.
Ужасный грохот взрыва сменился необыкновенной тишиной. Минуты две длилась эта тишина.
Оставив свой фонарь на путях, Травушкин, пригибаясь к земле, побежал к лесу, до которого было не более сорока шагов.
Скрывшись за деревья, Травушкин обернулся. Яркое пламя лизало деревянные остатки склада. По платформе бежали люди, крича и размахивая руками.
Солдаты беспорядочно стали стрелять по лесу. Пули свистели, сбивая ветки, и звонко цокали, ударяясь в стволы деревьев.
Травушкин торопливо шел, бормоча:
— Н-ну этого они не забудут до новых веников.
Часа через два Травушкин вышел к обломанной елочке. Было совсем темно, но кто-то его окликнул:
— Дядя Коля?
Травушкин узнал голос Вити Королева.
Партизаны пошли втроем, с трудом ориентируясь в темноте. Наконец расположились отдыхать. Разделили сухой хлеб. Травушкин сказал:
— Г-грохот-то слышали, мальчики?
Мальчики сказали:
— Как же не слышать. Вся земля содрогнулась. Это вы им склад на воздух вскинули?
— Склад, — коротко ответил Травушкин и лег на землю, чтобы заснуть.
Витя Королев сказал:
— Дядя Коля, а ведь мы было взяли одного фашиста…
Саша Горелов добавил:
— Который у переезда стоял, у будки. Он пошел в лес по своей нужде, там мы его и взяли… Однако добровольно не хотел идти. Пришлось связать…
Перебивая своего товарища, Витя Королев продолжал:
— Связали… Привязали к палке, чтобы удобней нести… Понесли… Но он такой тяжелый оказался… Все руки оттянул… Оставили его на дороге…
Саша Горелов добавил:
— Главное, то обидно показалось, что сами-то мы устали, а его несем, как барина. Взяли и кинули в кусты.
Витя Королев, зевая, сказал:
— Может, завтра утром сходим за ним.
— А на что он, — равнодушно заметил Травушкин. Потом, помолчав, добавил, отвечая, видимо, на свои мысли:
— У них, м-мальчики, плохо агитация поставлена. Они сердят людей своей агитацией… Р-аса господ… Л-лучшие в мире… Пятое-десятое… В-вот и получайте…
Беседа прекратилась. Партизаны заснули.
15. Прежде скончались, потом разобрались
В одном из партизанских отрядов[17] была разведчица Мария Дмитриева. Отличная физкультурница — сильная и прекрасно тренированная, она без страха ходила по вражеским тылам и без страха со своим автоматом шла иной раз в наступление против фашистов.
Это была удивительно смелая, отважная женщина. Причем весьма образованная — она закончила высшую школу и по профессии была инженером. Впрочем, молодым инженером — не более двух лет назад она рассталась со своей учебой.
Партизаны необыкновенно уважали ее и не раз, посмеиваясь, говорили, что Маруся Дмитриева своим существованием вдребезги разбивает фашистскую философию, которая утверждает, что образование не полезно людям, что оно создает человеку душевную и физическую вялость, неспособность к борьбе на полях современной войны. Что это, дескать, объясняется тем, что образованный и тонкий ум заглушает в человеке его хищные и звериные инстинкты, столь якобы необходимые победоносному фашистскому солдату.
Однако никакого ущерба высшее образование не нанесло в этом смысле Марии Дмитриевой. Напротив, образование придало ее партизанской деятельности ту интеллектуальную остроту, которая иной раз необходима для сложной профессии разведчика.
Отряд, в котором находилась Дмитриева, не стоял на одном месте. Партизаны не поджидали фашистов, когда они нападут на них, а сами нападали, сами, где это было возможно, наносили удары, иной раз весьма чувствительные.
И поэтому отряд постоянно находился в движении, нападая главным образом на гитлеровские гарнизоны по деревням.
В такой походной, полевой обстановке разведка была едва ли не самой ценной операцией. Прежде чем напасть, нужно было тщательно взвесить силы, чтобы не попасть впросак, чтобы не растерять без толку своих людей, свою живую силу. И поэтому в отряде придавали разведке огромное значение.
И вот однажды командир отряда дал разведчикам указание — узнать, какие у врага силы в той ближайшей деревне, на которую отряд предполагал напасть.
В разведку пошла Маруся Дмитриева. Однако вернулась смущенная и сказала, что ей никак не удается выяснить, какой гарнизон у врагов, так как в деревне нет жителей — или фашисты их выселили, или уничтожили. Во всяком случае, кроме фашистских солдат, там нет никого. А сколько там солдат — трудно определить даже приблизительно.
Командир отряда с сожалением сказал:
— Досадно, черт возьми. Хотя бы в грубом счете знать бы нам цифру. Если, допустим, у них двести солдат, я бы рискнул двинуться на них ночью. Но если пятьсот, то я воздержался бы от этой операции.
Маруся Дмитриева сказала:
— А что, если сесть на лошадь и галопом проскакать по деревне…
Улыбнувшись, командир сказал:
— А что это даст? Фашисты подстрелят вас, только и всего.
Маруся сказала:
— Конечно, если только проскакать на лошади, это ничего не даст. Но если при этом открыть огонь из автомата, то на этот треск нацисты, пожалуй, выскочат из своих домов. И тогда можно будет приблизительно определить их количество.
Командир не хотел согласиться на это, не хотел подвергать разведчицу такому риску, но Маруся Дмитриева настояла на своем. Она сказала, что стрелять будет вверх и поэтому фашисты вряд ли успеют разобраться, в чем тут дело. А когда разберутся — она уже будет за деревней.
Маруся Дмитриева сказала:
— Я не считаю, что фашисты дураки. По-своему они очень умны. Но они не любят неожиданностей, не любят то, что не принято, то, что не бывает или бывает редко. Они хорошо действуют только в привычной обстановке, против привычных объектов.
Засмеявшись, командир сказал:
— Это верно, они любят воевать по правилам. А если что-нибудь не так, они теряются, начинают мучительно думать: «Боже мой, что это такое?» В самом деле, может быть, и тут они потеряются, когда увидят на лошади женщину, которая скачет и стреляет вверх. Пожалуй, они сразу не догадаются.
Маруся Дмитриева сказала:
— Мне кажется, что сразу они не догадаются. Ну а если догадаются, значит, я недостаточно хорошо знаю врага и, значит, я плохая разведчица и мне грош цена.
В тот же день, ближе к вечеру, Маруся Дмитриева села на лошадь. Одета она была странно — на голове немецкая фуражка, а на плечах черкесская бурка.
Сев на лошадь и взяв в руки автомат, Маруся тихонько тронулась в путь.
Приблизившись к деревне, Маруся подняла треск из автомата и, разогнав лошадь, галопом проскакала по деревенской улице.
Гитлеровцы стали выскакивать из домов. Буквально раскрыв рты, они смотрели на необыкновенное зрелище. Удивляться можно было чему. Скачет женщина в немецкой фуражке и стреляет из автомата. И стреляет вверх, а не в них. Ну, стреляла бы в них — было бы как-то спокойней, было бы понятно, что это противник. А тут решительно ни черта не понять, что это такое.
Из всех домов повыскакивали нацисты. Некоторые были полуодеты, босиком. Некоторые одевались на ходу, побежали для чего-то вслед за лошадью. Ну а некоторые, вероятно, стали созваниваться по телефону, чтобы точней выяснить неожиданную военную ситуацию.
Непрерывно стреляя из автомата, Маруся Дмитриева проскакала по всей улице. Причем по временам она оглядывалась назад, показывая этим, будто кто-то гонится за ней. Это вконец запутало фашистов, они тоже стали поглядывать назад, чтобы хоть там увидеть разъяснение загадки. Но и там они ничего не увидели.
Через две минуты Маруся Дмитриева была уже за деревней. И никто из фашистов не сделал по ней ни одного выстрела. Вероятно, они боялись ошибиться, не уверены были в своих смутных догадках.
Запыхавшись, Маруся Дмитриева вернулась в свой отряд. И, смеясь, стала докладывать командиру:
— Могу, товарищ командир, ошибиться человек на тридцать, не больше. В деревне сорок два дома. Из каждого дома выскочило от трех до шести человек. А так как фашисты любят ровный счет и людей они расселяют по домам обычно в равном количестве, то следует считать, что в каждом доме у них стоит по шесть солдат. Помножим шесть на сорок два. Получим цифру двести пятьдесят два. Учтем, однако, что не менее пяти-шести домов у них заняты под разные службы и подсобные предприятия. Убавим нашу цифру на тридцать шесть. Получим двести шестнадцать. Вот эта цифра, я полагаю, и есть то число, которым мы интересуемся.
Командир посмеялся, пожал руку Марусе, поблагодарил ее.
В первую ночь отряд не пошел в наступление. Командир рассчитал, что гитлеровцы нервно настроены, возбуждены происшествием и поэтому будут осторожны, внимательны.
На другую же ночь, под самое утро, отряд успешно овладел деревней.
Разбившись на звенья, партизаны, по данному сигналу, смяв охранение, бросились к избам. И через окна закидали сонного противника гранатами.
Только в двух или трех местах гитлеровцы оказали значительное сопротивление. Но оно было сломлено в короткое время.
Утром командир отряда приказал подсчитать убитых гитлеровцев. Их оказалось 170 человек. Помимо этого 20 гитлеровцев, подняв руки, сдались в плен. Итого в гарнизоне было обнаружено 190 солдат. На 26 человек меньше, чем предполагала Маруся. Однако пленные сказали, что человек 10–12 отсутствовало, уехав из деревни по личным и служебным делам. Стало быть, Марусин счет был почти правилен. Один из пленных, увидев Марусю Дмитриеву, воскликнул:
— Это она, она!
На что другой гитлеровский солдат уныло сказал:
— Теперь понятно, зачем она проскакала на лошади.
16. После концерта
Маленький диверсионный отряд, в котором насчитывалось всего семь человек, уходил на запад.
За спиной осталась линия железной дороги Луга — Толмачеве
Два взорванных моста, три эшелона, сброшенных под откос, и два километра развороченного пути — вот что осталось за спиной подрывного отряда.
Целый батальон СС с тремя пушками и десятью танками фашисты бросили на горсточку подрывников.
С великой осторожностью штурмовики наступали лесом, стараясь охватить кольцом стоянку партизанского отряда. Этот отряд казался им многочисленным, судя по его «ремонтным» работам на железнодорожных путях.
Гитлеровцы наступали цепью, все более суживая кольцо. И наконец это кольцо сузили так, что стали стрелять друг в друга.
Перебив некоторое количество своих солдат, они ринулись к месту стоянки, но там партизан не оказалось. Легкий, подвижной отряд вышел из фашистских объятий так, что враги даже не заметили этого.
Конечно, досадно было оставить удобный лагерь и некоторые запасы, сброшенные самолетом с Большой земли. Особенно тяжело было оставить походную радиостанцию. Теперь связь с Большой землей прервалась, и отряду предстояли нелегкие дни.
Двое суток отряд шел лесом, с надеждой встретить какой-нибудь партизанский отряд, чтобы наладить связь со Штабом партизанского движения. Но такой встречи не произошло.
Партизаны шли молча, утомленные длинным переходом. Надоедливо моросил мелкий осенний дождь. Насквозь промокли костюмы, сапоги. Хотелось есть. Хотелось хоть часок побыть в теплом, сухом помещении.
Стали подбадривать себя шуточками, вспоминая, какие «концерты» они давали фашистам. Смеялись, вспоминая, как в последний раз наспех, под самым носом охраны, закладывали на рельсы взрывчатку.
Командир отряда — студент Электротехнического института Николай С. сказал, улыбаясь:
— Да уж теперь заранее мину не положишь на рельсы. Суешь ее чуть ли не под самый паровоз. Недаром наши «работы» называют «концертами». Приходится быть артистами своего дела.
И действительно, гитлеровцы в последние месяцы повели энергичную борьбу с крушениями. Усилили охрану путей. И даже построили специальные дзоты с пулеметами. Но это не помогло им. Это лишь заставило партизан работать осторожней и расчетливей.
В конце второго дня маленький диверсионный отряд остановился в глухом лесу. Наспех построили шалаш. Обогрелись у костра. Погоревали, что нет еды. И заснули с тем, чтоб утром идти дальше.
Однако утром дальше не пошли. По-прежнему моросил дождь. Все было пропитано сыростью, влагой. И каждая ветка теперь обрушивала на партизан потоки воды. С трудом разожгли костер. И решили остаться тут на несколько дней, чтобы поискать еды, подкрепиться и уж только тогда идти дальше на розыски какого-либо отряда.
Стали копать землянку, но работа шла вяло, медленно. Все больше хотелось есть. И партизаны то и дело отлучались от работы, чтобы поискать в лесу ягод или грибов. Однако находили лишь переспелую бруснику и какие-то малосъедобные грибы, разросшиеся к осени до гигантских размеров. С отвращением жевали эти грибы, но чувство голода не унималось.
Казалось бы, что в лесу человек с винтовкой мог бы прокормиться. Но это было не так. Разве что появлялся дятел, постукивая своим носом по стволу дерева. Или вспархивала с кустов какая-нибудь крошечная пичужка, которую винтовочная пуля разрывала в прах.
К ночи два партизана пошли за едой в деревню, которая видна была с опушки леса.
Однако партизаны вернулись ни с чем. Сказали, что положение в деревне тяжелое. В каждой избе висит плакат: «За помощь партизанам — расстрел». Крестьяне здесь напуганы фашистами и сами голодают. Они сказали, что здесь недавно побывал специальный отряд, который вывез отсюда почти все продовольствие. Две лепешки и несколько печеных картофелин — вот все, что принесли партизаны.
Это известие тяжело подействовало на людей. Легли спать молчаливые. А с утра разбрелись по лесу в поисках ягод и грибов.
Теперь уже голод чувствовался мучительно. Партизаны жевали кору. Выкапывали какие-то коренья, пробовали их есть. Разрезали кожаный ремень. Стали варить его в котелке.
Николай С. понял, что нужно принять какие-нибудь срочные меры, чтобы выйти из тяжелого положения. В таком состоянии нельзя было дальше вести людей. И в одинаковой мере нельзя было оставаться тут. Во что бы то ни стало нужно добыть еду.
Дождавшись ночи, Николай С. сам пошел в деревню, не взяв с собой никого.
В деревню он пришел часам к десяти вечера. Постучал в первую попавшуюся избу. Дверь ему не открыли. Чей-то женский голос за дверью спросил, что ему нужно.
— Скажите, где живет староста? — спросил Николай. — Один дальний родственник к нему приехал, хочет его повидать.
Женщина объяснила, где живет староста, и Николай направился к нему. Через огород вошел во двор. Отчаянно залаяла собака. С бешеной злобой она прыгала на длинной цепи, стараясь схватить пришедшего.
Николай прижался к стене дома, у самого крыльца.
Открылась дверь, и на крыльце появился пожилой крестьянин. Он был в нижнем белье и в валенках. В темноте он не разглядел, что Николай был в трех шагах от него.
Всматриваясь в темноту, крестьянин потоптался на крыльце. Из-за туч вышла луна и осветила двор.
Николай навел револьвер на старосту и тихо сказал ему:
— Только не кричи, папа. Тебе ничего не будет.
Староста шатнулся в сторону и взялся за дверь, чтобы уйти в дом. Николай сказал:
— Постой, не уходи. Только не позволяй себе кричать. Спокойней отнесись к делу. Мне надо с тобой поговорить.
Дрожа всем телом, староста остановился в дверях. Николай сказал ему:
— Спустись с крыльца. Уйми собаку.
Староста цыкнул на собаку и глухим голосом сказал Николаю:
— Пошто пришел? Что тебе надобно?
Николай сказал:
— Мне немного от тебя надо. Давай тихонько поговорим.
Староста сказал:
— Только разреши мне накинуть на себя пиджак. Гляди, как меня колотит от холода.
Спрятав револьвер в карман, Николай сказал:
— Тебя колотит не от холода. Тебя морально трясет, потому что ты понял, с кем ты беседуешь. Ты не ошибся. Я партизан. И пришел к тебе за малым — за едой. Нужен и гардероб — обносились, но пока и без этого обойдемся. Пока требуется с тебя полмешка муки и одного барашка.
Староста глухо сказал:
— Не имею столько. Попроси меньше. Кругом голодуют люди. Крайне трудно живут.
Николай сказал:
— Другие трудно живут, согласен. А тебе фашисты немало подкинули от своих щедрот.
— Много ли они подкинули? — сказал староста. — Самую малость. Люди брешут, говоря об этом.
Николай сказал:
— Будешь торговаться — еще курочку потребую. А не будешь, то как условились — полмешка муки и зарежь одного барашка. Рожки и ножки возьми себе, а барашка нам отнеси.
Староста простонал:
— Уже ночь, товарищ дорогой, — когда же резать барашка? И куда его нести? Или вы тут обождете и сами муку и барашка с собой возьмете?
Николай сказал:
— Мне ждать на холоду неполезно для здоровья. Да и ваши полицаи заинтересуются небось — зачем твой барашек крик ночью поднял. Так что ты, папа, будь настолько добрый, сам уже отнеси то, что с тебя полагается.
Снова застонав, староста спросил:
— А куда нести? Только бы не в лес…
Николай сказал:
— В лес не в лес, но к лесу. Мысленно проведи прямую черту от своего крыльца до лесу и там на самой опушке оставь продукты. К утру и сделай все это. А нет, так сам понимаешь, что произойдет, — придем за гардеробом и за твоей гнилой душой.
Продолжая дрожать всем телом, староста сказал:
— Боюсь нести к лесу. Полицаи могут усмотреть мою ношу.
— А ты соверши все это до рассвета, — сказал Николай. — Вот оно и сойдет легко. Да только не вздумай засаду нам устроить. Тогда получишь вдвойне за свои подлости. Ну, привет, старик. Не строй обиды на нас.
Николай вернулся в лес и рассказал товарищам, что случилось.
Перед рассветом партизаны залегли в кустах, чтобы своевременно увидеть — не устроил ли староста засаду. Но староста не пришел. А когда совсем стало светло, партизаны увидели рогожный мешок, прислоненный к одному дереву. Из мешка торчали обрубленные ножки барашка.
Староста поторопился и исполнил приказ еще ночью.
Два дня пировали партизаны. А на третий день в прекрасном состоянии двинулись дальше в поход.
17. Можно ли верить человеку
Отряд товарища Григория Шилова стоял в лесу, как в крепости. Слева — река. Позади и справа — непроходимые леса. А впереди — лютое болото, топь, трясина.
По этому ужасному болоту были пути, но надо было знать все повороты и подходы, чтобы не застрять тут и не погибнуть среди этих печальных мест.
Партизаны хорошо знали эти пути и ходили тут, как по своей комнате.
Гитлеровцы дважды пытались прижать партизанский отряд к реке, но оба раза увязали в болоте. Причем в первый раз они шли в наступление вдребезги пьяные. Одного автоматчика, затонувшего в болоте, партизаны взяли в плен. И спросили его, когда он проспался:
— Зачем же вы, олухи царя небесного, напились, идя в такое наступление? Ведь тут и трезвому-то не пройти.
На это автоматчик ответил:
— Немецкий солдат имеет высокий интеллект. Такой интеллект нередко задумывается о смерти. Такой интеллект надо глушить вином, чтобы в голове было пусто. Вот почему мы пили коньяк, прежде чем идти в это наступление, которое мы считали неразумным, но ослушаться приказа не могли.
Во второй раз фашисты шли в наступление не напившись. Однако и на этот раз все кончилось неудачно. Гитлеровцы потоптались в болоте и глубже не пошли. В бессильной злобе они стали стрелять тяжелой артиллерией по лесу. И, сокрушив десятка два деревьев, умолкли.
И на этом они не успокоились. Во что бы то ни стало они хотели уничтожить партизанский отряд, сильно их беспокоивший своими непрерывными набегами.
И вот однажды на заставу к партизанам прибежал из деревни мальчишка лет восьми — сын одной женщины, которая нередко сообщала партизанам различные сведения.
Прибежал этот мальчонка и сказал:
— Мамка велела передать — в деревню приехали штрафники. Собираются идти на вас.
Стали расспрашивать мальчишку, что за штрафники, сколько их. Но мальчишка ничего не знал. Только твердил, что штрафники приехали на велосипедах. А мамка, дескать, больна, не встает с постели, не может сама прийти.
Нужно было послать разведку в деревню, чтобы узнать, какие это штрафники и что они хотят предпринять.
Стали обсуждать, кому пойти в деревню. Вызвался пойти Андрей Туляков — опытный, смелый разведчик, питерский рабочий.
Командир отряда по своей московской привычке обнял Тулякова, поцеловал на прощанье, сказал ему:
— Верно, сходи, Андрей. Погляди, что за гости к нам пожаловали.
Туляков ушел и не вернулся.
С черным лицом ходил командир отряда, расставляя заставы и проверяя линию обороны. Молчал, ничего не говорил.
Вечером в штабной землянке стали обсуждать, как покрепче встретить незваных гостей.
Один из партизан, смущаясь, сказал командиру:
— А ведь теперь, Григорий Панфилыч, придется все учесть. Нужно учесть, что врагу теперь известны наши секретные пути.
Командир резко спросил:
— Это почему?
Замявшись, партизан сказал:
— Ну мало ли… Мог ведь проговориться человек, если его… так сказать…
Командир тихо ответил:
— Зачем ты мне такое сомнение зароняешь? В Тулякове я уверен более чем в себе…
Больше на эту тему не стали говорить.
Рано утром партизаны заметили далекое движение впереди. Двумя колоннами шли гитлеровцы. И шли не таясь, открыто.
Дойдя до заболоченного места, фашисты остановились. Некоторое время постояли там. Потом, к изумлению партизан, построившись в узкую колонну, двинулись дальше через болото, именно тем путем, о котором знали только партизаны.
Наблюдатели доложили об этом командиру. Тот тяжело воспринял это известие. Он низко опустил свою голову, тихо сказал как бы про себя:
— Неужели дрогнул Андрей… Неужели он мог сказать под вражеским огнем?.. Ведь питерский рабочий, член партии с восемнадцатого года… Ну можно ли верить человеку?
Между тем враги уверенно продвигались болотом.
Партизаны решили подпустить их возможно ближе, для того чтобы пулеметным огнем с флангов отрезать им путь к отступлению.
И вот гитлеровцы миновали болото и шли теперь пустырем. Шли не быстро, скорей даже медленным шагом.
Это было странное шествие, не похожее на то, что партизаны видели раньше. Солдаты были в расстегнутых мундирах, с сигаретками в зубах. Многие же и вовсе были без мундиров. Голые по пояс, они шли, горланя и свистя.
Это были штрафники и уголовники, выпущенные из тюрем. Им посулили многие милости и снятие наказаний за ликвидацию партизанского отряда.
Впереди штрафников шел огромного роста рыжий офицер. Его мундир также был не застегнут, расстегнута была и рубашка — виднелась голая грудь, поросшая рыжей растительностью. Этот офицер вел на коротком поводке собаку — немецкую овчарку.
Партизаны притаились в кустах, вовсе не там, где их ожидали немцы.
На расстоянии восьмидесяти метров партизаны открыли пулеметный и ружейный огонь. Фашисты залегли и стали отвечать огнем. Но их правый фланг, продвигаясь вперед, вступил на заминированный участок. И тотчас человек двадцать взлетели на воздух.
Воспользовавшись смятением, партизаны ударили с фланга и смяли штрафников. Враги поспешно стали оттягивать свои силы к болоту. Однако у болота застряли. Они не могли сразу отыскать обратных путей. Они заметались, как в ловушке. И многие из них полегли, увязнув в трясине.
Из отряда в триста шестьдесят человек не более семидесяти штрафников пробрались через болото и пустились наутек.
Командир партизанского отряда Григорий Шилов энергично руководил всей операцией. Но когда операция закончилась, командир тяжело опустился на землю, прислонился спиной к дереву и долгое время сидел так, вовсе не двигаясь.
Взор его был равнодушный, а лицо его выражало такую угрюмость, что никто из партизан не посмел подойти к командиру, чтобы узнать, что с ним.
Но вот подбежал к командиру один из партизан. В своей руке он держал черную бархатную знакомую кепку, ту кепку, которую всегда носил Туляков. В этой кепке он и пошел в свою последнюю, несчастную разведку.
Потрясая этой кепкой, партизан скороговоркой сказал:
— Григорий Панфилович, кепка-то ведь Андрея Тулякова… Торчала она из кармана того офицера, который на поводке вел собаку… Значит, что же выходит? Выходит, что собака по этой кепке нашла следы Тулякова и повела фашистов болотом…
Командир поднялся с земли. Встал во весь рост. Лицо его странно сияло. Он сказал:
— Я же вам говорил… Не мог Андрюша… Ни при каких обстоятельствах…
Почти весь отряд двинулся к деревне, чтобы дожать врага, чтобы отрезать ему путь к отступлению. Шли почти бегом по укороченному пути. Однако в деревне узнали, что прибежавшие сюда гитлеровцы сели на велосипеды и укатили дальше.
На одном дворе партизаны нашли изуродованный труп Андрея Тулякова. Ноги его были отпилены. Рядом валялась окровавленная пила.
Командир склонился над убитым. Заплакал. Поцеловал его в лоб. Потом выбежал со двора. Велел построиться всему отряду. Сказал:
— Не можем спокойно отнестись к тому, чтобы они ушли. Догоним их…
Отряд поспешно двинулся дальше. Многие из партизан сели на велосипеды фашистов. А сам командир с группой партизан на восьми крестьянских подводах выехал вперед.
Галопом погнали лошадей, чтобы догнать штрафников, пожелавших на крови партизан улучшить свою судьбу. Но этих штрафников не обнаружили на дорогах.
Тридцать километров прошел отряд, сметая на своем пути полицейские отряды и те гарнизоны врагов, которые стояли по деревням.
Потом отряд вернулся на свою стоянку и стал готовиться к более крепкой встрече с неприятелем.
18. Средь полей широких
Партизанский отряд Василия Ивановича С. все лето трепал неприятельские гарнизоны, которые стояли по деревням Славковского района. Враги несколько раз бросали против Василия Ивановича своих штурмовиков, но всякий раз партизаны ускользали и вновь появлялись за спиной фашистов. Война велась явно не по правилам немецкой тактики.
К концу лета отряд Василия Ивановича настолько досадил врагам, что они бросили против небольшого отряда целый штурмовой батальон с тремя пушками и пятнадцатью танками.
Отряд понес тяжелые потери. Пришлось расколоться на мелкие группы, чтобы уйти от ожесточившегося противника.
Сам Василий Иванович с девятью партизанами углубился в такую чащу леса, куда противник не рискнул сунуться.
Однако фашисты не потеряли надежды изловить Василия Ивановича. Они объявили крупную премию за поимку отважного партизана. Они расклеили по деревням листовки, в которых было сказано: «Сим население приглашается оказать содействие в поимке партизана Василия Ивановича С. За сведения, ведущие к поимке, назначается вознаграждение в размере: 4 коровы или 4 гектара пахотной земли и в придачу ко всему — 10 литров водки и 30 пачек махорки».
Со своей маленькой группой партизан Василий Иванович недолго пробыл в лесной глуши. Он вскоре вновь появился вблизи деревень. На этот раз в районе деревни Складнево.
Была осень. Стояли ранние морозы. И Василий Иванович со своими товарищами устроился на погосте в Черноозерье у попадьи П.
Это было глухое место. Гитлеровцы бывали здесь только наездом, полиция сюда не заглядывала. И поэтому партизаны решили побыть здесь некоторое время, с тем чтобы, отдохнув, двинуться дальше.
Попадья и молодая дочка ее Тоня заботливо отнеслись к партизанам. Они кормили их и чаем поили. Причем знали, что их гости — партизаны. Однако специальных разговоров об этом не было. И только однажды, когда один из партизан случайно назвал Василия Ивановича по имени, Тоня слегка вздрогнула и сказала тихо:
— Ах, так это вы и есть… тот самый Василий Иванович…
Усмехнувшись, Василий Иванович сказал:
— Да, Тонечка, это я — Василий Иванович… Теперь вы можете об этом сообщить в комендатуру.
Он сказал так, желая пошутить, но шутка получилась неуклюжей. У девушки на глазах он увидел слезы. Она сказала:
— Зачем вы так скверно думаете обо мне? Разве я могу это сделать?
Василий Иванович смутился. Обнял Тоню, поцеловал ее, попросил прощения. И девушка снова улыбнулась и об этом больше не заговаривала.
Нередко по вечерам партизаны собирались в небольшой комнатке у Тони. Взяв гитару, девушка пела своим приятным голоском. И партизаны тихо подпевали ей.
После летних походов, после непрерывных боев это был настоящий отдых, настоящая передышка — короткая и случайная, которая каждую минуту могла оборваться.
Иной раз в доме П. появлялся ближайший сосед дед Пахом. Это был старый, но еще крепкий человек, любивший поговорить о том о сем. В душе этого старика была незажившая рана. Лет пятнадцать назад его по чистке убрали из партии за малограмотностью. Старик болезненно продолжал переживать это событие в его жизни. Причем сам нередко заводил об этом речь, на разные лады комментируя свое поражение.
— Конечно, я понимаю, — говорил он партизанам, — партийный человек должен быть в первых рядах по своему культурному и умственному развитию, чтобы дать пример остальным. Но в смысле подачи примера, заверяю вас, товарищи, что я не окажусь в хвосте…
И действительно, старик был непреклонен в своем характере. И если другие соседи избегали встречаться с партизанами, то он, наоборот, стремился повидаться с ними и чувствовал себя приподнято, беседуя о войне и о том неизбежном поражении немцев, в котором он ни минуты не сомневался.
Это был по-настоящему партийный человек, если бы не слабость его в грамоте. Читал он не без труда, а писать и вовсе не мог, хотя стремился к этому — выводил на бумаге слова и буквы. Не так уж легко начинать к семидесяти годам то, что шуткой давалось ребенку.
В день Октябрьской годовщины — 7 ноября — партизаны собрались у Тонечки. Не замедлил явиться и дед Пахом. На этот раз он явился празднично одетый и такой торжественный, что партизаны поняли — дед Пахом собирается им сообщить что-то исключительное. И действительно, выждав паузу, старик сказал:
— Ну-ка угадайте, друзья, что я вам принес в день нашего великого праздника?
Посыпались догадки, вопросы, поднялся шум. Снова выждав тишину, старик торжественным тоном сказал:
— Принес я вам, друзья мои, московскую газету от сего числа.
Никто не захотел поверить этому. Снова посыпались восклицания:
— Как это может быть? Откуда? Не ошибся ли ты, старик?
Пахом сказал:
— Нет, я не ошибся, друзья мои. Нынче слышали зенитные выстрелы? Это немцы били по самолету. Этот самолет и скинул газеты, когда я возвращался из деревни Складнево. Не без труда схватил я одну газету из-под самого носа полиции. Вот она…
С этими словами дед вынул из кармана московскую «Правду». Торжественно развернув ее, Пахом снова сказал:
— Газета от сего числа.
Действительно, это была сегодняшняя газета, празднично оформленная.
Партизаны повскакали с мест, стали обнимать и целовать Пахома.
Василий Иванович сказал:
— Это, товарищи, великое торжество для нас — в тылу у врагов держать в своих руках сегодняшний номер газеты.
Когда все немного успокоились, один из партизан, нередко подтрунивавший над Пахомом, сказал ему нарочно, показывая на помятый и загрязненный газетный лист:
— Экий ты неаккуратный, старик. Гляди, как помял и отвозил газету. Недаром тебя в свое время…
Все зашикали на партизана, и старик не успел даже толком обидеться.
Василий Иванович начал вслух читать газету. Прочитав, стали обмениваться мнениями. Говорили тихо, вполголоса — не покидало чувство торжественности.
Тоня принесла чай в кружках. По очереди стали пить.
Пили чай, продолжая обсуждать прочитанное. Сидели долго, тихо беседуя. Наконец старик Пахом встал и, пожелав всем доброй ночи, удалился, оставив свой подарок партизанам.
Тонечка принесла гитару. Сказала:
— Теперь начнем концертное отделение. Сегодня спою вам нашу деревенскую песню, которую я вам еще не пела.
И, перебирая струны, Тонечка тихо запела:
Улыбнувшись Василию Ивановичу, Тоня продолжала петь:
Партизаны подхватили припев:
Тоня продолжала петь:
Снова партизаны подхватили припев:
Тоня пела:
Тоня еще не закончила песню, как в комнату, шаркая туфлями, вбежала мать девушки. Вбежав, она, задыхаясь, сказала:
— Немцы приехали… Машина остановилась у дома…
Партизаны повскакали с мест. Тоня побежала вслед за матерью на кухню.
Тотчас вернувшись назад, Тоня сказала:
— Немцы… Человек двадцать в машине… Сюда идут…
Партизаны схватились за револьверы. Подбежав к окну, Тоня сказала:
— Выбейте раму… Скорей… Бегите по огороду… Через пруд… К лесу…
Василий Иванович с силой распахнул раму, и партизаны стали выскакивать на огород. Василий Иванович сказал Тоне:
— Тонечка, давайте с нами… Скорей…
Девушка покачала головой, сказала:
— Нет… Не могу же я оставить маму…
Послышались солдатские шаги в соседней комнате.
На пороге появился гитлеровский ефрейтор. Василий Иванович выстрелил в него. И вслед за этим выстрелил вторично, уложив второго солдата, который стоял за ефрейтором.
Толкнув Василия Ивановича к окну, Тоня сказала:
— Бегите же… Не медлите… Они схватят вас…
Василий Иванович прыгнул на огород. Побежал вслед за партизанами. Фашисты еще не ориентировались в обстановке, и партизаны выиграли несколько минут. Они бежали теперь по тонкому льду пруда. Лед звенел и ломался под ногами, но партизаны благополучно миновали этот опасный участок.
Гитлеровцы не рискнули бежать по льду и, потоптавшись на берегу, кинулись за партизанами стороной, стреляя в них из автоматов. Добежав до перелеска, они остановились, не рискнули идти в темноте по неизвестной местности.
Остановились и партизаны. Василий Иванович угрюмо сказал:
— Эх, надо было Тоню уговорить идти с нами. Ведь осталась девушка у фашистов в лапах.
Товарищи сказали:
— Она не пошла бы без матери. А где же было время уговаривать старуху?
— Все это так, — сказал Василий Иванович. — Она и мне ответила, что не пойдет. Но все-таки надо было что-то сделать… Погодите, я сейчас вернусь, попробую дойти до ее дома.
Товарищи силой стали удерживать Василия Ивановича. Сказали ему: «Пользы не принесешь, а погибнешь ни за понюшку табаку».
Василий Иванович согласился с этим. Пошел с товарищами.
Устроились в землянке, в которой стояли раньше. Два дня Василий Иванович угрюмо молчал. Наконец сказал, что надо бы разведать — как обстоят дела в деревне.
Пошли два разведчика. Принесли нехорошие вести. Сказали, что гитлеровцы увезли с собой Тоню и ее мамашу.
Еще прошло несколько дней, и партизаны узнали, что нацисты убили Тоню. Тяжело воспринял это известие Василий Иванович. Сказал:
— Да, я так и думал. Как могло быть иначе.
Прошло еще несколько дней. Партизаны стали бывать у деда Пахома. Тот любовно встречал своих старых друзей, но обижался, что Василий Иванович к нему не заходит. Партизаны передали Василию Ивановичу эту обиду, и тот с неохотой пошел однажды к старику. Дошел с товарищами до Тониного дома. Увидел пустой дом. Не пошел дальше. Присел на крылечко, задумался.
Стали товарищи уговаривать Василия Ивановича. Все-таки не пошел. Сказал, вздохнувши:
— Не пойду к старику. Неловко мне к нему идти, и на душе темно. Вспомнилась мне Тоня, голосок ее тонкий, песня «Средь полей широких». Погибла девушка из-за нас.
Партизаны пошли к Пахому без Василия Ивановича. Рассказали старику об его переживаниях. Пахом нахмурился. Надел зимнее пальто. Пошел к крылечку, где остался Василий Иванович. Нашел там его в задумчивой позе. Сказал ему сердито:
— Негоже, товарищ, иметь такое поведение.
Василий Иванович ответил Пахому:
— Обиды не строй на меня, старик. Просто я, понимаешь, жалею девушку. Не выходит она у меня из головы. Погибла из-за нас.
Дед Пахом сказал Василию Ивановичу:
— Я и сам бесконечно жалею девушку. Ведь они, мерзавцы, не дали ей тихой смерти. Требовали сказать — кто да кто был у нее. На это она им ответила: «Были свои, русские, советские люди, а кто — я не намерена вам давать отчет». Мучили ее… Пытали…
Руки Василия Ивановича сжались в кулаки. Он тихо прошептал:
— Ну, они дорого заплатят за нее. Невольно мы — причина ее гибели. Из-за нас, из-за нас погибла светлая девушка Тоня.
Пахом сказал:
— Только ты, Василий Иванович, ошибку делаешь в своем разумении. Не за вас она погибла. Она погибла за советскую власть.
С удивлением Василий Иванович взглянул на старика. Встал с крылечка. Подошел к Пахому. Сказал ему:
— А ведь ты правильно говоришь, дедушка. Не за нас, за советскую власть погибла наша Тоня. Она и без нас поступила бы так же, как подсказывала ей совесть, — помогать своим, идти против гитлеровцев.
Пахом сказал:
— Не вам, так другим она помогла бы в борьбе за свою родину.
Василий Иванович с чувством пожал руку старику. Сказал ему:
— Не думал я, старик, что ты так правильно и мудро умеешь понимать. Душой своей ты настоящий партиец.
Щеки старика зарделись от волнения. Потупив глаза, он сказал:
— Завсегда стремился к этому, но малограмотность не дозволяла.
Василий Иванович вошел в дом вслед за Пахомом. И долгое время оставался у него, любовно с ним беседуя.
19. Вы арестованы, майор
Командир партизанской бригады товарищ С[18] пристально смотрит на стоящего перед ним человека в немецкой шинели. Человека этого привели разведчики. Он направлялся к лесу. Шел по полю в снегу. Разведчики окликнули его, и он, подняв руки, сдался им.
И вот теперь он стоит перед командиром партизанской бригады, вытянув по швам свои руки. Голова его, однако, низко опущена, что не соответствует бравому военному виду молодого человека. Командир говорит ему:
— Значит, вы были командиром Красной Армии?
Щелкнув каблуками, молодой человек торопливо отвечает:
— Так точно. Я командовал ротой. Я бывший лейтенант К. Попал в окружение. И вот теперь нахожусь в этой… школе…
— И что же вы, добровольно пошли в эту диверсионную школу? Или немцы заставили вас идти туда? — спрашивает командир.
Бывший лейтенант К. отвечает:
— Они предложили военнопленным… Да, на добровольных началах… Я рассудил, что в концлагере все равно конец от голода, от болезней. Решил пойти на предложение, с тем чтобы потом, при первом удобном случае, бежать к своим. Но вот прошел год, и я ничего не смог сделать. По-прежнему нахожусь в диверсионной школе.
— Знакомая картина, — задумчиво говорит командир. — И что же вы теперь хотите? Зачем вы к нам пришли?
Еще ниже опустив голову, К. говорит:
— Скажу откровенно — хочу какого-нибудь конца. Шел к партизанам, чтоб они меня расстреляли.
Товарищ С. улыбнулся, говорит:
— Ну это, знаете, не выход. Да и судить я вас не намерен. Вот отправлю вас самолетом на Большую землю — там дадите ответ командованию Красной Армии.
Бывший лейтенант К. снова щелкает каблуками. Помолчав, командир партизанской бригады говорит:
— Вот вы хотите искупить свою вину перед родиной. А что вы для этого можете предложить?
— Право, не знаю, — говорит К. — Я на все согласен…
Командир говорит:
— Вы же диверсант. Чему-нибудь вас же немцы учили. Вот и предложите что-либо, вспомнив их преподавание… Где ваша диверсионная школа находится?
— Город Петсери. Здесь, недалеко от эстонской границы.
— А кто начальник школы?
— Майор Шульц[19].
Немного подумав, командир говорит:
— Слушайте, а нельзя ли нам этого майора как-нибудь сюда заполучить? Было бы интересно с ним побеседовать.
Улыбка проходит по лицу К. Оживившись, он говорит:
— Мне кажется, что это возможно. В квартире он живет один. Кроме денщика, у него нет никого. К нему можно приехать и арестовать его.
— Арестовать?
— Да, объявить ему, что он арестован гестапо. Я знаю, как у них происходят аресты, знаю весь их ритуал. Но для этого нужно иметь двух солдат. Кроме того необходима форма, погоны…
Командир говорит:
— Ну, этого добра у нас хватит. Немецкой одежды у нас сколько угодно. Пойдемте на склад, выберем то, что требуется.
Через два дня бывший лейтенант К., сбрив свои усы и одевшись в форму офицера гестапо, был готов к операции, на которую никак не рассчитывал начальник диверсионной школы майор Шульц.
Тройку горячих лошадей партизаны запрягли в большие старомодные лакированные сани с медвежьей полостью. Лет сорок назад в таких санях помещики ездили в гости к своим соседям.
Вместе с К. в сани уселись — командир партизанской бригады С. и еще один партизан. Оба были одеты в форму немецких ефрейторов.
Застоявшиеся кони лихо рванули вперед, и старомодные сани понеслись по направлению к городу Петсери.
Приехали вечером в одиннадцать часов. Именно на этом часе настаивал К., говоря, что ровно в одиннадцать часов майор Шульц ложится в постель и что наиболее удобно потревожить его в этот час, когда он, умиротворенный, после дневных забот, отходит ко сну.
Сани остановились у подъезда небольшого одноэтажного дома.
Позвонили. Дверь открыл денщик. Увидев офицера в гестаповской форме, денщик побледнел и шатнулся в сторону. К. тихо, но резко сказал ему:
— Ступай на кухню. Сиди там. Не выходи.
Солдат покорно попятился и скрылся за дверью кухни.
— Кто там? — раздался голос майора.
К. распахнул дверь и величественной походкой вошел в комнату. Вслед за ним вошел командир бригады товарищ С. и замер на пороге в неподвижной позе.
Майор Шульц лежал в постели с книжкой в руках. На ночном столике стояла лампа, лежал бумажник и револьвер.
Увидев гестаповцев, майор, приподнявшись с подушек, откинулся спиной к стене. Должно быть, приход гестаповцев был для него крайне неожидан. Он побледнел и несколько секунд не двигался.
К. подошел к ночному столику и, взяв револьвер майора, сказал:
— Вы арестованы, майор.
Майор не двигался. Он замер, как кролик перед пастью удава.
— Быстрей, быстрей одевайтесь, — сказал К. и несколько отошел от постели с вежливостью человека, который не желает присутствовать при туалете.
Одевшись, майор тихо сказал:
— Я готов.
Когда выходили из комнаты, майор Шульц как-то странно дернулся и, взглянув недоверчиво на К., тихо спросил:
— А обыск?
— Это будет потом, — резко сказал К. и повелительно указал рукой на выход.
Опустив голову, майор двинулся дальше.
Подойдя к саням, майор вторично дернулся и недоверчиво взглянул на сопровождавших его. Видимо, сани его ошеломили. Он несомненно ожидал увидеть легковую машину, а тут стояли какие-то допотопные сани с чудовищной медвежьей полостью. Быть может, не подозрение, а какой-то безотчетный страх сковал на минуту майора.
Он решительно не мог приподнять свою ногу для того, чтобы сесть в сани.
К. поддержал его под локоть и помог ему усесться в санях. Товарищ С. прикрыл колени майора медвежьей полостью.
Усевшись и укрывшись, майор уже с явным беспокойством взглянул на людей, которые сели с ним рядом.
Партизаны поняли, что сейчас нельзя медлить ни одной секунды.
Лошади рванулись вперед, и сани понеслись по улице города Петсери.
Теперь майор, не скрывая своего изумления, взглянул на К., потом на С.
— Позвольте, — резко сказал он, — куда вы меня везете?
И, не дожидаясь ответа, майор тотчас закричал, как кричит человек, объятый ужасом.
Товарищ С. закрыл ему рот рукой, и крик замер.
Улица была пустынна. И кажется, этого крика никто не услышал.
Теперь майор стал бороться, стараясь выскочить из саней. Партизаны подмяли его под медвежью полость и заткнули ему рот платком.
Однако майор продолжал громко мычать и напрягал все усилия, чтобы подняться. Партизаны не без труда удерживали его. К счастью, был поздний час и прохожих не встретили.
Лошади галопом неслись по улице. Но вот уже последние дома, последние строения, за которыми поле.
Позади саней сверкнули вдруг фары автомобиля. Майор, услышав шум машины, усилил свою борьбу и мычанье.
Он энергично стал приподниматься, стараясь выпасть из саней.
Товарищ С. крикнул, чтоб кучер взял в сторону. На полном скаку сани въехали на какой-то двор, ворота которого были настежь распахнуты.
Ехавшая позади машина прошла мимо.
Сани снова выехали на дорогу и помчались к лесу.
Через два часа ошеломленный и помятый майор Шульц сидел в землянке командира бригады и, тупо устремив свои глаза в одну точку, односложно отвечал на задаваемые ему вопросы.
Через несколько дней начальник диверсионной школы майор Шульц был отправлен самолетом на Большую землю.
Бывший лейтенант К. остался в партизанском отряде.
20. Ветер гасит искры
В бригаде товарища Германа насчитывалось до тысячи человек. Это был огромный отряд, прекрасно вооруженный, снабженный отличной техникой.
Все лето бригада вела непрерывные бои.
Товарищ Герман не давал немцам передышки, не давал им инициативы. Его бригада постоянно была в действии, в движении.
Отряд Германа иногда соединялся вместе, чтобы нанести немцам сокрушительный удар, а иногда, поделившись на группы, уничтожал отдельные немецкие гарнизоны, находящиеся в волостях и уездах.
He довольствуясь этим, Герман то и дело рассыпал вокруг маленькие диверсионные группы, которые взрывали мосты, снимали железнодорожную охрану и сбрасывали эшелоны под откос.
Но все эти отдельные операции бригады сливались в одно целое, в одно действие, в единую симфонию, необычайно устрашающую немцев.
Гитлеровцы стали понимать, что земля под их ногами горит, что в тылу у них огромный пожар. Они пробовали затушить этот пожар, но не смогли этого сделать. Ветер гасит искры, но не пожары. Пожары от ветра разгораются еще сильней.
Устрашенные этим, немцы стали снимать с фронта некоторые свои соединения, для того чтобы подавить партизан или хотя бы приглушить их активность. Но и тут немцы были скованы — они не могли снять достаточное количество своих солдат, без того чтобы не обнажить растянутые позиции.
Против бригады товарища Германа немцы все же собрали значительные силы, и 5 июля 1943 года бригада была окружена у деревни Станки, Сошихинского района.
Об этом окружении немцы поспешно сообщили партизанам в своих листовках, в изобилии сброшенных с самолета.
В листовках немцы предложили партизанам капитулировать, так как положение их совершенно безнадежно — они окружены кольцом.
Партизаны знали, что слова немцев отчасти справедливы. Заставы кругом натыкались на пулеметный огонь, и разведчики возвращались с известиями, что немцы непрерывной цепью охватили значительный участок, занятый партизанами.
Однако никакого замешательства у партизан не произошло. Видя своего командира в полном спокойствии, они говорили:
— Герман с нами — значит, все в порядке.
Герман действительно хладнокровно отнесся к известию об окружении. Он лично расставил заставы и сам обошел все пункты, где можно было ожидать наступления.
Однако немцы не стали наступать. Они только подняли треск из автоматов и минометов. И решили ждать капитуляции, сбросив для этой цели свои листовки, в которых устрашали партизан уничтожением, если они не сдадутся.
Одну из таких листовок партизаны подали Герману.
Внимательно прочитав листовку, Герман сказал:
— В листовках такой же треск, какой мы сейчас слышим вокруг. Богат мельник шумом. О чем говорит эта листовка? Да в первую очередь о том, что у немцев сил не хватает нас задушить. Где это видано, чтобы немцы миндальничали с партизанами — писали бы им записки, объяснялись в любви? Да если б у них хватило сил, они бы и без всякого писанья обошлись. Задушили бы нас с превеликим удовольствием. А тут пишут, глаза портят, дорогие чернила тратят. И сами неподвижно сидят, мечтают при луне, когда мы руки вверх подымем.
Партизаны засмеялись. Один из них сказал:
— Быть может, они, товарищ Герман, потерь боятся — потому и не идут в наступление. Быть может, они стращаются наступить ногой на минное поле и тем самым потерять свою живую силу.
Герман сказал:
— Немцы не боятся потерь, когда у них теплится надежда на успех. В этом случае они кидают в огонь сотни своих солдат. Нет, не жалость к своей живой силе я тут вижу, читая эту листовку. Тут черным по белому сказано, что у них нехватка в силах.
Подумав немного, Герман сказал:
— Они кинули листовки, чтобы нас испугать. Подумали, что мы раскиснем, сдадимся, узнав об окружении. Они считают, что мы дураки. Не способны ни к какому анализу. Нет, верно, я все больше убеждаюсь в том, что немцы считают нас дураками, у которых заморозки в голове. Со своей немецкой упрямостью они думают, что из всех народов только они умны. А остальные — коптят-де небо своим присутствием.
Партизаны снова засмеялись. Герман продолжал:
— Вот и выходит, что немцы переоценили себя, недооценили противника. Это и есть то, что мы называем ошибкой в стратегии. Вот в этом-то пункте они, по-моему, запнутся, да и запнулись уже на своем шумном военном пути.
Партизаны с любопытством слушали своего любимого командира.
Улыбаясь, Герман продолжал:
— Да, они запнулись на этом пути. Превыше всего они думали о своем уме, о своей тактике, о своем военном искусстве. А на противника глядели сверху вниз. Вот и получили Сталинград. И получат еще и еще, как говорится, — «дондеже не прослезятся».
Заканчивая свою беседу с партизанами, Герман сказал:
— Они окружили нас. Допустим, что это так. Но плотное ли у них кольцо вокруг нас? Нет, оно не плотное. Иначе не было бы их листовок. Мы прорвем это кольцо. В этом можно не сомневаться. Пойдем на них днем, но ближе к вечеру, с тем чтобы после прорыва сделать переход ночью. Не скажу, что у немцев куриная слепота, но они ночью неважно ориентируются. Не любят ночного боя в полевой обстановке.
В тот же день, разведав удобные пути, бригада двинулась на немцев.
Наступали цепью. Впереди шли коммунисты. Неожиданно в передней цепи появился Герман, хотя товарищи упрашивали его поберечься. Герман шел открыто, не пригибаясь к земле. Обычно он сердился на партизан за всякую браваду, но сам он позволял себе не слишком считаться с огнем. И счастье сопровождало его всегда.
Немцы сдерживали натиск партизан огнем из автоматов и фланговым пулеметным огнем.
Однако партизаны неуклонно продвигались вперед.
Теперь первая цепь перебегала открытое поле. Не оставалось сомнения, что немцы будут опрокинуты.
Но вот впереди произошло какое-то замешательство. По всей цепи прошел гул: «Герман упал, ранен».
Несколько партизан бросились купавшему командиру, но они не добежали до него — были ранены. Немцы усилили огонь в этом направлении: вероятно, поняли, что здесь лежит раненый командир.
Герман неподвижно лежал в траве, раскинув руки. Его грудь была пробита пулей.
Наступал вечер. И в сумерках санитаркам удалось вынести командира с поля боя.
Герман был еще жив, но без сознания. Его рана оказалась смертельной. Через час, не приходя в сознание, он умер.
Эта смерть поразила всех. Многие плакали, не скрывая своих слез.
На другой день, похоронив командира, партизаны снова, с удвоенной силой пошли на немцев и, успешно прорвав немецкие позиции, вышли из кольца[20].
21. Все имеет свой конец
В лесу на дороге партизаны нашли молодую женщину. Она была без памяти. Лежала, уткнувшись лицом в песок.
Видимо, она шла, и вот силы ее оставили — упала, потеряв сознание.
И было от чего потерять сознание. Она была избита, изуродована. Лицо ее вспухло, и глаза затекли и сузились, как щелочки. Помимо того она была ранена, и, вероятно, недавно, — кровь тихо струилась по ее измазанному, рваному платью. Рана была в плечо.
Партизаны отнесли раненую женщину в свой лагерь. Она и там не пришла в себя. Тихо стонала и поводила руками, как бы защищаясь от кого-то.
Один из партизан, увидев ее, сказал:
— Так ведь это же Любашка Тушилина. Она у немцев служила писарем в волости. И при этом она работала на партизан, давала ценные сведения. Я же не раз бывал у нее по этим делам.
Санитарки стали перевязывать рану. Все тело девушки оказалось в синяках, кровоподтеках и в багровых полосах. А спина была изрезана и исколота ножом. Ни одного живого места не оставалось на этом несчастном изуродованном теле. Нельзя было без содрогания на нее глядеть.
Только на другой день Люба Тушилина на несколько минут пришла в себя. Открыла свои глаза.
Командир отряда подошел к ней, погладил ее по голове, сказал ей, горько вздохнув:
— Ничего, Любаша, поправишься. Будешь еще ходить с автоматом.
Люба ничего не ответила командиру. И снова закрыла свои глаза до другого дня.
Ночью у нее началась лихорадка. Она горела как в огне. Бредила, металась.
Командир отряда послал в штаб бригады за врачом. Приехал доктор на верховой лошади. Осмотрел раненую. С сомнением покачал головой, сказал:
— Дело обстоит плохо. Вряд ли она встанет на ноги. Одна надежда на ее могучий организм.
Любашу перевязали как полагается. Дали ей укрепляющих средств.
Три дня она пролежала в бреду. На четвертый день попросилась на воздух.
Вынесли ее из землянки, положили на траву. Стали поить ее козьим молоком. Сварили кашу. Покушала, попила. И целый день провела на воздухе.
Дней через семь Люба уже могла сидеть. Могла беседовать. Рассказала командиру, что случилось с ней. Оказалось, ее выдали фашистам. Он знал от населения, что она работала на партизан. Фашисты арестовали ее, отвезли в гестапо и там шесть дней били и пытали ее. А потом отвезли в поле вместе с другими арестованными и там расстреляли пулеметом, поставив всех на краю рва. Любу ранило в плечо. Она упала в ров, где уже лежали убитые. Однако фашисты не засыпали рва. Они еще раз поехали за партией арестованных. Люба выбралась наверх и пошла в лес. А что случилось дальше, она не помнит.
Выслушав ее рассказ, командир сказал ей:
— Назови фамилии своих мучителей, я сейчас запишу. После войны начнут распутывать концы, начнут искать тех, кто изуверствовал. Вот и мы предъявим комиссии наш список.
Однако Люба не знала фамилий тех, кто ее пытал. Она не знала даже фамилии начальника гестапо, который аккуратно присутствовал при ее пытках.
Командир сказал:
— Вот это жаль, что ты фамилий не знаешь. Ну да ничего. Может быть, и без фамилий найдут твоих подлецов. Каждого фашиста потянут к ответу. Ведь они своей жестокостью нарушили все человеческие законы.
Теперь всякий день Любу выносили на воздух. Она лежала спокойная. Любила, чтобы солнце светило прямо в ее лицо. Хотела, чтобы скорей сошли с лица багровые пятна.
К концу второй недели Люба уже могла ходить. Шаталась, правда. Но радовалась как ребенок, что ноги ее снова держат.
Еще прошла неделя, и Люба уже почти поправилась. А в конце месяца ее звонкий смех раздавался повсюду.
Уже без дела она не хотела сидеть. Стала проситься у командира в разведку. Командир не разрешил ей, сказал, что надо подождать. Но ждать не пришлось. Вскоре Люба приняла участие в бою.
Немцы нащупали место, где стоял отряд. Кинули в бой роту СС, но, потерпев поражение, отошли.
Люба пошла с отрядом преследовать немцев. У деревни Подоклино отряд наткнулся на засаду. Попал под сильный минометный огонь. Причем мины были особого свойства — подскакивающие. Они ударялись о землю, подскакивали вверх метров на пять и вверху разрывались, как шрапнель.
Люба была ранена осколком в левую руку. И рана была нехороша — перебита кость.
Отряд вернулся на свою стоянку. И Люба вновь принялась за лечение. Но на этот раз она не лежала. Она ходила по лагерю. Помогала в хозяйственных делах. И вскоре вновь поправилась, хотя кость руки срослась не совсем правильно.
Между тем крестьяне ближайшей деревни сообщили партизанам, что потрепанный отряд СС расположился у них в деревне и там усиленно пополняется новыми кадрами. Видимо, снова собирается ударить на партизан.
Командир партизанского отряда сказал:
— Дожидаться не будем, когда они пополнят свои ряды. Сходим к ним, пока они кофе пьют.
В полном составе отряд выступил ночью и под утро, еще в полной темноте, напал на деревню.
Фашисты яростно защищались. В каждом дворе завязывалась схватка. В каждом дворе происходил бой. Но это был почти рукопашный бой. Слишком уже сблизились противники во дворах и в избах. Револьверы, гранаты, ножи и руки — вот что было пущено в ход. Автоматы не участвовали в этом бою. Да и гранатой не всюду можно было действовать: партизаны щадили жителей, которые могли пострадать.
Темнота была в пользу партизан, хотя нередко приходилось окликать человека — свой или чужой.
Кажется, все дворы обежала Люба, принимая участие в схватках там, где они еще продолжались.
К утру все было кончено. Значительная группа фашистов бежала из деревни. Но их не стали преследовать. Сами были измучены до последней степени.
Командир партизанского отряда сидел в одной избе, уронив свою голову на деревянный стол. Он был ранен в руку. Санитарки перевязали его рану. Но он так и остался сидеть на лавке. Спал тяжелым, коротким сном.
Партизаны привели в избу двух гитлеровцев. Один из них был совсем молоденький мальчик, лет восемнадцати, офицер. Другой был солидный, толстоватый, в очках. Этот был в чине майора. Партизаны нашли этих офицеров в сарае. Там они сидели, укрывшись соломой.
Мальчишка заметно дрожал от волнения и страха. Майор, напротив, держался удивительно спокойно. Даже с каким-то каменным спокойствием. Когда его привели в избу, он попросил разрешения закурить. И, закурив, сел у стола, поглядывая в окно с рассеянностью скучающего человека. Партизаны велели ему встать, и он встал по-прежнему безучастный к происходящему.
Командир отряда спросил майора — не он ли командовал этим штурмовым отрядом СС.
Ломаным русским языком фашист сказал:
— Я не имель отношений к этот отряд СС. Я случайно здесь в этой деревне. Ехаль машина. Останься ночевать.
Тогда командир спросил молодого офицера — так ли это, как сказал майор. Однако мальчишка не знал по-русски. Сказал запинаясь:
— Их вайе нихт русска язик.
Переводчика не было. Побежали искать Любу Тушилину, которая немного знала немецкий язык, поработав у немцев свыше года.
Любаша торопливо вошла в избу, на ходу поправляя свои волосы. Сказала командиру своим звонким голосом:
— Явилась, товарищ командир.
И тут вдруг, увидев майора, Люба побледнела и сделала шаг назад.
— Что с тобой? — спросил командир.
Люба снова посмотрела на майора, и тот посмотрел на нее и отвел свои глаза в сторону. С волнением Люба сказала:
— Товарищ командир… Это он… Начальник гестапо…
Командир приподнялся с места. Сказал Любе:
— Видишь… Как веревочка ни вьется, а все конец найдется…
Майор через свои очки снова кинул взгляд на Любу. Та стояла перед ним красивая, темная от загара, цветущая в своем великолепном здоровье. Грозная в своем солдатском одеянии. С немецким маузером, торчащим из-за пояса ее гимнастерки.
— Узнаешь ли ты эту девушку? — спросил командир майора.
Фашист снял очки, протер их носовым платком. Снова надел их и снова кинул взгляд на Любу. Красные пятна выступили на лице майора. Однако он сказал почти бесстрастно:
— Люба Тюшилина? Ви? Ничего не понимает…
— Ты не понимаешь, — сказал командир, — так мы кое-что понимаем… Вон какие у нас девушки. Видал? С того света вернулась, чтобы тебя покарать.
Еще раз взглянув на Любу, майор снял свои очки, сломал их, переломил надвое и кинул обломки на пол.
Нельзя было понять, почему он это сделал. Быть может, в этом жесте он нашел выход своему волнению. Или, быть может, он сломал свои очки, не желая больше видеть то, что он увидел. Какой-то финал, какой-то итог всему был в этом движении его рук. Всех почему-то поразил этот жест нациста. Все замолчали. Потом командир сказал:
— Уведите его. Покарайте за преступление.
Майор торопливо сказал:
— Но я не бил ее. Госпожа Тюшилина, подтвердите это.
Люба сказала:
— Это верно, он не бил меня. Он только приказал бить и резать.
Один из партизан сказал Любе:
— Ты через него свою кровь роняла, веди его.
Люба сказала:
— Мне противно коснуться его шкуры.
И с этими словами она неожиданно положила свой маузер на стол возле майора. Майор понял значение сделанного. Чуть дернулся. Потянул свою руку к револьверу. Но тут партизаны схватились за свое оружие, навели пистолеты на фашиста. Один из партизан крикнул Любе:
— Зачем ты это сделала? Он будет стрелять.
Командир, взглянув на майора, сказал:
— Не будет стрелять. Он морально сломан.
Майор сел на лавку, вложил дуло револьвера в свое ухо и выстрелил в себя.
Не взглянув на убитого, Люба вышла из избы.
22. Поймите простую истину
Нину Ивановну 3. вызвали в Штаб партизанского движения. Сказали ей:
— Ты неплохой партийный организатор, и мы хотим послать тебя в партизанский край. Как ты на это смотришь?
Нина Ивановна ответила:
— Ну что же, я согласна. Когда и как туда направиться?
Ей сказали:
— Завтра самолетом полетишь во Вторую партизанскую бригаду.
Эта бригада только лишь недавно[21] была сформирована Штабом партизанского движения. И теперь бригада стояла в тылу у немцев на озере Черном, вблизи Глебовских болот. Командовал бригадой Н. А. Бредников.
Нина Ивановна и вместе с ней две девушки вылетели самолетом из Ленинграда и в ту же ночь были в штабе бригады.
Командир бригады сказал Нине Ивановне:
— У нас имеется небольшая группа девушек. Их всего пятнадцать. Некоторые из них плохо владеют оружием, а некоторые и вовсе не знакомы с винтовкой, не говоря уже об автомате. Надо будет подучить их. Но основная ваша задача — увеличить этот отряд за счет местного населения. Приступайте к работе.
Нина Ивановна горячо взялась за дело. Она пошла в ближайшую деревню Замошье. Устроила там общее собрание жителей. Сказала им:
— Мы приехали сюда не суп варить для мужей. Мы приехали воевать. Будем ходить с автоматом против немцев. Я вас всех призываю к этому. Когда родина в огне, не приходится лежать на печке.
Несколько девушек попросилось в отряд, и Нина Ивановна зачислила их.
Побывала Нина Ивановна и в других деревнях. И там, где это было возможно, устраивала собрания, беседовала с жителями, читала им сводки Информбюро, давала газеты, листовки, разъясняла военные и политические события. Но с девушками Нина Ивановна, помимо того, вела особый разговор. Стыдила их за то, что они в стороне от большого дела. Говорила им:
— Вы мне тут тургеневских героинь из себя не разыгрывайте. Сейчас не то время. Надо воевать, а не на кухне бренчать кастрюлями.
В короткое время Нина Ивановна наладила крепкую связь с населением. Теперь жители деревень нередко сами приходили к партизанам. Приходили побеседовать, узнать новости. Приходили и лечиться — как в больницу к врачу, на прием.
Вскоре в отряде девушек насчитывалось около ста человек. Но эта цифра не показалась Нине Ивановне предельной для ее самостоятельного отряда.
Нина Ивановна однажды сказала своим товарищам:
— Попросту надо пойти по деревням и забрать тех жителей, которые способны носить оружие. Иначе немцы возьмут их к себе. Так уж лучше мы их заберем, чем оставим немцам.
С небольшим отрядом девушек Нина Ивановна обошла ряд деревень и забрала с собой молодежь. И там, где позволяли обстоятельства, она устраивала собрания, на которых разъясняла смысл своего мероприятия.
На одном таком собрании Нина Ивановна сказала:
— Поймите простую истину. Тот, кто не хочет нам помочь, тот не с нами. Кто лежит на печи в стороне от военных событий, тот не наш, если он, конечно, здоровый, молодой и может винтовку в руках держать. Нельзя медлить в этих делах. Идемте с нами, пока не поздно.
Поднялся с места молодой человек. Лет ему было не больше шестнадцати. Сказал тихо:
— Я находился в стороне от военных событий не потому, что хотел этого. Но что я мог сделать, когда немцы вокруг? Теперь-то я, конечно, с радостью пойду с вами.
Нина Ивановна спросила его:
— А вы кто такой?
Молодой человек ответил:
— Я комсомолец.
Нина Ивановна воскликнула:
— Ты комсомолец? А сколько времени ты стоял тут под немцами? Все время? Почти два года?
Молодой человек молча кивнул головой. Нина Ивановна сказала ему:
— Дай сюда свой комсомольский билет.
— Зачем он вам?
— Я отберу его у тебя за твою бездеятельность.
Молодой человек тихо сказал:
— Не вы мне дали билет, и я вам не отдам его. Столько времени я его бережно хранил, прятал от немцев.
Нина Ивановна воскликнула:
— Вы слышали? Он два года бережно хранил свой билет, держал, вероятно, под полом. Ждал, что ему медаль дадут за прекрасную сохранность документа. Да разве только в этом дело, чтобы сберечь свой документ? Помимо того надо дело делать, а не валяться на печи, ожидая у моря погоды. Давай сюда свой билет. Покажи его. Может быть, он уже недействителен.
С великой неохотой молодой человек принес свой билет. Да, сохранил он его в аккуратненьком виде. Держал завернутым в клеенку, чтобы сырость не покоробила листки.
Просмотрев этот билет, Нина Ивановна сказала молодому человеку:
— Я так и думала, билет недействителен — за два года членские взносы не уплачены.
Молодой человек сказал, несколько заикаясь:
— Да где ж я мог платить членские взносы, если немцы тут?
Нина Ивановна сказала:
— Вот ты бы и поставил себя в такие условия, чтобы было где платить членские взносы, а если к этому не было возможности, так не на печке же надо, черт возьми, лежать, надо действовать, и в первой шеренге находиться. Билета не получишь.
Люди, которые присутствовали при этой сцене, сказали:
— Правильно. Помимо документа надо еще что-то иметь.
В короткое время отряд девушек достиг двухсот человек.
Все девушки прошли военную учебу. Изучили винтовку, автомат, гранату.
Теперь командир бригады стал давать отряду специальные задания. Посылал отряд на ответственные дела. Девушкам доверяли. И они отлично справлялись с задачей. Отважно ходили на самые трудные боевые операции.
На шоссейной дороге Луга — Ленинград девушки взорвали две машины со снарядами. При налете на деревню Верхутино ворвались в дома, где засели немцы. Уничтожили немцев, захватили их оружие и боеприпасы. В бою за Уторгош получили задание разбить вокзал и сделали это. Разбили и сожгли вокзал, взорвали три машины со снарядами. На Оредежь пошли в открытый бой. И в этом бою одержали крупную победу.
Смелая, необыкновенно отважная и решительная Нина Ивановна постоянно находилась в первых рядах. В бою за станцию Мшинская она была ранена в плечо автоматной пулей. К этому времени в отряде девушек насчитывалось уже четыреста человек.
Что касается комсомольца, у которого Нина Ивановна отобрала билет, то он, явившись в партизанский отряд, выразил горячее желание принять участие в борьбе против фашистов. Он был во многих боях и отличился. Вероятно, теперь комсомольский билет ему вернут.
23. Хозяева идут
Шесть партизанок из отряда девушек шли лесом. Возвращались из соседнего отряда, куда ходили по заданию комиссара.
Шли девушки в боевом походном снаряжении, с автоматами.
Был тихий осенний день. Густые облака затянули небо, но иногда солнце прорывалось сквозь них, и тогда становилось веселей вокруг. Веселей глядели пустые поля и безлюдная дорога, тянувшаяся вдоль леса.
Одна из партизанок сказала, шумно вздохнув:
— Как странно, девочки… Ходим не по дороге, по лесу… Скрываемся и таимся, словно мы какие-нибудь воры…
Другая партизанка сказала:
— А верно, девочки, скучно идти лесом. То ли дело по дороге идти. И обувь там лучше сохраняется, не так она портится, как по кочкам.
Девушки засмеялись. Перебивая друг друга, стали говорить:
— Так пойдемте по дороге… Что мы, по чужой стороне, что ли, ходим… Кажется, ходим по своей родной земле… Довольно считаться с фрицами…
Тут со смехом и с шутками девушки вышли из леса и пошли по шоссейной дороге.
Было совсем безлюдно, тихо. Лишь гудели телеграфные провода, вновь подвешенные немцами на невысоких свежевыструганных столбах. Девушки шли гуськом вдоль канавы.
Впереди показалась деревня. Одна из партизанок сказала:
— Через эту деревню можно смело идти. Там нет немецкого гарнизона. А полицаи не посмеют нас тронуть, они боятся нас как огня.
Нарочно построившись в ряды, девушки пошли по деревенской улице. Шли улыбаясь, возбужденные своим маршем через деревню.
Жители выбегали из домов и с недоумением глядели вслед девушкам. Некоторые, усмехаясь, говорили:
— Хозяева идут…
— А то нет, что ли, — отвечали девушки. — Ясно, хозяева…
С одного двора выбежал на улицу молодой парень в синей рубашке, без пояса. На рукаве у него виднелась повязка полицейского. Обалдело поглядев на девушек, парень снова юркнул в ворота.
Девушки миновали деревню и снова пошли по шоссе через поле.
Показалась грузовая машина. Поравнявшись с девушками, машина несколько замедлила свой ход. Шофер с изумлением посмотрел на девушек с автоматами. Затем, обернувшись и свесившись с машины, стал глядеть им вслед. Потом дал газ и помчался дальше.
Одна из девушек хотела дать очередь из автомата. Однако другая остановила ее, сказала:
— Стоит ли того? Урон будет небольшой, а шуму много.
Пошли дальше. Поля остались позади. Теперь дорога вела лесом.
На крутом повороте лесной дороги девушки неожиданно столкнулись с отрядом немцев. Немцев было восемь человек. Они шли с автоматами. А позади идущий немец катил за собой пулемет.
Причем обе стороны столкнулись буквально лицом к лицу. Настолько, что впереди идущие задели друг друга рукавами. Это было так неожиданно, что обе стороны растерялись и остановились. Раздались восклицания: «Ах!.. Ох!.. Ого!..»
Но эта растерянность продолжалась не более трех секунд. Обе стороны отпрянули друг от друга. Причем, как выяснилось в дальнейшем, немцы не рассмотрели даже — сколько девушек. Поворот дороги был крутой, девушки шли гуськом, встреча была ошеломляющая, и немцам показалось, что перед ними женский батальон. Так по крайней мере они потом сообщили жителям ближайшей деревни.
Отпрянув друг от друга, и те и другие бросились по канавам. И рассыпались по обе стороны шоссе. Причем в одной канаве вместе с девушками оказался немецкий солдат. Растерянность его была так велика, что он, увидев свою ошибку, не стал даже исправлять ее. Он лег на спину и несколько секунд неподвижно лежал, раскрыв рот от изумления. И только потом, сорвавшись с места, кинулся через шоссе к своим, в другую канаву.
Итак, оба отряда рассыпались по канавам на расстоянии сорока шагов друг от друга.
Установив в канаве свой пулемет, немцы не переставая стали стрелять. И при этом стреляли из автоматов. Но стреляли не высовываясь из канавы и не целясь, так что пули где-то высоко резали воздух.
Девушки хотели отвечать, и одна из них стала стрелять, но старшая по отряду остановила ее, сказала:
— У нас мало патронов. Да и немцам будет страшней, если мы помолчим.
Не получая ответного огня, немцы действительно смутились. Прекратили стрельбу. Однако при каждом шорохе снова открывали ураганный огонь.
Так продолжалось минут сорок. Потом над дорогой нависла тягостная тишина. Немцы даже не разговаривали между собой. И девушки молчали.
Наконец одна из девушек тихо сказала:
— Девушки, надоело без толку лежать. Давайте напугаем немцев — закричим ура.
Девушки поползли по канаве, приблизились к немцам и неожиданно громогласно закричали ура.
Немцы почему-то не ответили огнем. Кусты, которые прикрывали канаву, не позволяли рассмотреть, что там у немцев делается. Тогда одна из девушек подняла на палке свой головной убор — пилотку. Выстрела не последовало.
Девушки вышли из канавы и, перебежав дорогу, подошли к кустам. Немцев там не оказалось.
Девушки побежали вперед. И вдруг вдали за лесом, на полянке, они увидели бегущих немцев. Немцы бежали, рассыпавшись по полянке. И некоторые из них в своем стремительном беге подпрыгивали на кочках, как козлы.
Девушки открыли огонь из автоматов. Однако немцы были уже далеко, что, впрочем, не помешало им попадать на землю после первой автоматной очереди.
Падая и поднимаясь, немцы бежали дальше и вскоре совершенно скрылись за густым кустарником. Девушки бросили стрелять. И бой, так сказать, кончился за отсутствием противника.
Одна из девушек сказала:
— Ой, девушки, я снова не могла стрелять от смеха. Как увидела, что они скачут по полянке, у меня аж автомат задрожал в руке. Смеюсь и стрелять не могу.
Другая девушка, недавно принятая в отряд, с удивлением сказала:
— Неужели немцы такие трусы? Вот уж никогда не думала.
Старшая по отряду ответила ей:
— Нет, они далеко не трусы, но следует учесть, что мы их немножко-таки задергали за эти два года. Теперь они чересчур боятся партизан. У них лихорадка начинается при виде нас.
Третья девушка сказала:
— Я тоже считаю, что немцы совсем не трусы. Они очень, очень смело дерутся и умеют храбро умирать. Нет, по-моему, это очень сильный противник — немцы. Крепкий народ, сбитый Гитлером с пути.
Еще одна девушка сказала:
— Смелые-то они смелые, но тогда, когда в машине сидят. А без машин у них иной раз ноги подгибаются. Тоже вот помню — они в нашей деревне хотели дом сжечь вместе с людьми. Загнали в наш дом человек сорок. Заколотили досками окна и двери. И подожгли с двух сторон. А у моего отца на веранде лежали охотничьи патроны. И вот стали эти патроны взрываться от огня. Что было с гитлеровцами, вы бы видели! Некоторые попадали на землю, стали окапываться. А многие просто убежали. Мы этим воспользовались и ушли из горящего дома.
Старшая по отряду сказала:
— В общем счете немцы смелые. Но есть среди них просто хлюпики. И таких у них немалое количество. Близорукие, в очках. И настолько размагниченные, что удивление берет — откуда у этих-то берется нахальство кидаться на весь мир.
Так беседуя между собой, незаметно дошли до места стоянки своего отряда.
А на другой день одна из девушек, побывав по делу в деревне, узнала от жителей некоторые подробности. Оказывается, немцы прибежали в деревню насмерть перепуганные. Кричат: «Партизаны, партизаны, целый женский батальон». На это им жители говорят: «Да какой же это батальон. Всего шесть девушек шли по дороге. Но, конечно, шли по-хозяйски, уверенно. Вот вы, фрицы, и оробели, увидев их походку».
Однако немцы не поверили жителям. Твердили все свое: «Партизаны, женский батальон». А один из гитлеровцев сказал:
— Шесть девушек нас не могли бы напугать. А уж если мы настолько испугались, значит, их было значительно больше. Наверно, батальон или рота.
Так гитлеровцы и не поверили жителям. Остались при своем гордом мнении, что они сражались с женским батальоном и оставили свои позиции под давлением превосходящих сил противника.
24. Чье кушаю, того и слушаю
Разведчики молча шли лесной дорогой. Мартовский снег не скрипел под ногами. Стояла необыкновенная тишина.
Вдруг где-то вдали послышался шум мотора. Видимо, шла машина.
Разведчики поспешно сошли с дороги и, выбрав удобную позицию, залегли в снег.
Показалась открытая трехтонка, груженная железными кроватями и матрацами. На матрацах, прикрыв спины одним байковым одеялом, сидели три солдата.
Партизаны открыли огонь, когда машина поравнялась с ними. Три солдата, как по команде, приподнялись с матрацев и тотчас упали вниз, сраженные пулями. Машина замедлила ход и, свернув в сторону, остановилась, ударившись о дерево.
Шофер выскочил из кабинки, пытаясь уйти. Но пуля настигла его. Он упал.
Прихватив с собой несколько матрацев, партизаны собрались уйти. Неожиданно за дорогой у дерева увидели еще одного солдата. Он стоял, подняв вверх руки. У его ног на снегу лежал автомат.
— Плен сдаюсь! — крикнул гитлеровец, когда партизаны увидели его.
Партизаны подошли к нему. Потрясая поднятыми руками, гитлеровец несколько раз повторил:
— Плен, плен сдаюсь…
Один из партизан, подняв свой револьвер, сказал:
— Да что с ним разговаривать…
Что-то удивительно жалкое было в просительном тоне фашиста и во всей его дрожащей фигуре с поднятыми вверх руками. Партизан опустил свой револьвер. Сказал врагу:
— Да ты откуда взялся-то, куроцап?
Не опуская рук, гитлеровец ответил:
— Я ехал машина.
— Да разве ты ехал в машине? — спросил партизан. — Вон твои четверо распластались на дороге, а пятого тебя мы не видели.
— Я ехал кабинка…
— Ах, ты сидел в кабинке рядом с шофером? И, значит, пулей выскочил наружу, когда мы открыли огонь?
Фашист молча кивнул головой и снова сказал:
— Плен сдаюсь русским товарища.
— Плен, плен, — сказали партизаны. — Ты пойми, садовая голова, мы же не регулярная армия. Не можем тебя в плену содержать.
Фашист тихо сказал:
— Буду ваши костюмы чинить, брюки гладить, сапоги чистить.
Партизаны рассмеялись:
— Вот ваксы-то мы забыли купить для твоей деятельности.
Один из партизан сказал:
— А верно, отведем его в отряд. Глядите, как жить просится.
Партизаны сказали:
— Возьми пару матрацев и иди вперед.
Фашист торопливо нагрузил на себя матрацы и, почтительно сторонясь, пошел с партизанами. Один из партизан спросил:
— А почему ты, фриц, не убежал от нас? Ты же отлично мог сховаться в лесу. А ты предпочел у дерева встать на виду у всех.
Фашист ответил:
— Я, товарищи, лес боюсь. Волки, природы боюсь. Я есть городской житель.
По дороге партизаны узнали у немца, что ему тридцать пять лет, что он имел небольшую сыроварню и жил неплохо.
В фашистской партии не состоит. Холост. Не женился потому, что последние десять лет со дня на день ждал войны.
На все вопросы фашист отвечал довольно чистенько по-русски, сказав, что он родился в Польше, где знают русский язык.
Фашиста привели в лагерь. Командир отряда с неудовольствием посмотрел на пленника. Сказал, нахмурившись:
— Ну на что вы его привели? Зачем это?
Фашист, вытянувшись в струнку и затаив дыхание, смотрел на командира. Вкрадчиво сказал ему, почтительно наклонив голову:
— Буду принести пользу. Буду шить, чинить, гладить, мыть…
Командир усмехнулся. Потом нахмурился:
— Ну зачем он тут…
Махнув рукой, отошел. Фашист провожал его глазами.
Начиная с другого дня, фашист стал ревностно помогать партизанам в их хозяйственных делах. Ходил за водой. Колол дрова. Собирал хворост. Убирал и чистил землянки. Работал до вечера не покладая рук. При этом вытягивался в струнку перед каждым, кто появлялся, отдавал честь. Делал он это необыкновенно торжественно — корпус его замирал в неподвижной позе, а голова его медленно вращалась вслед идущему. Он, как говорится, «ел глазами начальника».
Тянулся он перед всеми, даже перед связным Федюшкой, которому было тринадцать лет. И Федюшка этот, вкусив сладость почета, не смог уже в дальнейшем перебороть своих искушений — он то и дело показывался, чтоб получить должное.
Но особый ритуал фашист устраивал, когда появлялся командир. Тогда он настолько замирал и так подавлял в себе всякое дыхание, что казалось, не солдат стоит, а каменное изваяние, готовое, впрочем, рассыпаться в прах от одного взгляда.
Командир всякий раз хмурился и старался избежать такой встречи. Но он не смог избежать забот и внимания фашиста. Тот с особым старанием убирал площадку перед землянкой командира. Посыпал песком дорожку. И елочками украшал вход в землянку.
А в свободное время подходил к землянке командира и, приняв неподвижную позу, простаивал так некоторое время, выражая этим свои трепетные чувства к высокому начальнику.
Собрав однажды первые подснежники, фашист поставил их в консервную банку и попросил связного Федюшку отнести эти цветы в землянку командира.
Командир пришел в уныние, получив эти цветы. Сказал своим товарищам:
— Изнемогаю от этого гитлеровца. Он буквально побивает меня своей угодливостью. И этим портит людей. Взгляните на Федюшку. Это был тихий подросток. А теперь он стал дерзить. И каждую минуту жаждет, чтоб гитлеровец отдал ему честь. Нет, вот придет самолет, и я отошлю этого нациста в тыл. Пусть он идет к черту на рога. Мне он здесь не требуется.
Проходя однажды мимо пленного, командир остановился и сказал ему:
— Вот твой преподобный Гитлер объявил всему миру, что вы раса господ. А разве в тебе есть хоть капля этого мирового господства? Ведь ты склоняешься перед каждым, кто стал твоим хозяином, перед каждым согласен как угодно унижаться, чтобы этим сохранить свою драгоценную жизнь.
Что-то дернулось в лице нациста. Отрывисто он сказал командиру:
— Я не унижаюсь, я подчиняюсь обстоятельствам. Кто не умеет подчиняться, тот не умеет повелевать.
Усмехнувшись, командир сказал:
— Смотря какое подчинение. А твое подчинение — это, понимаешь, стремление к рабству. Вот в чем сказался твой характер гитлеровского солдата, а не в господстве, о котором раззвонили на весь мир.
Фашист почтительно молчал. Командир сказал ему:
— Ну хоть рассердись на меня, куроцап. Покажи, что у тебя еще теплится человеческое достоинство, которое должно быть выше, чем многое другое.
Гитлеровец молчал. Махнув рукой, командир ушел.
Дня через два самолет приземлился недалеко от лагеря партизан. Привез различные грузы. И захватил с собой одного тяжелобольного и двух раненых.
Командир сказал пилоту, показав на фашиста:
— Прихватите еще одного пассажира, а то он сильно мешает мне.
Перед тем как сесть в самолет, гитлеровец протянул вперед свои руки и сказал:
— Завязайте мне руки.
— Зачем? — спросили партизаны.
Гитлеровец сказал:
— Когда враг связан, летчик спокойно летит.
Партизаны рассмеялись. Связали бечевкой руки нацисту. Когда самолет улетел, командир сказал:
— Фу, как-то легче стало.
Консервную банку с подснежниками командир выбросил из землянки. И ударил по этой банке ногой, как по футбольному мячу.
Засмеявшись, сказал:
— Нет, верно, как-то легче стало, проще, не так душно.
25. Федот, да не тот
Уже с конца сорок третьего года население приходило в партизанский отряд как в свое советское учреждение, находящееся в тылу у немцев.
Приходили люди по многим своим делам. И даже, не страшась немцев, везли на санях больных — лечиться.
Врач в отряде был совсем молоденький человек, и многим он казался из недоучившихся, однако он имел диплом и вполне порядочно лечил людей. И тем самым он еще в большей степени усилил популярность отряда.
Помимо лечения люди приходили за газетами, за справками и с жалобами на те или иные непорядки. Много жалоб поступало на старост, на немецких комендантов и на всякого рода прохвостов, желающих погреть руки на человеческом горе.
Между прочим, в отряд пришел один гитлеровец, солдат, служивший в комендатуре, при волости. Пришел он с жалобой на своего коменданта, который побил его по лицу.
Командир отряда сказал фашисту:
— То, что тебя смазали по харе, это, конечно, нехорошо. Хотя нам-то какое дело, кто кого у вас бьет. Это уж, так сказать, ваши внутренние дела. Мы-то при чем?
Фашист ответил командиру, что он желает вступить в партизанский отряд, чтоб сражаться против коменданта. Командир сказал:
— В отряд я тебя принять не могу, однако отправлю в штаб бригады, пусть там рассудят твою судьбу. Кстати, как фамилия твоего подлеца коменданта?
— Обер-лейтенант Трюммер.
Командир воскликнул:
— У нас на этого коменданта уже три жалобы имеются. Ладно, учтем и твою, поскольку ты обратился к нам за справедливостью.
Вскоре после этой истории в отряд явилась пожилая женщина. Она тоже принесла свою жалобу на этого коменданта. С плачем рассказала свою грустную историю.
Оказывается, этот комендант приказал дать ей двадцать пять розог. И вот за что. У нее было два постояльца, два солдата, которых поместили в ее избе. Но это были не немцы, а, по ее мнению, испанцы. Так эти два испанца украли у нее теленка, согнали его со двора и продали его.
Женщина обратилась с жалобой в комендатуру. Причем заодно пожаловалась и на фашистов, которые ранее этого перебили у нее всех кур и гусей и взяли из сундука все ее тряпки и костюм ее мужа.
Комендант прогнал эту женщину. Но она была настойчивая. Она еще раз пришла в комендатуру и сказала, что она дойдет до высшего начальства, если ей не покроют убытков. Тогда комендант велел дать ей двадцать пять плетей за ее настойчивое домогательство.
Рассказывая это, женщина плакала. Сказала:
— Меня, советскую женщину, наказали плетьми. Теперь я людям стыжусь в глаза глядеть.
Командир успокоил ее, сказал ей:
— Ну, это дело переполнило чашу моего терпения. Одного коменданта мы в свое время уже убрали, уберем и этого, снимем его с должности. Будьте спокойны и всецело положитесь на нас. И, главное, не плачьте, не горюйте, мамаша. Злодей будет наказан.
Командир послал в волость одного опытного разведчика выяснить обстановку.
Вернувшись, разведчик доложил, что при комендатуре этот комендант не проживает. От страха перед разведчиками он живет в уездном центре, а в волость приезжает лишь по служебным делам. Причем в волости имеется большой немецкий гарнизон и крупный полицейский отряд. Так что убрать коменданта в самом управлении не представляется возможным без значительного риска.
Командир сказал:
— В таком случае придется нам выставить заставу где-нибудь на дороге и при следовании коменданта кинуть в машину связку гранат, чтоб тем самым облегчить ему путешествие на небо.
Вскоре выяснили, по какой дороге ходит машина. И в укромном месте поставили заставу.
Заставе не пришлось долго ждать. Операция удалась в первый же день. Гранаты были кинуты удачно. Машина почти развалилась на куски, и седоки получили то, что заслужили.
Однако через день выяснилось, что в машине ехал не комендант, а его помощник.
Партизаны не без смущения доложили об этом командиру. Сказали, разведя руками:
— Федот, да не тот, товарищ командир. Ошиблись.
На это командир ответил:
— Печаль, конечно, не велика, что ошиблись. В конце концов и того, и другого, и третьего, и всех их надлежит убрать. Но все-таки хлопот нам прибавится. Дело так не оставим. Дожмем до конца. Уберем мошенника с его пути. Настигнем его, хотя бы он был уже в раю.
Вскоре партизаны повторили свою операцию. Но и на этот раз в машине был не комендант. Это был какой-то их калькулятор, ехал в комендантской машине.
Партизаны сказали командиру:
— Все они, товарищ командир, исключительно похожи друг на друга. Все они на одно лицо — белые, одутловатые и в машине держатся неподвижно. Не приходится удивляться, что мы опять ошиблись.
Стали выяснять, где же в таком случае комендант. Оказалось, что он захворал брюшным тифом и лежит в больнице. И вот почему два удара миновали его.
Стали уточнять, где же лежит этот комендант — в каком здании, в какой палате и какая у него температура.
Наконец узнали, что комендант уже скончался. Так сказать, поторопился от лишних неприятностей уйти в иной мир.
Когда командиру доложили об этом происшествии, он сказал:
— Жаль, конечно, что он ушел от наказания, но что же сделать. Естественный его конец нас тоже до некоторой степени устраивает.
26. Падающего толкни
Значительный партизанский отряд стоял в тылу у немцев всего лишь в двадцати пяти километрах от их переднего края.
Штаб партизанского движения подтянул этот отряд к фронту, чтоб здесь, в непосредственной близости от позиций, тревожить немцев.
Здесь гитлеровцы чувствовали дыхание партизан за своей спиной. Любой, даже небольшой удар, который наносили здесь партизаны, нервировал немцев и казался им устрашающим.
Немцы перестали ходить в одиночку в своем тылу. И любая телега шла у них под охраной. Однако это не избавляло немцев от неожиданностей. То и дело на воздух взлетали грузовики со снарядами, походные кухни, легковые машины.
Нервозность немцев достигла предела, когда партизаны совершили ночной налет на штаб немецкой бригады. Тогда немцы поняли, что они не в силах избавиться от партизан, не в силах бороться с ними.
Непосредственная близость отряда к позициям создала партизанам немало трудностей. То, что раньше доставлял самолет — людей, боеприпасы, — теперь приходилось доставлять обычным земным маршрутом.
Этот «обычный маршрут» проходил сквозь немецкие позиции.
Нелегко представить себе, как люди проходили через фронт, тем не менее они проходили и доставляли отряду то, что требовалось.
Такой переход через линию фронта требовал, помимо отваги, огромного уменья и даже искусства ориентироваться в любых условиях. Такой переход требовал тщательного изучения местности. Позиции немцев не тянулись сплошной цепью. Цепь эта прерывалась природными преградами и теми пространствами, которые немцы легко могли простреливать своим пулеметным огнем. Вот здесь партизаны и проходили фронт противника и, миновав нейтральную зону, появлялись в советских окопах.
Необыкновенным таким умением проходить сквозь позиции отличалась молодая восемнадцатилетняя партизанка Г.
Она делала буквально чудеса. В любую ночь она, не задумываясь, шла тем путем, который тщательно изучила.
Здесь риск был на каждом шагу. И в особенности небезопасно было идти нейтральной зоной. Советские бойцы предупреждались заранее о переходе и поэтому не стреляли. Но немецкие пулеметы и сверкающие ракеты нередко заставляли ложиться на землю и выжидать.
Однажды командир отряда приказал разведчице Г. перейти через фронт, с тем чтобы доставить в отряд одного партизана Н., который по делам отряда находился на советской территории.
В двенадцать часов ночи разведчица Г. благополучно перешла на советскую сторону. Партизан Н. с нетерпением ожидал ее. Тотчас они двинулись в путь.
Но в эту ночь немецкие солдаты настроены были удивительно нервозно. Их пулеметы и автоматы стреляли почти непрерывно. Иной раз в дело вступали шестиствольные минометы. Ночь была необыкновенно темная. Трассирующие пули резали воздух почти во всех направлениях.
Партизан Н. шел позади своей спутницы, стараясь ни на шаг не отстать от нее.
Благополучно миновали первую треть нейтральной зоны. Далее путь лежал через овраг, заросший кустарником. Обычно это место было наиболее спокойным для перехода. Но именно это место на этот раз и оказалось самым тяжелым. Немцы усиленно простреливали овраг, страшась, вероятно, русского наступления.
Неожиданно партизан Н. упал. Он был ранен в правую руку выше локтя. Рана была тяжелая, пуля разбила кость.
Перевязали рану общими усилиями. Двинулись дальше. Однако огонь усилился. Пришлось снова лечь. Лежали долго. А когда пошли, то оказалось, что силы изменили раненому. Он был настолько слаб, что качался. Не мог идти. Лег отдохнуть. Но долго лежать нельзя было — часа через полтора начинался рассвет.
Разведчица сказала раненому:
— Я тебя понесу на плече. Ты потерял столько крови, что не можешь идти.
Эта маленькая и хрупкая девушка взвалила на свое плечо раненого, понесла его.
Огонь не ослабевал. И вернуться назад не представлялось возможным, так как немцы обрушили артиллерийский и минометный огонь на советские позиции. Многие снаряды, не долетая до переднего края, рвались совсем близко от идущих.
Раненый сказал девушке, которая, изнемогая, опустилась на землю со своей ношей:
— Оставь меня тут. Иди одна. Ты этим сохранишь себя для пользы дела. Иначе мы тут оба погибнем.
Девушка сказала ему:
— Зачем ты так говоришь? Неужели ты мог подумать, что я брошу тебя? За кого ты меня принимаешь — за фашистку или за советскую комсомолку?
Снова, взвалив раненого на плечо, девушка пошла и снова, пройдя немного, остановилась.
Раненый, почти теряя сознание, сказал ей:
— Я требую, чтоб ты оставила меня тут. Приказываю тебе. А нет, так я…
С этими словами раненый выхватил свой револьвер и выстрелил в себя. Он хотел выстрелить в висок, но он стрелял левой рукой, и рука его дрожала. Пуля пробила его щеку и, поцарапав язык, вышла в другую щеку.
От обиды и горя девушка заплакала. Как куль с мукой, она взяла раненого на плечо и понесла его не останавливаясь. Как будто то, что случилось, придало ей необыкновенные силы.
Шесть километров она несла раненого, ни разу не опустившись на землю.
Уже давно миновала передний край немцев. И шла теперь лесом, почти не сгибаясь под тяжестью.
Командир отряда, беспокоясь, что так долго нет разведчицы и ее спутника, послал вперед разведку выяснить, что же случилось.
Разведчики на лесной дороге встретили девушку с ее ношей.
Только тогда, увидев своих партизан, девушка опустилась на землю. И долгое время не могла снова подняться.
Командир отряда, узнав обо всем, поблагодарил разведчицу за ее благородный поступок. На это девушка ответила:
— Товарищ командир, я не вижу, в чем тут мое благородство. Поступила нормально, и каждый сделал бы одинаково на моем месте.
Командир отряда сказал:
— Это-то верно. У фашистов имеется свой лозунг — падающего толкни. А для нас это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. И поэтому я удивлен, почему твой спутник просил тебя оставить его под огнем.
Девушка сказала:
— Он был в бреду. Не понимал, что говорит и что делает.
27. У счастья много друзей
Еще задолго до разгрома немцев под Ленинградом к партизанам стали являться всякого сорта люди. Они бродили по лесу с надеждой повстречать партизан, а то и просто приходили на заставу.
Кто знает, где болтались эти люди в начале войны. Теперь они являлись с пылким желанием принести посильную пользу своей родине.
Приходили и полицейские (или «полицаи», как их называли). По большей части это были молодые ребята, завербованные немцами для несения полицейской службы в деревне. Впрочем, были среди них и пожилые крестьяне, вольно или невольно помогавшие немцам.
Перед Новым годом явился на заставу целый полицейский отряд из десяти человек. Сняв шапки, полицаи стояли перед партизанами, прося им помочь организоваться в самостоятельный отряд по борьбе с немецкими оккупантами.
— О чем же вы раньше-то думали, красавцы? — спросили их партизаны. — Ведь уже конец войны близок.
Грустно вздыхая, полицаи молчали.
Прибыл на заставу и один казак. Этот приехал верхом на лошади. При оружии, в немецкой шинели. И вдобавок привел он с собой немца, связанного по рукам. Он где-то заарканил его и вот доставил этот свой «дар» как некоторый, что ли, знак своей боевой мощи.
Казак полагал, что его встретят с распростертыми объятиями, но этого не случилось. Казака и его пленника отправили в штаб бригады.
Но вот в середине января сорок четвертого года произошло событие, о котором мы и собираемся вам рассказать.
К партизанам пришел пожилой человек, по облику похожий на Чехова или на какого-нибудь интеллигента прежней, дореволюционной формации. Длинные волосы и бородка подчеркивали это сходство. Недоставало лишь старомодного пенсне со шнурком. Впрочем, именно такое пенсне и оказалось у него в кармане.
Что-то удивительно неспокойное было во всем облике этого человека. Свои руки он то потирал, то прятал их в карманы, с тем чтобы через минуту вынуть их и снова потирать, потирать тем жестом, который обнаруживал непрерывную душевную тревогу.
Нервный тик ежеминутно передергивал его лицо.
Одет он был в худое осеннее пальто. Шея и уши были заболтаны теплым, длинным кашне.
Человек этот ухитрился пройти через все охранение. И партизаны обнаружили его вблизи своей стоянки, почти у самых землянок. Он шел по глубокому снегу, с трудом передвигая ноги.
Партизаны отвели его к комиссару отряда, и тот стал допрашивать его. Однако незнакомец так промерз, что не в силах был отвечать на вопросы. Комиссар налил полстакана водки и подал незнакомцу, назвав его почему-то «профессором».
— Вы, профессор, выпейте это. Отойдете сразу, — сказал комиссар.
«Профессор» отпил небольшой глоточек и отставил стакан в сторону. Однако глоток оживил его. Он стал рассказывать свою биографию. Оказалось, что он пенсионер, инвалид, экономист по образованию, — Константин Сергеевич У. Проживал он в городе Пушкине, откуда немцы эвакуировали его.
— С какой же целью вы явились к нам? — спросил его комиссар.
— Я пришел поговорить с вами, — ответил У. — Поговорить обо всем, что я передумал за эти военные годы.
Комиссар с удивлением посмотрел на него, сказал:
— Ну, знаете, для этого у меня нет ни времени, ни охоты.
— Но это очень важно для меня, — с волнением сказал «профессор». — Я прошу вас об этом, как о драгоценном даре.
«Профессор» говорил витиевато, непросто, приподнятым тоном. Комиссар не без досады глядел на этого старомодного человека, откуда-то выкинутого военной бурей на поверхность жизни.
Волнуясь и дергаясь, «профессор» сказал комиссару:
— Я пришел сказать вам о своем духовном и моральном перерождении. У меня нет больше колебаний и нет больше сомнений. Я теперь целиком ваш.
Несколько раздражаясь, комиссар сказал:
— Я ничего не понимаю. Говорите более толково. Какие колебания? И что значит «я ваш»? А до этого в качестве кого же вы были?
У. сказал:
— До этого меня иной раз подавляли сомнения. Нет, я никогда не был врагом нашей жизни. Я отдавал народу свои силы и знания. Но некоторые колебания не давали мне возможности сосредоточить всю свою духовную мощь на чем-то одном. О, я бы мог много сделать, если б не это.
Комиссар сказал:
— Значит, война застала вас в этих колебаниях, и вы перекинулись к немцам?
— О нет! — ответил У. — Я долго колебался — оставаться ли мне в Пушкине или уйти, но фронт слишком быстро придвинулся, и я был лишен возможности покинуть город. Я был эвакуирован немцами. И я должен сказать, что эти годы были крайне полезны для меня. Я воочию увидел немцев. Я многое передумал, пересмотрел. Понял, что историческая справедливость нашего времени бесспорна. Народ, который выигрывает такие битвы, — великий народ, которому я бы хотел отдать последние свои годы и мою жизнь.
Комиссар сказал:
— Значит, я вас так понимаю — война духовно переродила вас, и вы пришли к нам, к партизанам, чтоб предложить нам… Что именно вы хотите предложить? Ну, конкретно? Ну? План захвата штаба немецкой дивизии? Или что?
«Профессор» от души рассмеялся. Сказал:
— Нет, я пришел просто поговорить. Я давно собирался поговорить именно с партизанами, с отважными людьми, которые так мужественно и так героически борются с чудовищной силой, хотя их никто не понуждает к этому. И это обстоятельство всегда поражало меня. Людей никто не заставляет, а они сами… Это тоже сыграло немалую роль в моем духовном перерождении. И я счастлив, что остались позади годы моих колебаний.
Комиссар, улыбаясь, сказал:
— Миленькую, однако, жизнь вы прожили.
— Да, да! — воскликнул У. — Прожил жизнь, полную сомнений, тревог. Я всегда был честен с самим собой. Мне не хотелось ошибиться перед собой, перед историей, перед моим народом. Это было главной причиной моих колебаний, которые…
«Профессор» не договорил. Он вздохнул, поник головой и устало закрыл свои глаза.
В землянку вошел радист. Это был молодой человек — студент третьего курса Института связи — Виктор Р. Он пришел с улицы. Пришел в одной гимнастерке, в высоких сапогах, без фуражки. Сияние молодости и здоровья освещало его спокойное лицо, чуть тронутое легким румянцем.
— Радиограмма, — сказал радист, подавая комиссару листок бумаги. — Прикажете подождать ответа?
— Присядьте, Виктор Николаевич, — сказал комиссар радисту. — Сейчас напишу ответ.
Комиссар стал писать. На минуту задумался. Рассеянно взглянул на радиста. Потом перевел взгляд на «профессора». Отложил бумагу в сторону. Еще раз посмотрел на радиста и снова на У. Какой поразительный контраст. Два мира перед ним. Старый, ушедший мир, мир хмурых, мятущихся людей, когда-то описанных Чеховым. И новый мир — спокойный, уверенный в своих силах, точно знающий, что надо делать для того, чтобы жить.
Комиссар окликнул «профессора», глаза которого были сомкнуты:
— Ну а в своей молодости, профессор, вы же не были таким, как сейчас?
У. открыл глаза. Кротко взглянул на комиссара. Сказал:
— В молодости? Нет, пожалуй, это был наиболее трудный период в моей жизни — молодость. Хотелось для себя решить вопрос о смысле жизни, об отношении к смерти…
Радист с удивлением посмотрел на У. Отвернулся, желая скрыть улыбку, которая пробежала по его губам. Сказал, обращаясь к комиссару:
— Эти вопросы, товарищ комиссар, мы практически разрешаем на войне и в тылу.
Комиссар снова углубился в свою бумагу. Написав, подал радисту, сказал:
— Так вот, Виктор Николаевич, радируйте этот ответ.
Радист вышел из землянки. Комиссар взглянул на «профессора». Тот, облокотившись на стол, спал, подперев свою голову рукой.
28. Он умел подчиняться
Весть о разгроме немцев под Ленинградом вызвала в партизанском отряде необыкновенное ликование. Люди обнимали друг друга, пели, бросали фуражки в воздух.
Комиссар отряда устроил митинг, чтоб придать порядок взволнованным чувствам людей.
После митинга партизаны стали упрашивать командира — идти всем отрядом навстречу Красной Армии.
Командир не согласился с этим. Сказал:
— Немного надо выдержать характер. Негоже будет, если мы сейчас без толку потеряем хотя бы одного своего человека.
Душевное волнение, однако, было так велико, что через час командир, смущенно улыбаясь, сказал:
— Пожалуй, все-таки сходим поразведать. Поглядим, как там фрицы драпают.
С небольшой группой партизан командир отправился в разведку. Не терпелось увидеть отступающие немецкие части. Не терпелось с родной стороны встретить первых советских бойцов.
Партизаны шли опушкой леса в сторону Ленинграда. В двух километрах от них тянулось шоссе на Гатчину.
Не утерпели и подошли ближе к шоссейной дороге. Хотели своими глазами увидеть врага, уходящего в смятении.
По дороге шли немецкие танки, грузовые машины, пушки. Движение было непрерывным. Как лава, откатывалась назад стальная техника врага.
Пехоты почти не было. Изредка появлялась открытая машина с солдатами. Некоторые из солдат были укутаны в бабьи платки и одеяла.
— Эх, посечь бы их сейчас пулеметом, — сказал кто-то из партизан.
Командир приказал не подходить близко к дороге. И партизаны снова углубились в лес.
Идя лесом, партизаны вышли на открытую полянку. Остановились в изумлении. Шагах в сорока от них стояло немецкое орудие. Шесть артиллеристов суетились вокруг него. Видимо, артиллеристы только что получили приказ отступать, и вот теперь они подготовляли свое зенитное орудие в дальний путь.
В каком-то едином порыве, не сговариваясь, партизаны бросились на гитлеровцев. И те, ошеломленные, не взялись даже за оружие. Они, как по команде, подняли вверх свои руки и замерли в неподвижных позах.
Обезоружив фашистов, партизаны спросили их:
— Какой части? Что собой представляете?
Толстый фельдфебель ломаным русским языком ответил:
— Зенитный пушка.
И тут же добавил по-немецки:
— Шестьсот семнадцатый артиллерийский дивизион.
— По Ленинграду стреляли? — спросили партизаны.
— О нет, нет! — воскликнул фельдфебель и вместе с ним офицер. — Ленинград ми не стреляли. Ми зенитный орудий. Самолеты стреляли.
— И по самолетам не надо было стрелять, — сказал один из партизан — молодой парнишка лет семнадцати.
Партизаны не без любопытства рассматривали зенитное орудие. Кто-то сказал:
— Ведь оно не только по самолетам бьет. В крайнем случае можно и по шоссе ударить.
Партизаны обернулись в сторону далекого шоссе. Там движение немецких частей не прекращалось. Командир отряда сказал:
— Верно, надо бы ударить по шоссейной дороге. Только вот непонятно, как это чертово орудие заряжается.
Обратившись к фашистскому фельдфебелю, командир сказал:
— А ну-ка, фриц, покажи, как заряжается твоя пушка.
Фельдфебель взглянул на своего офицера. Тот сказал:
— Я могу показать наше орудие.
Офицер не без готовности стал показывать, как заряжается орудие и как устанавливается прицел. Командир сказал офицеру:
— Ну-ка, ваше благородие, наведи на дорогу. Я хочу туда послать конфет.
Офицер зарядил орудие и, взяв прицел на шоссе, сказал сам себе по-немецки: «Огонь!»
И выстрелил.
Снаряд попал точно на дорогу. Там произошло смятение.
Приложив бинокль к своим глазам, офицер сказал:
— Ого! Колоссаль… Прямо цель…
И хотя офицера никто не просил и не заставлял, он снова зарядил орудие и снова, сказав сам себе: «Огонь!» — выстрелил.
Фашистские солдаты и главным образом фельдфебель были взволнованы этой стрельбой и сердито смотрели на своего офицера. Однако не решались что-либо ему сказать.
Между тем офицер, воодушевленный хорошим попаданием, суетливо закладывал в орудие третий снаряд.
Один из партизан с удивлением сказал:
— Вот черт — своих молотит!
Гитлеровский офицер четыре раза выстрелил по шоссе с большой готовностью и старанием. При этом всякий раз он подносил к своим глазам бинокль и с удовольствием восклицал:
— Колоссаль!.. Прямо цель…
Нет сомнения, он стрелял как-то механически, не думая и ни о чем не рассуждая. Он действовал как заводная кукла, как автомат.
Это был тот идеальный гитлеровский солдат, который, по словам фюрера, был необходим ему для скорейшего завоевания мира.
Сомнительный идеал.
29. Наш последний медведь
Вот какая история обнаружилась после того, как немцы очистили советскую территорию.
В одном селе Псковского района проживал стареющий человек, некто Никита Зыков.
Он был огромного роста. На сантиметры он не измерялся, а по старому счету имел три аршина и два вершка.
Если Петр Великий обладал ростом около сажени без вершка, то этот наш Зыков на полголовы возвышался над Петром.
Это был гигант, великан. При этом у него было пропорциональное сложение и приятная внешность.
Отличался он колоссальной силой и в молодые свои годы выступал в цирке, участвуя в чемпионате французской борьбы. Схватывался на ковре с лучшими борцами своего времени — с Поддубным, с Лурихом, с Иваном Заикиным. И с многими иностранными борцами, которых он без счету клал на обе лопатки.
Огромная его слава и выдающийся успех прервались в двадцатых годах. Имея от роду пятьдесят лет, он оставил свою цирковую карьеру, уступив свое место молодой смене.
Он вернулся в свою деревню на покой.
У него не было ни дома, ни семьи, и поэтому он поселился у своего родного брата. И стал тихо и спокойно жить, предаваясь своим очаровательным воспоминаниям.
В избе на стене висела у него старая, уже пожелтевшая от времени афиша, которая когда-то извещала миру о выступлении знаменитого борца-великана. Рядом с афишей на гвоздиках была подвешена широкая розовая лента с огромным количеством всяких значков и жетонов. Это было то, что получил Никита Зыков за свои славные победы на арене цирка.
Показывая людям эти свои жетоны, Зыков старался никак не проявить своего волнения. Спокойным и небрежным тоном говорил:
— А вот это блямбочки, которые мне совали за каждый мой выигрыш на ковре. Чепуха. Жетончики.
Но за спокойным и равнодушным его тоном слышалось какое-то волнение и чувствовалась грусть о том, что все безвозвратно ушло.
Тихо и смирно жил он у своего брата. Занимался хозяйством, крестьянствовал. Был в обращении вежлив со всеми. Не дрался ни с кем. И только раз или два в год он напивался, как говорится, до шариков и тогда шел на скандал, шел на какое-нибудь буйство, которое снова давало ему уверенность в его силе. Он как бы проверял себя — так ли он силен, как прежде, и, уверившись, что силы не оставили его, снова надолго успокаивался. Продолжал тихо и вежливо жить.
Во время своих буйных припадков Зыков, страшась своей силы, никогда не задевал одиночных людей и тем более своих деревенских. Он шел за восемнадцать километров на станцию железной дороги и там производил свой дебош. Ломал и крушил столы, скамейки и стулья. И пачками отбрасывал от себя людей, которые наседали на него, стараясь утихомирить великана.
Однако с ним нельзя было совладать. Меньше как двенадцать человек не годилось для этого. И то эти двенадцать человек только лишь довершали начатое. Только лишь сильно утомленного схваткой они могли повалить его и связать по рукам и ногам.
He раз для этого вызывали сельскую пожарную команду. Но приезд пожарной команды, звонки, сверкающие каски и беготня пожарных обычно вдохновляли Зыкова, вливали в него новые чудовищные силы, подобно атомной энергии. И тогда, отражая атаки пожарных, Зыков проявлял чудеса непоколебимой стойкости.
Дважды Зыков сидел в тюрьме за свои буйства. И дважды секретарь районного комитета приглашал его к себе на беседу.
Секретарь райкома так ему говорил:
— Ну можно ли, товарищ Зыков, иметь такое поведение? Ведь ты этим кидаешь тень на все наше крестьянское общество — изображаешь себя той грубой силой, какую нам вовсе не желательно утверждать без наличия духовной красоты. А какая красота в твоих поступках? Это безобразие, а не красота. И твоя некультурность тому причиной. Ну скажи — хорошо ли ты грамотен для своих шестидесяти пяти лет?
Тяжко вздыхая, Зыков говорил, что он не шибко грамотен, что громкая слава и бурное цветение его молодых лет не позволили ему в дореволюционные годы подолгу склоняться над книгами. А сейчас уже поздно приниматься за что-нибудь из этой области.
Секретарь райкома так ему говорил:
— Вот именно в этом и секрет твоего одностороннего поведения. Взгляни, дорогой, какой интересный процесс происходит сейчас в деревне. Молодые растут совершенно иначе, чем прежде. Знают машины, механику. Стремятся к высшему образованию и достигают его. Уже по-свински не хотят жить. Уже не хотят проявлять себя однобоко, лишь с физической стороны. И только ты один во всем нашем районе со своими медвежьими ухватками стоишь буквально как памятник русской старины.
Никита Зыков соглашался с этим, конфузился, извинялся. Говорил секретарю райкома, что больше этого не повторится. Но по прошествии года снова происходило то же самое.
Однажды секретарь райкома прислал Зыкову целую пачку иллюстрированных журналов, с тем чтоб Зыков, читая и рассматривая картинки, отвлекался бы от своих физических идей. И Зыков нередко брался за эти журналы. Но, рассматривая картинки и читая подписи, он так тяжко вздыхал и такое расстройство чувств появлялось на его лице, что брат всякий раз отнимал от него эти журналы. И тогда снова жизнь проходила на прежних основаниях.
Так провел он в деревне почти двадцать лет. К началу войны ему пошел семидесятый год.
При немцах Зыков держался тихо. Почти не выходил со двора. Но немцы иной раз сами забегали к нему — посмотреть на русского великана. Зыков не обращал внимания на эту «мошкару», как он говорил.
За два года, что немцы были в районе, Зыков только раз позволил себе выпить. И захмелев, порывался идти на станцию, но брат остановил его, не позволил ему идти туда. И тогда Зыков вышел на улицу и, зайдя к соседям, побранился с ними. И, рассорившись, поломал их ворота, попалил столбы, на которых держались эти ворота.
Соседи сказали ему:
— Не совестно ли так поступать в твоем преклонном возрасте? Лучше бы ты шел с Гитлером воевать. Приложил бы свою силу против врага, а не против своих соседей.
Зыкова несказанно смутили эти слова. Он чуть не в ноги поклонился своим соседям, сказал им:
— Простите за мое окаянство. Из ума выжил. Не подумал об этом.
И с этими словами Зыков вышел со двора и направился к станции. Но он не дошел до станции. На шоссе он встретил немецких новобранцев, которые маршировали под командой офицера.
Зыков, не сворачивая с пути, шел навстречу этому отряду.
Впереди идущий офицер, не убавляя шага, оттолкнул рукой старика, чтоб освободить дорогу.
В одно мгновение Зыков схватил офицера и, как пушинку подбросив его в воздух, кинул в канаву. Ошеломленные солдаты не сразу даже поняли, что случилось. Потом схватились за оружие. Но помятый офицер, барахтаясь в канаве, крикнул, чтоб Зыкова взяли живым.
Именно эти слова чуть не погубили весь отряд.
Огромный, на две головы выше всех, старик отбрасывал и откидывал немцев, которые со всех сторон лезли на него.
В отряде было сорок человек. И вскоре они почти все лежали, поверженные Зыковым.
И тогда офицер убил Зыкова, выстрелив в него два раза из своего пистолета.
Убитый Зыков два дня пролежал в канаве. Немцы не позволили его трогать. Они сказали старосте:
— Этот ваш русский медведь изувечил стольких наших солдат, что пусть теперь собаки гложут его кости.
Однако брат увез ночью убитого Зыкова и похоронил его в своем саду.
30. Деньги не пахнут
И вот что еще обнаружилось, когда немцев изгнали с нашей советской земли.
В одном большом селе немцы, во время своей оккупации, позволили одному человеку открыть мелочную торговлю для продажи хлеба, продуктов питания, а также носильных вещей и комиссионных товаров.
Открыл эту лавочку некто Шурка Перекусихин. Уже одно то, что в его сорокалетнем возрасте все называли его не по имени и отчеству, а просто Шуркой, — говорило за то, что это был неуважаемый человек. И действительно, нечто неприятное и пустое было в этом человеке.
Интересно отметить, что, несмотря на свою незначительность, Шурка много раз пытался на путях своей жизни пробиться в первые ряды. Но это ему не удавалось. Жизнь отбрасывала его в сторону благодаря его дрянным, мелким качествам.
В молодые годы Шурка хотел получить техническое образование. Хотел с наскока сдать экзамены в техникум.
Однако срезался на испытаниях и на этом прервал свою научную карьеру.
Хотел Шурка в свое время жениться на одной красивой девушке. Но та отказала ему, посмеявшись. И вышла замуж за его же двоюродного брата.
Пробовал себя Шурка и на политическом пути. В тридцатом году, когда организовался колхоз, Шурка вынырнул с передовыми речами. Хотел криком и демагогией обратить на себя всеобщее внимание. Хотел прорваться вперед, чтоб руководить людьми и тем самым удовлетворить свое непомерное честолюбие.
Однако, пытаясь управлять людьми, Шурка не сумел этого сделать с должным тактом — не хватило ума. А главное, внес он в это дело свои мелкие интересы, свои личные счеты и те черты своего характера, которые вовсе не годились для руководителя. Произнося, например, речь, Шурка говорил: «Каждому, кто посмеет выступить против меня, буду обрубать голову не топором, а политически».
В общем, не годился человек на эту роль. Пустой и вздорный, он и в это серьезное дело вносил пустоту и вздор.
Потерпев поражение на этом поприще, Шурка вдруг смирился. Стал скромно и незаметно жить. Стал обыкновенным рядовым колхозником.
Ничем и никак не проявлял себя, справедливо полагая, что в этом суровом мире он со своими дрянными качествами не заслуживает возвыситься над людьми.
Но во время немцев он поклонился им, и те позволили ему торговать, позволили открыть мелочную лавочку.
И вот тут-то Шурка нашел себя. Нашел в этом деле свое призвание. Нашел удовлетворение для всех своих тайных надежд.
Энергичный и деятельный, он широко развернул свою торговлю. Он покупал и продавал. Менял продукты на сапоги. А сапоги на табак и сахар. Он вел крупные дела и в короткое время сумел поставить свою торговлю так, что все люди вокруг стали его должниками. Все вокруг были ему должны, и все были ему чем-то обязаны.
Нескольких людей он буквально разорил, описав их имущество через немецкий суд.
Курчавый и красномордый, он выходил теперь на улицу, как самая важная персона после немецкого коменданта. Он ни с кем не здоровался, а если и здоровался, то небрежно, свысока, подавая два пальца. И ни к кому не обращался иначе, как со словами: «Эй ты, черт…» или «Ну, ты, как тебя там…»
Своего двоюродного брата Шурка разорил, нарочно втянув его в одно сомнительное коммерческое дело. И, разорив, отбил у него жену, ту самую женщину, на которой он в свое время мечтал жениться.
Довольный и сияющий Шурка жил теперь именно так, как он об этом мечтал. И все люди, видя его таким, говорили друг другу:
— Вот что такое капитализм. Он позволяет людям не по их заслугам идти в первых рядах. Позволяет людям, имеющим пониженные душевные качества, пользоваться наилучшими благами жизни.
Другие говорили:
— Не только это. Плохой человек, разбогатев, становится еще нахальней, еще хуже. В чем мы убеждаемся теперь, взирая на Шурку.
Когда на фронте дела у немцев стали нехороши, Шурка безумно встревожился. Тоскливым взором он окидывал свое имущество. Говорил:
— Ведь умрешь и ничего с собой не возьмешь.
А когда Красная Армия прорвала немецкий фронт, Шурка наскоро ликвидировал свое имущество и, взяв с собой чемодан с ценностями, уехал из деревни. И как уехал! Никого из близких с собой не взял. Запряг в сани тройку лошадей и, стоя в санях, отбыл из деревни.
Стоя в санях, проехал по улице с пьяным криком: «Я сам — Гитлер».
И исчез в туманной дали.
31. Разговор немца с учительницей
Вот что рассказала мне учительница М., пробывшая у немцев два года.
Летом сорок первого года она приехала в Витебск к своим знакомым и там имела несчастье застрять во время войны.
В квартире, где она проживала, стоял немецкий офицер. Это был какой-то штабной офицер, немолодой и на редкость угрюмый, неразговорчивый. За полтора года, что он стоял на квартире, он не произнес ни одного слова, хотя в совершенстве владел русским языком. Более того, он никого не замечал и на всех глядел пустыми и как бы невидящими глазами.
Но в сорок третьем году, после Сталинградской битвы, офицер этот несколько изменил свое поведение. Он стал вежливо, но, впрочем, кисло улыбаться при встрече с квартирантами. И даже несколько раз заговаривал с ними о незначительных предметах.
В конце сорок третьего года офицер этот послал своего денщика к учительнице М., попросил ее зайти к нему.
Не смея ослушаться, учительница зашла к немцу.
Он сидел за столом, на котором горой лежали книги. К своему удивлению, учительница увидела, что это были русские книги — собрания сочинений классиков.
Офицер попросил учительницу сесть и сказал ей:
— Сколько я слышал, вы учительница русского языка и вы преподавали русскую литературу в старших классах средней школы. Не так ли?
Учительница подтвердила это. Немец сказал:
— В таком случае у меня имеется к вам вопрос, быть может вызванный моим непониманием русской литературы. Кто из ваших русских классиков наиболее полно изобразил русский национальный характер?
Волнуясь, учительница сказала:
— По-моему, так нельзя ставить вопрос. Каждый писатель изображал свое время, свою эпоху, своих современников. А это не было чем-то единым, неизменяемым, в равной степени относящимся ко всем слоям русского общества.
Немец потер свой лоб рукой и сказал:
— Но все-таки какие-то общие национальные черты должны объединять ваших людей разных эпох и разных классов. Ведь Шекспир дал нам понятие о британском характере. Вот я вас и спрашиваю — какой русский писатель наиболее полно изобразил национальный русский характер? Достоевский, да?
— О нет, — сказала учительница. — Достоевский великий знаток человеческой души, но души, несомненно, нездоровой, искаженной страданием. Достоевский изобразил больной, неполноценный мир. Этот мир не характеризует русского человека, в сущности, очень здорового и лишенного такого болезненного восприятия жизни, какое имел наш гениальный писатель.
Немец снова потер свой лоб и сказал:
— В таком случае, кого же вы назовете? Чехова?
Немец взял со стола книгу Чехова и снова положил ее на стол. Раздраженно сказал:
— Я прочитал вашего Чехова. Слабые, безвольные люди. Безысходная тоска в их сердце. Практическое неумение организовать свою жизнь. О, если б мы имели такого противника — война давно была бы уже кончена в нашу пользу. Я отвергаю вашего Чехова как материал для изучения вашей страны.
Немец снова взял со стола книгу Чехова и снова сердито кинул ее на стол. И все более раздражаясь, сказал:
— Именно с этой стороны я отвергаю и многих других ваших писателей — Салтыкова, Гоголя, Островского, Лермонтова, Тургенева, Сухово-Кобылина. Их литература не дает ключа к пониманию вас. Напротив, эта литература путает нас, уводит от правильного понимания вашего национального характера.
Учительница с удивлением глядела на раздраженного офицера. Сказала ему:
— Но ведь это особая литература, так называемая обличительная. Она изображает отрицательные стороны, какие существуют в любом обществе. Эта литература вовсе не обозначает, что все общество таково. Напротив, эта литература показывает людей, с которыми обществу надлежало бороться. И здесь не следует часть принимать за целое.
Не переставая потирать лоб, офицер сказал:
— Стало быть, у вас нет такого произведения, которое показало бы ваш национальный характер?
Учительница сказала:
— Русский национальный характер изображен в произведениях многих наших классиков. В произведениях Толстого, Пушкина, Тургенева, Некрасова, Горького… Но скажите, для чего вам это нужно? Зная, в чем дело, я бы точней вам ответила и назвала бы нужное вам произведение.
Офицер сказал:
— Хорошо. Я отвечу вам на это со всей откровенностью. Здесь, на русских равнинах — на фронте и в нашем тылу, — мы столкнулись совсем не с тем, что читали в вашей литературе. Быть может, мы плохо знаем вашу литературу, не всё читали. Во всяком случае, мы терпим поражения от причин, не совсем понятных нам…
Офицер помолчал. Лицо его исказилось какой-то болью. Видимо, ему нелегко было произносить эти слова. Помолчав, он сказал:
— Я офицер старой, прежней школы. Я лично сам, для себя, хочу уяснить себе все эти причины. И, в частности, хочу понять свойства русской нации. Ваша литература, повторяю, не разъясняет нам этого, не дает нам полного ключа к пониманию вас.
Учительница сказала:
— Теперь мне понятно, что я должна вам ответить. Во-первых, в русской классической литературе народ описан далеко не полностью, не во всем его многообразии. Во-вторых, надо учесть, русский дворянский писатель (будучи человеком иного класса) иной раз невольно наделял народ своими субъективными свойствами или такими свойствами, какие он хотел бы видеть в народе, — смирением, христианской кротостью, непротивлением злу. А в-третьих, что самое главное, — на арену жизни вышли новые люди. Они почти или очень еще мало записаны литературой. А эти-то люди как раз и принимают решающее участие в настоящей войне.
Немец сказал, бросив косой взгляд на учительницу:
— О каких новых людях вы говорите?
Учительница ответила:
— Я говорю о тех людях, которые вступили в жизнь после Великой Октябрьской социалистической революции. Революция формировала характер, свойства, особенности этих людей. Без учета этого нельзя полностью понять, что такое русский национальный характер.
Офицер спросил:
— Разве перемена в народе так велика?
Учительница ответила:
— Эта перемена огромна. Да вы и сами ее видите. Русский солдат всегда был храбрый воин, а сейчас он стал непобедим.
Офицер угрюмо сказал:
— Ответьте со всей откровенностью — почему русский солдат до некоторой степени изменился против прежнего? Только лишь благодаря революции?
Учительница, подумав, сказала:
— Да, благодаря тому, что связано с социалистической революцией. Народ получил образование. Народ вырос. Многое понял. Понял, что советская власть — это его собственная власть, что именно эта власть даст ему и его детям то, о чем можно было только мечтать. Народ поверил, что он стал хозяином жизни. Попробуйте прогнать хозяина с его земли. Не такая это простая штука.
Немец ничего не ответил. Сидя в своем кресле, он устало закрыл глаза, желая этим показать, что аудиенция закончена.
32. Итоги
Вечер встречи с партизанами. Ярко освещенный зал. Непривычная обстановка в дни войны. Один за другим на эстраду выходят партизаны. Рассказывают о своих недавних боевых делах. Люди жадно слушают эти рассказы.
Уже поздно. Вечер близится к концу. На эстраду поднимается молодая женщина. На ее груди два ордена и медаль. Ей примерно двадцать два или двадцать три года. Стало быть, к началу войны ей было не больше девятнадцати лет. И стало быть, ее университеты — лес, поля сражения и походная партизанская жизнь.
Серьезная, почти строгая, она выходит на эстраду. В ее руках листок бумаги. Развернув этот листок и положив его перед собой на кафедру, женщина собирается что-то читать. Но не читает. Отложив листок, задумывается.
Нет, она не похожа на тех женщин, которые выступают перед публикой с романсами или чтением своих стихов. Все движения ее удивительно простые, естественные. И вместе с тем никакой сконфуженности она не испытывает. Она задумалась. Но она задумалась не для того, чтобы приковать внимание слушателей.
Улыбнувшись, женщина говорит:
— Видите ли, в чем дело. Я вышла на эстраду, чтоб огласить вам некоторые цифры, которые у меня записаны на бумаге. Эти цифры — итоги тому, что сделали партизаны Ленинградской области. Сейчас я оглашу эти цифры. Но прежде я хочу рассказать вам одну историю, о которой я сейчас вспомнила.
Снова улыбнувшись, женщина говорит:
— Эта история относится к первым дням войны. Не скрою от вас, у нас в деревне было большое смятение, когда гитлеровские войска быстрым маршем стали продвигаться к нашему району. Наши люди не знали, как им поступить — уходить или оставаться тут. На этот счет у нас в деревне не было никаких указаний, так как связь с районным центром нарушилась.
Председатель нашего колхоза не знал, как решить это дело. Он склонялся к тому, что надо уйти в лес. Однако не решался повести за собой всех людей.
В конце концов пришли к единому мнению — все боеспособные люди должны идти в лес и там организоваться в партизанский отряд.
Лишь один голос раздался против. И не то чтобы этот голос протестовал. А просто один человек высказал свое сомнение в успехе. Один немолодой колхозник, неважно, как его фамилия, выступил со своим мнением и сказал:
— Нынче война машин и железа. Ну можно ли в такую войну выступить с вилами против врага? Машины сомнут наши тела, и мы пикнуть не успеем.
Председатель колхоза на эти слова так ответил, вернее, крикнул:
— Ты что своим тараканьим голосом людей мне смущаешь?
Люди подняли на смех этого колхозника. Да и сам он рассмеялся. Сказал:
— Я лишь высказал свое сомнение о возможности партизанить в эту войну.
На это председатель ему сказал:
— Уйди с глаз моих. Не возьму тебя в лес, хотя бы ты встал на колени.
В тот же день председатель нашего колхоза собрал всю молодежь и всех боеспособных людей старшего возраста и ушел с ними в лес.
И вот два с половиной года мы воевали в тылу у немцев. Два с половиной года мы наносили врагу удары.
Мои товарищи уже рассказали вам, как происходила эта война в тылу у врага. Моя задача — подвести итоги сделанному, огласить вам цифры, которые, быть может, более красноречиво скажут вам о партизанском движении нашего народа.
Вот что сделали партизаны Ленинградской области за эти годы войны. Уничтожено гитлеровских солдат и офицеров — 104 240 человек. Генералов — 8 человек. Произведено крушений на железных дорогах —1050. Уничтожено танков, броневиков, орудий и самолетов — 3834.
Вот примерно основные цифры сделанному.
Как же получились эти цифры? Как получилось, что партизаны лишь в одной области нанесли гитлеровской армии такие тяжкие потери? Как могло случиться, что народ, почти с голыми руками выступив против захватчиков, нанес такой сокрушительный удар? Это случилось потому, что стихийный порыв народа почти тотчас принял организованный характер. Партия руководила этим движением и придала ему нужные формы, годные в современной войне. Война в тылу врага велась не кустарным способом, не только налетами и нападениями. Штаб партизанского движения руководил боевыми операциями. Крупные военные специалисты принимали непосредственное участие в этом движении. Война в тылу врага велась по всем правилам военной тактики, которая превзошла тактику немецких штабов.
Слова партизанки были покрыты бурными аплодисментами. Раздались возгласы: «Да здравствуют героические партизаны! Да здравствует наш великий советский народ!»
Вечер встречи с партизанами закончился.
Послесловие
Осенью 1943 года один из партизанских отрядов при налете на деревню Федоровку захватил немецкую полевую почту.
На почте обнаружен был большой мешок с письмами, которые предназначались для отправки в Германию.
Партизаны не поленились захватить с собой этот мешок — казалось интересным узнать, что пишут гитлеровцы с фронта.
Переводчица штаба бригады три дня разбирала эти письма. Однако ничего особенно интересного не было в этих письмах. Было то, о чем знали партизаны, — упадок настроения среди солдат, жалобы, стоны и тревога за судьбу своих близких в тылу.
Но одно письмо привлекло общее внимание. В нем тоже не было ничего особенного. Однако автор письма с наибольшей точностью, с наибольшей откровенностью и цинизмом определил характер своих разочарований.
Письмо это написано каким-то ефрейтором к своему другу, находящемуся на излечении в госпитале.
Вот что пишет ефрейтор:
«Помнишь ли, дорогой друг, какое счастье заполняло наши головы, когда мы вступили на эти русские земли? Помнишь ли, какой восторг и какие радужные надежды согревали наши сердца? Какие пылкие мечты, казалось, уже осуществились. Уже мы с тобой чувствовали себя богатыми людьми, почтенными владельцами этих земель. Почет, уважение и слава — вот что рисовалось нам впереди. И что же теперь? Все, кажется, летит к черту под откос. Откровенно тебе скажу — берегу мечту унести отсюда ноги. Уже не жду, что будут иные дни и иное настроение. Время ломает розы».
Этой несколько сентиментальной немецкой поговоркой заканчивалось письмо ефрейтора к своему другу.
Время ломает розы!.. Другими словами — время ломает розовые надежды, ломает нежные розы, взлелеянные в пылкой душе гитлеровского ефрейтора.
Как могло случиться, что такие «розы» расцвели в сердце немецкого народа, в сердце добросовестного, умного и деятельного народа, — это другой вопрос. Но эти «розы» расцвели. И они были сломаны на всех фронтах Великой Отечественной войны — Красной Армией. И в тылу — партизанами.
Выращенные в темных подвалах человеческой души, в черном сердце гитлеровского солдата, эти сломанные розы, надо полагать, никогда больше не расцветут.
Никогда немцы не забудут того, что с ними случилось на советской земле.
Страшная месть
Ранней весной этого года некто Петр Евсеевич Гасилин случайно попал на общее собрание жильцов своего дома.
Будучи главным бухгалтером одного крупного учреждения и сильно перегруженный отчетностью, Гасилин обычно не посещал такого рода мелкие собрания. А тут, разыскивая управхоза, заглянул в контору и там, застав собрание, решил из любопытства послушать, о чем говорят люди на столь малых совещаниях, кои предусматривают интересы всего лишь одного дома.
Оказалось, что собрание обсуждало вопрос об организации детской площадки во дворе дома.
Гасилин принял участие в общем споре, который разгорелся по вопросу о количестве деревьев на детской площадке.
Как нежный отец, Гасилин настаивал на минимальном количестве деревьев, полагая, что у его двенадцатилетнего сына будет меньше шансов упасть с дерева.
Но в этом вопросе Петр Евсеевич Гасилин разошелся с мнением большинства.
А надо сказать, что Гасилин был человек весьма нервный, вспыльчивый. Семь лет он лечился в поликлинике синим светом. Но это лечение ему, видимо, мало помогло, ибо на собрании он повел себя крайне несдержанно, агрессивно.
Оспаривая мнение своей оппонентки, он допустил несколько колких фраз по ее адресу.
Его оппонентка — немолодая и на вид скромная женщина — спокойно отнеслась к его колким словам, однако вскользь заметила, обращаясь к собранию:
— Немудрено, что у такого нервного и взбудораженного отца сын неважно учится.
А сын Петра Евсеевича, ученик пятого класса Никита Гасилин, учился действительно неважно. И эти слова немолодой женщины затронули какие-то надорванные струны отцовского сердца. Не пожелав оставаться на собрании, он ушел и, уходя, снова позволил себе бестактность — громко повторил свои колкие фразы, относящиеся к пожилой гражданке.
Вернувшись домой, Гасилин рассказал своей жене о происшествии и в едких тонах описал заурядную внешность пожилой незнакомки.
Жена не без тревоги спросила мужа:
— А как фамилия этой женщины?
— Ее фамилии я не знаю, — ответил муж, — а люди на собрании называли ее Софьей Павловной.
Всплеснув руками, жена сказала:
— Ну, так и есть! Ты оскорбил учительницу нашего сына. Она в его классе преподает русский язык. Ах, Петр, Петр, напрасно ты пошел на это собрание, не долечившись в клинике!
Гасилин был сильно удручен этим сообщением. Нервно шагая по комнате, он сказал:
— Фу, как нехорошо получилось! Ведь именно по русскому языку наш Никитка особенно плохо учится. А уж теперь он вряд ли сойдет со своих двоек. И не исключена возможность, что он останется на второй год!
— Ну, она не посмеет мстить нашему мальчику за нетактичность отца, — возразила жена.
— Ах, милая моя! — простонал муж. — В каждом из нас таятся темные остатки прошлого. А ведь эта учительница — немолодая женщина. Стало быть, пережитки в ее сознании действуют более активно, чем у других. Нет, я сам не думаю, что она станет открыто сводить со мной счеты через ребенка. Но вот пристрастно она к нему отнесется. И по-человечески мне будут совершенно понятны ее подсознательные чувства.
Поговорив с женой, Гасилин тотчас же велел своему сыну засесть за уроки и, несмотря на позднее время, два часа прозанимался с ним, нажимая главным образом на урок русского языка.
На другой день Гасилин снова занялся со своим сыном и даже не пошел к приятелю играть в преферанс.
Всю неделю изо дня в день Петр Евсеевич тщательно следил, как готовит уроки его сын. И даже помог составить краткий конспект по грамматике.
Однако учительница все эти дни не спрашивала мальчика и даже, по его словам, не смотрела в ту сторону, где он сидит. И это последнее обстоятельство довело нашего бедного Гасилина до прежних отчаянных нервных спазм в желудке. Ему казалось, что учительница нарочно не смотрит на Никиту, собираясь врасплох застать его.
По этой причине Петр Евсеевич, несмотря на мучительные боли в желудке, всякий вечер не отходил от сына, заставляя его готовить уроки в высшей степени прилежно и добросовестно.
На вторую неделю сын Никита принес две пятерки по русскому языку. И это привело Гасилина в крайнее изумление. Прибежав на кухню, он сказал своей жене, запинаясь:
— К-как понять это странное поведение учительницы?! Ч-что именно она хочет сказать мне этим?
Жена ответила, пожав плечами:
— Просто она оказалась выше, чем ты предполагал. Она не примешивает к общественному делу своих личных чувств и обид.
— Н-нет, тут что-нибудь не так! — воскликнул взволнованный муж. — Ведь наш оболтус Никитка никогда еще в жизни не имел пятерок по русскому языку, а тут вдруг принес целых две штуки! М-может быть, она нарочно поставила ему высший балл, желая со мной помириться? Время покажет. Я сам не сделаю ни одного шага к этому.
Через несколько дней сын Никита снова принес пятерку за стихотворение Лермонтова, выученное наизусть. И тогда Петр Евсеевич Гасилин, не сдерживая больше своих чувств, побежал на квартиру к учительнице. И там сказал ей:
— Уважаемая Софья Павловна, мне совестно вам сейчас признаться, но ведь я был уверен, что мой Никитка не слезет с двоек после нашей с вами размолвки на собрании. Но этого не случилось, и теперь, пораженный вашим великодушием, я пришел крепко пожать вашу руку.
Нахмурясь, учительница резко сказала:
— Ну как же вы посмели так дурно думать о людях и тем более о советском учителе? Это, право, недостойно нашего времени — иметь такие архаические взгляды!
Наш бедный Гасилин стал сконфуженно бормотать путаные фразы, из которых можно было отчасти понять, что он еще не закончил курс лечения синим светом и поэтому пока не берется отвечать за все свои мысли, высказанные вслух.
Но потом, поборов смущение, Гасилин четко сказал:
— Простите великодушно за мое признание, но эти пятерки перевернули все мои прежние взгляды на людей. Я был удивлен, как никогда в жизни.
Софья Павловна, думая о своем, сказала Гасилину:
— Я сама удивилась, что ваш сын стал отличником. Вот уж я не ожидала от него этого. А скажите, что произошло с ним?
Гасилин ответил с хорошим волнением:
— Так ведь я теперь, дорогая Софья Павловна, сам ежедневно занимаюсь с ним.
Учительница воскликнула:
— О, как ваши слова подтверждают мои выводы! Я давно заметила, что те дети, за учебой которых хотя бы немного присматривают родители, неизмеримо лучше успевают.
И тут Софья Павловна, с улыбкой взглянув на Гасилина, добавила:
— Вот и впредь ежедневно занимайтесь со своим сыном. И пусть это будет моя страшная месть за ваши опрометчивые мысли и слова.
Тут они оба весело посмеялись и расстались чуть ли не друзьями.
Двадцать три и восемь десятых
Один немолодой колхозник проживал со своей старухой на хуторе в том самом районе, где сейчас раскинулось Цимлянское море.
Три года назад хутор этот по плану строителей оказался в зоне затопления. Предстояло переехать на новые места, чтобы не очутиться на дне будущего моря.
Старуха взгрустнула от такой великой перемены, но старик Федор Федорович спокойно отнесся к событиям. Он осмотрел новые места, одобрил их и стал полегоньку готовиться к переезду.
Нет, особого удивления он не проявил, когда трактористы приподняли домкратами его домишко и на салазках перевезли за двадцать километров. Но одна деталь, связанная с переездом, все же необыкновенно поразила старика. Он был до крайности удивлен, когда на новом месте строители указали людям, где ляжет край воды будущего моря.
Вот это указание строителей чрезвычайно изумило нашего старика. Он обошел многие хутора и станицы на их новых местах, и оказалось, что уже всюду был отмечен берег будущего моря. И даже с такой точностью, что некоторые станицы назвали свои крайние улицы набережными.
С немалой гордостью старик подумал о наших строителях, которые так красиво и четко планируют воду. Но потом червь сомнения стал подтачивать его сердце. Ему вдруг показалось, что у строителей моря не получится: вода уйдет сквозь грунт в глубину и там растечется.
И вот целую неделю буравит его эта тревожная мысль. «Уйдет, думает, от них вода, в землю всосется».
Конечно, Федор Федорович имел всего двухлетнее образование, да и то получил полвека назад, однако дело об утечке воды, казалось, не требовало высокого образования. Тут логика сама за себя отвечала. Земля перепаханная, рыхлая. В такую землю вода не может не войти. Она непременно в нее войдет и просочится глубже. Вот это будет скандал на весь мир! Скажут: «Не получилось у них моря, утекло сквозь грунт в земные недра».
Чувствует старик: надо бы сказать об этом людям, предостеречь строителей от такой опасности. Будет неловко, совестно, если море уйдет, а набережные в степи останутся.
Но кому об этом сказать? В правлении своего колхоза? Вот на этот шаг Федор Федорович не решился. Подумал: люди станут над ним подтрунивать, ежели окажется, что он неправильно мыслит.
Свою же старуху он с утра до ночи глушил подобными разговорами. Однако старуха, слишком далекая от таких забот, отмалчивалась. И только однажды, выведенная из терпения, сердито воскликнула:
— Весь век прожил без моря, старый черт, так и теперь без него обойдешься, если оно у тебя утечет!
Но потом, увидев, что супруг ее окончательно перекис от своих тревожных мыслей, сказала ему более мягко:
— Не надо, Федя, со мной толковать об этом. Я почем знаю, что у них будет и получится. Побеседуй с нашим сыном Петрушей. Все-таки он четыре аттестата имеет. Он тебе скажет, утечет ли море или оно тут, при тебе останется.
У них был сын Петр Федорович. Шофер. Раз в неделю он заезжал на хутор повидать своих родителей и отчасти покушать. Он действительно имел четыре аттестата. Он окончил в свое время семилетку, школу водителей автомашин, краткосрочные курсы и еще одни курсы, на которых он проходил переподготовку. К этому добавим, что Петр Федорович занимался самообразованием: много читал, но, правда, все больше ерунду — легкие романы.
В общем, если считать по годам, проведенным за книгой, то следует сказать, что почти вся сознательная жизнь Петра Федоровича прошла в интенсивной учебе.
По этой причине нежные родители считали, что по культуре и знаниям их Петр уже достиг тех командных высот, какие позволяют людям обозревать мир с полным пониманием всех происходящих процессов.
Федор Федорович не хотел обращаться к сыну за справкой: он вообще избегал задавать сыну какие-либо вопросы, чтобы не подрывать свой родительский авторитет. Но тут, вынужденный обстоятельствами, все же заговорил с ним о море. Однако, к великому удивлению, увидел, что Петр ничего не смыслит в этом вопросе.
Почесывая свой затылок, Петр Федорович сказал:
— Ваш вопрос об утечке моря, папаша, застал меня врасплох. И поэтому, не подумавши, я не берусь на него ответить.
Пообедав и часок поспав, сын сказал отцу:
— Ко всем нашим мероприятиям, папаша, я, как вам известно, питаю глубочайшее доверие. И хотя вода и в самом деле в землю всасывается, тем не менее, вопреки этому закону, тут, видимо, следует ожидать обратных результатов. Иначе не стали бы строителям платить такую крупную зарплату. Так что будем надеяться, что море у них получится.
Такой витиеватый ответ еще больше встревожил старика. Уж если сын не взялся ответить на этот вопрос, то, стало быть, и строители столкнутся с неожиданностью. Видимо, и среди них поднимется волынка, когда спущенная вода пойдет гулять по вспаханным полям. Она стремительно начнет всасываться в землю, и уж тут будет поздно ее удерживать.
Сын Петр уехал в воскресенье вечером, а в понедельник утром Федор Федорович, ничего не сказав жене, ушел из дому.
В полдень люди видели его в штабе гидротехнического района. Решительной походкой он вошел в помещение штаба, и когда инженеры обступили его, он им рассказал о своей тревоге.
Молоденькая машинистка, находившаяся в помещении, засмеялась, услышав слова об утечке моря. Но один из инженеров строго сказал ей:
— Напрасно смеетесь, Анечка. Наша геологическая наука именно так и ставит вопрос: уйдет ли море, если в недрах земли не окажется водонепроницаемых пород?
И тут, обернувшись к нашему старику, инженер сказал:
— Да, несомненно, вода просочится сквозь грунт. Все ближайшие пласты земли сильно пропитаются водой. Но это и установит нужное равновесие. Эти пласты явятся барьером и будут препятствовать уходу воды. Поэтому нет оснований думать, что искусственное море исчезнет.
Другой, видимо главный, инженер добавил к этим словам:
— Конечно, при наличии глубоких трещин возможны катастрофы. Однако наука заранее исследует недра земли. В данном случае наши ученые уже дали свои сведения проектировщикам. А те с учетом этого произвели свои расчеты и даже установили, что в Цимлянском море будет 23,8 миллиарда кубометров воды. Правда, этот объем будет достигнут не сразу, а только к лету 1953 года.
Неловко было Федору Федоровичу слушать эти слова. Он чувствовал себя ничтожной мошкой, которая опалила свои крылышки блеском науки. Желая скрыть свое душевное смятение, он порылся в карманах, вытащил клочок бумаги и, деловито хмурясь, записал для памяти эту цифру — 23 и 8 десятых.
Федор Федорович сам не помнил, как он вернулся домой. Сердце его ликовало от многих дум, но вместе с тем ему было невыносимо грустно, что в свое время он не поступил в школу для взрослых и даже не посещал лекций, какие читали приезжие лекторы.
Вечером, укладываясь спать, Федор Федорович сказал старухе:
— Уж теперь я и не знаю, что мне о нашем Петре думать. Конечно, понимаю, все изучить нельзя. Но все-таки основы надо бы знать, чтоб носить высокое звание образованного человека.
На это старуха сказала, желая успокоить мужа:
— Наш Петруша не старый человек. Он еще может получить пятый аттестат. И тогда будет знать, сколько воды в морях и океанах.
Недавно в газетах промелькнуло краткое сообщение: «В мае этого года Цимлянское море достигло своего проектного объема — 23,8 миллиарда кубометров воды».
С волнением я прочитал эти сухие газетные строчки. И, живо вспомнив всю эту историю, записал ее в том виде, в каком услышал от одного знакомого гидролога.
Литературные анекдоты
Предисловие
Сейчас многие жалуются на литераторов. И, дескать, они сухо пишут. И берут мелкие, мизерные темы для своих пухлых сочинений. Либо, напротив того, лакируют действительность — неизвестно с какой стати.
Немало нареканий имеется также на однообразие языка и на полное отсутствие игривости в изложении.
Да, конечно, эти нарекания, между нами говоря, частично справедливы. Однако надо прямо сказать, что свои дефекты писатели, как говорится, не из пальца высосали. Следовало бы учесть все те сложности нашей профессии, какие нередко приводят авторов к вышеуказанным горестным результатам.
Тут мы записали некоторые моменты литературных будней. Эти сценки с натуры наглядно показывают, сколь непростое занятие — литература. В особенности для тех, кто почему-либо еще не полностью освоил это производство, равное по вредности, быть может, только лишь изготовлению свинцовых белил.
Вполне понятно, что тут не до игривости стиля.
Эти сценки с натуры мы записали не без некоторой желчи. Но желчь эта, нам думается, извинительна для людей, проработавших в своем цехе такое количество лет, какого не достигает ни одна лошадь даже к концу своего предельного возраста.
1. Под огнем критики
Недавно одна писательница читала собравшимся литераторам свою новую повесть из колхозной жизни, под названием «Раскрасавица весна».
Повесть эта, на мой взгляд, была посредственная, безбожно похожая на десятки уже напечатанных произведений. Однако при обсуждении повести мнения критиков резко разделились. Одни уклончиво хвалили повесть, другие гневно порицали, третьи усматривали в этом сочинении тот новаторский почин, который открывает широкие литературные дали.
Но все же похвал было неизмеримо больше, чем порицаний. И даже один из выступавших, расхвалив повесть до небес, обернулся к писательнице и сказал ей каким-то елейным церковнославянским тоном:
— Примите низкий поклон, Марья Львовна, от всех тех, коим поистине дороги судьбы нашей письменности.
Зардевшись от этих слов, писательница скромно заявила собравшимся, что такую высокую оценку она не может принять на свой счет, а относит ее к достижениям сельскохозяйственной артели, о которой она писала.
Это заявление писательницы спутало дальнейших ораторов и перекинуло разговор на дела сельхозартели и, в частности, на приусадебные участки, о которых в повести шла речь. По этой причине собравшимся так и не удалось сколько-нибудь суммировать свои разрозненные мнения о повести «Раскрасавица весна».
Такой разнобой в критических суждениях несказанно удивил моего соседа — страстного любителя литературы и, кстати сказать, весьма известного инженера-станкостроителя. Склонившись ко мне, он яростным шепотом сказал:
— Ну знаете ли, если б у нас на производственном совещании случилось бы нечто похожее, то нам пришлось бы к черту свернуть все станкостроение!
— Наше дело несколько сложней вашего, — ответил я. — В нашем деле — сколько людей, столько и мнений.
— Но это неправильно! — снова яростным шепотом воскликнул инженер. — Критика — это наука, а не вкусовщина. И, стало быть, в вашей корпорации должно восторжествовать единое и справедливое мнение об этой дрянной повести!
— Да, это так, — согласился я. — Но, увы, на практике у нас этого почему-то не получается.
После обсуждения инженер сказал, поглядывая на меня, как на провинившегося школьника:
— Да-с, теперь мне понятно, откуда берутся литературные неувязки. У вас нет должной критики — этой основы всех производств.
И тут, до боли сжав мою руку, инженер воскликнул:
— Нет, я нашел выход! Клянусь вам! Критикой должны заниматься люди авторитетные, умные и с безукоризненным вкусом.
— Вы правы, — согласился я, — но и в этих условиях могут произойти досадные неожиданности.
— Какие неожиданности? — удивился инженер.
— Многие неожиданности, которые будут зависеть от внутренних свойств характера критика…
Так беседуя, мы с инженером направились к выходу. У дверей мы повстречали писательницу, автора повести «Раскрасавица весна».
Алый румянец волнения уже погас на ее щеках и сменился теперь непомерной бледностью. Поглядывая куда-то вдаль, писательница спросила нас скорее механически, нежели с чувством:
— Ну а как вы нашли мою повесть?
Мне удалось промолчать, а инженер, внутренне заметавшись, негромко сказал:
— Изумительная повесть…
Почти не слушая слов, писательница удалилась. Растерянно поглядывая на меня, инженер пробормотал:
— Иначе неловко было сказать ей прямо в глаза…
Ужасно нахмурившись, инженер добавил к своему бормотанью:
— Черт знает что такое… Нет, я не мог бы работать в вашем деле… Это трепка нервов…
2. К вопросу о лакировке
Как-то осенью я повстречал на улице знакомую девушку Люку Н. Года четыре назад она закончила литературный вуз и вскоре после этого написала сгоряча несколько повестей и рассказов.
Один ее посредственный рассказ был напечатан в журнале, а остальные произведения, как говорится, не увидели света.
И вот теперь, встретившись с Люкой, я спросил, как обстоят ее литературные дела. Она изумленно воскликнула:
— Как? Вы разве не знаете? Еще два года назад я окончательно рассталась с литературой.
— Почему же так?
На этот вопрос Люка бурно и гневно заговорила:
— Нет, в литературе невозможно работать. Редакторы слишком энергично вмешиваются в наше дело — правят, утюжат, лакируют, причесывают всех под одну гребенку. Этим стирается авторская индивидуальность. Любое произведение, побывав в руках редактора, становится лакировкой жизни. Все это превращает литературу в канцелярское занятие.
Я спросил Люку — чем она теперь занята. Она ответила:
— Сейчас я работаю фотокорреспондентом. И откровенно скажу — чрезвычайно довольна этой специальностью. Это искусство требует не в меньшей мере и вдохновения и творчества… Кстати, не хотите ли пойти со мной в зоосад — мне там надо заснять несколько зверюшек.
Мы пошли в зоосад. Там Люка сняла «Лейкой» десятка два хищников. И, сияя от удовольствия, сказала, что эту свою плодотворную работу она хотела бы завершить одним лирическим снимком — катаньем ребятишек на ослике.
На площадке зоосада стояла толпа ожидающих ребят. В небольшую приятную колясочку усаживалось пять-шесть малышей. И серенький обшарпанный ослик нешибко катил эту детвору по круглой дорожке сада.
Нам было забавно смотреть на ребят, ошеломленных новизной впечатления.
Люка долго не снимала ребят, и я терпеливо ждал, когда ее посетит вдохновение. Но когда ослик раз пятьдесят тупо и уныло пробежал возле меня, то я почему-то преисполнился к нему сильной ненавистью и, не желая более глядеть на его занятие, стал поторапливать Люку. Я сказал ей:
— Да вот снимите хотя бы эту группу ребят.
На это Люка сказала:
— Нет, нет, эта группа ребят решительно не годится. Я хочу, чтобы в группе была какая-нибудь особенная девочка — такая, знаете ли, как куколка — в шелковом плиссированном платьице, в завитых кудряшках и с огромным бантом на боку.
— Люка, — осторожно спросил я, — вам редактор велел заснять такую девочку?
— Нет, — ответила Люка. — Но мне самой кажется, что это украсило бы мой снимок.
— Но ведь такие девочки в искусственных завитушках не так уж характерны для нашей улицы, — заметил я. — Зачем же так долго ожидать того, что редко бывает?
На это Люка ответила:
— Да, но зато мой снимок будет яркий, праздничный, приятный для глаза.
Осел еще раз сорок прокатил свою тележку возле нас, но Люка все еще не сделала снимка. Наконец, на мое счастье, на дорожке сада появился какой-то франтоватый малыш с мамашей. Этот малыш был одет необыкновенно — в модном пиджаке и в длинных брючках. В руке он держал небольшую тросточку.
Сначала мне показалось, что это идет лилипут, но потом выяснилось, что это шествует обыкновенный ребенок лет пяти, одетый родителями столь претенциозно. Во всяком случае, без смеха нельзя было глядеть на этого маленького пижончика.
Люка подбежала к матери этого малыша и стала ее упрашивать, чтобы она на минуту посадила в коляску своего ребенка. Однако мамаша категорически отказалась от этого. Она сказала:
— Нет, мой Владик подвержен ангине, и я не разрешаю ему быть возле ребят. Он может заразиться.
Тогда Люка дважды засняла малыша на дорожке сада и, подойдя ко мне, сказала:
— Я вмонтирую этого парнишку в общую группу. Вернее, я поставлю его возле ослика. И это еще более украсит снимок.
Минут через пять мы расстались с Люкой. И когда она удалилась, я подумал: «Это хорошо, что она ушла из литературы».
3. Рассказ начинающего писателя
Этой осенью я написал небольшую повесть и отнес ее в одно издательство.
Через месяц зашел за ответом, и, к моему удивлению, секретарша сказала мне:
— Да, ваша повесть принята и будет напечатана. Если хотите, то обождите главного редактора — он через час вернется.
В ожидании редактора я с превеликим волнением стал ходить по коридору. Но тут глаза мои увидели на одной двери белую табличку с надписью: «Бухгалтерия».
Мне захотелось выяснить — сколько они мне заплатят за эту мою принятую вещичку.
Нет, я всем своим сердцем бескорыстно люблю литературу, и тут деньги для меня не играют решающей роли. Однако не стану кривить душой, скажу: денежный вопрос вносит-таки в это дело известное оживление.
Короче говоря, я зашел в бухгалтерию — выяснить материальную ситуацию.
Бухгалтер, перелистав мою рукопись, сказал, что мне заплатят за эту вещицу около семи тысяч.
Эта значительная сумма ошеломила меня и вызвала прилив творческой энергии. Захотелось еще и еще писать. И я тут же в коридоре, уткнувшись на диван, стал набрасывать план новой повести.
Но вскоре вернулся главный редактор. Он кратко сказал мне:
— Да, напечатаем вашу вещицу, хотя в ней и чувствуется некоторая незрелость. Но это свойственно начинающим авторам, от которых мы не вправе требовать немедленных достижений.
Взволнованный всем происходящим, я воскликнул:
— О, позвольте мне еще немного поработать над моей повестью! Я хочу довести ее до полного блеска.
Редактор похвалил меня за это намерение и дал месячный срок для завершения правки.
С этого дня я весь месяц просидел над моей повестью. Однако, не надеясь на свои силы, я привлек к делу одного престарелого литератора, проживающего в нашем доме. Этот старый писатель почему-то даже прослезился, узнав о моем желании довести повесть до полного технического совершенства. Сквозь свои слезы старик торжественно изрек:
— Ах, молодой человек, за все шестьдесят лет моей литературной деятельности я и сам не более двух раз сподобился отшлифовать мои рукописи! Труд этот, поверьте, не дает утешения сердцу и нередко вызывает слезы. Но поскольку эта повесть не моя, то я еще раз охотно окунусь с вами в священные воды искусства.
И тут старик, схватив карандаш, стал безжалостно вычеркивать из моей повести ряд сцен, множество диалогов и повторов, которые, как он сказал, затемняют дело.
Эту исправленную рукопись я снова отнес в издательство. И главный редактор, ознакомившись с ней, воскликнул:
— Вот теперь ваша повесть в отличнейшем виде!
Через неделю я зашел в бухгалтерию за получением гонорара. И тут, к моему изумлению, увидел, что мне выписано за всю повесть около трех тысяч вместо семи.
Бухгалтер, защищаясь от моих нападок, сказал с усмешкой:
— Я-то при чем? Вероятно, вы позволили себе некоторую роскошь — сократили повесть. Вот и пеняйте теперь на самого себя.
Я сбегал к главному редактору, но тот сказал:
— Да, конечно, не возражаю, ваша повесть неизмеримо улучшилась после вашей доработки. Но вот это и отразилось на вашем гонораре.
Вечером, вернувшись домой, я долго не мог заснуть. Ходил по комнате из угла в угол и решал мучительный вопрос — как мне в дальнейшем поступать с моими будущими рукописями — оставлять ли их в том пухлом виде, в каком они вылились из-под пера, или же все-таки сокращать их.
Жена, засыпая, сказала:
— Ай, поступай как хочешь! Но только, по-моему, глупо выкидывать деньги из своего кармана.
Под утро я все же решил сокращать мои произведения, но сокращать в умеренной степени. При этом подумал, что если б в древние времена за стихи платили по строчкам, то гекзаметра, скорей всего, не возникло бы.
Вспомнилось из «Одиссеи» Гомера:
Нет, не возникли бы столь пышные строчки, если б бухгалтерия древнего мира вмешалась в это дело.
4. Грубая ошибка
Недавно я рецензировал для издательства одну рукопись — роман незнакомого мне литератора.
Роман был построен чрезвычайно неумело, но некоторые его страницы говорили о несомненном даровании автора.
Я встретился с автором. Оказалось, что это уже немолодой человек, и поэтому я почел нужным без всяких снисхождений сказать ему об его недостатках для того, чтобы он не повторил их в своих дальнейших начинаниях. Я прямо сказал:
— Вы записали в вашем романе истории жизни сорока человек. Каждая история в отдельности любопытна. Но эти истории, сложенные вместе, создали в романе хаос. Еще хорошо, что вы взяли сравнительно небольшое учреждение, где всего сорок человек, а не двести. Получилось бы совсем невыносимо.
Автор хмуро сказал:
— Я придерживался жизненной правды, записал то, что видел.
Мне неловко было говорить учительским тоном с этим немолодым человеком, но я все же сказал:
— Правда жизни в нашем деле достигается иным путем — более точными границами. Из всего учреждения вам следовало бы взять пять или шесть человек, тесно связанных между собой.
— А остальных куда же девать?
— На остальных можно было бы не обратить внимания или же отодвинуть их на задний план — сказать о них кратко, мимоходом.
— Ах, вот как надо писать… — пробормотал автор.
— Да, именно так надо писать, — подтвердил я. — И вам, как начинающему автору, следует покрепче запомнить это правило.
Еще более нахмурившись, автор надменно сказал мне:
— Да, но позвольте, какой же я начинающий! Я уже двадцать лет работаю. У меня три книги, две пьесы и четыре киносценария…
Чрезвычайно сконфуженный этой моей ошибкой, я забормотал:
— Ах, вот как у вас… Простите… Я не знал… Меня никто не предупредил об этом…
Да, удивительно сложное дело — литература! В особенности она сложна в сравнении с другими, как говорится, смежными профессиями.
Одно несомненно: написать роман — это не штаны сшить. А впрочем, не всякий портной и штаны сошьет, если он столкнется в своем производстве с такими парадоксами, какие мы тут отметили, в этом фельетоне.
Похвала старости
Один великий русский писатель, постарев, записал в своем дневнике: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна».
У меня было иное мнение о старости. Я не поверил в искренность этих слов. Мне даже показалось, что в словах этой фразы торчат уши добродушного старческого ханжества.
Однако одна история, недавно услышанная мною, изменила мое прежнее мнение о старости. Эту историю рассказал мне пожилой человек, с которым я случайно разговорился.
Всю мою жизнь я отличался могучим здоровьем. Но последние годы я стал прихварывать. Испытывал боли под ложечкой, дрожание в руках и невыносимую слабость во всем теле.
Дошло до того, что на работе я начал задумываться — не пора ли мне на покой либо на свалку.
Однако без борьбы не хотелось сдаваться. И я решил заняться лечением. Стал аккуратно посещать нашу поликлинику.
Там лечили меня хорошо, добросовестно — выстукивали, просвечивали, производили анализы. И на основе полученных данных установили, что мой организм сильно потрепан житейскими бурями, заметен склероз сосудов и нервная система в плачевном состоянии.
Лечился я почти год. Болезнь моя от этого не ухудшилась, но и серьезного перелома в мою пользу не получилось.
И тогда главный бухгалтер нашей обувной артели посоветовал мне обратиться к одному известному профессору.
Бухгалтер сказал, что этот профессор очень и очень старенький и лечит он, быть может, не так уж хорошо, но зато разбирается в болезнях не хуже самого господа-бога. Сразу указывает, у кого что болит. И в своем медицинском мире он считается светилом, хотя ему, представьте себе, 87 лет.
При этом бухгалтер сказал мне, что профессору надо дать за визит 100 рублей. Старик не жадный, не корыстный, но такую сумму принято ему давать. И никто с этим не спорит.
Я записался на прием к этому престарелому медику. И наконец, дождавшись своей очереди, вошел в его кабинет.
За письменным столом у окна сидел маленький, сухонький старичок, легонький, как пробка. Он сердито на меня посмотрел, но ничего не сказал. И только рукой сделал нетерпеливый жест, чтобы я поскорей сел в кресло.
Кабинет у него оказался большой — от двери до стола 12 шагов. Под сердитым взором профессора я дошел до стола и сел, куда было указано.
После чего старик негромко сказал мне:
— Здравствуйте, куманек. Далеко ли вы от меня живете?
Такой любезный вопрос меня приятно удивил, и я тотчас же сказал профессору мой адрес. И тогда старик снова спросил:
— Пешком дошли? Или доехали на автобусе?
Мне показалось, что эти любезные вопросы профессор задает, чтобы поддержать со мной вежливую беседу, и поэтому я в свою очередь спросил об его самочувствии и поинтересовался, выходит ли он на улицу при его возрасте или же избегает это делать.
На мои вопросы профессор ответил без охоты и даже строго заметил мне, что его особа в данном случае не представляет интереса для размышлений.
Поддерживая с ним этот пустой разговор, я стал понемногу разоблачаться, чтобы предстать перед профессором для выслушивания без потери его драгоценного времени.
Беседуя с ним, я незаметно развязал мой галстук и принялся расстегивать пуговки на рубашке.
Увидев, что я шарю рукой под своим пиджаком, профессор сказал:
— Нет, костюм не снимайте. Я вас не стану выстукивать. Скажу и без этого, что у вас и как надлежит вам бороться с вашей болезнью.
И тут, к моему удивлению, он с точностью описал картину моей болезни, какая была установлена в поликлинике с помощью всех анализов и просвечиваний.
От великого изумления я промолчал, а он, тихонько засмеявшись, сказал:
— Поживете с мое, куманек, и тогда не только через пиджак, но и через стенку будете видеть. Более полувека я практикой занимаюсь и приобрел себе некоторый опыт.
Не без робости я спросил старика, как он применяет свой опыт? Ведь он видит меня всего пять минут. И вдруг разобрался в моем теле, почти не глядя.
На это профессор ответил, посмеиваясь:
— Вижу человека по цвету лица, по глазам, по походке, по всем малейшим черточкам, какие налагает болезнь. В сомнительных случаях, конечно, выслушиваю, но иной раз и без этого обхожусь. Успеваю разобраться в моем пациенте за то время, когда он идет от двери до стола.
И тут профессор в довершение всего сказал мне то, что от других врачей я еще ни разу не слышал. Он сказал:
— Заметил я еще один дефектик, когда вы подходили к моему столу. У вас плоскостопие, куманек. Дефект неприятный. Он и на нервах сказывается, и вызывает утомление, слабость. Вот поэтому я и спросил вас — пешком ли вы дошли или доехали на автобусе. Хотел установить, в какой степени этот изъян влияет на ваше физическое состояние. Оказалось, сильно влияет. И с этим дефектом нам надо будет прежде всего покончить.
Вот такие удивительные слова говорит мне старый профессор и сам что-то мелким, бисерным почерком пишет. Потом подает мне заполненные бумаги и указывает:
— Тут рецепты и правила, как вам поступать. Полного выздоровления от старости не обещаю, но некоторое облегчение почувствуете. Будьте здоровы, куманек. И не допускайте прискорбных мыслей, когда прихварываете.
С волнением я выслушал старика. Хотел было на прощанье расцеловать его за опыт и мудрость, но не посмел этого сделать. И в приподнятом настроении вышел из комнаты.
А перед тем как уйти, я положил 100 рублей на его письменный стол. Но старик проявил мудрость и в отношении моих финансов. Он сказал:
— Многовато для вас, а? Половину возьмите, куманек.
И с этими словами он подал мне сдачу — купюру в 50 рублей.
Нет, эта денежная деталь не сыграла особой роли в моем настроении. И без этого происшествия я бы выскочил на лестницу в таком же взволнованном состоянии.
Выскочил я на лестницу. Стою на площадке, ухватившись за перила. И с места двинуться не могу. Еще сам не знаю, какие мысли подвести под случившееся, но уже чувствую, что на душе моей становится легко-легко. И тут вдруг начинаю явственно понимать, что именно произошло сейчас. Профессор, думаю, хорош в медицине, но ведь и я, черт возьми, мало чем уступлю ему в своем деле!
Сорок лет я проработал закройщиком. Несколько десятков тонн драгоценной кожи перебывало в моих руках. А разве теперь эту кожу я разглядываю как прежде? Да разве я вожу носом и пальцами по ее поверхности? Нет! Чуть кину взор на нее и уже с точностью вижу, какие тут дефекты и как их миновать, чтобы достигнуть в производстве высшего качества.
Да как же с таким великим преимуществом, пришедшим к старости, я полагал на свалку идти? А?
И тут на душе моей стало совсем легко, и даже, я бы сказал, весело, превосходно. И я, как молодой черт, понесся домой, позабыв о моем плоскостопии.
И с тех пор я начисто перестал думать о старости, о чем прежде думал с глубокой печалью, которая не позволяла мне чувствовать себя сколько-нибудь прилично.
Эта история, рассказанная мне пожилым закройщиком, изменила мои прежние мысли о старости. Изменила сразу, почти молниеносно.
В самом деле, какое чудесное свойство, какая могучая сила приходит к человеку вместе с его старостью. Приходит опыт, нередко помноженный на мудрость и знания.
В праздной жизни это свойство, вероятно, не столь значительно. Но в трудовые дни это едва ли не самое привлекательное в стареющем человеке.
Но, может быть, это дивное правило, относящееся к старости, распространяется не на все профессии? Быть может, как раз литература выпадает из той обоймы, в которую так чудесно входят медицина и кожевенное дело? Вот это было бы тяжкое огорчение!
Впрочем, не далее как вчера я взял рукопись одного начинающего автора и тотчас, буквально по нескольким строчкам (как закройщик кожи, рассказавший мне свою историю) безошибочно разобрался в ее посредственном качестве.
Возможно, конечно, что это опыт редактора. Что касается более тонких художественных работ, то время покажет, так ли уж привлекательна старость, как мне хотелось бы.
Разная правда
Недавно одна библиотека организовала встречу читателей с писателями.
Читатели резко и, как говорится, нелицеприятно критиковали продукцию авторов. И особенно много претензий предъявили одной поэтессе за ее книгу стихов «Вторая весна».
В этой книге и в самом деле попадались некоторые несообразности, как например: «пестрые ландыши», «розовый ветер» и «рыдающий стон парового копра». Эти художественные фразы вызвали бурю протеста со стороны читателей.
Автор названной книги сидела тут же, в президиуме. Это была смуглая, темноволосая женщина в глухом черном платье. Янтарные бусы украшали ее строгое одеяние. Эти свои желтые бусы поэтесса нервно теребила весь вечер. Но она принялась дергать их еще сильней, когда книга ее стихов стала объектом внимания.
Взяв, наконец, слово, поэтесса с сокрушительной силой обрушилась на критиков. Она гневно сказала, что поэтическое искусство не следует подвергать такой мелочной опеке. Да, у нее в книге — «розовый ветер» и «стон парового копра»! Ну и что из того? Это она увидела эти краски и услышала эти звуки! Это ее законное право поэта воспринимать окружающий мир по-своему, а не глазами Марии Васильевны!
В этом отличии себя от простых смертных чувствовалось некоторое пренебрежение к сидящим в зале. Тем не менее, ее бурная речь, в которой слова сверкали, как молнии, произвела впечатление на читательскую аудиторию.
В зале послышались возгласы: «Хватит причесывать всех под одну гребенку!»; «Это ее поэтическое право видеть по-своему!»
Председатель постучал по столу карандашом, чтобы прекратить выкрики. Но тут встал с места плотный, чуть седеющий человек в синем морском кителе.
Зычно откашлявшись, он попросил предоставить ему слово. При этом добавил для пояснения:
— Тут была сказана фраза: «Я так увидела!» Вот эти слова пробудили в моей памяти одну историйку, которую, если позволите, я хотел бы кратко рассказать собравшимся.
В зале раздались возгласы: «Просим!.. Просим!..» Моряк подошел к столу президиума, выпил стакан воды и рассказал свою историю, которую я воспроизвожу в том виде, в каком она была рассказана на читательской конференции.
— Ныне я капитан рыболовного траулера. А в то время, о котором пойдет речь, я был еще совсем неоперившимся юнцом.
Историйка эта произошла в двадцатом году. Год, как известно, был трудный, голодный. Враги пытались задушить нашу молодую Советскую страну.
Помню, мой батька приехал тогда с фронта гражданской войны. Приехал инвалидом. С культяпкой вместо ноги.
Стал, как и прежде, рыбачить, чтобы прокормить семью. Трудился с утра до ночи. Однако из бедности мы не вылезали. Впрочем, и другим людям нашего поселка приходилось не слаще.
Летом, помню, зашел в наш дом приехавший из города человек. Он искал для себя помещение. И за некоторое количество муки батька мой охотно сдал ему нашу комнату.
Приехавший человек был далеко не юношей. Пожалуй, ему уже стукнуло сорок лет. По внешности он был красивый, стройный. Не кудреватый, но с волнистыми волосами. Одет элегантно, чистенько. При любом разговоре он изящно покачивался и даже весь извивался, как гибкий стебелек на легком ветру.
Батьке моему он доложил о своей профессии — литератор, пишет стихи. Нарочно, дескать, приехал сюда, в бедный рыбачий поселок, чтобы описать трудовые будни народа в своих стихотворных произведениях.
С немалым удивлением я тогда поглядывал на этого человека. Целые дни он шагал по берегу взморья и про себя бормотал всякие рифмы и строчки. Либо, уткнувшись в песок, записывал на бумажку то, что он сочинил. Отчасти с тех пор я заинтересовался поэзией, чтобы узнать, что это такое и почему у них так бывает.
Некоторые из своих стихов наш постоялец читал моему отцу из уважения к его мягкому характеру. Но батька мой обычно уклончиво отзывался о его сочинениях — вам, дескать, видней, хорошо это или худо.
Но вот однажды у нас на море разыгралась буря. Ветер крепко бушевал и поднял большую волну. Однако к концу третьего дня ветер стих. Погода прояснилась. И только волны все еще набегали на песчаный наш берег.
И как обычно бывало у нас после бури, волны гнали в нашу сторону всякий древесный материал: колья, доски, бревна.
С дровами же в нашем поселке было беда как плохо. Берег открытый, дюны. Сосновый лесок отстоял далеко, да и он охранялся пограничным взводом. Так что дров у нас вовсе не было. И, конечно, люди всякий раз с нетерпением ожидали, что им волна подошлет.
Ну, и на этот раз жители нашего поселка поспешили выйти на берег. Иные, уже поймав бревнышко, тут же пилили его на дрова. Иные пристально поглядывали на море — не покажется ли там заветный подарок. А некоторые, засучив штаны, вошли даже в воду, чтобы прежде других перехватить какую-нибудь деревянную колобашку.
Приковылял на берег и мой батька с багром в руках. Стал смотреть вдаль, защищая рукой глаза от солнечных лучей.
А дело шло к вечеру. Солнце склонялось все ниже и ниже. Чудесный багровый закат красиво отражался на поверхности моря.
На берегу я увидел и нашего постояльца. Яркие краски заката, видимо, сильно взволновали его поэтическую натуру. Он даже снял свою шляпу и с немым изумлением взирал на уходящее светило.
Вскоре мы с батькой зацепили багром изрядное бревнышко и с трудом потянули его волоком к нашему двору.
Вечерком распилили бревно и уселись на кухне чай пить.
К нам подсел наш постоялец. Он развернул какой-то листок и, мелодично завывая, стал читать моему отцу только что написанное им стихотворение. Оно, помню, называлось: «Красота побеждает».
Читал он о том, как солнце склонялось к морю и как бедные жители поселка, позабыв о своих делах и заботах, вышли на берег полюбоваться волшебными красками заката.
По прочтении этих стихов батька мой крепко рассердился. Несмотря на свой мягкий характер, он прихлопнул ладонью по столу и громко крикнул нашему постояльцу:
— Да как же вам не совестно такие байки писать! Жители нашего поселка вышли к морю дрова ловить, а не любоваться вашим закатом!
Сильно смутился от этих слов наш постоялец.
— Разве? — говорит. — Неужели? А я и не обратил внимания на эти дрова. Вижу: люди глядят на запад. Вот мне и показалось, что все закатом любуются.
Увидев такую растерянность поэта, батька мой стал мягче беседовать с ним. Сказал ему:
— Да вы, товарищ, рассудите сами! Где же у народа сейчас свободное время любоваться закатом? Слов нет, иные, может быть, и любовались, но не зевали при этом, не отходили от дела. Я сам не без приятности поглядывал на заходящее солнце. Но при этом думал: «Ох, мешает закат людям работать, слепит им глаза, не дозволяет увидеть то, что в море».
Тут еще больше смутился наш бедный постоялец. Он неестественно засмеялся. Взъерошил свои волосы. Схватил карандаш и стал править свои стихи. Но после бросил это делать. Сказал отцу:
— Не стану править. Хорошие стихи! И, главное, народ у меня выведен как тонкий ценитель изящной красоты, которая все побеждает. Такие стихи у меня сейчас в редакции с руками оторвут!
Батька мой усмехнулся в ответ. А тот, увидев его улыбку, воскликнул с чувством оскорбленной гордости:
— Честью клянусь! В мыслях у меня не было — врать! Я все записал так, как увидел!
Моряк замолчал, чтобы собраться с мыслями. Напряженная тишина повисла в зале. Но в эту минуту непрочная нитка янтарных бус порвалась в руках поэтессы. И крупные бусины, одна за другой, со звонким треском посыпались на пол.
В зале рассмеялись. Нервное напряжение тотчас погасло. Некоторые люди из числа президиума поднялись со своих мест и принялись искать то, что упало.
Председатель собрания, пошарив ногой под столом, поднял одну крупную бусину и, постучав ею о край чернильницы, спросил моряка, закончил ли он свой рассказ.
Моряк ответил, что рассказ его кончен, но хотелось бы слегка закруглиться. И тут моряк, обратившись к залу, неожиданно сказал:
— Вот говорят, что правда жизни бывает разная. Однако история, которую я вам рассказал, наглядно показывает, что правда бывает одна, а вот видят ее по-разному. Беда невелика, если поэт видит голубое, а говорит, что это розовое. Но вот если у поэта мозги набекрень и он ловлю дров не берется отличить от заката, — вот тогда читатель вправе воскликнуть: «Ай, не надо нам такого поэтического зрения!»
В зале снова засмеялись и дружно похлопали моряку.
Председатель конференции, взглянув на часы, приступил к заключительному слову.
Он сказал, что случай, о котором поведал моряк, не является типичным для нашего времени. Наши литераторы (сказал он) вряд ли сейчас спутают ловлю дров с любованием закатом. Нет сомнения, что они в первую очередь увидят трудовой процесс. И запишут этот процесс, пожалуй, даже в ущерб красотам природы, а не наоборот.
— Однако ваша история, — сказал председатель моряку, — весьма педагогична и для наших дней. В этой истории мы видим, что ваш поэт писал свои фальшивые стишки не из каких-либо корыстных побуждений, а только лишь потому, что он односторонне и ошибочно видел жизнь, текущую перед его туманным взором.
В зале было тихо. Тем не менее, председатель почему-то снова постучал бусиной о край чернильницы и при этом сказал:
— Вот на таких ошибках против правды жизни подчас и возникают досадные дефекты — лакировка или же огульное охаивание действительности. Но я полагаю, что хорошая политическая подготовка и истинная любовь к народу предохранит литератора от таких грубых оценочных ошибок.
Засим председатель, отдав бусину поэтессе, сделал краткий обзор вечера и закончил свою речь словами, какие, можно сказать, витают в воздухе на любом литературном собрании.
— Да, — сказал он, — наши прозаики и поэты еще в большом долгу перед читателем, но нет сомнения, что этот долг вскоре будет погашен.
Чрезвычайное происшествие
Минувшим летом я провел свой отпуск в доме отдыха.
Директор нашего дома отдыха все свои отеческие заботы направлял на питание отдыхающих, справедливо полагая, что хороший стол покроет многие минусы его учреждения.
Он привлек к работе отличного повара, который изготовлял великолепные пирожки, удивительные салаты и неплохие котлеты. Сладкое блюдо, сделанное искусной рукой этого повара, всегда вызывало общее одобрение.
По этой причине отдыхающие были настроены благодушно и не раз благодарили директора за его образцовое хозяйство и за чудесный стол.
Желая еще больше угодить отдыхающим, директор однажды сказал тем, кто пришел его благодарить:
— С вашего разрешения, — сказал он, — я передам вашу благодарность нашему повару Ивану Фомичу, который старается там у плиты. Это, несомненно, поощрит его. И мы тем самым достигнем еще лучших результатов.
Действительно, со следующего дня качество обедов еще более повысилось. И тогда директор, сияя от удовольствия, сказал отдыхающим:
— Вот видите, какое усердие проявляет наш повар, получив вашу благодарность. А ведь устная благодарность — это птица в небе. Советую от души: составьте похвальное письмецо повару. Мы опубликуем это письмецо в нашей стенной газете. И тогда посмотрим, что будет.
Отдыхающие так и сделали. За пятью подписями они поместили в стенгазете письмо, где в пышном стиле отметили выдающуюся кулинарную деятельность повара Ивана Фомича.
Причем один художник из отдыхающих нарисовал вокруг письма красивую рамку, увитую лентами, цветами и лаврами.
Эффект превзошел ожидания директора.
Чудесные пирожки, изготовленные нашим поваром, теперь буквально таяли во рту. Салаты стали такие, что даже объевшийся человек ел их еще и еще. А сладкое блюдо с этого дня вызывало всеобщее изумление, смешанное с шумным восторгом.
Но особый восторг проявлял один из отдыхающих — молодой композитор, который сидел за столиком рядом со мной. Точнее сказать: он чаще вскакивал, чем сидел. Какая-то скрытая пружина не позволяла его худому и длинному телу пребывать в покое.
За нашим столиком помещались доктор филологических наук и его супруга. Филолог был на редкость тощий и молчаливый субъект. Но супруга с избытком уравновешивала эти его недочеты.
Так вот, однажды, обедая, молодой композитор проявил исключительную восторженность, доходящую до нервозности. Все, что на этот раз подавали к столу, он восхвалял в неумеренной степени. Но когда принесли сладкое, он вскочил со стула и воскликнул, обращаясь к филологу:
— Немедленно попробуйте крем! Это чудо поварского искусства!
Доктор филологических наук, попробовав крем, сказал «да» и склонил свою голову в знак удовлетворения.
Жена филолога стала пояснять нам, чем именно хорош этот крем и почему заварные кремы бывают неважного качества.
Не подождав конца ее речи, композитор снова воскликнул:
— Нет, нет, мы еще не в полной мере отметили великие заслуги нашего повара! Мы обязаны еще и еще раз поощрить этот божественный дар!
Жена филолога предложила собрать с отдыхающих некоторую сумму денег, чтобы купить повару серебряный портсигар либо отрез простенькой материи на костюм. Однако композитор с досадой воскликнул:
— Ах, это будет не то и не то! Перед нами изумительный мастер своего дела — художник, артист! И мы, как артисту, должны оказать ему почести.
И с этими словами композитор принялся аплодировать.
Обедающие с недоумением посмотрели на него. И тогда композитор торопливо обежал столики и негромко оповестил всех, что сейчас решено вызвать аплодисментами повара для того, чтобы устроить ему овацию.
Все охотно согласились с этим. И по знаку, данному композитором, в столовой раздались дружные аплодисменты.
Служебный персонал кухни не тотчас разобрался в значении этого шума. На пороге столовой появилась судомойка. И вслед за ней выскочил поварской ученик Федюшка. Оба они с улыбкой, но не понимая, взирали на рукоплещущих людей.
Забегали официантки. Появился директор. Он тотчас присоединился к аплодирующим и громко крикнул, вызывая повара:
— Иван Фомич! Просим…
Вскоре появился повар Иван Фомич. Это был грузный мужчина с отвисшими седеющими усами. Высокий поварской колпак придавал ему несколько устрашающий вид.
Да, конечно, повар Иван Фомич уже привык к вниманию и успеху, однако овация заметно взволновала и даже ошеломила его новизной дела. Некоторое время повар молча стоял на пороге столовой и, вытирая передником свое запотевшее лицо, искоса посматривал на окружающих, которые стоя аплодировали ему.
Аплодисменты усилились. Композитор, бросившись к роялю, заиграл туш. И тогда повар Иван Фомич вышел на середину столовой.
Теперь на его побледневшем лице светилась сложная гамма чувств. Гордость, душевное волнение, восторг, изумление — вот что одновременно можно было прочесть в его облике.
Директор поднял руки и, водворив тишину, обратился к повару с краткой речью. Он так без запинки сказал:
— Дорогой Иван Фомич! Ваши предшественники долго морочили публику своей сомнительной кулинарией. И только с вашим приходом дирекция обрела душевный покой, что является ключевой позицией к здоровью. Позвольте же от имени всех отдыхающих еще раз поблагодарить вас за ваше высокое мастерство, которое как солнце озарило наш скромный дом отдыха!
Тут под гром бурных аплодисментов директор обнял повара и трижды поцеловал его в усы и в щеки.
Теперь полагалось повару выступить с ответным словом. Но Иван Фомич не оказался мастером и в этом сложном искусстве. Впрочем, быть может, волнение сковало его речевой дар. Так или иначе, Иван Фомич скупо обронил несколько фраз, по которым, однако, можно было судить о благородном достоинстве его мыслей. Сняв свой белый колпак и прижав его к сердцу, он сказал:
— Старался… Достигал… Обещаю и впредь проявить к людям заботу… От души благодарю за внимание… Спасибо…
Бурными аплодисментами, музыкой и криками «браво» закончилась эта встреча отдыхающих с поваром. Скромно поклонившись, Иван Фомич удалился на кухню.
Нет, я не был свидетелем дальнейших событий, но очевидцы с протокольной точностью рассказали о том, что вскоре случилось.
В пять часов дня повар Иван Фомич, взяв с собой своего племянника Федюшку, направился в поселок к знакомым рыбакам. Там, крепко напившись, Иван Фомич нанял лодку с двумя гребцами. Эту лодку он украсил коврами и зеленью. Посадил на корму знакомого гармониста. И в этой лодке под звуки музыки проплыл по озеру вдоль поселка и вдоль многочисленных здравниц и санаторий.
Весь этот водный путь повар совершил стоя в лодке, положив руку на плечо одного из гребцов. Весь этот путь (по словам очевидцев) Иван Фомич стоял, как монумент, среди зелени и ковров. Причем, когда гармонист смолкал, поварской ученик Федюшка тотчас же принимался тренькать на своей мандолине.
Однако немалое количество вина, поглощенное поваром, привело экспедицию к неожиданной аварии. Когда гребцы резко повернули лодку для вторичного рейса, Иван Фомич не удержался на ногах и упал за борт. Дородное тело его поколебало утлое суденышко, и оно, зачерпнув воды, перевернулось.
Федюшка и гребцы сами выплыли к берегу. А повара и гармониста с его баяном выловили рыбаки.
Иван Фомич сильно наглотался воды и долгое время лежал на берегу почти без движений. Жители поселка хотели было откачивать его, но он не дался. И вместе со своим промокшим племянником Федюшкой поспешил на свою квартиру.
И там у себя на квартире (как утверждают люди) Иван Фомич до глубокой ночи пил, ел и даже бушевал.
Об этом чрезвычайном происшествии узнали в нашем доме отдыха только лишь на другой день, когда к утреннему завтраку, вместо изысканных салатов, подали манную кашу с вульгарной клюквенной подливкой.
За завтраком доктор филологических наук сказал нам, чуть улыбаясь:
— Да, я всегда полагал, что пышная похвала требует от людей особой моральной стойкости.
Жена филолога стала нам расшифровывать мысль своего мужа и при этом многословно принялась пояснять, что хвалить людей нужно, это педагогично и дает чудесные результаты. Однако при некотором переборе (сказала она) иной раз возникают странные неожиданности — вроде скандального происшествия с нашим поваром. Из чего явствует, что непомерная похвала для слабой души таит в себе некоторую опасность.
Молодой композитор воскликнул с душевным волнением:
— Нет, я несогласен с вами! Даже самая возвышенная похвала не может повредить делу. И я более чем уверен, что наш повар, оправившись от аварии, превзойдет самого себя!
В этот день нам подали обед, наспех приготовленный чьей-то неискусной рукой. Да и в течение пяти дней (а это немалый срок для отдыхающих) обеды были весьма сомнительного качества. Но к концу недели отдыхающие снова не могли удержаться от шумных восторгов в адрес нашего повара Ивана Фомича.
И тогда молодой композитор, кушая за обедом сладкое, взволнованно сказал жене филолога:
— Попробуйте эти меренги! Пышная похвала отнюдь не повредила делу. Те почести, какие мы оказали повару, только лишь окрылили его изумительное мастерство!
Похвалив меренги, жена филолога осталась при своем мнении. Она сказала, что пышная похвала более опасна для неопытного подмастерья, чем для первоклассного мастера. Неопытный подмастерье после безмерных похвал нередко останавливается в своем росте, считая, что ему далее некуда идти. Либо он падает духом от первой же неудачи. И уж тогда ищет забвения в стакане вина.
Молодой композитор вскочил из-за стола, чтобы на это что-то возразить, но жена филолога, не сделав паузы, продолжала:
— Однако и для первоклассного мастера, — сказала она, — здесь таится некоторая опасность. Безмерная похвала нередко убаюкивает сознание, взращивает гордыню и не позволяет критически отнестись к своему труду. Вот по этой причине и первоклассный мастер (допустим, художник слова) иной раз бросает свое дивное мастерство — он становится доморощенным проповедником, ханжой, кликушей, а то и развинченным декадентом.
Жена филолога долго и многословно говорила на эту тему и заключила свою речь следующими словами:
— Конечно, такого превращения с нашим первоклассным поваром не может произойти. Пышная похвала только лишь на короткое время поколебала его душевное равновесие.
Судя по меренгам, все уже закончилось к общему благополучию. И теперь нашего повара, видимо, снова можно хвалить, не рискуя натолкнуться на неприятные неожиданности.
Доктор филологических наук не принимал участия в этом разговоре и только под самый конец беседы сказал композитору назидательным тоном:
— Моральная закалка, молодой человек, нужна решительно в любой профессии, включая сюда кулинарное дело и в особенности музыку, которая столь часто сопровождается аплодисментами.
На это молодой композитор ничего не ответил и развинченной походкой человека, пресыщенного аплодисментами и почестями, вышел из помещения.
В бане
Обширное помещение предбанника культурно и даже не без красивости оформлено. На полу ковровые дорожки. На диванах чистые чехлы. У дверей — буфетная стойка с цветочным горшком.
На диване, против меня, какой-то молодой папаша с шестилетним сыном. Неумело раздевая ребенка, молодой отец то и дело поучает его правилам поведения. Тоном строгого воспитателя он ему говорит: «Не шмыгай носиком, а добудь платочек из кармана… Не крути ножкой по воздуху, когда папа снимает с тебя штанишки!»
Эти сцены воспитательного характера не слишком заняли мое воображение, и я стал посматривать на банщика, который удивил меня своей внешностью. Это был молодой, цветущего вида парень лет двадцати двух, не более. На нем спортивные тапочки, полосатые полубумажные штаны и белая косоворотка, подпоясанная куском тесемки.
Работа у парня самая простецкая. Он принимает цинковый таз от помывшегося, открывает своим ключом шкафчик с бельем и, ожидая нового посетителя, ходит по предбаннику, скучно посматривая поверх диванов.
Мне хотелось спросить молодого банщика — как и почему он избрал такой трудовой путь, более годный для людей престарелых или же утомленных жизнью. Однако дальнейшие стремительные события не позволили мне обратиться к банщику с этим вопросом.
В предбанник вошел невысокий, плотный, только что помывшийся старик. Лицо у него было добродушное, почти веселое. Сквозь седую щетину его давно не бритых щек просвечивал легкий гипертонический румянец. Огромный его живот, принявший на своем веку не менее тридцати тонн всякой снеди, грузно оттягивался книзу. На животе белел хирургический шрам давнего происхождения.
Старик, видимо, не раз был помят жестокими объятиями жизни, но чувствовалось, что он еще крепко прикован к земле ее несложными удовольствиями.
Войдя в предбанник с цинковым тазом в руках, старик задержался у дверей, разыскивая глазами молодого банщика. Струйки воды обильно стекали с его пухлых плеч. Облачко легкого пара поднималось над небольшой лысиной его седой головы. Старик, видимо, отлично помылся и теперь жаждал поскорей одеться.
Не найдя банщика, стоявшего возле буфета, старик жидким тенором произнес:
— Эй, кто тут шкапчики открывает?
Молодой банщик поспешил к старику и, открыв нужный шкаф, отошел в сторону.
Старик недолго повозился у шкафа и, нагрузив свои руки бельем и костюмом, направился к дивану, чтобы одеться. Но тут запнулся ногой о ковровую дорожку и едва не упал. Свой же бельевой груз старик не успел задержать, и тот выскользнул из рук на пол.
Поверх стариковского белья лежал большой пакет, завернутый в газетную бумагу. Этот пакет, тяжело упав на пол, распался, и все содержимое его вывалилось на ковровую дорожку. Это были пачки сторублевых купюр, плотно обернутые в банковые оклейки, на которых значились цифры — 10 тысяч.
Таких пачек было не менее двадцати. Кроме того, тут была разрозненная пачка сторублевок. Несколько купюр из этой пачки веером отлетело к противоположному дивану.
Молодой банщик, всплеснув руками, испуганно крикнул:
— Деньги!
Торопливо собирая рассыпанный пакет, старик с неудовольствием сказал банщику:
— Ну да, деньги. Чего орешь? Или прежде не видел этого?
Банщик, нервно одергивая свою рубаху, продолжал испуганно изумляться:
— Такое количество не приходилось видеть. Откуда, папаша, у вас столько?
— А твое какое постороннее дело? — уже с раздражением ответил старик, увидев, что посетители бани со всех сторон посматривают на его торопливые действия.
— Нет, верно, товарищ, откуда у вас такая целая куча денег? — строго спросил молодой отец, который вместе со своим голеньким сыном направился было мыться, но в последний момент задержался и снова, к неудовольствию ребенка, сел на диван.
Старик ничего ему не ответил. Собирая деньги в рваную газету, он все еще ползал по полу и был теперь более мокрый, чем прежде.
Вокруг старика образовалась плотная стена посетителей. Все молчали, не зная, что сказать и как поступить в таком исключительном случае.
Но вот, расталкивая людей, к месту действия подошел маленький худощавый человечек с темным лицом и с колючими глазками под густыми черными бровями. Он был еще не совсем одет. Расстегнутая рубашка обнажала его узкую, цыплячью грудь. Сиреневые подтяжки болтались позади его тощего зада.
Говорят, что все зло в мире происходит от маленьких худощавых людей. Возможно, что это и не совсем так, но в данном случае худощавый человечек в ближайшие же минуты выказал все теневые стороны той категории людей, ярким представителем которой он являлся.
Выйдя вперед, он свирепым тоном сказал старику:
— Откуда деньги? Только быстро отвечайте, чтобы не иметь времени для придумывания вранья!
Вытираясь мохнатым полотенцем, старик едко ответил:
— А тебе, пигалица, что тут надо? Застегнись на пуговки, прежде чем беседовать с людьми. Может, мне противно глядеть на тебя неодетого.
Эти слова не сбили с позиции щуплого посетителя. Напротив, он подошел ближе к старику и шипящим тоном сказал:
— Это мы еще посмотрим, кто прежде застегнется на все пуговки, чтобы уйти отсюда куда следует! Отвечайте общественности — откуда у вас эти деньги?
И тут худощавый сделал широкий демагогический жест рукой, как бы собирая вокруг себя всю банную общественность.
Но и этот классический жест не испугал старика. Натягивая на себя рубашку, он сердито крикнул худощавому:
— А ну, уйди от меня! Иначе я схвачу тебя за штаны и выкину из фойе!
Этот грозный окрик ослабил наступательную операцию худощавого субъекта. Однако, продолжая суетиться, он негромко сказал, обращаясь к банной общественности:
— Ни в баню, ни в парикмахерскую люди не имеют привычки брать с собой такие суммы. А если он взял — значит, хотел от кого-то скрыть эти деньги, либо утаить следы своих незаконных действий.
Молодой банщик беззлобно воскликнул:
— Наверно, он займы незаконно скупал по дешевой цене и на них выигрывал миллионы.
Худощавый сквозь зубы прошипел:
— Не исключена возможность, что деньги у него фальшивые… Где тут администрация?
Быстро накинув на себя черный китель, щуплый человечек направился к лестнице, бросив на ходу: «Никого не выпускать из бани!»
Владелец денег, увидев такую суету, не без досады махнул рукой и даже нахмурился.
Молодой папаша строго сказал своему голенькому сыну, который продрог и стал хныкать:
— Крепче запомни, Икар: те люди, которые воруют или обманывают папу и маму, — самые недостойные люди на нашей планете. Они замедляют исполинский ход нашего времени.
Икар захныкал еще сильней и ничего не ответил отцу.
Молодой банщик не отрываясь смотрел на владельца денег, который неторопливо одевался. Сделав, вероятно, вывод, что старик не похож на жулика, банщик снова спросил его:
— Нет, верно, папаня, ответьте без дураков — откуда у вас такие деньжищи?
Старик, улыбаясь, ответил парню:
— Эти деньги, милый ты мой, я заработал личным трудом, скопил.
— Да, но как вы их заработали? на чем? — воскликнул банщик, и тут, присев возле старика на диван, интимным тоном заговорил:
— Сам-то я, папаня, сельский житель. Всего лишь три класса образования у меня. Еще теряюсь в городе без привычки. Не знаю, с какого конца мне начать, чтобы немножко разбогатеть. Поучите, папаша! Объясните сироте — как это у вас в городе происходит?
Владелец денег весело рассмеялся и, вытирая заслезившиеся глаза концом чистой рубахи, сказал:
— На твоем банном посту ты вряд ли достигнешь богатства. Где же тут соколу развернуть свои крылья?
— Вот именно, папаня! — воскликнул банщик. — Где же тут мне мало-маля развернуться! Вот и хожу по предбаннику как зачумелый… Уж сделайте милость — скажите, как вы достигли своего счастья? Кем, например, вы работали?
— Я по профессии слесарь, — ответил старик. — Однако в отъезде я работал механиком при машинах. На угольных шахтах работал в этой должности. После чего перевелся на нефтепромыслы.
— И сколько же вам за это платили?
Старик неторопливо ответил:
— Тут надо, сынок, учесть, где я работал. Работал — отсюда далеко. Бывал и на Крайнем Севере и на Сахалине. И всюду получал полуторный оклад.
— Это сколько же вам в месяц выходило?
— На круг выходило три с половиной. Одну тысячу проживал, не дозволяя себе излишнего. А две с половиной клал на сберкнижку. Вот за восемь лет и скопил себе некоторую сумму.
Банщик беззвучно зашевелил губами, мысленно подсчитывая цифры. И, подсчитав, громко воскликнул:
— Двести сорок тысяч скопили!
Вокруг старика и банщика ряды посетителей сильно поубавились. Многие, увидев, что дело раздуто, ушли мыться и одеваться. И один из уходящих с изумлением сказал:
— Этакую сумму скопил старый черт — четверть миллиона!
Молодой банщик, бурные чувства которого достигли теперь предела, вскочил с дивана и крикнул старику:
— Так зачем же вы, папа, бросили такое хлебное место? Ой, я бы сто лет безвылазно там сидел!
Шнуруя ботинки, старик не торопясь ответил:
— Доктора нашли у меня гипертонию. Велели в Россию возвращаться. Вот я и приехал сегодня сибирским экспрессом.
В выходных дверях появилась заведующая баней. Это была средних лет женщина в черном суконном костюме. На лацкане ее пиджака висела медаль.
Прикрыв свои глаза свернутой газетой, чтобы не смущать неодетых посетителей, заведующая быстрым шагом проследовала по предбаннику. Вслед за ней семенил худощавый человечек в незастегнутом кителе.
Подойдя к месту происшествия, заведующая громко спросила:
— Где тут? Кто? У кого фальшивые деньги?
Старик встал с дивана и, грозно поглядывая на худощавого, сказал заведующей:
— Не знаю, какие деньги у этого презренного лилипута, а мои деньги в госбанке выданы. Вот моя вкладная книжечка, по которой видно — сколько у меня было на текущем счету и когда именно я взял всю эту сумму, за исключением остатка в тридцать две копейки.
Просмотрев вкладную книжку старика, заведующая сказала:
— Все правильно. Одно не понять — зачем вы принесли в баню такие деньги?
Владелец денег ответил:
— Две недели в поезде ехал — затосковал по бане, запылился. С вокзала зашел в гостиницу, взял номер и понесся сюда. А деньги, конечно, вынул из чемодана, прихватил с собой, чтобы не оставлять их без надзора.
— Понятно, — сказала заведующая. — Однако вы напрасно сняли деньги со своей книжки. Вам надо было обменять ее на аккредитив.
— Об этом мне говорили в кассе, — признался старик. — Но только не хотелось мне отдельно от денег путешествовать.
— Понятно, — снова сказала заведующая и обернулась, чтобы сделать замечание щуплому человечку, который так извратил событие и поспешил увидеть преступление там, где его не было. Но тот уже юркнул к своему дивану и поспешно одевался.
Снова прикрыв глаза газетой, заведующая удалилась. И тогда молодой банщик торопливо спросил старика:
— Ну, а как вы, папаня, станете теперь жить, имея такие деньги?
Старик, усмехнувшись, ответил:
— А на что тебе, босому, знать это? Нет, сынок, не намерен я беседовать с тобой на такую щекотливую тему.
Пожилой буфетчик, выйдя из-за стойки, сказал старику:
— Племянник мой Петр Егоркин задал вам правильный вопрос. Всем бесконечно интересно знать, что вы теперь предпримете с вашим капиталом?
— Время покажет, что предпринять, — уклончиво ответил старик и нахмурился.
Однако буфетчик настойчиво переспросил:
— Все-таки скажите, уважаемый, какой план жизни вы теперь себе наметили?
Туго заворачивая свой денежный пакет в грязное белье, старик без охоты заговорил:
— План жизни мной еще не продуман. Однако на ближайшие дни я наметил себе некоторые шаги. Вот завтра с утра пораньше положу деньги в сберкассу и пойду наниматься в ту артель, где я до отъезда работал слесарем. А ежели, допустим, они меня не возьмут, то я на завод куда-либо устроюсь. В свое время я имел седьмой разряд.
Молодой банщик воскликнул:
— Это при таких деньгах хотите на завод идти?
— При чем тут деньги? — сердито ответил старик. — Деньги само собой, а без работы мне, молодой человек, нечего делать. Я не привык круглосуточно на постели лежать.
Банщик беззвучно засмеялся и сквозь смех сказал:
— Выходит, папаня, что вы как бы зря копили деньги…
— Где же зря? — пробормотал старик. — Собираюсь я полдомика за городом купить, ежели квартиру тут не достану.
Буфетчик солидно заметил:
— Квартиру вам дадут, если на завод поступите. А полдомика много ли потянет? Не более тридцати. Это капля в море при вашей сумме.
Старик встал с дивана и, все более раздражаясь, сказал:
— Ай, да не помешают мне деньги! Телятину буду кушать. Мебель куплю. Пианино.
Буфетчик шумно вздохнул и вернулся к стойке. Владелец денег, продолжая сердиться, надел кепку и взял в руки свой распухший пакет. Банщик Петр Егоркин неожиданно для себя сказал старику повышенным тоном:
— В бане промеж нас дети есть! Кажется, могли бы при таком количестве денег купить им пару конфеток!
Старик, собираясь было уйти, задержался. Сказал:
— Дети — это иное дело. Друга никогда не откажусь выручить из беды и детям завсегда предоставлю льготы. Где тут дети?
Банщик обернулся к дивану, где прежде сидел молодой папаша с сыном, но оказалось, что те ушли мыться. Банщик с досадой сказал:
— Дети уже ушли. Не дождались.
— А ушли, так гнаться за ними не стану, — пробормотал старик и направился к выходу. Потом, вдруг обернувшись, спросил банщика: — А лично у тебя, молодой человек, дети есть?
Молодой банщик, улыбаясь, ответил:
— Девочке моей полтора года. Дошкольница.
Старик подошел к стойке и своим жидким тенорком спросил буфетчика:
— Что у вас для детей имеется?
— Для детей, кроме шоколада, ничего не держим, — ответил буфетчик. — Вот «Золотой якорь» — 18 целковых плитка. А вот соевый шоколад за три рубля.
— Давай сюда соевый за три рубля, — сказал старик.
Молодой банщик стал отказываться от подарка и даже зарделся, но старик настоял на своем, сказав:
— Не тебе, а дочке даю. Только, гляди, сам не съешь. Непременно отдай девочке.
— Зачем же я стану есть? — возразил банщик. — Кусочек, конечно, отломлю, попробую. А остальное, ясно, отдам девочке.
Передавая сдачу с десятки, буфетчик сказал старику:
— Это вы правильно, уважаемый, решили, — на завод идти. Тут я два месяца не работал, так не знал, куда деться от грусти. Даже спать перестал. А взялся работать — и снова стал видеть прекрасные сны.
— Да, без дела я тоже хвораю, — пробормотал старик, внимательно пересчитывая сдачу.
Такое пересчитывание сдачи почему-то сильно задело буфетчика. Криво усмехаясь, он сказал старику:
— Племянник мой Петр Макарыч Егоркин всецело прав. Зря накапливали свои капиталы. Они вам как корове седло — ни к чему-с! Разве только что в баню их с собой носить — людей забавлять.
Старик, рассердившись, спросил:
— Или ты думаешь, что я их от жадности копил?
Потирая свой солидный жировик возле уха, буфетчик дипломатично ответил:
— По разным причинам люди деньги откладывают. Иные, конечно, от жадности копят. Иные — на свою старость, либо на покупку желательных вещей. А некоторые копят из уважения к капиталу.
Я думал, что такой ответ еще более рассердит старика, но этого не случилось. Широко улыбнувшись, он воскликнул:
— Все перечислили, хозяин, а мою причину отыскать не сумели! Доложу: с восьми лет детского возраста я мечтал накопить себе некоторую сумму, чтобы выручить моих родителей из их постоянной нужды. Уже и родители мои полвека назад отошли в вечность, а детская идейка накопить деньги так почему-то и застряла в моей голове. Застряла, как тая заноза, какую охота выдернуть поскорей. За всю мою длинную жизнь не удалось мне этого совершить. Нынче — накопил. Рад, конечно, не скрою. Но полного удовлетворения от этого почему-то не имею. Отчасти, впрочем, понятно почему — некого мне этим порадовать, кроме себя.
Такой скромный ответ понравился буфетчику, и он, любезно прощаясь со стариком, сказал ему утешительно:
— Вообще-то говоря, деньги вам, конечно, не помешают. Грустить не об чем.
Владелец денег утвердительно кивнул головой и пошел к выходу со своим распухшим пакетом.
Грубые ошибки
Эта история произошла двенадцать лет назад. Однако необычайное завершение истории относится к нашим дням. По этой причине мы сочли возможным потревожить тени минувшего.
Перед войной (и в начале войны) проживал в Москве один не старый еще художник, по фамилии (ну, скажем) Бобычев. Это условное наименование мы придаем художнику, дабы не смущать ныне здравствующих его родственников.
Скажем прямо — художник Леонтий Петрович Бобычев был слабый, посредственный мастер. Он работал старательно, однако излишняя рассудочность и душевный холодок в его творчестве не позволили ему подняться до каких-либо высот в области изобразительного искусства.
Впрочем, одна из его картин, написанная на антирелигиозную тему, пользовалась некоторым успехом в начале тридцатых годов. Эта картина под названием «У попа была собака» привлекала внимание посетителей выставки и даже была отмечена прессой.
Правда, критик, отметивший это художественное полотно, тут же в своей статье заявил, что эта интересно задуманная картина не имеет ничего общего с искусством и, как и все прежние работы Бобычева, является плодом холодных умственных упражнений.
Будучи человеком рассудка, Леонтий Петрович не упал духом, не растерялся от сокрушительной критики. Он опубликовал письмо, в котором признал свои творческие ошибки и пообещал в дальнейшем работать с учетом этих справедливых критических указаний.
После этого Леонтий Петрович сделал попытку освободиться от своей излишней рассудочности. Он пробовал работать не думая, стал даже выпивать по сто грамм, прежде чем подойти к мольберту. Однако эти попытки не дали своих результатов. И досадное свойство художника так при нем и осталось.
Но что губительно в искусстве, то иной раз ценно в обычной будничной жизни. Именно это природное свойство в сочетании с практической жилкой способствовало материальному благополучию Леонтия Петровича. Он не знал нужды и даже перед самой войной построил себе небольшую дачу где-то в районе Кунцева.
Отличное настроение никогда не покидало Леонтия Петровича. Тем более что он считал себя выдающимся художником, быть может даже отмеченным гениальностью.
В сказочном мире искусства все строго уравновешено. Признанный мастер услаждается выпавшей ему славой. Непризнанный рассчитывает на любезное внимание потомков. Осмеянный критикой убежден в слепоте современников, кои не поднялись вровень с художником, перегнавшим свою эпоху. Однако нередко и те, и другие, и третьи не доходят до финиша, где раздают призы.
Тем не менее в мире искусства почти все довольны. А ведь это самое главное. Моральная удача веселит художника и позволяет ему творить уверенно и с тем чувством достоинства, какое необходимо для мастера, не имеющего склонности находить утешение в вине.
Что же касается уколов профессиональной критики, то эти уколы обычно смягчаются контркритикой дорогих и близких людей. И тут Леонтий Петрович был в наивыгодном положении. Его жена Юлия Васильевна и младшая ее сестра Серафима восторженно относились к его творчеству.
Нет, их отношение нельзя было назвать просто восторженным отношением. Это был энтузиазм, это был непрестанный гул восхваления, всюду сопровождавший самоуверенного мастера. Это был торжественный культ художника, терпеливо созданный любящими руками.
Но если жена художника Юлия Васильевна подчас задумывалась с недоумением над его полотнами, то этого не случалось с ее сестрой Серафимой. Серафима не знала сомнений. Ее гордая уверенность была непоколебимой. Она не могла даже на минуту помыслить, что Леонтий Петрович не является феноменом, какие возникают в мире раз в тысячу лет. Едкая критика его творчества только лишь укрепила эту ее уверенность, ибо она полагала, что судьба гения — это тернистый путь, полный тяжких испытаний и немыслимых катастроф.
У Серафимы был маленький четырехлетний сынок Николай — Кока, как его называли близкие. Вот этого Коку она решила воспитать в духе высокого почитания искусства и личности Леонтия Петровича. Она пребольно шлепала малыша, когда он не хотел подолгу смотреть на полотна художника. Она вместе с сестрой Юлией старалась внушить мальчику все те почтительные мысли, какие переполняли их сердца.
Начавшаяся война в сорок первом году разрушила привычную, налаженную жизнь художника и его близких.
Воздушные налеты фашистской авиации чрезвычайно смутили Леонтия Петровича. Первые тяжкие бомбежки с воздуха ошеломили его. И он стал сожалеть, что не остался на даче, а переехал в город, где, казалось ему, легче перенести военные тяготы.
Эти варварские налеты, эти оглушительные разрывы тяжелых бомб и руины упавших домов действовали на психику художника угнетающе. При звуках сирены Леонтий Петрович буквально впадал в какое-то сумасшествие. Он метался по квартире, громко стонал и хватал вовсе не те вещи, какие надлежало унести с собой в бомбоубежище.
Его жена Юлия взывала к его благоразумию и требовала хотя бы некоторой сдержанности, но он, понимая всю, так сказать, непристойность своего поведения, ничего не мог поделать с собой. И странное дело. Обычная рассудочность его натуры куда-то исчезла, сгинула. Одержала верх та сердечная непосредственность, которая до сей поры никак не желала проявиться в его искусстве. И вот теперь она проявилась совершенно не к месту и в столь неумеренной степени.
Впрочем, Серафима находила, что такое нервное состояние Леонтия Петровича вполне понятно, ибо утонченность его артистической натуры была решительно не приспособлена к грубым солдатским делам.
Так или иначе, после одной из бомбежек Леонтий Петрович заявил жене, что он уезжает на дачу, где и намерен пробыть до конца войны, поскольку в армию его не возьмут в силу крайней близорукости зрения.
Жена не препятствовала его отъезду, но сама задержалась в городе, чтобы запаковать картины и вещи для отправки их в Кунцево.
Леонтий Петрович не без труда достал машину и вместе с Серафимой и ее сыном поспешно покинул город.
Там у себя на даче Леонтий Петрович ожил и повеселел. И даже часами играл и забавлялся со своим маленьким племянником Кокой. Серафима взяла на себя хозяйственные заботы и старалась этим угодить художнику.
В саду возле дома Леонтий Петрович вырыл щель и всякий вечер, когда прожектора бороздили небо, прохаживался вдоль этого земляного сооружения. Нет, он не укрывался в этом окопе даже и тогда, когда гремели зенитные пушки, однако сознание, что он может каждую минуту воспользоваться им, давало ему душевное равновесие и некоторую долю веселости.
В один из тихих августовских вечеров Леонтий Петрович, гуляя по саду, услышал стремительный гул нескольких летящих самолетов. Он стал всматриваться в потемневшее небо, но ничего не увидел. Да если б и увидел, то вряд ли разобрался бы в воздушном событии. Оно заключалось в том, что один из фашистских самолетов, отогнанный от Москвы нашими истребителями, поспешно удирал на запад.
И вот тут фашистский летчик, желая облегчить свое бегство, сбросил вниз весь свой неиспользованный бомбовый груз. Он сбросил этот груз как раз в районе Кунцева, пролетая почти над дачей художника Леонтия Петровича Бобычева.
Этот бомбовый груз, упавший в поле, разорвался с таким потрясающим звуком, что казалось, будто вся вселенная обрушилась в бездну.
Воздушной волной Леонтий Петрович был поднят куда-то вверх, и через мгновение мир перестал для него существовать.
Это случилось в десять часов вечера 5 августа 1941 года.
Должно быть, законы взрывных воздушных волн и течений не в точности изучены. Во всяком случае, странности этих течений велики. Дача художника оказалась почти нетронутой, но рядом находящаяся баня была буквально разметана в воздухе. Забор остался в сохранности, но многие деревья в саду легли, как скошенная трава.
Серафима, ошеломленная взрывом, выбежала из дома и, увидев в саду распростертое тело Леонтия Петровича, упала, потеряв сознание. Ее сын Николай, проснувшись в своей постели, поднял оглушительный плач, который и был в дальнейшем услышан санитарной машиной.
Нет, мы не станем описывать подробности этих дней, прошедших после катастрофы. Только скажем, что по приезде Юлии Леонтий Петрович был захоронен в саду. Захоронен поспешно и, так сказать, временно. Но сестры, потрясенные горем, дали друг другу торжественное обещание в дальнейшем поставить здесь хотя бы скромный монумент в память погибшего художника.
Горе сестер и в самом деле было велико. Они как будто окаменели, часами молчали и только изредка перекидывались фразами, которые все больше относились к необыкновенной и трагической судьбе художника, нашедшего свою гибель именно там, где искал спасения.
Мы не станем описывать жизни сестер в ближайшие годы. Но вкратце скажем, что канва их была как и у многих в те годы. В октябре сорок первого года сестры покинули Москву и поселились в Свердловске у своих дальних родственников.
Там, в Свердловске, сестры работали в Комитете по делам искусств. Работали с воодушевлением, и поэтому острота их переживания ощущалась ими не столь болезненно, как прежде. Но все же мысли о погибшем ни на один день не покидали их.
В 1945 году, по окончании войны, сестры вернулись в Москву. Вернулись несколько поблекшие, увядшие. Ведь прошло четыре года со дня катастрофы. А это немалый срок даже в жизни тех, кто испытывает безоблачное счастье. Сыну Серафимы, Коке, уже исполнилось восемь лет, и этот, так сказать, маленький «шпингалет», еще недавно ходивший под стол пешком, теперь уже посещал школу.
Вернувшись в Москву, сестры снова твердо решили посвятить свою жизнь памяти погибшего художника. Они еще не знали, как им подойти к реализации своего решения. Они неясно рассчитывали на выставку его картин, какую, быть может, устроит Союз художников. Рассчитывали они и на торжественный вечер его памяти. И не оставляли мысли о каком-нибудь скромном памятнике на его могиле.
Однако посещение Союза не дало желаемых результатов. Более того, сестер огорчил и расстроил вопрос, который им задал секретарь в ответ на их робкое повествование о погибшем художнике. Секретарь (или, кажется, временно исполняющий его обязанности) спросил сестер:
— Это какой же Бобычев? Что-то я не помню его…
И тут, взглянув на машинистку, которая пожала плечами, воскликнул:
— Ах, это длинный такой? В очках? Да разве он умер?
Сестры строго рассказали ему о случившемся, и тогда секретарь любезно сказал, что он доложит президиуму о выставке и ответ сообщит в непродолжительном времени.
Но ответа из Союза не последовало, и тогда сестры решили своими средствами сделать все, что в их силах. Они устроили на даче своего рода выставку картин художника. И стали обдумывать, как и каким образом соорудить памятник на его могиле.
Вдова художника Юлия отыскала в Москве старинного приятеля Леонтия Петровича, скульптора Ивана Семеныча Б. Юлия упросила его вылепить какое-нибудь изображение, которое можно было бы поставить на гранитный цоколь. Скульптор долго отказывался, но потом согласился и почти три года тянул это дело, вылепив наконец какого-то орла, клюющего змею. Что обозначало это символическое изображение, скульптор и сам не мог объяснить. Но поскольку изображение было вылеплено художественно, то сестры решили остановиться на предложенном.
В общем, это изображение было отлито из металла и водружено в саду на гранитном постаменте.
Таким образом, основное было сделано, и теперь оставалось справлять торжественные годовщины, чтобы тем самым создать традицию для дальнейших поколений.
Несколько годовщин после установки памятника прошли весьма скромно, в тесном кругу близких людей. На этих годовщинах устраивались обеды, во время которых участники делились воспоминаниями и говорили о трагической судьбе художника. После обеда гости осматривали выставку картин и прогуливались в саду возле памятника.
В общем, эти годовщины прошли хотя и без шума, но в том достойном тоне, который доставил сестрам истинное удовольствие и вселил в них уверенность, что имя художника не будет со временем забыто.
Однако на последней (двенадцатой) годовщине произошли необыкновенные события, ради которых мы и взялись рассказать вам всю эту, в сущности, печальнейшую историю.
Надо сказать, что незадолго до этой годовщины вдова Юлия вышла замуж за одного весьма почтенного человека. Он был зубной врач, стоматолог. Человек не очень молодой, но достойный во всех отношениях и по внешности видный.
Влюбленная в мужа и бесконечно занятая им, Юлия не смогла или не захотела уделить годовщине столько же внимания, сколько она уделяла прежде. И все, так сказать, передоверила своей сестре Серафиме.
Та вполне справилась со своей задачей, но допустила некоторую вольность против правил, заведенных Юлией. Она впервые разрешила своему подростку сыну присутствовать на обеде. До этого времени Юлия категорически запрещала Коке вертеться среди взрослых в течение всего этого торжественного дня. Она полагала, что присутствие детей и подростков на таких собраниях снижает значение этих собраний и, главное, переключает внимание взрослых на все те пустые мелочи, какие обычно связаны с детством. Это, по ее мнению, умаляло удельный вес годовщины и, стало быть, низводило покойного художника до повседневной прозы жизни.
Но теперь Серафима, будучи, так сказать, полномочной хозяйкой дня, позволила мальчику быть на обеде и даже сама усадила его за стол. И Юлия, занятая беседой с гостями и мужем, не обратила на это достаточного внимания.
Все шло хорошо, и ничто, казалось, не помрачит дня. Обед уже подходил к концу, и Серафима, как обычно, заговорила о трагической судьбе художника.
Гости поддержали ее мысль о судьбе, и даже один пожилой человек (отчим сестер) увидел в этой катастрофе роковое стечение обстоятельств и, несомненно, обреченность.
Подросток Кока, густо покраснев от волнения, торопливо сказал:
— Нет, судьба тут вовсе ни при чем. Судьбы не бывает. Просто дядя Леня ошибся. Он не знал, что наши истребители начнут так энергично отгонять от Москвы самолеты фашистов. И поэтому уехал на дачу. Это была ошибка, а не судьба.
Серафима с гневом смотрела на сына и даже невольно приподняла руки, как бы желая втиснуть назад все те слова, какие произносил подросток.
Но слова уже были им сказаны, и тут некоторые из гостей не смогли сдержать своих улыбок.
Муж Юлии, усмехнувшись, громко сказал:
— А ведь Кока абсолютно прав. Это была грубая ошибка покойного Леонтия Петровича. Он думал, что бомбежки усилятся в городе. А вышло наоборот. Он зря уехал на дачу.
Кто-то из гостей неторопливо произнес:
— Да, сколько я помню, в августе сорок первого года воздушные налеты были почти ликвидированы. Стало быть, наш друг Леонтий Петрович не поверил в мощь советской авиации и, паникуя, напрасно уехал.
Тут стоматолог снова подхватил своим зычным голосом:
— Да просто не случилось бы этой нелепой гибели, если б он остался в Москве. Ясно, это была его ошибка, а не судьба.
Должно быть, у стоматолога были какие-то моральные счеты с покойным художником, ибо он, обернувшись к жене, добавил:
— И вообще, Юлия, я тебе все время твержу, что твой Леонтий во многом ошибался. И в частности, сердись не сердись, он ошибался в своем искусстве. Для кого он писал свои картины? Для народа? Нет, милая, бредовые картины пишут для прожженных эстетов.
Поеживаясь, Юлия сказала мужу, положив руку на его ладонь:
— Смотря как подойти к творчеству Леонтия. Но вообще, Аркаша, ты отчасти прав, говоря, что его картины не совсем понятны народу.
Серафима с ужасом слушала все эти речи. Что случилось? Почему они так говорят о Леонтии Петровиче? Неужели все прежнее было ошибкой? Серафима встала из-за стола и, прислушиваясь к спорам гостей, медленно вышла из столовой.
Стоматолог снова сказал жене:
— Нет, Юлька, и твой Леонтий ошибался, да и ты не без греха. Ты вместе с сестрой восхваляла его творчество, разводила турусы на колесах. И этим еще больше запутала способного художника.
Скульптор Иван Семеныч громко, но далеко не твердым голосом, произнес, предварительно постучав ножом по тарелке:
— Леньку запутал его формализм. Он как публицист подходил к искусству. И этим запорол свой талант.
Тут Юлия, спохватившись, стала переводить разговор на иные темы. Отчасти ей удалось это сделать, но все же достойный тон собрания был окончательно сорван.
После обеда гости не пошли, как обычно, осматривать выставку картин Леонтия Петровича, а остались в столовой.
Подросток Кока вышел в сад, чтобы найти свою мать. Она сидела на скамье, поникнув головой. Сын никогда не видел ее в такой печали.
Он приложил свою щеку к ее щеке и тихо произнес:
— Мама, ты не сердись на меня, если я за столом сказал что-нибудь не так.
Слезы хлынули из глаз Серафимы. Она погладила голову сына и ничего не сказала. Но в этом ее молчании подросток услышал, что она вовсе не сердится на него и только ужасно страдает от какого-то горя, которое ему еще не понять.
Маленькая мама
В прошлое воскресенье к Ане Фроловой зашли две подруги.
Счастливая и сияющая Аня Фролова держала на руках своего крошечного сыночка.
Подружки спросили, как она назвала его, и Аня ответила:
— Я назвала его Сергеем в честь того мальчишечки, которого мы с вами, если помните, спасли в блокаду.
Девушки стали вспоминать эту историю, которая произошла в январе 1942 года в Ленинграде.
Комсомольский отряд, в котором тогда находились все эти три девушки, обходил квартиры, чтобы подать помощь тем, кто в этом нуждался. И вот в одной брошенной, разбитой квартире девушки нашли подростка лет 13 или 14.
Родители его погибли, и мальчик находился один во всей квартире — полузамерзший, почти в бреду, умирающий от голода.
Девушки подали ему первую помощь и записали его адрес с тем, чтобы сообщить в больницу.
И вот Аня Фролова, записывая его адрес, наклонилась к мальчику и спросила, как его имя и фамилия. В ответ мальчонка по-детски заплакал, назвал свое имя и, схватив руку Ани, сказал ей: «Мама, не уходи».
И тогда Аня, сама слабая и полуголодная, взяла его на руки и отнесла в больницу.
Что случилось с ним дальше, Аня не знала. Не было времени навестить его. И вот теперь, спустя восемь лет, Аня и ее подружки вспомнили эту историю. И Аня сказала:
— Интересно было бы узнать, что стало с этим парнишкой. Давайте, девушки, сходим в тот дом, где мы тогда нашли его.
Девушки не помнили точного адреса. Но все же пошли на улицу Маяковского. Нашли этот дом. И наугад отыскали квартиру в пятом этаже.
Позвонили. Зашли. Спросили — не проживает ли тут некто Сергей, фамилию которого они не помнят.
Женщина, открывшая дверь девушкам, сказала, что тут в квартире проживает один человек по имени Сергей. И с этими словами она постучала в дверь его комнаты.
Вышел высокий молодой человек лет двадцати двух. Увидев Аню Фролову, он сказал ей с удивлением:
— Анна Васильевна, какими судьбами вы здесь?
И тут Аня Фролова увидела, что перед ней ее сослуживец по заводу — фрезеровщик Сергей С, с которым она несколько лет работала в одном цехе.
Аня Фролова сказала:
— Позвольте, Сергей Николаевич, да не вы ли тот самый подросток, которого мы перенесли в больницу в сорок втором году?
Фрезеровщик Сергей воскликнул:
— Так, значит, это были вы та маленькая мама, которая несла меня на руках?!
Аня смотрела на этого здорового, цветущего парня и никак не могла увидеть в нем то слабое и жалкое существо, которое по-детски плакало в этой комнате.
Сели. Сергей Николаевич приготовил чай. И за чаем снова стали вспоминать эту историю, всматриваясь друг в друга.
Сергей Николаевич сказал Ане:
— А ведь я все эти годы думал о вас, не представляя, что это именно вы. Досадно.
— Почему же досадно? — спросила Аня.
Смутившись, Сергей Николаевич ответил:
— Да уж если говорить откровенно, я и не женился только потому, что хотел встретить именно вас.
Девушки засмеялись. И Аня засмеялась. Она сказала:
— Опоздали, мой друг. Я замужем, и у меня ребенок, которого я назвала Сергеем.
Тут все посмеялись. Потом еще немного поговорили. И вскоре разошлись с тем, чтобы иной раз встречаться и быть друзьями.
В больнице
Два санитара в белых халатах ввели в приемную больницы пожилую женщину, закутанную в байковый платок.
Санитары бережно поддерживали ее под руки, а она, едва передвигая ноги, медленно плелась. При этом громко охала и стонала.
Позади в дверях показался шофер машины с пустыми носилками в руках. Немного постояв, он, махнув рукой, ушел.
Один из санитаров сочувственно сказал стонущей женщине:
— Советовал я вам, гражданка, лечь на носилки. Так нет, отказались. А теперь испытываете такие муки.
Больная сквозь стоны пробормотала:
— Не лягу, не лягу на носилки… Ой, тошнехонько…
Второй санитар бодрым тоном сказал:
— Уже отпала речь о носилках. Дошли.
Санитары посадили больную на белый деревянный лежак и, передав дежурной сестре какие-то бумаги, ушли.
Молоденькая дежурная сестра торопливо подошла к больной, но та, увидев ее, застонала еще сильней и значительней. Дежурная сестра ласково сказала ей:
— Да вы лягте с ногами. Склоните свою голову на подушечку. Вам сразу полегче станет.
Больная послушно легла, но продолжала стонать и охать.
Дежурная вернулась к столу и, внимательно просматривая полученные бумаги, стала записывать сведения в больничную книгу.
Возле стола на деревянном диване сидел пожилой мужчина, сильно обросший седой щетиной. На коленях он держал свою засаленную кепку и синее непромокаемое пальто. Поглядывая на дежурную сестру, он с любопытством спросил:
— Интересно знать, сестрица, какая у нее болезнь? Записывая сведения, дежурная охотно ответила:
— У них одностороннее воспаление легких.
Пожилой мужчина, усмехнувшись, негромко сказал:
— Уж не настолько тяжелая болезнь, чтобы так стонать.
Дежурная сестра проговорила врачебным тоном:
— Эта болезнь нередко сопровождается высокой температурой, что, в свою очередь, усиливает внутренние страдании заболевшего.
Встряхнув градусник, дежурная сестра подала его больной, и та, громко застонав, стала прилаживать градусник под свои многочисленные одежки. Сестра снова ласково сказала ей:
— Сейчас я велю для вас койку приготовить. И тогда вам будет совсем хорошо и уютно.
Сказав это, сестра торопливо вышла из помещения.
Больная перестала стонать и теперь с любопытством принялась осматривать приемную комнату. Однако, увидев на диване пожилого мужчину, негромко застонала, опустив голову на подушку.
Пожилой мужчина, придавая своему голосу не слишком большую заинтересованность, спросил:
— Или уже так тяжко чувствуете себя, хозяюшка?
— Тяжко чувствую себя, — в тон ему ответила женщина. — На работе захворала. Доски на берегу разгружали. Простыла на ветру.
Усмехнувшись, мужчина сказал:
— Нет, хозяюшка, я вас о другом спрашиваю. Вот, говорю, дежурная сестрица вышла за дверь, а вы и стонать перестали. Перерыв устроили. С чего бы это?
Приподнявшись на локте, больная сердито сказала:
— А что ты пристал ко мне? Что тебе от меня надо?
Мужчина добродушно воскликнул:
— Ай, нет, вы же не поняли меня, хозяюшка! Ровным счетом мне от вас ничего не надо. И, вообще говоря, я даже не из здешней администрации. Меня единственно интересует, почему вы испускаете стоны.
Сделав небольшую паузу, мужчина добавил:
— Каждую мелочь понимаю и ко всему нахожу свое объяснение, а тут, вижу, напоролся на непонятное. И поэтому задаю вам вопрос, не желая, конечно, понапрасну обидеть вас.
Эти слова успокоили больную, и она, еще более приподнявшись на локте, доверительно сказала:
— Так ведь я и сама не знаю, почему у меня так выходит. Но вот теперь, после твоих слов думаю и действительно вижу, что стоны у меня не по болезни идут.
— Ас чего бы они у вас? — вкрадчиво спросил мужчина.
— Так ведь как тебе сказать, милый человек, — задумчиво ответила женщина. — Мне, главное, самой неловко, что я отымаю время у занятых людей. Не настолько я дурно чувствую себя, чтобы они за мной так ходили.
Пожилой мужчина молча пожал плечами.
— В свое время я тифом хворала, — продолжала женщина. — И то ничего. Хозяйничала и воду из колодца носила. А тут они по пустяшной болезни проявляют такую заботу. Так уж пусть они думают, что я тяжко хвораю. Не так им будет обидно затрачивать на меня свое драгоценное время.
— Ах, вот почему вы стонете, — пробормотал мужчина.
— Я до больницы шесть раз пешком могу дойти, — снова продолжала женщина. — Так нет, молоденькая докторша вызвала «скорую помощь». Роскошную машину подали к самым воротам. Люди нарочно поднялись за мной. Любезно предложили на носилки лечь. Потом под локти взяли. Ведут, как шамаханскую царицу…
Перебив больную, пожилой мужчина сказал:
— Всецело вас понимаю, хозяюшка. Я и сам в первый раз стеснялся в «скорой помощи» ехать. А потом — ничего. Раз мне полагается, так уж будьте любезны…
И тут, перебив самого себя, мужчина торжественно заявил:
— Все это, уважаемая хозяюшка, вам полагается! И уход, и забота, и такая ласка. Все это бесплатно и от всей души предоставляет нам советское государство. Лично я привык к этому. И даже я так скажу — каждый миг приподнят в своем значении. Разговариваю с ними, как со своими близкими родственниками.
Больная молча кивала головой в такт его словам. Пожилой мужчина с восторгом продолжал:
— Месяц назад я к ним в поликлинику с пузырями на ногах пришел. Проколите, говорю, мне пузыри…
Рассказчик замолчал, так как в приемную снова вошла дежурная сестра. Взяв градусник от больной, она сказала:
— Вот и хорошо. Температура невысокая. Тридцать семь и три.
Больная, неестественно застонав, пробормотала:
— Ой, тошнехонько тем не менее…
Пожилой мужчина, усмехнувшись, отвел глаза в сторону. Дежурная сестра, озабоченно посматривая на больную, вышла из помещения.
Снова приподнявшись на локте, больная с интересом спросила пожилого мужчину:
— Так, говоришь, с пузырями в поликлинику явился?
Мужчина задумчиво ответил:
— В прежнее буржуазное время, хозяюшка, меня ссыпали бы с лестницы вместе с пузырями. А нынче любезно прокололи их. Смазали. И дали медицинский совет — не ходить в просторной обуви.
Встав с дивана, мужчина с воодушевлением сказал:
— Теперь я намерен лечь к ним в больницу на пару недель.
— А чем хвораешь-то? — спросила женщина.
— Ничем особенным не хвораю, — ответил мужчина, — однако хочу полечиться, чтобы подольше жить. Красивые возможности, хозяюшка, открываются перед нами. Неохота преждевременно помереть, не испытавши всей прелести отношения.
В приемную торопливо вошел дежурный врач в сопровождении сестры. Пожилой мужчина шепнул больной женщине:
— Ну вот — достонались. Они лечить вас пришли. Отныне не стесняйтесь больше и, чуть что, требуйте все, что вам полагается, — теплые ванны, припарки и самое нежное обслуживание.
Подойдя к больной, дежурный врач спросил:
— Что с вами, милая? Неважно чувствуете себя?
Больная торопливо ответила:
— Да уж теперь ничего. Немного как будто полегче стало. Спасибо вам, доктор.
Распорядившись относительно койки, дежурный врач направился к выходу. Пожилой мужчина остановил его у дверей и стал что-то убедительно нашептывать. Терпеливо выслушав его, врач сказал:
— Но ведь у нас не санаторий, не дом отдыха!
Продолжая что-то доказывать, пожилой мужчина вышел из помещения вслед за дежурным врачом.
Между тем в приемную вошли две молоденькие санитарки. Они бережно взяли больную под руки и медленно повели ее в палату. С тихим стоном больная следовала за ними.
За столом
Случайно я попал в гости к малознакомым людям. Вернее, я знал только хозяина дома — мастера мебельной фабрики.
Приглашая меня на день своего рождения, он сказал, что общество у него будет небольшое, только свои. Но когда я с некоторым опозданием пришел к нему, гостей оказалось множество.
Усаживая меня за стол, хозяин негромко объяснил мне причину такой неожиданности:
— Позвал всех жильцов нашей квартиры. Подумал: не дело обижать людей, с которыми свыше тридцати лет путешествую в едином ковчеге. Дружески присаживайтесь к моим пассажирам и будьте как дома.
За столом шли чинные разговоры о том о сем — о телевизорах, о погоде и о спортивных рекордах.
Слева от меня сидела немолодая женщина. Из краткого разговора с ней выяснилось, что она учительница географии и уже более тридцати лет проживает в этой квартире.
По правую мою руку восседал крупный плечистый мужчина с белокурой бородкой. Серый костюм и розовая рубашка с голубым галстуком придавали ему (при его бороде) исключительный вид. Он был похож на сельского ветврача, который приоделся к празднику, выиграв по займу пять тысяч рублей.
Хозяин дома, желая привлечь к общему разговору моего нарядного соседа, сказал ему:
— А ведь до войны, Андрюша, и у тебя, кажется, был какой-то рекордик по поднятию тяжестей?
Низким, почти рокочущим басом мой сосед ответил:
— Да нет, Василий Палыч, я не дотянул тогда пару килограммов. Мало тренировался. Увлекся другим спортом.
— Ах, помню, помню! — воскликнул хозяин. — Ты увлекся тогда мотоциклом. Мечтал о всесоюзном рекорде.
Продолжая кушать, мой молодой сосед сказал:
— За руль мотоцикла я сподобился сесть несколько позже — по окончании школы. А до этого, если помните, я искал удачи на ринге.
Я хотел было спросить учительницу географии о профессии моего соседа, но тут один из гостей (как потом оказалось — заведующий пошивочной мастерской) энергично захлопав в ладоши, громко воскликнул:
— Предлагаю каждому из присутствующих высказать свое пожелание дорогому нашему имениннику в день его славного шестидесятилетия!
Гости стали произносить краткие речи. Однако почти все говорили на один лад и этим не внесли особого оживления в медлительное течение вечера.
Речь самого заведующего также не отличалась блеском. Склонив голову набок, он выкрикивал:
— Вы… тот… этот… который… претворяя в жизнь… несли предпосылки… Всемерно пожелаем успехов…
Но вот очередь дошла до моего соседа. Он встал со своего места и, зычно откашлявшись, сказал имениннику:
— Уж и не знаю, чего тебе пожелать, любезный ты мой Василий Палыч? Благополучия в труде? Оно и без того у тебя с избытком имеется!.. Здоровья? За сим делом сам господь бог следит неустанно… Деньжонок? Сии последние со временем отомрут, как предсказывает марксистская наука. Но пока они отомрут — не худо бы иметь некоторый их достаток. Так пожелаю же тебе, Василий Палыч, деньжонок, пока они вовсе не отомрут.
Гости засмеялись. Хозяин сухо поблагодарил оратора и с помощью своих соседей возобновил первоначальные разговоры о телевидении.
Теперь мое любопытство к соседу удвоилось, и я напрямик спросил его о профессии. Он кратко ответил:
— Дьяконом состою при храме Христа Спасителя.
Сказав это, он вновь принялся за еду, не желая, видимо, беседовать на предложенную тему.
Учительница географии негромко сказала мне, указывая глазами на дьякона:
— У него очень сильный голос. Ему предсказывали блестящее будущее. Но на экзамене в оперном театре он почему-то срезался. И вот пошел в дьяконы.
Какой-то весьма престарелый сослуживец хозяина поспешно добавил к ее словам:
— Чудесный голосище у нашего отца дьякона Ондрея! Человек я неверующий, антирелигиозный, однако всякое воскресенье аккуратно посещаю его храм, чтоб послушать, как он красиво и звучно ведет службу.
Дьякон услышал нашу негромкую беседу. Улыбка радости зажглась на его лице. Обернувшись к нам, он сказал:
— Да, многие посещают нашу церковь, чтобы послушать меня. Скажу, господа, без ложной скромности — голосиной бог меня не обидел. Иной раз, когда я в ударе, так громыхну, что силой моего голоса буквально сотрясаю лампады.
Откинувшись на спинку стула, дьякон набрал воздуха в грудь и с громоподобной мощью провозгласил:
— Благослови, владыко-о!
Гости заулыбались. Хозяин, вздрогнув, укоризненно сказал:
— Ну можно ли так зверски рявкать, Андрюша?
Дьякон сконфуженно извинился. Заведующий пошивочной мастерской, сгорая от любопытства, спросил его:
— Скажите, уважаемый, а как оплачивается ваше творчество?
Мой сосед нахмурился и, ничего не ответив, снова углубился в тарелку. Престарелый сослуживец хозяина, желая сгладить нетактичный вопрос, сказал заведующему ателье:
— При чем тут оплата, товарищ? Не ради оплаты человек избрал свой путь.
Я тихо спросил мою соседку о прежней профессии дьякона. Учительница географии охотно ответила:
— У него не было профессии. Он подростком приехал сюда из колхоза. Учился в школе. Хотел поступить в физкультурный техникум. Но в сорок первом году его мобилизовали, и он до конца военных действий служил во флоте. А после войны готовился стать певцом, но провалился при испытании голоса.
Учительница говорила совсем тихо, но тонкий слух дьякона уловил сказанное. Снова обернувшись к нам, он сказал:
— Не то чтобы я совсем провалился, но принят не был. Уж и не знаю — что им, собственно говоря, нужно. Восьмой год состою дьяконом при храме Спасителя и прямо скажу — публика ломится к нам. Многие приходят за час до начала, чтобы занять удобное место. И стоят, не уходят до самого конца. Следует, правда, учесть, что работаем мы сейчас в темпе — все богослужение ведем за час сорок минут.
Впервые за вечер хозяин засмеялся. Спросил моего соседа:
— Это как же, Андрюша, «в темпе» работаете? Быстрей, что ли, слова произносите?
Мой сосед солидно ответил:
— Темп ведем за счет сокращения текстов и песнопений. Нам не велено утомлять трудящихся верующих.
Хозяин снова засмеялся и даже от смеха склонил свою голову на стол. Заведующий пошивочной мастерской что-то шепнул своей соседке, и та, усмехнувшись, бойко спросила дьякона:
— Все-таки скажите, если не секрет, какую зарплату вы получаете?
Этот вопрос еще более усилил смех хозяина. Сквозь смех он едва сумел произнести:
— Давай, Андрюшка, докладывай публике — сколько ты собираешь и с живых и с мертвых.
Дьякон с неудовольствием ответил:
— Я же тебе говорил, Василий Палыч, — две тысячи в месяц.
— Врешь! — смеялся хозяин. — А за свадьбы, крестины, панихиды? Сам рассказывал мне, как ты, задрав рясу, удирал от фининспектора через все кладбище.
Нахмурившись, дьякон ответил:
— Панихиды и свадьбы не так уж много дают. Ведь с нас взимают чувствительный налог за эту халтуру.
Кто-то из гостей деловито спросил дьякона:
— А ты удрал тогда от фининспектора или попался?
Усмехнувшись, дьякон ответил:
— Ну, где же ему за мной гнаться! Сначала-то, конечно, он погнался, потом стал кричать вслед: «Постойте, батюшка! Минуточку! Уморили!» А я ему издали шиш показываю. Так он после этого сел на чью-то могилку и уж дальше не побежал. Только рукой мне махнул — ладно, мол, беги к богу в рай, твое счастье.
Гости дружно смеялись. Дьякон тихонько и добродушно пофыркивал, вспоминая, должно быть, подробности погони. Хозяин, сотрясаясь от хохота, приговаривал: «Ой… фу… ну тебя». Но вдруг, перестав смеяться, строгим тоном сказал:
— Нет, Андрей, я не над твоим саном смеюсь. Такой насмешки я себе не позволю, поскольку многие пастыри зарекомендовали себя как отважные борцы за мир. А смеюсь я, Андрюша, над биографией твоей жизни. Смеюсь и при этом думаю: «Ох, глаз и глаз нужен при воспитании молодого человека! Иначе…»
И тут хозяин, не найдя нужных слов, молча развел руками. Заведующий пошивочной мастерской тотчас заполнил паузу, которая возникла на полминуты. Поглядывая на дьякона, он едко сказал:
— Иначе человек потеряется для трудовой советской семьи.
Дьякон метнул более чем суровый взгляд на заведующего. Хозяин же, помолчав, задумчиво продолжал:
— Сразу не охватишь умом, Андрюха, что произошло в твоей жизни? И, главное, не понять — почему товарищи не оберегли тебя от культа религиозной личности? Ведь ты же свой парень, простой мужик, крестьянин. Вдобавок — матрос военного времени! И вдруг — здравствуйте, я ваша тетя, — поп!
Погасив улыбку на своем лице, мой сосед сказал:
— Да какой же я поп, Василий Палыч? Я — дьякон. Дьяк. В прошлых столетиях, при патриархах, так про нас и говорили: «певческий дьяк».
— Врешь, Андрюшка! — снова засмеялся хозяин. — За годы твоего жительства в нашей коммунальной квартире я немного пригляделся к твоим церковным делам, знаю, дьякон — это первый помощник священника. Вот в какое поднебесье тебя, несчастного, занесло! И все от жадности, а? Или от самолюбия? Обиделся, что тебя в оперетку не приняли?
Дьякон собрался что-то ответить, но тут заведующий пошивочной мастерской довольно явственно шепнул своей бойкой соседке:
— Ясно, от жадности. Погнался за длинным рублем.
Дьякон негромко пробормотал, взглянув на заведующего:
— Вот погоди, я тебе сегодня морду побью.
Престарелый сослуживец хозяина, желая успокоить дьякона, попросил его спеть. Тот с величайшей готовностью согласился на это. Он встал из-за стола, вытер свое запотевшее лицо шелковым голубым платком и сильным, громыхающим голосом запел «Застольную» Бетховена.
Он пел поразительно громко, но — увы! — более чем посредственно. И, слушая моего соседа, я понял, что карьера дьякона была далеко не худшей карьерой при его скромном артистическом даровании.
Однако для матросского достоинства эта карьера, надо полагать, была наихудшей.
Петр Иваныч и другие
Один инженер-полковник, выйдя в этом году в отставку, решил жениться.
Да, конечно, это был человек не первой молодости. Ему исполнилось шестьдесят лет. Но он отнюдь не выглядел стариком. Это был видный, цветущий мужчина, пожалуй даже красивый, если дородность и полноту считать красотой.
При этом отличная пенсия и некоторое накопление на сберегательной книжке создавали ему выгодное положение среди потрепанной армии женихов, генералитет которой почти в полном составе своевременно сдался противнику, коварно обряженному в шелк и меха.
Наш инженер-полковник по роду своей профессии всю жизнь переезжал из города в город, нигде долго не засиживался и по этой причине избежал генеральской участи — не женился, не обзавелся семьей.
По той же причине у него и не оказалось обширного круга знакомых, когда он вышел в отставку и обосновался оседло.
Это последнее обстоятельство усложнило намерения нашего жениха. Однако он вскоре нашел бескорыстных помощниц в лице нескольких пожилых женщин того дома, где он изволил проживать. Эти пожилые дамы стали ему горячо содействовать в его матримониальных намерениях.
Следует отметить, что во все исторические времена женщины почему-то всегда принимали самое пылкое участие, когда возникала возможность кого-либо поженить или сосватать.
Такая извечная солидарность как-то трогает и поражает. Хотелось бы найти объяснение этому факту. Однако ни в социальных, ни в естественных науках мы, увы, не находим ответа на этот вопрос. Остается предположить, что такая особенность происходит в силу благородных движений женской души, склонной к романтизму.
Так или иначе, намерение нашего жениха нашло живейший отклик среди проживающих в доме. Особую же активность проявила его соседка Анна Игнатьевна, которая, как говорится, совершенно зашлась от своего стремления поженить отставного полковника.
Она подыскала несколько сравнительно молодых женщин, желающих выйти замуж. И только не знала, как с ними подойти к жениху. Он был суров, непреклонен и, главное, начисто отвергал самый принцип сватовства.
Анна Игнатьевна предложила ему устроить вечеринку, на которую она намеревалась пригласить своих кандидаток, но тот решительно отклонил этот проект. Он открыто и прямо сказал ей:
— Такая вечеринка мне напоминает смотрины. Это что-то вроде сватовства недоброго старого времени. Нет, нет, уважаемая Анна Игнатьевна, избавьте меня от столь откровенных действий, какие были подвергнуты уничтожающей критике в нашей классической литературе.
На это соседка возразила ему с неудовольствием:
— Так ведь как же, батюшка Петр Иваныч, обойтись без сватовства в таком деле? Будь вы помоложе или посещай вы, допустим, танцевальные вечера, на которых вы появлялись бы со сберкнижкой в руках, — тогда иное дело. Но ведь вы, кроме как в лавку, никуда не выходите. Как же мне с вами поступить?
Петр Иваныч строго ответил ей:
— Да, я признаю, что положение у меня затруднительное. Тем не менее я считаю, что сватовство как таковое унижает меня своим мещанским прошлым. Нет, нет, Анна Игнатьевна, пусть лучше я останусь холостым, но я не возобновлю то, что в свое время было беспощадно осмеяно Островским, Пушкиным и другими!
Подобный афронт, со ссылкой на классическую литературу, смутил бы любую женщину. Но не такова была Анна Игнатьевна. Не слишком-то считаясь с художественной литературой, она побежала за советом к одной своей приятельнице, и та сказала ей:
— Вполне понимаю чувства инженер-полковника. Конечно, факт сватовства может шокировать культурного человека. И тут нужно идти вровень с его высокими потребностями. Недавно мы устроили одну пару через театр. Купили билеты. Один дали ей, другой — ему. Там в театре, сидя рядом, они познакомились и в дальнейшем поженились. И теперь безмерно счастливы.
Анна Игнатьевна поспешила сообщить жениху о таком проекте. Тот сначала был ошеломлен новизной дела и долго обдумывал. Но потом одобрил идею. Сказал соседке:
— Да, такая культурная встреча в театре удовлетворяет меня. Однако я ставлю одно условие. Я познакомлюсь с пришедшей в театр в том случае, если она мне понравится. Пусть и она так же поступит. И тогда мы с ней будем морально квиты.
Тут Петр Иванович без лишних слов и причитаний выдал соседке некоторую сумму на билеты в театр. И попросил ее поторопиться с этим, тем более что он в прошлом был большой театрал и теперь горел желанием возобновить эту страсть в новом ее качестве.
Анна Игнатьевна уже давно наметила главную кандидатку, некую Ольгу Федоровну. Это была славная скромная женщина, рентгенолог по профессии. Еще до войны она разошлась с одним юристом, который жутко пил. И вот теперь, будучи тридцатидевятилетней женщиной, она искренне страдала, что одинока и ей даже не с кем поговорить по возвращении с работы.
Однако предложение Анны Игнатьевны необычайно смутило ее. Сначала она даже замахала руками, находя неловким появиться в театре с подобным намерением. Но потом она весело рассмеялась и даже нашла забавным такое театральное приключение, которое ни к чему ее не обязывало.
В общем, вскоре билеты были куплены и торжественно вручены порознь каждому.
Наступил знаменательный вечер. Ольга Федоровна, тщательно наряжаясь, запоздала к началу спектакля и села на свое место, когда занавес был уже поднят.
На сцене шла пьеса из современной жизни, но Ольга Федоровна не следила за игрой артистов. Сначала она просто не поднимала глаз от волнения, а потом стала искоса посматривать на своего соседа.
Он показался ей славным, симпатичным. Но ее удивило, что он мало обращает внимания на нее. И тут она с горечью поняла, что не понравилась ему. Взглянув на нее, он стал хмуриться, покашливать и даже украдкой зевнул.
Женское самолюбие Ольги Федоровны было уязвлено более, чем когда-либо. Однако, чтобы не ошибиться, она стала внимательней следить за своим соседом. Но нет, сомнений не оставалось — он был недоволен, раздражен и, видимо, сожалел, что пришел на это свидание. Он уже откровенно зевал, даже не прикрывая рот рукой.
Потрясенная обидой, Ольга Федоровна выбежала из театра, еле дождавшись конца акта.
Что касается Петра Иваныча, то по окончании спектакля он вернулся домой мрачней тучи. На все вопросы соседки он отмалчивался или же бубнил непонятное. Он был до крайности оскорблен тем, что его дама сбежала, показав тем самым более чем отрицательное отношение к нему. Вот это обидное обстоятельство и замкнуло рот Петра Иваныча.
Анна Игнатьевна долго не могла добиться, что с ним. И только на другой день, беседуя то с Петром Иванычем, то с Ольгой Федоровной, она выяснила истинную картину происшествия.
Оказалось, что все недовольство и даже позевывание Петра Иваныча относилось отнюдь не к даме, а к неудачной и скучной пьесе, которая шла на сцене. И что, напротив того, Ольга Федоровна до чрезвычайности ему понравилась. Он собирался поговорить с ней в антракте, но она покинула зал.
С тихим стоном Анна Игнатьевна перебегала от Петра Иваныча к Ольге Федоровне, надеясь примирить их. Ее старания, вероятно, увенчались бы успехом, но Ольга Федоровна, имея путевку в дом отдыха, готовилась к отъезду на Кавказ. И поэтому примирение было перенесено ко дням ее возвращения.
Однако на Кавказе Ольга Федоровна повстречала одного своего знакомого моряка, и по возвращении вышла за него замуж.
Петр Иваныч чрезвычайно сокрушался, что потерял ее, и дал себе слово не посещать театров, в которых идут неудачные современные пьесы.
Он и в самом деле не ходит теперь в театры. Но недавно он все-таки женился. Причем женился на своей соседке Анне Игнатьевне. Это был для всех неожиданный брак.
Вот видите, какие бывают удивительные повороты в жизни из-за отстающих профессий.
Министерству культуры следует еще и еще раз обратить внимание на подобные факты, ломающие человеческие судьбы.
Мелочи жизни
Тоня забегала в парикмахерскую два или три раза в неделю. По субботам ей делали модельную прическу, а в остальные дни девушка ограничивалась мелкими поправками и доделками.
Иной раз, впрочем, Тоня перекрашивала свои темно-русые косы под цвет бронзы или соломы. Но эти декадентские тона не шли к ее круглой юной мордочке. Пришлось снова остановиться на первоначальном цвете, отпущенном ей силами разумной природы.
Служащие парикмахерской приветливо встречали миловидную девушку. А пожилая кассирша Мария Мироновна, грузно восседавшая за стеклами кассы, негромко восклицала:
— Владимир Гаврилович, вам работать!
Молодой парикмахер Володя Клюев (закончивший десятилетку и специальные краткосрочные курсы) обычно спрашивал девушку, приступая к работе:
— Так куда же вы сегодня направляетесь, Тонечка?
И девушка, сияя счастливой улыбкой, отвечала, что сегодня она идет в гости, в ресторан или на вечеринку. Работая, Володя говорил, иронически усмехаясь:
— Да-с, уважаемая Тонечка, приходится только позавидовать вашей целеустремленности. Танцы и веселье целиком, так сказать, поглощают вашу жизнь, достойную описания в прежних романах.
На это девушка, мило конфузясь, говорила:
— Ах, Володя, нет ничего плохого, если я танцую и развлекаюсь! Это совершенно не отражается на моей работе.
— Ну как так не отражается! — возмущался Володя. — Допустим, вернулись с вечеринки под утро. И уж на другой день, конечно, работаете в состоянии, я бы сказал, полной депрессии.
Тоня работала телефонисткой на заводе. Защищая честь своей профессии, она горячо возражала:
— Еще не было случая, чтобы я неверно соединила абонентов! Да, правда, телефонный ток сильно бьет по пальцам, легко перепутать номера. Однако ошибок на коммутаторе я не допускаю.
Володе нравилась эта девушка. На первых порах ему даже показалось, что любовь начинает терзать его сердце. Но он быстро справился с этим напрасным чувством. Нет, не о такой легкомысленной девушке он мечтал и не такие душевные качества привлекали его, когда он иной раз задумывался о будущей подруге жизни!
Без сожаления растоптав робкое пламя своей любви, Володя встречал теперь девушку далеко не так, как прежде. В последнюю субботу, когда Тоня сидела перед зеркалом в кресле, он сказал ей с досадой и пренебрежением:
— Все люди сейчас, Антонина Викторовна, работают с невиданным энтузиазмом и систематически перевыполняют задания. И только вы, как беззаботная пташка, порхаете по вечеринкам и ресторанам.
Щеки девушки зарделись от обиды, и она сухо произнесла:
— Это не ваше дело, Володя.
Молодой человек с жаром воскликнул:
— Конечно, эти горькие истины я, вероятно, не должен говорить моей случайной клиентке. Но войдите и в мое положение! Ведь мне своими руками приходится подготовлять вас к тому, что вызывает законное возмущение! Только в нашей профессии может возникнуть такая, я бы сказал, невыносимая ситуация.
Девушка на это ничего не ответила, а Володя, помолчав, добавил неожиданно для себя:
— Убедительно прошу вас, Тонечка, пересесть к другому мастеру. Я отказываюсь работать над вашей прической.
Гневные огоньки блеснули в глазах девушки, и она, порываясь встать с кресла, резко заговорила:
— Да, но вы обязаны закончить работу… Вы находитесь в общественном учреждении, а не дома…
Володя тотчас понял свою профессиональную оплошность. Удерживая девушку в кресле, он умоляющим тоном сказал:
— Тысячу извинений за эти слова, которые невольно сорвались с моего языка. Мои личные настроения я не имел права впутывать в работу. Эта грубейшая ошибка с моей стороны произошла единственно потому, что вы, Тонечка, и сейчас еще в какой-то степени, видимо, нравитесь мне.
Девушка едва слышно спросила:
— Почему же раньше вы мне об этом ничего не сказали?
Молодой человек ответил, волнуясь:
— Открыто и честно скажу — меня останавливал ваш моральный облик. Эти постоянные вечериночки, танцы…
Перебив Володю, Тоня с досадой пробормотала:
— Ай, да не было этого ничего… Ведь я приходила сюда, чтобы вас повидать…
Пораженный этим известием, Володя воскликнул, как бы даже защищаясь от случившегося:
— Да, но ваши рестораны, танцы «буги-вуги»…
Сквозь слезы Тоня сказала:
— Невольно приходилось чем-то объяснять, почему я так часто делаю прически.
Володя глухим голосом спросил, запинаясь:
— Значит, вы что же… причесавшись… домой возвращались?
Торопливо смахнув слезы, Тоня почти сердито ответила:
— Да, да! Возвращалась домой. И мамочка правильно бранила меня, зачем я волосы порчу. Вот посмотрите, как они у меня испортились! Вон как стали ломаться от всех этих ваших вредных завивок и окрасок!
Володя молча развел руками, не зная, что сказать и как повести себя в этом исключительном случае.
Признание девушки крайне смутило его. Но он почему-то не ощутил в своем сердце того ликующего чувства, которое потерял. Это Володю еще более озадачило. Торопливо заканчивая прическу, он пробормотал как бы про себя:
— В довершение всего — не так-то еще просто разобраться в поэзии сердца…
Расплатившись в кассе, Тоня стала поспешно одеваться. Не чувствуя своей вины, Володя все же спросил виноватым тоном:
— Как же теперь, Тонечка? Может, нам в кино встречаться, чтобы в дальнейшем, так сказать, не жечь ваши волосы?
Улыбка чуть тронула губы молодого человека, но Тоня, увидев эту улыбку, негромко ответила:
— Нет, нет, Володя, мы не должны больше видеться. Вы не полюбили меня, а просто так я не хотела бы встречаться. Прощайте.
Работник гардероба распахнул дверь, и Тоня стремительно вышла на улицу. Володя пошел было за ней. В своем белом халате он выбежал на улицу, чтобы догнать девушку и сказать ей что-то сердечное, ласковое. Но ее решительные слова вдруг показались ему убедительными и непреклонными. Задумчиво постояв минуту у входных дверей, Володя вернулся к своему креслу.
Пожилая кассирша, взволнованная всем эти происшествием, сказала работнику гардероба, занятому чтением газеты:
— Пожалуй, она и в самом деле больше не придет, а? Как вы думаете, товарищ Щукин?
— А я об этом никак не думаю, — ответил престарелый Щукин, искоса посматривая на кассиршу из-за края газеты. — На мелочи жизни, Мария Мироновна, я не имею привычки обращать внимание. Как правило, меня интересуют только лишь крупные или мировые события. Плюс отчасти футбольные и шахматные турниры.
Кассиршу томила жажда поговорить о происшествии, и поэтому она снова сказала, стараясь на этот раз угодить вкусам престарелого собеседника:
— Нет, я не понимаю эту эпоху, товарищ Щукин! Оба они молоды, нравятся друг другу. Они могли бы, кажется, мило и чудесно пофлиртовать вечерок-другой. Так нет, она ушла и надежды не оставила!
При слове «эпоха» старик снял очки и, отложив газету, наставительно ответил:
— Нынче люди серьезно и честно относятся друг к другу. Пустая игра недопустима, и легкомыслие, Мария Мироновна, решительно не принято.
Но эта сторона вопроса не заинтересовала кассиршу. Думая о своем, Мария Мироновна с живостью воскликнула:
— Она говорит, что испортила себе волосы! Да пусть она скажет спасибо, что у Володи оказалась такая сравнительно безобидная профессия. А допустим, он — хирург! Это жутко подумать, что могло у них произойти.
На это Щукин ничего не ответил. Он снова взял газету и с шумом развернул ее, желая этим показать, что разговор о «мелочах жизни» закончен и не подлежит возобновлению.
Хороший урок
Оставалось три минуты до отхода дачного поезда. Суета на платформе усилилась. Пассажиры почти бегом направлялись к вагонам. Продавщицы мороженого спешно заканчивали свои коммерческие операции.
Но вот на вокзале появилась молодая нарядная парочка. На молодом человеке был отличный серый костюм и темно-зеленая шляпа с узкими полями. Молодая спутница его одета была еще более блистательно. Огромная лакированная сумочка и модная шляпка, не похожая в своих очертаниях ни на один земной предмет, придавали молодой женщине горделивый, надменный вид.
Молодые люди шли, взявшись за руки, как на картине Репина «Какой простор». Они шли неторопливо, медленно, видимо рассчитав, что за три минуты они вполне поспеют к поезду.
Однако на их пути произошла заминка. У самого входа на платформу на узлах и корзинах сидели какие-то женщины с детьми. Белые платочки на головах женщин и загоревшие обветренные лица говорили о сельских просторах и о работе на колхозных полях.
Узлы и корзины этих женщин громоздились у входа длинной и непрерывной цепью.
Молодые люди на мгновенье остановились перед этой неожиданной преградой.
Но вот молодой человек, ловко перешагнув через какой-то узел, помог своей спутнице сделать то же самое.
Пожилая женщина, которой, видимо, принадлежал узел, не без раздражения сказала:
— Зачем же через узлы прыгать? Может, там у меня стеклянная посуда упакована? Могли бы перебить все мои чашки и плошки.
Другая женщина, заметно нервничая, сердито пробурчала:
— Разрядились, как на бал-маскарад, и ходят чуть не по головам. Интересно знать, откуда такие берутся!
И тут несколько нелестных слов раздалось вслед уходящим:
— Баронесса какая! И с ней, должно быть, спекулянт в сером костюме. Праздные люди. Дармоеды.
Молодой человек остановился. Его спутница сказала ему:
— Ах, не надо, Ванюша! Поезд сейчас уйдет.
— Нет, постой, — возразил молодой человек. — Не дело в наши дни допускать подобную невежливость. А впрочем, кажется, есть смягчающие обстоятельства…
Поезд, дернувшись, стал медленно уходить. Молодой человек, подойдя ближе к женщинам, спросил их:
— Почему вам, гражданки, так долго поезда не дают?
— А почему вы решили, что мы долго поезда ждем? — в свою очередь спросили женщины.
— Вижу, нервничаете, кричите нам вслед какой-то вздор. Вот я и подумал, что станция задержала вашу отправку.
— Так мы же не станцию побранили, а вас.
— Это неважно, — ответил молодой человек. — Иной раз человек сердится на муху, сидящую на стене. Почему? Да потому, что у человека в данный момент такое состояние, и он хочет на чем-то сердце сорвать.
— Действительно, нервничаем немного, — смущенно заговорили женщины. — Начальник станции обещал нам дать теплушку для отправки наших вещей, а вот уже три часа прошло. Детишки наши утомились ждать. Вы уж извините нас за грубые замечания.
Нахмурившись, молодой человек сказал:
— Замечания ваши, конечно, нелепые. Вот уж в праздности нас никак нельзя упрекнуть. Каждое лето я, будучи мальчишкой, пас колхозных коров. И моя мама по сие время работает скотницей на молочной ферме. А я сейчас доктор, врач. И не мне говорить вам, что родное наше советское государство дает крестьянину образование. Об этом вы сами отлично знаете.
Одна из женщин, привстав с корзины, сказала:
— Моему сыну тоже недавно присвоено звание заслуженного деятеля. — И, показав рукой на свою соседку, добавила: — А у нее трое детей с высшим образованием и дочка на зоотехника учится.
— Видите, как превосходно все! — воскликнул молодой человек. — А что касается моей жены, то и она работает, не гуляет. Такую картину «Далекий путь» видели?
— Нет, еще не видели, — ответили женщины.
— Так вот, роль буфетчицы на океанском пароходе играет как раз она — Зоя Ковшикова.
Женщины с любопытством посмотрели на молодую киноартистку, которая, порозовев от волнения, стояла поодаль, не принимая участия в общем разговоре.
Пожилая женщина, которой принадлежал злополучный узел, вглядываясь в киноартистку, громко сказала:
— Зойка! Да ты ли это?
— Я, — отозвалась молодая женщина. — Ах, это вы, тетя Катя?
Тетя Катя торопливо заговорила, обращаясь к своим:
— Это же моя племянница Зоя. Дочь моей старшей сестры Лены. Я их пять лет не видела. И вот теперь выясняется, что Зоя уже киноартисткой стала. А это, стало быть, ее муж… Как по имени и отчеству вас, товарищ доктор?
— Иван Данилыч, — ответил молодой человек. — Так вы, тетя Катя, поговорите с Зоей, а я тем временем пойду устранять основную причину вашей нервности — потороплю начальника станции, чтоб он скорей дал теплушку.
— Да мы ничего, обождем, — наперебой заговорили женщины. — Посидите с нами, доктор. Присаживайтесь прямо на тот узел, через который вы тогда прыгнули. Там у тети Кати только мягкие вещи упакованы.
— Спасибо, я не устал, — поблагодарил молодой доктор. — А скажите, куда вы переезжаете с вещами?
— Едем в наш прежний колхоз, дотла сожженный фашистами. Сейчас он полностью восстановлен. И только мы, десять семейств, у которых годовалые дети и внуки, задержались с переездом. А мужики, мужья наши, там, на месте.
— Ну, добре, — сказал молодой человек. — Пойду пошевелю начальника. Не дело с малыми детьми так долго ждать.
Молодые люди стали прощаться с женщинами. Зоя поцеловалась с тетей Катей. И вместе со своим мужем пошла к дежурному по станции.
Женщины шумно заговорили, обращаясь к тете Кате:
— Экая ты несуразная какая! Раз в пять лет встретила племянницу и так сурово с ней обошлась. Не разрешила ее мужу прыгнуть через узел. И еще назвала их дармоедами. Некрасиво получилось. Нетактично.
Тетя Катя сконфуженно ответила:
— Так почем же я знала, что это они. Его я вообще раньше не видела, а Зоя с таким блеском одета, что я в ней свою любимую племянницу не узнала.
И, помолчав, тетя Катя задумчиво добавила:
— В прежнее время нетрудно было различать людей по костюму. А сейчас легко попасть в грубую ошибку. Уже своих близких родственников мы узнавать перестали.
— А зачем тебе людей различать по костюму? — спросила соседка. — Сейчас кругом все люди свои, советские.
— Это правильно, — согласилась тетя Катя. — Сейчас различать не требуется. Но зато необходимо, сколько я теперь вижу, со всеми исключительно вежливо поступать, невзирая на нервы. Хорошенький урок я сегодня получила.
Минут через десять к тупику подкатили теплушки. И женщины, засуетившись, стали грузить свои узлы и корзины.
Потом подали новый дачный состав. И тогда на платформе снова появилась наша знакомая парочка — доктор и киноартистка.
Они, как и прежде, шли не спеша, взявшись за руки. Но на этот раз они одни из первых заняли места в вагоне.
Федор Антонович прав
Портниха Анна Петровна Лужина пошла на кухню подогреть себе суп.
Идя по коридору, она услышала какое-то заглушённое рыдание. Это плакала Муся, недавно вышедшая замуж за молодого человека, поступившего в этом году на завод по окончании ремесленного училища.
Сердобольная к чужим страданиям, портниха хотела войти в комнату, чтоб выяснить причину горьких слез, но потом ей показалось нетактичным вмешиваться в чужие дела. Тогда, поставив свою кастрюлю с супом на сундук, портниха влезла на стул и заглянула в комнату через верхнюю фрамугу.
Маруся плакала, уткнувшись в подушку. Муж ее, Леня Винокуров, ходил по комнате и молча ерошил свои волосы.
Портниха поспешила на кухню, и там она сказала жильцам, которые готовили себе пищу на газовой плите:
— Кажется, этот Леня уже начал тиранить свою молодую жену. Та плачет, уткнувшись в подушку.
Издательский работник, некто Тентелев, обычно настроенный шутливо, сказал портнихе:
— А может, она плачет от зубной боли?
Портниха едко ответила:
— Я, Федор Антоныч, немного разбираюсь в женских слезах. К вашему сведению, я сама проплакала сорок пять лет из-за мужского деспотизма. Тут начало семейной драмы. Поверьте моему опыту.
Сосед Винокуровых сказал:
— Да, мне тоже кажется, что у них не все благополучно. Недавно Леня жаловался, что ему скучно дома.
Всплеснув руками, портниха воскликнула:
— Вот, вот, Федор Антоныч! Ему уже скучно с ней. Да что мы, женщины, должны вам спектакли, что ли, устраивать?
Тентелев занялся готовкой, чтоб не вступать в излишние споры с портнихой. А та, порывшись в своих воспоминаниях, добавила:
— В начале этого столетия мой первый муж тоже имел смелость сказать, что ему скучно со мной. А потом он взял да и уехал в Персию и оттуда не вернулся.
Тентелев негромко пробормотал:
— Ну что ж, я его отлично понимаю.
Портниха насторожилась, чтоб уяснить себе, что кроется за этими словами, но тут она услышала какой-то шум в коридоре. Побежав туда, она вскоре вернулась с кастрюлей в руках и с возмущением сказала:
— Нет, этот Ленька Винокуров просто не человек. Он приучил свою кошку есть чужое мясо. На одну секунду оставила кастрюльку на сундуке, и вот уже их кошка выудила из супа то, что там было. Не думает ли он, что я теперь стану есть этот суп, в который кошка совала свою морду?
Вдвойне расстроенная, портниха присела на табурет и официальным тоном сказала жильцам:
— Мы должны вмешаться в личную жизнь Леонида Винокурова. Я предлагаю немедленно вызвать его сюда для объяснений, пока у них дело не дошло до развода. Мы морально обязаны сказать ему, чтоб он относился к своей жене как к подруге жизни.
От всей этой трескотни портнихи Тентелев перестал нормально соображать и, не слишком вслушиваясь в ее слова, сказал:
— Конечно, если дело идет о разводе, то следовало бы остеречь молодого человека от поспешных решений.
Неожиданно в кухню вошел Леня Винокуров, которому захотелось пить. При полном молчании всех он выпил стакан воды и собрался уйти. Но тут портниха подошла к нему и сказала:
— Молодой человек, мы требуем ответить нам о причинах драмы в вашей семье.
— Какой драмы? — с удивлением спросил Леня. — Ах, это что Муся плачет? Она хотела поступить в техникум швейной промышленности, но получила двойку на экзамене. И теперь плачет.
Все жильцы отвели свои глаза от Лени и молча углубились в свои кухонные занятия. Портниха не без смущения сказала:
— Да, но есть факты, которые говорят, что вам скучно с ней. И мы на основании этого сделали свои выводы.
Леня неожиданно опустился на табурет и тихо сказал:
— Сам не понимаю, Анна Петровна, как это случилось. Мы с Марусей всегда находили общие темы для разговора, а сейчас…
И тут, перебив себя, Леня торопливо добавил:
— Конечно, отчасти я понимаю, почему так происходит. Сейчас у нас на заводе исключительный момент.
— А что у вас на заводе? — спросил Тентелев.
Леня с оживлением ответил:
— Ну, Федор Антоныч, сейчас у нас полная перестройка всего дела. Ведь мы, фрезеровщики, переходим на скоростной метод. Объявили борьбу за скорости. Однако с новым режимом резанья у нас еще не все идет гладко.
Вскочив с табурета, Леня с волнением заговорил:
— При новом режиме резанья, Федор Антоныч, пришлось нам изменить геометрию ножей. Мало того — кроме пневматических зажимов пришлось установить электромагниты, чтоб удержать деталь при такой повышенной скорости. Возникли грозные опасения, что деталь намагнитится и стружка не будет отлипать от нее…
Тут Леня с увлечением стал рассказывать, почему эти грозные опасения не оправдались. При скоростной обработке возникла такая высокая температура, при которой металл потерял свои магнитные свойства.
Посматривая на оживленного и взволнованного Леню, Тентелев задумчиво сказал:
— Да, Леня, вероятно, другие темы для разговоров вас сейчас мало интересуют.
— Абсолютно ничто другое меня сейчас не интересует! — воскликнул Леня. — И я, Федор Антоныч, понимаю, конечно, что Марусе скучновато со мной. Но мне как-то не хочется сейчас ни о чем другом говорить.
На пороге кухни появилась Маруся. Тихо кашлянув, она сказала мужу:
— Нет, Леня, мне вовсе не скучно, когда ты говоришь о своем деле, но я просто ничего не понимаю в твоем производстве. И, конечно, тебе не интересно со мной об этом беседовать.
Снова всплеснув руками, портниха сказала:
— Так что ж вы хотите, чтоб мы, женщины, изучали ваше производство? А если, допустим, производство этих шариков или подшипников не затрагивает моих духовных запросов! Нет, Федор Антоныч, это сущий вздор предъявлять нам, женщинам, все новые и новые требования.
Тентелев ответил:
— Это далеко не вздор, уважаемая Анна Петровна. Сейчас труд, учтите, занимает главную роль в жизни советского человека. И чтобы стать близким человеку, чтоб понять его внутренний мир, надо хоть в малой степени знать и любить его дело. Только тогда женщина может стать настоящей подругой жизни.
Кто-то из женщин торопливо заметил:
— Это одинаково относится и к мужчине, у которого жена работает.
Маруся неожиданно сказала мужу:
— Леня, может, это и к лучшему, что меня не приняли в техникум швейной промышленности. Не поступить ли мне на твой завод? Я бы присмотрелась к этому делу и стала бы твоей помощницей.
Молодые супруги ушли из кухни, оживленно обсуждая эту возможность. Вслед за ними постепенно стали уходить и другие жильцы. Портниха, задумавшись, долго сидела на табурете с кастрюлей на коленях. Потом, вздохнув, она сказала:
— Да, Федор Антоныч, кажется, прав. Леня неплохой парень, и Муся обязана хоть немного понимать в его деле. Уж не поступить ли ей и в самом деле на его завод, а?
В кухне уже никого не было, и поэтому портнихе никто не ответил.
Тогда Анна Петровна позвала кошку Винокуровых и дала ей остатки своего супа. А сама стала приготовлять себе манную кашу.
Иван Кузьмич и другие
Окно моей комнаты выходит на шумную улицу. Как раз против меня помещается универмаг.
Тысячи людей ежедневно спешат к этому магазину, чтоб удовлетворить свои хозяйственные и духовные запросы.
А надо сказать, универмаг этот находится в центре квартала, а не на углу улицы, где имеются указатели для перехода. И по этой причине многие люди не доходят до угла, а пересекают улицу в неположенном месте — против самых дверей универмага.
Ну — печальный факт нарушения уличной дисциплины! А с другой стороны, отчасти можно понять психологию и самих нарушителей. Они, представьте себе, спешат в магазин, их взор устремлен к заветным дверям, все их существо, можно сказать, уже наполнено трепетным ожиданием, и вдруг — препятствие. Оказывается, надо еще пройти сто шагов до угла, там пересечь улицу и снова вернуться вспять!
Нет, не у каждого хватало гражданской доблести произвести до конца такой, в сущности, бесцельный маршрут.
И тогда поставили милиционера на борьбу с этим злом.
Но один милиционер не мог, конечно, противостоять людской волне. Он яростно свистел, махал руками, штрафовал зазевавшихся. Ничто не помогало. Поток неуклонно двигался по своему кратчайшему руслу к промтоварным берегам, наполненным кастрюлями, штанами и прочей славной галантереей.
Тогда поставили второго милиционера. Но и это не внесло существенной перемены.
В общем, свист стоял на улице с утра и до вечера. При этом слышались возгласы зазевавшихся людей. Да еще по временам раздавался адский смех мальчишек, кои из спортивного интереса перебегали улицу под самым носом взволнованных милиционеров.
Сам начальник отделения милиции не раз подходил к дверям универмага и с грустью взирал на безотрадную картину.
И вот однажды, придя сюда, начальник отделения сказал своему помощнику:
— Ну как же нам выйти из создавшегося положения? Не поставить ли нам указатели в том месте, где идет толпа?
Помощник воскликнул:
— Неловко получится, Иван Кузьмич! Скажут — дрогнули. Потеряем авторитет у населения. Надо настоять на своем и заставить людей переходить там, где им указано.
Начальник отделения задумчиво сказал:
— Настоять на своем, конечно, можно. Для этого хватит у нас сил и уменья. Да только зачем настаивать на том, что слишком неудобно людям? Это был бы чистый формализм с нашей стороны.
Помощник ответил:
— А ведь вы, пожалуй, справедливо говорите, Иван Кузьмич. Это был бы формальный подход к делу.
Начальник сказал:
— А такой подход, как известно, душит живую жизнь и лишает людей спокойствия и удобств. Нет, я слуга своего народа и всегда рад исполнить то, что разумно и не приносит дурных последствий. А тут улица тихая в смысле транспорта, и нет для пешеходов грозной опасности.
И с этими словами начальник отделения велел поставить указатели против входа в универмаг.
Тотчас пришел рабочий со стремянкой и стал прилаживать к стене дома новые указатели.
Сначала людской поток не обратил внимания на эту работу. Но вот возник момент, когда толпа приостановила свое движение. И тогда многие стали глядеть на установку новых указателей.
И вдруг неожиданно раздались аплодисменты в толпе. Начальник отделения сразу даже не понял, к чему отнести эти аплодисменты. Но помощник его, усмехнувшись, сказал:
— А ведь это они нам хлопают, как артистам.
Смутившись, Иван Кузьмич приложил руку к козырьку фуражки и поспешил в свое отделение. И, уходя, сказал своему помощнику:
— Значит, и другие находят справедливым мое распоряжение.
И вот с этого дня прекратились крики и трели на улице. И в комнате моей наступила тишина. И сердце мое раскрылось от многих превосходных чувств.
После разлуки
На лето я отдала своего сына в пионерский лагерь. И в воскресенье поехала навестить его.
В вагоне разговорилась со своей соседкой, у которой было множество всяких свертков и пакетов. Оказалось, что и она ехала в тот же лагерь повидать своего сынишку.
Среди пассажиров имелись еще родители, ехавшие туда же. Так что мы, приехав, объединились на вокзале в одну родительскую группу и в количестве семи человек пошли к лагерю через парк.
На полянке за парком мы увидели какой-то большой отряд детворы. Ребята стояли в рядах и слушали то, что им говорила воспитательница.
Мы прошли было мимо, но вдруг услышали слова воспитательницы. Обращаясь к детям, она сказала:
— Ребята, ко многим из вас сегодня приедут родители. Очень прошу вас — не позволяйте им совершать какие-нибудь неосторожные поступки.
Мы, родители, с недоумением переглянулись. Один из малышей, обращаясь к своей воспитательнице, сказал:
— Софья Андреевна, а если мой папа опять мне скажет: пойдем купаться? Что тогда?
Воспитательница сказала:
— Гриша, в прошлое воскресенье ты чуть не заболел воспалением легких. И если твой папа снова поведет тебя к реке, ты скажи ему: «Папочка, дорогой, купайся сам, если хочешь, но лично я в холодную воду не полезу». Так и скажи ему. И скажи твердо, чтоб он запомнил это и не совал бы тебя в воду, температура которой не достигла шестнадцати градусов.
Мы, родители, снова переглянулись. Воспитательница сказала:
— В общем, ребята, я сегодня всецело полагаюсь на ваше благоразумие. И я буду надеяться, что вы всякий раз остановите своих родителей, если увидите, что они поступают легкомысленно или не по правилам.
Мы подошли к воспитательнице и сказали ей:
— Вот как раз мы — родители. Случайно проходили мимо и услышали то, что вы сказали детям. Как понять нам ваши слова относительно родителей?
Воспитательница сказала нам:
— Видите ли, в чем дело. Шесть дней в неделю у нас в лагере мир и тишина. А по воскресеньям происходит нечто вроде землетрясения. Одна мать везет сюда пирог с капустой и целиком оставляет его своему ребенку. Другая привозит кило конфет. Третья — чуть не целый окорок. А дети есть дети! Они не знают меры. Они совершенно сыты, тем не менее они начинают жевать то, что им привозят родители. В результате — хворают. Каждый понедельник у меня в отряде минимум пятнадцать заболевших!
Мы, родители, сконфуженно переглянулись. Воспитательница, строго посмотрев на нас, сказала:
— Но это еще не все! Я попрошу вас взглянуть на малышей, пострадавших в то воскресенье…
Тут воспитательница, обратившись к ребятам, сказала:
— Вовочка Басов, выйди, милый, вперед…
Из рядов вышел мальчишечка лет семи. Ласково поглаживая его голову, воспитательница сказала:
— Малыш понятия не имеет, что такое рыбная ловля. Тем не менее его мама привезла ему удочку с крючком. Он без спросу побежал к реке и там закинул удочку таким образом, что сразу сам попал на крючок… Взгляните на его щеку…
Мы осмотрели маленького рыболова. На его щеке была изрядная царапина.
Воспитательница сказала:
— Теперь выйди вперед Коля Шагалов… Покажи родителям свою руку…
Вышел парнишка лет одиннадцати и показал нам свою руку, на которой была какая-то краснота. Воспитательница, вздохнув, сказала:
— Пугач и двести патронов привезли ему родители! С патронами он стал шалить, и в результате — ожог руки. Я еще удивляюсь, как мы все не взлетели на воздух от такого количества патронов!
Мы сказали воспитательнице:
— Не все же родители таковы!
Она ответила нам:
— И я далеко не о всех говорю. Многие и многие родители отлично воспитывают своих детей, но после долгой разлуки с ними они приезжают сюда настолько чувствительные, что позволяют им все, что они пожелают. Катюша Савченко, выйди вперед… Доложи нам, сколько ты съела мороженого в то воскресенье…
Вышла восьмилетняя девчурка и, улыбаясь, сказала:
— Мама съела две порции, а я съела шесть. Седьмую я положила на минутку под подушку, но оно у меня растаяло.
Тут все ребята засмеялись. А воспитательница, подавив свою улыбку, сказала нам:
— Так вот и ответьте мне — могу ли я быть спокойной, когда приезжают родители после разлуки со своим ребенком? Нет, у меня сердце болит за каждого моего малыша, которого уводят с территории лагеря! И вот поэтому я и просила ребят по возможности остерегать своих родителей от неосторожных поступков!
Сконфуженно потоптавшись и поговорив о том о сем, мы, родители, пошли дальше.
Некоторое время шли молча. Потом один молодой отец сказал:
— А ведь она правильно критиковала нас. Например, своего сорванца я очень хотел сегодня побаловать. И вот купил ему духовое ружье, которое стреляет деревянной пулькой метров на двадцать пять. Но теперь это ружье я, пожалуй, ему не дам, а то он тут перебьет всю местную публику.
Молодая мамаша, у которой было множество пакетов, развязала один свой тючок. Там оказалась большая кастрюля, наполненная блинами. Молодая мамаша стала их усиленно кушать и принялась нас угощать. Но мы отказались. И тогда она кинула несколько блинов пробегавшей собаке.
Собака без особого интереса съела блины и, даже не вильнув хвостом, побежала дальше.
Я же везла своему сыну десяток пирожных. И теперь твердо решила — более двух пирожных ему не давать.
Наконец мы подошли к лагерю.
За забором раздался чей-то тревожный возглас:
— Родители приехали…
На территории лагеря возникла какая-то суета. На крыльцо вышел начальник лагеря. Потом появился доктор в белом халате. Потом санитарка вынесла для чего-то носилки и поставила их стоймя у входа.
Вскоре прибежал мой сынок. Счастливый и загоревший. Я стала его целовать и тут, забыв обо всем на свете, отдала ему всю корзинку с пирожными.
Рассказы на колхозные темы
1. Рассказ знакомого полковника
Минувшей зимой встретил я в Москве одного моего старого дружка. Три года провели мы с ним на фронте. И, прямо скажу, наилучшие воспоминания остались у меня о нем.
Был он человек высокой культуры. Умница. Светлая голова. Имел два высших образования. При этом отличался чудесным характером. На любое боевое задание шел посмеиваясь, уверенный в успехе дела.
Восемь лет мне не довелось его видеть. А тут, в коридоре гостиницы «Москва», я, как говорится, столкнулся с ним нос к носу. Гляжу — идет мой дружок Иван Кириллыч — маленький, щупленький, довольно-таки поседевший за эти годы.
После первых радостных слов и восклицаний я спросил его:
— А ты что в Москве? По каким делам?
Он ответил мне, тихо посмеиваясь:
— Да вот прибыл на съезд передовиков сельского хозяйства.
— Разве ты имеешь отношение к этому делу? Ты же, помнится, инженер-мелиоратор?
— Да, и при этом ученый агроном.
— А где работаешь? В исследовательском институте?
Засмеявшись, он сказал:
— Работаю я сейчас… председателем колхоза…
— Ты?! Председателем колхоза?.. Шутишь?
— Нет, уверяю тебя…
Тут мы оба стали громко смеяться. Признаюсь, я смеялся весело, от души, как если бы узнал о чем-то очень забавном. А он смеялся несколько смущенно, прикрывая это свое чувство излишней веселостью и даже балагурством. Подталкивая меня под бок, он то и дело шумно восклицал:
— Да-с, Петруша, работаю председателем сельхозартели!.. Знай наших!.. Высоко летаем!.. Так-то, брат…
Но вдруг, перестав смеяться, он сказал с недоумением:
— Это чему же мы с тобой рассмеялись?
Я ответил, пожав плечами:
— Лично я рассмеялся от неожиданности. Знаю, что у тебя два высших образования, ученая степень, и вдруг такая новость — ты председатель колхоза!
Тут Иван Кириллыч заговорил с необыкновенным жаром, как бы стараясь убедить меня, а может быть, и себя, в справедливости своих слов:
— Да ты наконец пойми, Петруша! Перед сельским хозяйством сейчас огромные, исторические задачи! Поставлена благороднейшая цель… Вот партия и посылает на это дело образованных, знающих людей. И это справедливо! Разумно! Иначе мы не достигнем цели… Нет, Петруша, напрасно мы с тобой рассмеялись, зря…
Не без яда я ответил моему другу:
— Мне-то, говорю, простительна такая промашка — я двадцать лет вдали от деревни. А вот забавно, что ты сам рассмеялся, будучи председателем новейшей формации. Да ведь так рассмеялся, что меня заглушил своим смехом!
Иван Кириллыч сконфуженно пробормотал:
— Смеялись-то мы одинаково, вровень…
Он открыл дверь своего номера, и мы вошли в комнату. Там, шагая из угла в угол, Иван Кириллыч продолжал говорить, но говорил он теперь отрывисто, задумчиво, обращаясь больше к самому себе, нежели ко мне:
— Да, зря мы с тобой рассмеялись… Однако интересно бы докопаться до источника нашего смеха… Вот если бы я тебе сказал, что я, допустим, осушаю какое-нибудь паршивенькое болотце в районе, — ты не рассмеялся бы. Ты сказал бы мне почтительно: «Ого, молодец, Кириллыч!» И я не без гордости поведал бы тебе какую-нибудь лесную сказку… А тут, понимаешь, высокая должность председателя коллективного хозяйства вызвала наш смех. Почему? В чем дело? Малый объект для работы? Нет, у меня четыре тысячи гектаров пашни! Огромная фабрика зерна!.. Так почему же мы с тобой так пренебрежительно рассмеялись?! В чем тут дело?
Круто обернувшись ко мне, он поспешно сказал:
— Знаю, в чем дело! Понял сейчас… По нашим прежним понятиям, Петруша, председатель колхоза — это недоучка, а то и попросту серый мужик. К этому понятию мы с тобой крепко привыкли.
Комически ужасаясь, Иван Кириллыч сказал, помолчав:
— То-то я в райкоме так бурно отказывался принять эту должность. Приводил веские резоны: старею, дескать, прихварываю, не могу, дескать, по этой причине принять ваше лестное предложение… А причина-то моего отказа вон где таилась — в устаревшем взгляде на эту должность!
Тут Иван Кириллыч добродушно и весело засмеялся. И в этом его смехе я вновь услышал голос моего прежнего дружка. Поглядывая на него, я думал: «Ну, этот сделает дело! Колхоз теперь в верных руках…»
На прощанье Иван Кириллыч сказал мне, тихо посмеиваясь:
— Да, как ни вертись, а мой нетактичный смех я вынужден отнести к категории пережитков самого недавнего прошлого.
2. Рассказ доярки, которая ничем не прославилась
Вот уже третий год я работаю дояркой на нашей колхозной ферме. Говорят, что за это время я добилась хороших результатов. Действительно, средний суточный удой я повысила почти вдвое.
Но, конечно, до тех рекордных цифр, какие дают нам наши прославленные доярки, мне еще очень и очень далеко.
В нашем районе наиболее известна доярка — Василиса Игнатьевна Пчелкина. Это уже престарелая женщина, родившаяся чуть ли не в прошлом столетии. Тем не менее она сумела добиться исключительных успехов. Средний удой за год превышал у нее пять тысяч килограммов молока.
Берясь за это дело, я мысленно дала себе слово достичь таких же показателей и в дальнейшем перекрыть Пчелкину. Наш районный зоотехник сказал, что это возможно, и даже обещал мне помочь. По его совету я стала подмешивать в корм коровам мел, сахар, соль и костную муку.
Такая примесь дала свои результаты, но все же рекордные достижения Пчелкиной были для меня чрезвычайно далеки.
Этой осенью райком устроил у Пчелкиной производственное совещание. Многие доярки нашего района собрались у нее. И она прочитала нам лекцию. Поделилась опытом своей работы. Рассказала, какой режим она устроила для своей группы коров, сколько сочных кормов предоставляет им и какие дает концентраты.
Решительно ничего нового для себя я не услышала в ее речах. Все это и без того я выполняла на моем скотном дворе. Но все же одна деталь при посещении Пчелкиной не укрылась от моих глаз.
Когда мы вместе с Пчелкиной заглянули в хлев, то все ее коровы, увидев старуху, оторвали свои головы от кормушек и протяжно, как в трубы, замычали.
Такое цирковое представление меня чрезвычайно поразило. Обычно, когда я входила в свой хлев, коровы никогда на меня не смотрели. А тут и смотрят на старуху, и мычат, и даже вертят хвостами, проявляя знаки нетерпения.
Я сразу же подумала, что старуха Пчелкина имеет привычку таскать в хлев какое-нибудь лакомство, которое коровы ожидают с таким небывалым подъемом.
Короче говоря, у меня сложилось впечатление, что доярка Пчелкина далеко не все нам рассказала о причинах своего успеха.
С этим убеждением я вернулась домой и на другой день поделилась своими мыслями с нашим зоотехником. Он скептически отнесся к моим словам, однако насчет лакомства сказал, что это вполне возможно, хотя он и не берется судить, что именно старуха носит своим коровам.
Я подговорила моего меньшого братишку последить за Пчелкиной. Он раз пять гонялся на ее молочную ферму, но по своей недоразвитости не сумел ничего выяснить.
Тогда, сгорая от нетерпения, я решила еще раз понаведать старуху Пчелкину. Мне хотелось расспросить ее обо всем, что мы от нее не услышали. Хотелось в тактичных словах указать, что на старости лет ей следовало бы поделиться с нами своим производственным секретом.
С попутной машиной я однажды заехала в их артель и как бы между прочим заглянула к Пчелкиной на ее квартиру.
Однако с первых же моих слов старуха замахала на меня руками и даже, топнув ногой, сказала:
— Да ты что, милая моя, в своем уме? Я все вам рассказала и никакой утайки не сделала.
Тогда я задала ей вопрос:
— А чем вы объясните, что ваши коровы встречают вас с таким интересом?
На это старуха засмеялась и так мне ответила:
— Ах, ты об этом, доченька моя! Ну что ж, скажу тебе и тут без утайки. Они любят меня и поэтому нетерпеливо встречают.
— За что же они вас любят?
— За мою любовь и ласку.
Тогда я в лоб спросила Пчелкину:
— Уж не в этом ли заключается секрет вашего исключительного успеха?
На это она ответила:
— Какой же это секрет, доченька моя? Это и без того всем известное правило. Каждое животное расцветает от любви и ласки. Оно повышает свой жизненный уровень при хорошем и ласковом отношении.
Я сказала старухе:
— Нет, вы не думайте, что я дурно отношусь к моей группе коров. Я тоже называю их забавными и ласковыми именами. И кормлю до отвала. Но, конечно, такой уж исключительной нежности к ним я не проявляю. Отчасти это не в моем характере, а отчасти я не считаю нужным настолько баловать их.
На это Пчелкина сказала:
— Вот они, милая, и попридерживают молоко — не все тебе отдают. Не берусь тебе сказать, как это у них бывает, но уж ты, доченька, поверь мне на слово, что это так. Не отпустят они тебе всего молока, если не почувствуют твою доброту.
Я вернулась домой сама не своя. Вот уж я никак не предполагала, что любовь и нежность имеют такое значение в нашем молочном механизированном производстве.
Решительно всю ночь я не могла сомкнуть глаз. Под утро пришла к мысли переломить мой характер и через год взглянуть на результаты. А если и тогда не добьюсь высоких показателей, то поступлю в швейный техникум, о котором я когда-то мечтала.
С удивлением подумала, что каждое дело требует великой нежности и любви, без чего, видимо, никому не сползти со среднего уровня.
3. Рассказ докторши, у которой я лечусь
Девятнадцать лет я не была в моей деревне. Сама с трудом уясняю себе — как это могло случиться?
В тридцать пятом году я поступила в медицинский институт. Перед самой войной закончила его. Потом фронт — почти четыре года. Потом вышла замуж. Ребенок. Муж. Хозяйство. Второй ребенок…
Да, незаметно миновало почти двадцать лет с тех пор, как я молоденькой девчонкой покинула мою деревню.
Но связей с моим родным краем я ни на один год не прерывала. Сначала моя младшая сестренка подробно писала мне о деревенских новостях. Потом писал брат. А когда они уехали из деревни, то этот труд взял на себя мой племянник, подросток Антон. Свою миссию он выполнял с немалой охотой. Восторженно описывал, какие новые дома построены в деревне и какой красивой, благоустроенной стала наша улица.
Почти все я знала о моей деревне. Знала, какой чудесный стадион оборудовали ребята своими силами. Знала, что рядом со школой построен двухсветный физкультурный зал. И начата каменная постройка для кинопередвижки.
Я послала Антону фотоаппарат. И парнишка нередко прилагал к своим письмам снимки, которые иной раз до слез радовали меня.
Да, я была в курсе всех дел моей деревни и стремилась поскорей увидеть все своими глазами.
Когда Антоша уехал из деревни на учебу, то деревенские известия стали поступать ко мне редко и скупо.
Иногда писал дядя Федор — младший брат моей матери. Он состоял членом правления артели и, казалось, был хорошо осведомлен во всех делах. Однако в ответ на мои слезные послания он писал мне до комичности кратко и сухо. В его открытках обычно имелось всего лишь несколько фраз: «Вспахали, дескать, столько-то га… Уборку зерновых завершили. Коровенка у твоей матери отелилась…»
Иной раз писала мне дочь моей крестной — Глафира. Но она писала все больше о своих личных переживаниях. И письма ее не доставляли мне большой радости — в них было слишком мало о том, что меня так интересовало.
Но даже и за эти скупые сведения я была признательна — все же моя связь с селом не нарушалась.
Весной этого года я взяла отпуск, с тем чтобы повидать мою матушку, которой уже исполнилось семьдесят лет.
За несколько дней до моего отъезда я стала безумно нервничать. Вспомнились детские годы. Нахлынули далекие воспоминания. И с такой яркой силой, что я смутилась.
Однажды говорю своему мужу:
— Знаешь, какое самое сильное желание у меня? Пробежать босиком по нашей деревенской улице, как когда-то девчонкой я бегала после дождя. Да так пробежать по лужам и грязи, чтоб брызги летели во все стороны.
Муж смеется, говорит мне:
— Учти, Аннушка, деревенская улица у вас уже не та. Ты сама показывала снимки — газоны, тротуары, асфальт… Пожалуй, тебе не удастся выполнить свое забавное пожелание.
Со вздохом говорю мужу:
— Да, мне как-то даже жаль, что я никогда больше не увижу мою прежнюю убогую деревушку.
Муж говорит:
— Стареешь, Анна. Сентиментальничать стала. До абсурда договорилась. Вот уж нашла о чем сожалеть!
На эти слова мужа я обиделась, и ничего ему не ответила. Но в душе твердо решила побегать в деревне босиком, хотя бы на огороде.
Моей маме я послала открытку, что приеду в апреле, но день не уточнила, чтобы не волновать ее заранее.
И вот совершилось событие — я поехала. Наконец-то я на нашей маленькой станции, затерянной среди обширных полей.
С волнением я сошла на платформу. Все вокруг меня было как прежде. Тот же небольшой станционный дом. Те же несколько деревьев, не слишком разросшиеся. Впереди шоссе и бескрайние поля.
Я вышла на дорогу. Возле станции стояла грузовая машина с какими-то бочками. Я хотела было договориться с шофером, чтобы он забросил меня в деревню Клочки, но в последний момент передумала. Решила пойти пешком. Всего-то десять километров пути. И мне захотелось неторопливо пройти этот путь, по которому я когда-то сотни раз бегала.
Было прелестное утро. Солнце уже пригрело землю, и над ней всюду поднимался пар. Трава густо зеленела по обочинам дороги. Но деревья стояли еще голые.
Чемодан у меня был не тяжелый, но уже на первом километре мне стало жарко. Я распахнула пальто, скинула с головы косынку и шла теперь по шоссе улыбаясь, почти ни о чем не думая. Шла навстречу моей деревне.
До перекрестка дорог я дошла меньше чем за час. Здесь на шоссе когда-то стояла деревянная обветшалая часовенка.
Сейчас ее вовсе не было. Только лишь остался каменный фундамент, поросший мохом.
Отсюда, сразу за перелеском, шла дорога на деревню Клочки. Я свернула на эту грунтовую дорогу, но с первых же шагов поняла, что тут мне не пройти. Тут уже была не дорога, а жидкая глинистая грязь. И такая же грязь стояла вокруг дороги и всюду, куда охватывал взор.
Я было сунула ногу в эту глинистую жижу, но сразу отдернула ее, не почувствовав твердой почвы. Раза два я все же оступилась, и тогда ноги мои ушли в грязь почти до колен.
Еще по перелеску я кое-как продвинулась вперед, перескакивая с кочки на кочку. Но когда миновала лесок и вышла в открытое поле, то идти дальше уже не представлялось возможным.
Меня охватило отчаяние. Вернуться назад было трудно, да и не для чего. А идти по такой дороге с чемоданом и со свертком в руках казалось мне сумасшествием.
Но вскоре я нашла выход. Скинула мои ботинки и чулки, сбросила пальто, подвязала юбку повыше и, уже не разбирая пути, зачмокала по дороге.
Не скажу, что это шествие мне было приятным. Ноги мои иной раз так глубоко увязали, что я не без труда их вытаскивала. Шла медленно, изнемогая от физических усилий и тяжести ноши.
Часа четыре я шла таким образом и наконец добралась до речонки, за которой на склоне холма виднелась наша деревня.
Здесь через реку был проложен новенький мост. Это был крепкий солидный мост с пешеходными дорожками по краям. Я вышла на его деревянный настил и здесь долго и не без приятности отдыхала от моего тяжкого пути.
Вид у меня был ужасный. Лицо перемазано грязью. Платье мое совсем взмокло и прилипло к телу. Волосы разболтались и висели космами. Я, вероятно, была похожа на ведьму с Лысой горы.
В такой красе мне не хотелось кого-либо встретить. И поэтому я по огородам и полю добралась до нашего дома.
Мама вскрикнула от неожиданности, увидев меня. Она зарыдала, заплакала. Стала обнимать меня. Но, заметив, в каком я виде, захотела уложить меня в постель и напоить чаем с малиновым вареньем. Но мне было сейчас не до этого. Я поскорей умылась, переоделась и торопливо вышла из дома, чтобы немедленно увидеть мою деревню.
Да, наша улица была совсем иная, чем раньше. Она была хорошо укатана гравием и песком. По ее бокам тянулись деревянные пешеходные дорожки, возле которых ровными рядами стояли молодые деревца.
Вместо прежних обветшалых плетней всюду виднелись красивые заборы из реек. Много было новых домов с широкими и светлыми окнами.
Возле школы у клуба тротуары были заасфальтированы. И здесь даже стояли уличные фонари.
Однако клуб был закрыт. На дверях висел огромный заржавленный замок. И в витрине клуба я увидела пожухлую прошлогоднюю афишку, извещавшую о какой-то лекции.
Физкультурный зал тоже оказался закрытым. Здесь двери были даже заколочены досками. Напротив, через улицу, виднелась каменная постройка, захламленная и не доведенная до конца.
Я добежала до стадиона. Там, за забором с красивыми резными воротами, паслись колхозные коровы, пощипывая первую травку. Мальчонка-пастушок, громко посвистывая, катался на входной поломанной калитке, то и дело отталкиваясь ногой от земли.
Огорченная увиденным, я поспешила назад. Шла по улице, как чужая. Никто из встречных не узнавал меня. Я же многих узнала и даже порывалась к некоторым подойти, но не подходила, увидев их вопросительный взгляд.
Мама уже поджидала меня с обедом. Я принялась расспрашивать маму о всех делах, какие тут меня озадачили. Но не могла добиться от нее толкового ответа. Взволнованная моим приездом, мама отвечала невпопад и, подавая обед, суетилась и плакала, поглядывая на меня.
Единственно, что я узнала от мамы, — это о Глафире. Оказалось, что Глафира уехала в областной центр и там устроилась судомойкой в столовой. Она рассчитывала в городе выйти замуж, но пока этого еще не случилось.
Попозже к нам зашел дядя Федор с двумя незнакомыми людьми. Оказалось, что один был председатель колхоза, а другой, помоложе, директор МТС. Они зашли со мной познакомиться.
Я с горячностью накинулась на них — стала упрекать в том, что они не слишком-то заботятся о деревне, многое здесь заброшено, не доведено до конца и находится в запустении.
Немолодой председатель колхоза терпеливо выслушал мою гневную речь и сказал, улыбаясь:
— Несколько преувеличиваете, Анна Филипповна. Хозяйственные дела идут у нас неплохо. По животноводству, правда, крепко отстаем, но по зерну и овощам план за прошлый год перевыполнили. Что же касается культурного обслуживания, то согласен с вами — это дело поставлено у нас из рук вон плохо.
Дядя Федор, покашливая, сказал:
— Искали мы тут культурника для клуба, но не нашли подходящего. Вот и закрыли клуб на замок, чтобы ребята не разорили инвентарь.
Председатель колхоза добавил к словам дяди:
— Да, конечно, досадно, что пришлось клуб закрыть, но что поделаешь? Вот, сколько я слышал, трое из вашего села закончили театральное училище. А один из них даже подвизается на эстраде. Но вся эта тройка осталась в городе, не вернулась в деревню. А будь они здесь — мы бы своими силами управились с незадачей.
Я с возмущением сказала:
— Но как же так! Надо, чтобы они вернулись. Пусть прежде поработают в своей деревне, улучшат ее жизнь, а уж потом могут уехать.
Дядя Федор сказал мне с усмешкой:
— Ты у нас, Анюта, первая невозвращенка. Первая отбыла из деревни и сюда не вернулась.
Эти слова дяди Федора меня крайне смутили. А тут еще мама добавила, снова заплакав:
— Мало того, что Аннушка сама уехала, так она еще за собой потянула всех трех моих детей. Я, как перст, осталась одна…
Я сказала, обняв маму:
— Но мы же всякий год упрашиваем вас переехать к нам. Вы отказываетесь.
Мама сказала:
— Я в городе задыхаюсь без воздуха. Никуда отсюда не поеду. Мне и здесь хорошо.
Директор МТС, улыбаясь, сказал:
— Да, здесь, на лоне природы, я тоже чувствую себя значительно лучше. За полгода прибавил шесть кило. А ведь был худой, как скелет…
Он вытащил из кармана какие-то бумаги и вдруг деловым тоном заговорил:
— Наша МТС, как вам известно, обслуживает десять сельскохозяйственных артелей. В каждой артели я взял списки уехавших на учебу. И вот, не поленившись, целый месяц потратил на переписку. Каждому из уехавших написал отдельное письмецо.
— О чем же вы им писали? — спросила я.
— Писал примерно то, что вы сейчас сказали, — поработайте пару лет для своего села либо послужите некоторое время в нашей МТС, а засим поступайте как знаете.
— И что же, были ответы?
— Многие откликнулись на мой призыв. Некоторые написали, что вернутся, закончив учебу. А некоторые сообщили, что обдумают этот вопрос и в дальнейшем уведомят меня.
Я робко сказала директору МТС, что такого письмеца я почему-то не получила. На это он ответил мне:
— Вы у нас отрезанный ломоть, Анна Филипповна. У вас в городе семья и большая работа. Мы с вашим дядюшкой решили вас не тревожить.
Дядя Федор солидно заметил:
— Да, мы писали только тем, которые после войны уехали. Но лично я отослал всего лишь две открыточки — двум нашим парням, о которых я слышал, что они в городе баклуши бьют. Написал им строго, непреклонно. И они оба моментально ответили мне. Один написал, что к зиме вернется, а другого мы со дня на день сюда ждем.
Председатель колхоза добавил к словам дяди:
— Ожидаем приезда еще двух девушек — имеем от них телеграммы. Во всяком случае, клуб в этом году откроем. И вас, Анна Филипповна, пригласим на открытие.
Эти слова успокоили, развеселили меня. И вскоре мы заговорили о других делах.
Почти три недели я провела в деревне. Помогала моей маме по хозяйству. Раза два выходила на колхозные работы в поле. Однако увидела, что тут дело обстоит теперь иначе, чем прежде. Машины во многом заменили людей. И поэтому некоторая убыль людей из нашего колхоза не была чувствительной, как на первый взгляд могло бы показаться человеку, который оторвался от деревни двадцать лет назад.
В середине мая я покинула деревню.
На станцию ехала телегой. Дорога теперь была неплохая, но все же кое-где телега наша увязала на целое колесо. И тогда две лошади не без труда вытаскивали ее и везли дальше.
Седобородый колхозный извозчик, которого я помнила совсем молодым, всю дорогу отмалчивался, не хотел почему-то беседовать со мной. Но когда мы подъезжали к перелеску и вдали мелькнуло шоссе, он, усмехнувшись, сказал мне:
— Слышал, слышал, что вы тут чуть не утопли. Месяцем позже вам надо было на побывку приехать. Или уже позабыли о наших деревенских невзгодах?
Смутившись, я ответила:
— За двадцать лет позабыла об этом. Вспоминала только хорошее.
Извозчик пробормотал себе под нос:
— Где уж вам, городским, помнить о наших деревенских путях и дорогах, по которым три месяца в году ни пройти ни проехать.
Мне не хотелось спорить, и я промолчала в ответ на его несправедливое замечание.
И вот второй месяц я снова в городе. Но волнение мое еще не ушло от меня. Сердце и сейчас больно сжимается, когда я думаю о моей деревне, для улучшения которой я ничего не сделала. Но в дальнейшем я непременно что-либо сделаю, хотя еще и не знаю, в чем это выразится.
4. Рассказ главного агронома
Года четыре назад мне было поручено обследовать один колхоз, который сильно отставал и даже плелся в хвосте всей области.
Предполагалось, что колхозный агроном не полностью учитывает передовую агрономическую науку. Такие сигналы мы не раз получали, но разобраться в них было нелегко, ибо районный агроном не ладил с колхозным работником. А председатель колхоза не ладил с ними обоими.
В общем, этот вопрос надлежало срочно обследовать на месте. И на все это дело мне дали не больше двух недель.
Из областного центра я выехал поездом и в полдень был на станции, где меня ожидала лошадь, присланная правлением артели по моей телеграмме.
Я невольно залюбовался красавицей лошадкой. Это был сытый, холеный конь. Он горячо перебирал ногами, желая поскорей ринуться в путь.
Телега тоже была исправная, чистенькая. Аккуратные мешки с сеном лежали в ней для удобства седока. По всему было видно, что в колхозе любовно относятся к своему хозяйству. Похоже было на то, что глубокое отставание колхоза и в самом деле лежало только лишь на совести незадачливого агронома.
Пожилой колхозный кучер чуть шевельнул вожжами, и наш пылкий конь стремительно понесся по шоссе.
Километров пятнадцать мы отмахали в самое короткое время. Но вот на дороге наша телега нагнала какого-то путника с вещевым мешком за спиной.
Путник был серый от дорожной пыли. Сквозь линялую его гимнастерку обильно выступал пот.
Поравнявшись с путником, мой извозчик попридержал свою лошадь, и теперь она пошла шагом.
— Привет колхозному бригадиру! — громко произнес извозчик и, угостив путника папироской, спросил его: — Ну как, Дударев, повидал свою супругу?
— Повидал, — ответил колхозный бригадир. — Поправляется после операции.
— Так! — одобрительно отозвался извозчик и стал с интересом расспрашивать об операции и больничных делах.
Немолодой колхозный бригадир обстоятельно отвечал на его вопросы и, отвечая, плелся позади телеги, положив руку на деревянный задник.
Я сказал нашему спутнику:
— Да вы сядьте в телегу, папаша. Зачем вам по пыли тащиться! Небось устали, идя из больницы.
Бригадир, усмехнувшись, показал глазами на колхозного кучера. Тот поспешно сказал мне:
— Дударев сам знает, что это недопустимо.
— Почему же недопустимо?
— Председатель запрещает обременять коней. Никому не велит пользоваться транспортом без его разрешения.
Колхозный бригадир, снова усмехнувшись, добавил к словам извозчика:
— Хозяйственный мужик наш председатель. Крепко бережет артельное добро.
Извозчик тронул вожжи, и мы снова помчались вперед.
Мне было крайне досадно, что немолодой бригадир остался на дороге, но я пришел еще в большее раздражение, когда увидел на поле колхозный табунок. Десятка два стреноженных лошадей мирно пощипывали травку. Все кони были статные, холеные и поблескивали гладкими боками.
Вскоре вдали показалась деревня.
Мы ехали теперь вдоль леса по грунтовой дороге.
Из леса вышла древняя старуха с огромной вязанкой хвороста. Она шла, согнувшись под тяжестью, по-старушечьи семеня ногами. Я строго приказал колхозному кучеру остановить лошадь, чтобы довезти старуху до деревни. Но тот хмуро ответил:
— Не велено же…
Однако он приостановил лошадь и сказал старухе:
— Бабушка Даша, клади хворост в телегу. Я в крайнем случае довезу его до моей избы.
Старуха добродушно ответила:
— Ничего, сынок, я и сама дотащу.
Снова легкий взмах вожжей, и ровно через три минуты мы остановились возле дома правления артели.
Но за эти три минуты у меня сложилось точное убеждение, почему колхоз отстает. Я понял, что дело тут не в агрономической науке, а в более сложных мотивах.
Так и оказалось впоследствии. Выяснилось, что колхозный агроном вполне ладил с наукой. А вот председатель колхоза в пылу своих хозяйственных забот дошел до крайних мер скупости. Он всех теснил и каждого в чем-нибудь урезывал, полагая, что этим он выведет колхоз на путь процветания.
Правление спорило с ним, протестовало против его жестких мер, но он всех побивал своим правильным лозунгом бережливости.
Вот и получилось, что он берег артельное добро не для людей, а в ущерб людям. И это сказалось на делах колхоза.
Вскоре этого председателя сняли с должности. И через два года дела в колхозе много улучшились.
Однако при новом председателе колхозные кони сильно слиняли и потеряли свой осанистый вид. Там теперь, говорят, даже ребята катаются в школу на лошадях, хотя школа в двух километрах.
Да, не легко угадать, где находится золотая середина.
Примечания
Восп. — Вспоминая Михаила Зощенко / Сост. и подг. текста Ю. В. Томашевского. Л., Художественная литература, 1990.
Лицо и маска — Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю. В. Томашевского. М., Олимп — ППП, 1994.
Летопись — Хронологическая канва жизни и творчества Михаила Зощенко / Сост. Ю. В. Томашевский // Лицо и маска. С. 340–365.
Мат 1 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 1. СПб, Наука, 1997.
Мат 2 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 2. СПб, Наука, 2001.
Мат 3 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 3. СПб, Наука, 2002.
Рассказы 1959 — Зощенко Мих. Рассказы и повести. 1923–1956. Л., Советский писатель, 1959.
Рассказы 1963 — Зощенко Мих. Рассказы. Фельетоны. Комедии. М.; Л., Советский писатель, 1963.
СС 6 — Зощенко Мих. Собрание сочинений: В 6 т. Л.; М., Прибой — Гослитиздат, 1929–1932.
СС 3 — Зощенко Мих. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост., подг. текста, прим. Ю. В. Томашевского. Л., Художественная литература, 1986–1987.
УГ — Зощенко Мих. Уважаемые граждане: Пародии. Рассказы. Фельетоны. Сатирические заметки. Письма к писателю. Одноактные комедии / Изд. подг. М. 3. Долинским. М., Книжная палата, 1991.
В седьмой том Собрания сочинений вошли одна из главных книг М. М. Зощенко «Перед восходом солнца», цикл партизанских рассказов «Никогда не забудете», а также поздние рассказы и фельетоны (1950–1958), представляющие драматические опыты «положительной сатиры» и лирического бытописания. Из публиковавшихся, зафиксированных в библиографии Зощенко произведений этого периода в том не включены лишь несколько малозначительных рассказов и фельетонов на международные темы.
Перед восходом солнца
Октябрь, 1943, № 6/7, 8/9 (первые шесть глав).
Звезда, 1972, № 3 (вторая часть). Редакционное заглавие, призванное скрыть связь с осужденной публикацией первой части: Повесть о разуме.
Печ. по: СС 3. Т. 3. С. 447–693.
Работа над книгой «Перед восходом солнца» растянулась почти на десятилетие.
«Предисловие» начинается с признания: «Эту книгу я задумал давно. Сразу после того, как выпустил мою "Возвращенную молодость". Почти десять летя собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу».
В «Прощании с читателем», эпилоге «Голубой книги», точно датированном 3 июня 1935 г., говорится: «А что касается дальнейшей литературной работы, то мы задумали написать еще две забавные книжонки. Одна на этот раз — из области нашей личной жизни в свете медицины и философии».
Осенью Зощенко дал интервью корреспонденту «Литературного Ленинграда» (1935, № 49, 26 октября), опубликованное под заглавием «О моей трилогии». В нем замысел конкретизируется и детализируется.
«На "Голубую книгу" у меня ушло два года беспрерывной, изо дня в день, работы. До этого три года я готовил "Возвращенную молодость". Итак, почти пять лет я жил работой над двумя книгами, почти не отрываясь для других дел. Сейчас я думаю приняться за новую книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой "Возвращенной молодостью" и продолженной "Голубой книгой". Все эти три книги, хоть и не объединены единым сюжетом, связаны внутренней идеей. Последняя книга трилогии задумана значительно более сложной; в ней будет несколько иной подход ко всему материалу, чем в "Возвращенной молодости" и "Голубой книге", а те вопросы, которые я затрагивал в предыдущих двух книгах, получат завершение в специальной главе новой книги. Эта книга будет мало похожа на обычную художественную прозу. Это будет скорей трактат философский и публицистический, нежели беллетристика. Впрочем, я не думаю лишить ее элементов художественного произведения. В книге будут новеллы и, может быть, даже единый сюжет. Во всяком случае, все главы должны быть связаны единой идеей. Возможно, что в будущем году в печати уже появятся отдельные главы новой книги, но закончить ее я думаю только через три года. Она будет довольно обширна (около 20 листов), работа предстоит очень сложная, хотя почти весь материал уже собран» (Цит. по: УГ. С. 70).
Однако 5 сентября 1936 г. на вопрос корреспондента о «Ключах счастья» (долгое время книга имела именно такое заглавие) Зощенко ответил: «Я отнюдь не думаю забросить эту тему. <…> трудность темы заставляет меня отложить ее примерно на год, чтобы лучше обдумать и подготовиться» (Цит. по: УГ. С. 73).
Сохранились записи 1934–1937 гг., которые можно рассматривать как часть собранного материала к этой задуманной книге: в них упоминаются имена (Гоголь, Есенин, Маяковский, Ницше, И. П. Павлов) и затрагиваются проблемы (неврастения, страх смерти, допинг, способы самолечения), которые будут использованы и подробно исследованы в книге (Лицо и маска. С. 117–122).
Начинаются записи кратким диагнозом:
«Заболел. Февраль 1934 (Вероятно, об этой болезни упоминается в эпилоге "Голубой книги": "Тут было в прошлом году мы прихворнули, но ничего, как говорится — бог миловал". — И. С).
1931–1935. Должен был умереть» (С. 118).
Среди последних есть дополнительно проясняющие как метафору заглавия, так и «единую идею» книги.
«После захода солнца люди ложатся спать, т. е., несомненно, прекращается та животная энергия.
Смерть — большей частью — под утро, перед рассветом» (С. 122).
«Всякого рода маниакальность: мания преследования, величия (отравленная пища) — все это суть (главным образом) детские, младенческие травмы, прошедшие сквозь всю жизнь и укрепившиеся в силу ложных доказательств» (С. 122).
16 августа 1937 г. с Зощенко встретился К. Чуковский, записавший в дневнике: «Был в Сестрорецке. Встретился с Зощенко. Говорил с ним часа два и убедился, что он — великий человек — но сумасшедший. Его помешательство — самолечение (Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 153).
Далее в опубликованном тексте следует редакционная купюра, отчасти разъясняемая мемуарами Чуковского: «Во все это время Зощенко производил впечатление совершенно здорового. Было похоже, что ему действительно удалось это чудо: победа над собою, над своей ипохондрией. Он так настойчиво, с таким неутомимым упорством требовал от себя оптимизма, радостного приятия жизни, без которого, по его убеждению, немыслимо подлинное литературное творчество, что в конце концов достиг своего.
В ту пору он только об этом и мог говорить.
Тогда же — я зашел к нему на минуту <…> — он показал мне груду тетрадей и рукописей, аккуратно сложенных у него на столе.
— Это будет книга "Ключи счастья", — сказал он, глядя на свои бумаги с нескрываемой лаской. — Это будет моя лучшая книга.
В тот год он писал очень много в разных жанрах, на разные темы, но его главной, всепоглощающей темой было: завоевание счастья» (Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1965. С. 546–547).
В тех же мемуарах Чуковский упоминает о рабочей комнате Зощенко, заваленной книгами по «биологии, психологии, гипнотизму, фрейдизму».
Причины неоднократных остановок в работе над книгой имели не только творческий характер. Более конкретно они были объяснены в суждениях не для печати, относящихся к июню 1938 г. «Зощенко рассказывал о большом романе, который пишет уже много лет. Его название "Ключи счастья". Он почти автобиографичен <…>.
— Почему вы не печатаете книгу?
— Мне страшно выпускать ее из рук. Уж очень огрубели мозги в наших издательствах. Ничего не поймут. Был один человек, которому я мог бы дать прочитать эту книгу, и он бы ее спас. Но его нет на земле. Это — Горький» (Хин Е. Коктебель, 1938 // Звезда. 1994. № 8. С. 39). Горькому, как известно, была посвящена «Голубая книга».
Мемуарное свидетельство подтверждается письмом Е. Хин, отправленным из Сестрорецка в Коктебель вскоре после возвращения, летом 1938 г.: «Мой "научный труд" — "Ключи счастья" — пока, увы, отложен, хотя почти все там кончено.
Боюсь выпустить из рук эту работу — очень уж загрубели мозги в издательствах. Будут, вероятно, сильно править и "причесывать". А мне это очень не хочется. Лучше погожу некоторое время» (Там же. С. 42).
В декабре 1940 г. критик Ц. Вольпе, только что завершивший книгу о Зощенко, получает информацию о новой работе писателя: «Когда Зощенко узнал, что о нем написана книга, он выразил сожаление, что я не знаю его последней работы, которую он почти закончил, — "Ключей счастья". "Ибо эта книга, — рассказал он, — по-новому раскрывает круг вопросов, поставленных в «Возвращенной молодости» и «Голубой книге». Все эти три книги составляют трилогию, и «Ключи счастья» — итог этой трилогии, итог моих размышлений о роли человеческого разума в истории. Мне удалось теперь показать, что сознание должно восторжествовать во всем мире (предпоследняя глава «Ключей счастья» будет называться «Торжество сознания») и разрешить трагические противоречия темы первых двух частей трилогии именно в «Ключах счастья». Вот почему «Ключи счастья» дадут возможность заново увидеть смысл и первых двух частей трилогии"» (Вольпе Ц. Книга о Зощенко // Вольпе Ц. Искусство непохожести. М., 1991. С. 316).
Упомянутая предпоследняя глава в результате, видимо, разделилась на три последних «Разум побеждает смерть», «Разум побеждает страдания», «Разум побеждает старость».
Новый этап работы начался после того, как писатель в сентябре 1941 г. был эвакуирован из осажденного Ленинграда в Алма-Ату, увезя с собой рукописи (о чем также упоминается в предисловии). Предисловие к книге «Перед восходом солнца» заканчивается фразой: «В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе».
Эта последняя стадия заняла более года. Важные подробности творческой истории книги содержат письма жене из Москвы (куда Зощенко переехал из Алма-Аты в апреле 1943 г.).
20 июня 1943 г.: «Сейчас заканчиваю "Ключи счастья" (теперь называется "Перед восходом солнца"). Первая часть уже идет в № 6 "Октября". Торопят, чтоб дать финал. Всего будет в трех номерах» (Мат1. С. 90).
29 октября: «Эти дни у меня тягостные — кончаю книгу (IV часть). Я думал, что после III части отдохну месяц. Но редакция должна закончить печатание в этом году, таким образом дать последнюю часть в декабрьской книжке. По этой причине я второй месяц работаю по 16–18 часов в день! Устал безумно. Плохо сплю. Напряжение такое, что не без труда лежу и сижу. Но закончить надо — получается очень сильно» (Мат 1. С. 92).
1 ноября: «Только что закончил в основном последнюю главу книги. Теперь только переписка и правка. Устал невероятно. А главное — испортил сон — снова плоховато сплю. Вот закончу работу и надеюсь, что здоровье поправится. В общем, потерял много сил, работал девять месяцев подряд без перерыва по 12–15 часов вдень» (Мат1. С. 93).
17 ноября: «Не пишу сейчас много, так как предельно переутомлен, только на днях кончил книгу (финал). Работал месяц минимум по 18 часов. <… > О книге подробно напишу и пришлю номер. Кстати, ты писала, что я про наши отношения (прошлые) будто бы неважно написал. Это вздор. Там всего две фразы о том, что после смерти мамы я переехал к тебе. Я не считал удобным писать более подробно. Кроме того, это не подлинная биография. Это литература. И мне нужно было отметить такую черту характера. <…> Кстати, отношение к книге исключительное. Если финал пропустит цензура, то надеюсь в начале года напечатать книгу целиком» (Мат 1. С. 94).
Надеждам этим не суждено было осуществиться. Журнальная публикация была остановлена после первых шести глав. Явно инспирированные разгромные рецензии сделали автора опальным, а книгу — запрещенной. Письмо И. В. Сталину 25 ноября 1943 г. с просьбой «ознакомиться с моей работой, либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, чем это сделано критиками» («…Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». М. М. Зощенко: письма, выступления, документы 1943–1958 годов / Публ. Ю. В. Томашевского // Дружба народов. 1988. № 3. С. 169) осталось без ответа.
Идеологическая кампания 1946 г. усугубила положение писателя. Окончание повести смогло появиться в журнале «Звезда» лишь через тридцать лет, да и то под заглавием-псевдонимом «Повесть о разуме». Целиком книга «Перед восходом солнца» была опубликована в США в 1967 г., а на родине автора — лишь в 1987 г.
Несколько читательских писем из архива Зощенко, принципиально расходящихся с мнением официальной критики, опубликовано: Мат 3. С. 215–231.
Книга Зощенко включает большой фактический и цитатный материал, который, как и в «Голубой книге» и «Возвращенной молодости», трансформирован в соответствии с поставленной задачей. Цитаты в ряде случаев неточны или, за счет сокращений, приобретают существенно иной, чем в исходном тексте, смысл. По всей видимости, в ряде случаев писатель использовал вторичные источники. Большинство материалов о жизни Гоголя, скорее всего, цитировалось им по монтажу В. В. Вересаева «Гоголь в жизни» (М., 1933). Возможно, подобные «вторичные» сборники использовались и в других случаях. Задача комментатора в данном случае состояла лишь в обозначении круга использованного материала. Вопрос о конкретных изданиях, которые могли быть в руках Зощенко, требует специального исследования.
В реальном комментарии использованы примечания Ю. В. Томашевского (см.: Зощенко М. Исповедь. М., 1987. С. 451–462), однако в большинстве случаев заново сверенные с источниками, исправленные и существенно дополненные.
За доброе желание к игре… — Цитата из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» (1606) в переводе Дмитрия Лаврентьевича Михаловского (1828-?) (акт 2, сцена 5).
Павлов Иван Петрович (1849–1936) — русский ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии, упоминается в повести «Возвращенная молодость» (см. т. 5).
Сперанский Алексей Дмитриевич (1887/1888-1961) — патолог, в 1923–1928 гг. ассистент И. П. Павлова, позднее — заведующий отделом и директор института общей и экспериментальной патологии.
Ученый! Где речь неучтивой увидишь мою… — Цитата из философско-дидактической поэмы персидского поэта Низами Ганджеви (1141/43-1203/05) «Сокровищница тайн» (между 1172 и 1179) в переводе М. С. Шагинян.
О горе! Бежать от блеска солнца… — Цитата из трагикомедии Шекспира «Цимбелин» (1609–1610) в переводе Федора Богдановича Миллера (1818–1881) (акт 1, сцена 6).
Высший дар нерожденным, быть… — Цитата из драмы Софокла (ок. 496^1-06 до н. э.) «Эдип в Колоне» (поставлено 401) в переводе Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944) (эписодий 3, стихи 1275–1278).
Пришла тоска — моя владычица… — Источник цитаты не установлен. Во всяком случае, писатель помнил текст четверть века. Двустишие использовано как заголовок литературного письма B. В. Кербиц-Кербицкой, датируемого то «летом 1917 года» (Восп. C. 12), то «августом 1924 г.» (Лицо и маска. С. 29–30).
Меланхолики обладают чувством возвышенного… — Цитируется (вероятно, в переводе автора книги) трактат Канта «Наблюдения над чувством высокого и прекрасного» (1764) (См.: Геллер И. 3. Личность и жизнь Канта. Пб., 1923. С. 34).
Меланхолический склад души… — Точный источник цитаты не установлен; вероятно, она позаимствована из указанной выше книги И. 3. Геллера о Канте (С. 33).
Хорош Ярошенко… — Цитируется парижская запись Брюсова от апреля 1903 г. (см.: Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 132). Однако у Брюсова речь идет о юристе и издателе Александре Семеновиче Ященко (1877–1934).
Хандра следовала за мной по пятам. — Возможно, реминисценция из «Евгения Онегина»: «Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, Как тень иль верная жена» (глава 1, строфа 54).
Душ Шарко — водная процедура в виде плотной струи, направляемой сбоку; назван по имени французского врача-психотерапевта Жана Мартена Шарко (1825–1893).
День приходил, день уходил… — Цитата из поэмы Джорджа Гордона Байрона (1788–1834) «Шильонский узник» (сентябрь — октябрь 1821) в переводе В. А. Жуковского (строфа 14).
Я выхожу из дому… — Цитируется письмо польского композитора и пианиста Фредерика Шопена (1810–1849) (см.: Письма Шопена. М., 1929. С. 94).
Я не знал, куда деваться от тоски… — Письмо Гоголя матери М. И. Гоголь из Рима от 22 декабря 1837 г.; неточная цитата.
У меня бывают припадки такой хандры… — Письмо Некрасова И. С. Тургеневу от 15 июня 1856 г. с дачи близ Ораниенбаума.
Мне так худо… — Письмо Э. По подруге Анни от 16 ноября 1848 г. См.: По Э. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1912. С. 273.
Я испытываю такую угнетенность духа… — Письмо Э. По американскому писателю Джону Кеннеди от 11 сентября 1835 г. См. указанное издание. С. 61.
В день двадцать раз приходит мне на ум… — Письмо Н. А. Некрасова И. С. Тургеневу от 30 июня 1857 г. из Петергофа; неточная цитата.
Все мне опротивело… — Письмо Гюстава Флобера (1821–1880) от 13 декабря 1846 г. французской писательнице, его подруге Луизе Коле (1810–1876).
Я живу скверно… — Письмо Салтыкова-Щедрина от 5 июля 1886 г. Лонгину Федоровичу Пантелееву (1840–1919), русскому публицисту и издателю, позднее — автору воспоминаний о писателе.
К этому присоединилась такая тоска… — Письмо Гоголя из Рима от 17 октября 1840 г. русскому историку и писателю Михаилу Петровичу Погодину (1800–1875); неточная цитата.
Как все отвратительно в мире… — Фрагмент дневниковой записи от 8 сентября 1919 г., сделанной в финском местечке Мустамяки. См.: Андреев Л. Н. S.О.S. СПб, 1994. С. 187.
Чувствую себя усталым… — Неточная цитата (у Мопассана — повествование во втором лице) из очеркового цикла «Под солнцем» (См.: Мопассан Г. Собр. соч. Т. 5. СПб, 1896. С. 194).
Повеситься или утонутъ… — Письмо Гоголя из Рима от 20 февраля 1846 г. Петру Александровичу Плетневу (1792–1865) — русскому критику и поэту, профессору и ректору Петербургского университета, издателю Пушкина; у Гоголя: утопиться.
Я устал, устал ото всех отношений… — Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 40.
Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине… — См.: Толстой Л. Л. Правда о моем отце. Л., 1924. С. 95. В «Исповеди» (1879–1882; глава 4) соответствующий фрагмент выглядит так: «И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между пикапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее». То же чувство испытывает герой в финале «Анны Карениной» (1877): «И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться» (Часть 8, глава 9).
Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума. — Письмо Н. Г. Чернышевского Некрасову от 5 ноября 1856 г.; неточная цитата. В оригинале более прозаический вариант: «…стреляются, делаются пьяницами…»
Второй концерт для фортепьяно с оркестром — написан Ф. Шопеном в 1830 г. Поэт В. Лифшиц вспоминал: «Не знаю, каковы были у Зощенко вообще отношения с музыкой, но Шопена любил он страстно» (Восп. С. 499).
Линейка — большая повозка, для общей, попутной езды в городе; В. Даль дает такие синонимы: общинка, сидейка, попутница.
Опавшие листья — заглавие книги (Ч. 1–2. 1913–1915) русского критика и мыслителя Василия Васильевича Розанова (1856–1919).
Жизнь каждого все то же повторяет… — Цитата из исторической хроники Шекспира «Король Генрих Четвертый», часть 2 (1597), в переводе П. А. Каншина (акт 3, сцена 1).
О, сказкой ставшая воскреснувшая быль!.. — Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта «На рубеже». Эти стихи уже цитировались в комедии «Парусиновый портфель» (1939; действие 2, картина 1, сцена 2).
«Стерегущий» — русский миноносец, затопленный двумя оставшимися в живых матросами во время русско-японской войны 1904–1905 гг.; памятник «Стерегущему» стоит в начале Каменно-островского проспекта недалеко от Невы.
Рядом со мной гимназистка Надя В. — речь идет о Надежде Русановой-Замысловской; четыре письма к ней 1915–1917 гг. сохранились (Мат З. С. 97–101). В первом Зощенко кратко излагает историю их отношений:
«В 16 году будет пять лет нашего знакомства, пять лет, маленькая частица жизни, маленький юбилей, и теперь, если смело, без фразы и рисовки подвести итог нашему отношению, то что же выйдет?
Выйдет печальная истина, грустная картина наших отношений: из пяти лет, по крайней мере, три года ссоры и маленьких недоразумений, год неопределенных ожиданий и неясных дум и год, быть может, спокойной дружбы плюс, пожалуй, маленькой влюбленности (с моей стороны)» (С. 97). После революции Замысловская вышла замуж и уехала в Париж, через сорок лет, в декабре 1957 г., состоялось ее свидание с Зощенко (Мат. С. 83–84).
Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами «Чепуха». — Эту историю (с незначительными расхождениями) Зощенко уже вспоминал в книге «Возвращенная молодость» (см. т. 5). Согласно документам, он писал сочинение на другую тему: «Дореформенное чиновничество (По произведениям "Горе от ума" и "Доходное место")». За работу Зощенко получил неудовлетворительно, после чего попытался отравиться прямо в гимназии и получил право пересдать экзамен в конце лета. (См.: Гимназическое сочинение Зощенко / Публикация Е. В. Евдокимовой // Русская литература. 2005. № 2. С. 203–207.) Оценка «Чепуха», возможно, — реминисценция из пьесы А. П. Чехова «Три сестры» (1901). Учитель латинского языка Кулыгин рассказывает: «В какой-то семинарии учитель написал на сочинении "чепуха", а ученик прочел "реникса" — думал, по латыни написано» (Действие 4).
По улицам слона водили… — Цитата из басни И. А. Крылова «Слон и Моська» (1808).
У нас в России две напасти… — Эпиграмма журналиста Владимира Алексеевича Гиляровского (1853–1935), варьирующая заглавие пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886). Ср.: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века. Л., 1975. С. 531, 874.
Быстры, как волны, дни нашей жизни… — популярный романс на стихотворение Андрея Порфирьевича Серебрянского (1810–1838) «Вино» (начало 1830-х гг.); этот стих Зощенко уже использовал в 1927 г. как заглавие фельетона (см. т. 2).
Гаудеамус — старинная студенческая песня, восходящая к застольным песням вагантов (XV в.); ее начало: «Итак, будем веселиться, пока мы молоды…»
Вечерний звон — популярный романс на стихи Ивана Ивановича Козлова (1709–1840), перевод (1827) стихотворения английского поэта Т. Мура.
Судьба ко мне добрее отнеслась… — Цитата из комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596), в переводе Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908) (акт 4, сцена 1).
Спать хочется — заглавие рассказа А. П. Чехова (1888).
По синим волнам океана… — песня на стихи М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840), переработка баллады австрийского поэта И.-Х. Цедлица.
Обратно к войскам поскакал на коне… — Цитата из поэмы Низами Ганджеви «Сокровищница тайн» в переводе М. С. Шагинян.
По улицам ходила большая крокодила… — популярная песня 1910-х гг. неизвестных авторов.
Инбер Вера Михайловна (1890–1972) — поэт; «Веселое вино» (1914) — ее первый поэтический сборник, о котором поощрительно отозвался А. Блок.
Ремиз — недобор взяток в карточной игре.
Я пошел в загс с этой женщиной… Теперь она моя жена. — Это мимолетное упоминание смертельно обидело жену писателя. В. В. Зощенко записывает в дневнике: «29 сентября < 1943 г. > прибежавший с парткурсов Валя <сын М. М. Зощенко рассказал мне содержание новой повести Михаила, на которую он возлагал такие надежды. И я поняла, что эта повесть — отречение от меня, от нашей близости, нашей давнишней любви… Это — оскорбление меня как женщины и как жены, лишение меня всех моих прав. Двумя-тремя фразами обо мне, насквозь придуманными и ложными, да описанием своих "любовных эпизодов", он перед всем миром поставил меня в глупейшее ложное положение…» (Мат 3. С. 40–41).
Если б со счастьем дружил я, поверь… — Цитата из поэмы Низами Ганджеви «Сокровищница тайн» в переводе М. С. Шагинян.
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — русский писатель, с 1921 г. в эмиграции, заметил и поддержал Зощенко в начале творческого пути.
Замятин Евгений Иванович (1884–1937) — русский писатель, с 1932 г. в эмиграции, в начале 1920-х гг. был связан с группой «Серапионовы братья», отмечал в рецензиях произведения Зощенко.
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — критик, литературовед, теоретик формальной школы, близкий группе «Серапионовы братья». Автор нескольких статей о Зощенко. Зощенко, в свою очередь, пародировал его стиль (см. т. 1).
То пресыщенье? Оно теперь следит… — Цитата из поэмы Д. Г. Байрона «Чайльд-Гарольд» в переводе Д. Д. Минаева (песнь 1).
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — поэт, знакомство с ним Зощенко датируется апрелем 1924 г. (Летопись. С. 345).
Федин Константин Александрович (1892–1977), Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), Груздев Илья Александрович (1892–1960) — прозаики и критик, члены группы «Серапионовы братья», в которую входил и Зощенко.
Вновь сдружись с кабацкой скрипкой… — Цитата из стихотворения А. Блока «Как растет тревога к ночи!..» (30 декабря 1913), входящего в раздел «Страшный мир» третьего тома лирики.
Гарун аль Рашид (Харун ар-Рашид, 766–809) — халиф, легенды о доброте и богатстве которого отразились в сказках «Тысячи и одной ночи»; прозвище «аль Рашид» означает «справедливый». Упоминается в фельетоне «На улице» (1938; см. т. 4).
Кузмин Михаил Александрович (1875–1936) — русский поэт, в начале 1920-х гг. редактировал журнал «Современник».
Воинов Владимир Васильевич (1878–1938) — русский поэт и прозаик, автор журнала «Сатирикон», в советскую эпоху работал в разных сатирических жанрах.
Черный человек — поэма С. А. Есенина (1925). Знакомая поэта А. Л. Миклашевская вспоминала о подобном домашнем чтении: «Мы сидели вокруг стола. <…> Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму — "Черный человек".
Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто "черный человек" находился здесь, в комнате» (Воспоминания о Сергее Есенине. М., 1965. С. 355). Однако жена поэта С. А. Толстая-Есенина утверждала, что «в последние два года своей жизни Есенин читал поэму очень редко, не любил говорить о ней и относился к ней очень мучительно и болезненно».
Ренуар Огюст (1841–1919) — французский художник-импрессионист; женщины на полотнах Ренуара отличаются красотой и чувственностью.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — поэт. Зощенко собирался включить статью о Маяковском еще в раннюю критическую книгу «На переломе». В свою очередь, поэт высоко отзывался о рассказах Зощенко.
Враги — заглавие рассказа А. П. Чехова (1887).
И гений мой поблек, как лист осенний… — Цитата из романа в стихах Д. Г. Байрона «Дон-Жуан» (1819–1824) в переводе Д. Д. Минаева (ч. 3, стих. 3)
Страшный мир — заглавие раздела, открывающего третий том лирики А. Блока (1909–1910); стихи из него тоже цитируются Зощенко.
Только в сказке блудный сын… — Цитата из стихотворения М. И. Цветаевой «И не плача зря…» (1916).
…я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. — «Страх и трепет» (1843) — заглавие книги датского философа-экзистенциалиста Серена Кьеркегора (1813–1855).
Скорее сбросить тягостную память… — Цитата из хроники Шекспира «Король Ричард Третий» (1592) в переводе А. В. Дружинина (акт 4, сцена 4).
Весело сияет месяц над селом… — Цитата из стихотворения И. С. Никитина (1824–1861) «Зимняя ночь в селе» (декабрь 1853). Оно упоминается в первом рассказе из цикла «Леля и Минька» (см. т. 6)
Доктор говорит: <… > Онумер. — Отец М. М. Зощенко художник Михаил Иванович Зощенко умер 27 декабря (9 января) 1907 г.
Рид Томас Майн (1818–1883) — английский писатель, автор авантюрно-приключенческих романов.
Невольно к этим грустным берегам… — Ария Князя из оперы Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–1869) «Русалка» (1855) на сюжет неоконченной драмы А. С. Пушкина.
То страшный мир какой-то был… — Цитата из поэмы Д. Г. Байрона «Шильонский узник» (строфа 9).
Что кажется нам сладким на язык… — Цитата из хроники Шекспира «Король Ричард Второй» (1595) в переводе Д. Л. Михаловского (акт 1, сцена 3).
И виделось, как в тяжком сне… — Цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» (строфа 9).
Все в мутную слилося тень… — Цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» (строфа 9).
Я вам растолковал сон по Фрейду. — Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский врач-психиатр, основоположник психоанализа, оказавший несомненное влияние на общую концепцию книги «Перед восходом солнца». Толкование сновидений в эротико-символическом ключе было одним из основных методов фрейдизма.
Эскулап (Эскулапий) — натурализовавшийся у древних римлян греческий бог врачебного искусства Асклепий.
Гиппократ (ок. 460–356 до н. э., по другим данным — 377 до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач. О нем упоминается и в книге «Возвращенная молодость» (см. т. 5).
Гален Клавдий (ок. 130 — ок. 200) — древнеримский врач, давший первое анатомо-физиологическое описание целостного организма в работе «О частях человеческого тела»; наряду с Гиппократом, знаменитейший врач древности.
Запрещенные ходом культурной жизни… — Источник цитаты не установлен. Однако мысль о культурных запретах человеческих влечений и вытеснении их в подсознание является одной из основополагающих у Фрейда.
Как свинец, черна вода… — Цитата из стихотворения А. Блока «Старый, старый сон. Из мрака…» (7 февраля 1914), входящего в цикл «Пляски смерти» раздела «Страшный мир» третьего тома лирики.
Эпрон — экспедиция подводных работ особого назначения.
«Черный принц» — английский корабль, затонувший во время Крымской войны, 14 ноября 1954 г., у входа в бухту Балаклавы. Истории его поисков посвящена повесть «Черный принц» (см. т. 6).
Змею мы рассекли, но не убили… — Цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (1605) в переводе А.И. Кронеберга (акт 3, сцена 2).
Чистяков Павел Петрович (1832–1919) — русский художник, в 1908–1910 гг. профессор-руководитель мастерской академии художеств.
А. Т-в — имеется в виду поэт Александр Иванович Тиняков (Одинокий) (1886–1934). Его считают одним из прототипов повести Зощенко «М. П. Синягин».
Как девы в горький час измены… — Цитата из стихотворения «На озере» (Тиняков A. Narvis nigra < «Черная ладья» >. Стихи 1905–1912 гг. М., 1912).
Пышны юбки, алы губки… — Цитата из стихотворения «Я гуляю!» (Тиняков A. Ego sum qui sum (Аз, есмь сущий). Третья книга стихов. 1921–1922 гг. Л., 1924).
Гори, гори, моя звезда — романс (1868) Петра Петровича Була-хова (1822–1885) на стихи Василия Павловича Чуевского.
«Хризантемы в саду» (1913) — популярный романс, музыка Ха-рито на стихи В. Д. Шуйского; другое заглавие — «Отцвели хризантемы».
Вас, кто меня уничтожит… — Цитата из стихотворения В.Я. Брюсова (1873–1924) «Грядущие гунны» (Осень 1904, 30 июля — 10 августа 1905), входящего в сборник «Stephanos».
У феи — глазки изумрудные… — Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта (1867–1942) «Наряды феи», входящего в сборник «Фейные сказки» (1905).
У царицы моей есть высокий дворец… — Первая строка стихотворения В. С. Соловьева (1853–1900), датируемого: между концом ноября 1875 и 6 марта 1876.
Я себе не верю, верю только… — Цитата из стихотворения B. С. Соловьева «Милый друг, не верю я нисколько…» (1892).
Я верю в светлое начало… — Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта «Двойная перевязь».
Крошки-ручки изломаю… — Цитата из стихотворения В. Голикова «В страстном хоре вакханалий…»
Чаровательница и рабыня своих женских страхов… — Цитата из послесловия К. Бальмонта «Прощальный взгляд» к публикации переписки Э. По. См.: По Э. Собрание сочинений. Т. 5. C. 309. Имеется в виду Е. Уитман (см. выше). Далее цитируется та же статья.
Над ранами смеется только тот… — Цитата из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595) в переводе Д. Л. Михаловского (акт 2, сцена 2).
О, мои горькие опыты… — Цитата из книги В. В. Розанова «Уединенное» (1912).
Опасные связи — заглавие романа (1782) французского писателя Шодерло де Лакло (1741–1803); существует одноименный рассказ Зощенко (см. т. 4).
Страшишься ты раздвоенного жала… — Цитата из пьесы Шекспира «Мера за меру» (1604) в переводе Ф. Б. Миллера (акт 3, сцена 1).
Дюбуа-Реймон Эмиль (1818–1896) — немецкий физиолог и философ.
Кто хочет что-нибудь живое изучить… — Цитата из трагедии Гете «Фауст» (ч. 1, сцена 4). Автор перевода не установлен. Указание на перевод Н. Холодковского ошибочно.
И новая печаль мне сжала грудь… — Цитата из поэмы Д. Г. Байрона «Шильонский узник» (строфа 13); у Зощенко иная разбивка на стихи и знаки препинания.
Горе уму — первоначальное заглавие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).
Кто высоко стоит, тот знает грозы… — Цитата из хроники Шекспира «Король Ричард Третий» (акт 1, сцена 3).
Сочти все радости, что на житейском пире… — Цитата из стихотворения Д. Г. Байрона «Euthanasia» в переводе Ивана Ивановича Гольц-Миллера (1842–1871). См.: Поэт-революционер И. И. Гольц-Миллер. М., 1930. С. 60.
У меня такая угнетенность духа… — См.: По Э. Собрание сочинений. Т. 5. С. 61.
Дважды совершенное путешествие… покрытый волдырями. — Там же. С. 8–14.
Я избегал вашего присутствия… как на сознание вины… — Письмо Э. По (у Зощенко ошибочно говорится о двух) американской поэтессе Елене Уитман (1803–1878), 1848 г. (?) Там же. С. 252.
Николаевский режим вел Гоголя в сумасшедший дом… — Вольный пересказ мысли Герцена. Ср.: «Сильнейшие бойцы с крепкими мышцами гибли один за другим. Белинский умер, Гоголь шел в сумасшедший дом…» (Герцен А. И. Письма к путешественнику (1865) // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 18. М., 1959. С. 370).
Да будет вам известно, что я трактовал с Наталинским (врачом) о слабости здоровья Марии Ивановны… — Письмо отцу писателя написал не Дмитрий Прокофьевич Трощинский, екатерининский вельможа, министр юстиции (1814–1817), а его племянник и наследник Андрей Андреевич Трощинский (1774–1852), двоюродный брат матери Гоголя (см.: Литературный архив. Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 352). Фамилия в источнике иная: Неталицкий; обозначение его профессии в скобках принадлежит Зощенко и заимствовано из примечания к письму.
Повеситься или утонуть… — Повторная цитата из письма П. А. Плетневу от 20 февраля 1846 г., уже использованная во второй главе (см. выше).
Дорога… сделала надо мной чудо… — Письмо М. П. Погодину из Рима от 17 октября 1840 г., другой его фрагмент цитировался ранее.
Я худею, вяну и слабею… — Письмо из Рима от 2 января 1846 г. графу Александру Петровичу Толстому (1801–1873), одному из близких друзей, в доме которого в последний год жил и умер Гоголь.
…божеством, слегка облеченным в человеческие страсти… Адская тоска с возможными муками… — Письмо М. И. Гоголь из Петербурга от 24 июля 1829 г. Комментаторы отмечают, что эти мысли развиты в статье «Женщина» (1831).
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — старший сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), публицист, один из основоположников славянофильства.
Если человек, достигнув тридцати лет, не женился, то он делается болен… — Письмо из Рима от 20 ноября 1845 г. профессору словесности Московского университета Степану Петровичу Шевы-реву (1806–1864).
…болезней в нем не было заметно… — Здесь и далее цитируются воспоминания одного из лечащих врачей Гоголя Алексея Терентьевича Тарасенкова (1816–1873) «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» (СПб, 1857, изд. 2 — М., 1902). Этот объективный и достоверный источник используется во всех биографиях Гоголя.
Когда я был последний раз у вас… — Письмо М. И. Гоголь из Петербурга от 22 декабря 1837 г. Здесь, как и в ряде других случаев, Зощенко переосмысляет гоголевские суждения в нужном направлении. Он обрывает цитату как раз там, где Гоголь предлагает вполне бытовую, не психологическую, а физиологическую, мотивировку тоски: «Я сам не знал, откуда происходила эта тоска, и, уже приехавши в Петербург, узнал, что это был припадок моей болезни (гемороид)».
…желая исполнить сыновний долг… — Письмо из Москвы от 29 декабря 1839 г. Александру Семеновичу Данилевскому (1809–1888), товарищу по Нежинской гимназии, сохранявшему дружеские отношения с Гоголем до самой его смерти.
…Гоголь называл ресторан «храмом» и даже «храмом жратвы». — Биограф Гоголя В. И. Шенрок записал со слов А. С. Данилевского рассказ о совместном пребывании с Гоголем в Париже: «Часто отправлялись они вместе в театр, преимущественно в оперу.
Вместе ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в шутку "храмами", а после обеда подолгу оставались там играть на бильярде». Эти воспоминания приводятся в книге В. В. Вересаева «Гоголь в жизни». Об этих же «храмах» Гоголь вспоминал в письме Данилевскому из Рима.
Он от всей души занимался этим делом… — Цитата из воспоминаний Сергея Тимофеевича Аксакова «История моего знакомства с Гоголем» (1854), впервые изданных в 1890 г. и позднее неоднократно переиздававшихся; гоголевский обед готовился в доме Аксаковых и датируется 3 января 1840 г.
Дамы нарочно ходили иногда смотреть… — Цитируются воспоминания М. П. Погодина «О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 г.» (Русский архив. 1865. № 7. С. 892), относящиеся к марту 1839 г.
Бруни Федор (Фиделио) Антонович (1799–1875) — русский художник, итальянец по происхождению, в 1818–1836 и 1838–1841 гг. работал в Италии, автор знаменитого полотна на библейскую тему «Медный змий» (1827–1841).
Получив тарелку риса… — Цитируются воспоминания мемуариста, критика, биографа и издателя Пушкина Павла Васильевича Анненкова (1812 или 1813–1887) «Гоголь в Риме летом 1841 г.», один из самых достоверных источников биографии Гоголя. К этим воспоминаниям Зощенко не раз обращается и далее.
Гоголь взял на себя распоряжение… — Цитируются воспоминания С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем»; эпизод относится к октябрю 1840 г., когда состоялась совместная поездка Аксакова с детьми и Гоголя из Москвы в Петербург.
Первой заботой Гоголь имел устроить утреннее чаепитие. — Цитируются (с пропусками и небольшими неточностями) воспоминания М. П. Погодина, уже использованные ранее.
В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей… — Цитируются воспоминания поэта и переводчика, товарища Гоголя по гимназии Василия Ивановича Любич-Романовича (1805–1888) «Гоголь в Нежинском лицее» (Исторический вестник. 1902. № 2. С. 549–550) в записи С. И. Глебова.
Спросив какое-нибудь блюдо… — Цитируются «Записки» (М., 1918. С. 14) русского гравера Федора Ивановича Иордана (1800–1883), в 1835–1850 гг. жившего в Риме; эпизод относится к лету 1841 г.
Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс… — Цитируются автобиографические записки Александры Осиповны Смирновой-Россет (1809 или 1810–1882), фрейлины императрицы (1826–1831), хозяйки известного салона, дружившей также с Пушкиным и Лермонтовым.
Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. — Письмо М. П. Погодину от 17 октября 1840 г., уже дважды цитированное ранее. Здесь, как и в других случаях, Зощенко, вероятно, пользуется книгой В. В. Вересаева «Гоголь в жизни» (М., 1933). У Вересаева цитаты из Смирновой и Погодина тоже следуют друг за другом.
Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. — Письмо Некрасова И. С. Тургеневу из Рима от 10 (22) апреля 1857 г.
Для 52лет он сохранился изрядно… — Цитируются воспоминания лечащего врача Некрасова Николая Андреевича Белоголового (1834–1895) «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова» (1878). См.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 438. На самом деле, Некрасов умер на 56-м году.
И в новый путь с хандрой, болезненно развитой… — Цитата из стихотворения Некрасова «Подражание Лермонтову» (В неведомой глуши, в деревне полудикой…) (1846).
…как пишет доктор Белоголовый… — См. указанную ранее книгу Н. А. Белоголового, который был лечащим врачом не только Некрасова, но и Салтыкова-Щедрина. С. 220, 271, 277.
Бедная привязанная овечка… стеснялся приглашать ее к себе. — См.: Бенжамен Р. Необычайная жизнь Онорэ де Бальзака. М.; Л., 1928. С. 208–213, 346.
Ганская Ева-Вячеслава (1800–1882) — польская графиня, возлюбленная, затем жена Бальзака.
«Шагреневая кожа» — философская повесть О. де Бальзака (1830–1831).
Слишком высокое сознание и даже всякое сознание — болезнь. — Цитата (несколько измененная) из повести «Записки из подполья» (1864), написанной от лица персонажа, «подпольного человека»: «Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь». Подобная мысль содержится и в Записной тетради Достоевского 1864–1865 гг.: «Сознанье — болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), но само сознание — болезнь».
Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного… — Такая цитата в воспоминаниях А. Г. Достоевской не обнаружена. Наиболее близок тексту Зощенко следующий фрагмент: «Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце…» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 69).
Близок вой похоронных труб… — Цитата из стихотворения А. Блока «Я ее победил наконец!..» (октябрь 1909), входящего в цикл «Черная кровь» раздела «Страшный мир» третьего тома лирики.
Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни… — Письмо М. И. Гоголь из Нежина от 26 февраля 1927 г.
Смерть ее не столько поразила мужа… — Цитируются указанные выше воспоминания А. Т. Тарасенкова. См.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1898. С. 850. Этот фрагмент также входит в книгу В. В. Вересаева «Гоголь в жизни».
Все для меня кончено… — Цитируется письмо от февраля 1852 г. русского поэта и публициста, славянофила Алексея Степановича Хомякова (1804–1860) А. Н. Попову, написанное после смерти его жены Е. М. Хомяковой (урожденной Языковой).
Той самой болезнью… — Цитируется книга биографа Гоголя, украинского писателя и ученого Пантелеймона Александровича Кулиша (1819–1897) «Записки о жизни Гоголя» (Т. 2. СПб, 1856. С. 260).
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) — один из виднейших государственных деятелей эпохи Екатерины П. См.: Русская старина. 1875. № 10. С. 247. Существует и более поэтическая версия смерти Потемкина. Почувствовав приближение смерти по пути из Ясс в Николаев он сказал сопровождающим: «Будет теперь, некуда ехать, выньте меня из коляски, я хочу умереть в поле», — и через несколько часов скончался на ковре в степи.
…ужаснулась смертью… — См.: Валишевский К. Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1912. С. 682–683. Однако версия польского историка, недоброжелательного к российской монархии, корректируется другими оценками последних дней Елизаветы. С. М. Соловьев рассказывает, что императрица исповедовалась, соборовалась и «дважды заставляла читать отходные молитвы вслед за духовником». В компилятивно-официальном издании «Трехсотлетие дома Романовых» говорится: «Она встретила смерть в полном сознании и спокойно, призвала священника, приказала ему читать отходную, а сама повторяла за ним слова молитвы». Как и в других случаях, Зощенко выбирает пример, поддерживающий его концепцию.
…от многого сиденья, холодного питья и меланхолии, сиречъ кручины. — См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 9. Глава 4. У историка эти симптомы болезни царя Михаила Федоровича Романова (1596–1645) прямо не связываются со смертью, последовавшей через полтора месяца.
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — русский композитор. Цитируются воспоминания его сестры Л. И. Шестаковой. См.: Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 300.
Что бы мы ни делали… — См.: Мопассан Г. Собр. соч. Т. 5. СПб, 1896. Т. 5. С. 193.
Сорок лет работы… — См.: Толстой Л. Л. Правда о моем отце. С. 95. Ср. «Исповедь» (глава 6), в которой Л. Н. Толстой пересказывает индийскую притчу о царевиче Сакиа-Муни: «Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. "Что же будет с ним дальше?" — спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. "Зачем?" — Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. — "И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?" — Да. — "Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше"».
Когда ж конец? Назойливые звуки… — Цитата из стихотворения А. Блока «Миры летят, года летят. Пустая…» (2 июля 1912), входящего в раздел «Страшный мир» третьего тома лирики.
Страх смерть влечет… — Цитата из хроники Шекспира «Король Ричард Второй» (акт 3, сцена 2).
Матросов Александр Матвеевич (1924–1943) — рядовой, закрывший телом амбразуру во время боя за деревню Чернушки на Калининском фронте.
Мужественно и просто умирал Суворов… улыбнувшись, спросил Державина, какую эпитафию тот напишет на его могиле. — Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов (1730–1800) умер в Петербурге 6 мая и похоронен в Александро-Невской лавре. В дни последней болезни он занимался турецким языком и беседовал с домашними о военных и политических делах. Эпитафия Г. Р. Державина оказалась простой: «Здесь лежит Суворов».
Я не тужу о смерти… — Цитируется пункт 10 из плана несостоявшейся беседы Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) с императрицей Екатериной II; план, датируемый 26 февраля — 4 марта 1765 г., был обнаружен в бумагах ученого.
Я вижу, что должен умереть… — Эти слова М. В. Ломоносова, сказанные за несколько дней до смерти, известны в передаче его друга и коллеги Якоба Штелина (1709–1785).
Талейран Шарль Морис (1754–1838) — французский дипломат, министр иностранных дел при Директории, Наполеоне I и Людовике XVIII, «слуга всех господ», мастер закулисной интриги.
Я понемногу слабею… — См.: Тарле Е. В. Талейран. М., 1962. С. 253. Предисловие Тарле публиковалось также в кн.: Талейран. Мемуары. М.; Л., 1934. С. 122.
Почти чувствую возможность радостно умереть… — Дневниковая запись от 13 февраля 1908 г. секретаря Л. Н. Толстого в 1907–1909 гг. Николая Николаевича Гусева (1882–1967). См.: Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 100.
Пожалуйста, не подумайте… разрешат ли… — Фрагмент (с пропусками и заменой слов) письма И. Е. Репина (1844–1930) К. И. Чуковскому, датированного, согласно комментарию адресата, 18 мая 1927 г. и отправленного 10 августа. Письмо, таким образом, было написано не за несколько месяцев, как утверждает Зощенко, а за три года до кончины художника. См.: Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., 1965. С. 601–602.
…о возможности с малых лет так воспитать ребенка… — Цитата из дневника дочери писателя Сергея Тимофеевича Аксакова Веры Сергеевны Аксаковой (1819–1864) (см.: Аксакова В. С. Дневник. СПб, 1913. С. 166).
Известный библиотекарь Эрмитажа (конец XVIII в.) И. Ф. Лужков… — Вероятно, ошибка Зощенко: имеется в виду Александр Иванович Лужков (1754–1808), библиотекарь собственной библиотеки Екатерины II в Эрмитаже.
Чем свод небес прозрачней и ясней… — Цитата из хроники Шекспира «Король Ричард Второй» (акт 1, сцена 1).
Кто с разумом рассматривает природу, сказал один философ, на того и природа взирает разумно. — Зощенко пересказывает мысль Гегеля из «Введения» к «Философии истории» (1830–1831): «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга» (перевод А. М. Водена).
Как будто недостаточно всей той гнили и заразы… — Письмо Флобера Луизе Коле от 13 декабря 1846 г.
Зачастую наши беседы оживлялись исключительно сильным электрическим флюидом. — Письмо художника Винсента Ван-Гога (1853–1890) брату Теодору от декабря 1888 г. См.: Ван-Гог В. Письма. М.; Л., 1935. С. 170–171.
Гурвич Александр Гаврилович (1874–1954) — советский биолог, в 1930–1948 гг. сотрудник института экспериментальной медицины.
Усыскин Илья Давыдович (1910–1934) — советский физик, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1», погибший в аэрокатастрофе.
Но старость, черт ее дери… — Цитата из стихотворения английского поэта Джона Дейвидсона (1857–1909) «Стакан вина!» (1896) в переводе Мирона Павловича Левина (1917–1940), опубликованном в «Литературной газете» (1939, № 35. 26 июля). См.: Мастера поэтического перевода / Сост. Е. Г. Эткинда. СПб, 1997. С. 618–619. Впервые Зощенко процитировал это четверостишие вскоре после публикации перевода в комедии «Парусиновый портфель» (1939; действие 3, картина 5, сцена 4).
Я никогда не думал, что старость… — См. указанное сочинение Н. Н. Гусева. С. 74. Запись от 31 декабря 1907 г.
Шоу Бернард (1856–1950) — английский драматург, приезжал в СССР в 1931 г.
Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) — видный революционер-большевик, в 1920-1930-е гг. деятель Коминтерна и редактор нескольких журналов.
Андерсен-Нексё Мартин (1869–1954) — датский писатель, неоднократно бывал в СССР.
Еще один старик (весьма выдающийся деятель искусства M… Еще один замечательный старик (а это был народный артист Ю.)… — Фамилии «замечательных стариков» Зощенко назвал на одном из обсуждений книги «Возвращенная молодость» в Институте охраны здоровья детей и подростков 13 апреля 1934 г.: «Недавно, в этом году, случайно я разговаривал с тремя знаменитыми "стариками", одному было 63 года, другому — 61 год и третьему — 70 лет. Вот у меня с ними произошел любопытный разговор. Эти три человека необычайно здоровые, энергичные, крепкие люди. Я ужинал с ними в ресторане. Вас, вероятно, интересуют их фамилии, но я бы не хотел их оглашать, правда, я могу их огласить, если это будет только между нами. Итак, один из этих стариков — Мейерхольд, другой — Феликс Кон и третий — Юрьев Юрий Михайлович, народный артист» (Звезда. 1994. № 8. С. 4). Далее упоминается и Б. Шоу. Детали и реплики из этого выступления Зощенко практически без изменений вошли в книгу «Перед восходом солнца», однако, как обычно у писателя, перетасованными и переадресованными. В выступлении рассказ Б. Шоу о секрете молодости (вегетарианство) дается со ссылкой на жену Мейерхольда, которой «много пришлось с ним говорить». Зощенко утверждает здесь, что лишь видел Шоу. В книге же дается сцена прямого диалога: «великолепный старик <…> ответил мне на одном обеде, который давали в его честь».
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) — актер и режиссер, жизнь которого завершилась не естественным путем; он был арестован и расстрелян в эпоху сталинских репрессий.
Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — с 1893 г. актер Александрийского театра (позднее — Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина).
Здесь покоится жалкое тело… — Цитата из трагедии Шекспира «Тимон Афинский» (1608) в переводе П. И. Вейнберга (акт 5, сцена 4).
Сознание — это такая вещь… — См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М., 1923. С. 363.
Вот что прекрасней всего, что я в этой жизни оставил… — Фрагмент несохранившегося стихотворения греческой поэтессы Праксиллы (VII–IV в. до н. э.) в переводе В. В. Вересаева; у переводчика — блестящие звезды.
Никогда не забудете. Рассказы о партизанах
Печ. по: Рассказы 1963. С. 13–149.
У фашистов имеется свой лозунг — падающего толкни. — Обычное перефразирование фрагмента из философского труда Ф. Ницше «Так говорит Заратустра» (1883): «О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» (Ч. 3, глава «О старых и новых скрижалях», фрагмент 20). В это время философию Ницше часто связывали с фашистской идеологией.
Схватывался на ковре с лучшими борцами своего времени — с Поддубным, с Лурихом, с Иваном Заикиным. — Имеются в виду легендарные русские борцы Иван Максимович Поддубный (1871–1949), Иван Михайлович Заикин (1880–1948), и эстонец Георг Лурих (1876–1920).
Рассказы и фельетоны
Страшная месть (с. 569)
Крокодил. 1950. № 17.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 206–210.
Двадцать три и восемь десятых (с. 574)
Крокодил. 1953. № 24.
Ленинградский альманах. 1953. Кн. 6.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 210–215.
Один немолодой колхозник проживал со своей старухой на хуторе в том самом районе, где сейчас раскинулось Цимлянское море. — Цимлянское водохранилище возникло в 1952–1955 гг. на территории Ростовской и Волгоградской областей после постройки плотины Цимлянской ГЭС на р. Дон.
Литературные анекдоты (с. 579)
Журнальная публикация не установлена.
Печ. по: Рассказы 1963. С. 216–224.
Похвала старости (с. 591)
Ленинградский альманах. 1953. Кн. 6.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 220–225
Один великий русский писатель, постарев, записал в своем дневнике: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна». — Вероятно, вольный пересказ мыслей Л. Н. Толстого. 9 февраля 1908 г. он записал в дневнике: «…Духовная жизнь, внутренняя, духовная работа все больше и больше заменяет телесную жизнь, и все лучше и лучше на душе. То, что кажется парадоксом: что старость, приближение к смерти и сама смерть — хорошо — благо, несомненная истина».
Разная правда (с. 597)
Нева. 1956. № 6.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 215–220.
Копёр — сооружение для размещения подъемной установки на шахте.
Чрезвычайное происшествие (с. 604)
Нева. 1956. № 6.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 225–231.
В бане (с. 612)
Ленинградский альманах. 1956. Кн. 11.
Печ. по: Рассказы 1959. С. 232–241.
Грубые ошибки (с. 625)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 150–159.
Маленькая мама (с. 637)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 160–162.
В больнице (с. 640)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 163–167.
За столом (с. 645)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 168–173.
Петр Иваныч и другие (с. 653)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 174–178.
Мелочи жизни (с. 659)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 179–183.
Хороший урок (с. 664)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 184–187.
Молодые люди шли, взявшись за руки, как на картине Репина «Какой простор». — Картина написана в 1903 г.
Федор Антонович прав (с. 669)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 188–192.
Иван Кузьмич и другие (с. 675)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 193–195.
После разлуки (с. 678)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 196–199.
Рассказы на колхозные темы (с. 682)
Печ. по: Рассказы 1963. С. 200–215.
МТС — Машино-тракторная станция.