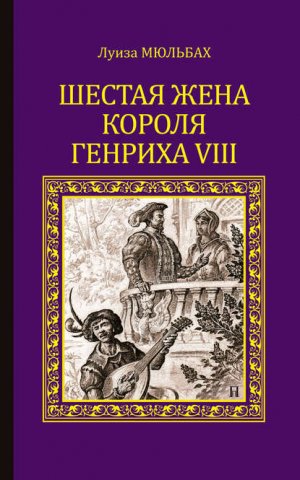
© ООО «Издательство «Вече», 2013©
ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе
Луиза Мюльбах – литературный псевдоним Клары Мюллер, одной из 11 детей Фридриха Мюллера, прусского юриста и бургомистра города Нойбранденбурга, и его жены Фридерики, урожденной Штрюбинг. Клара, а точнее Клара Мария Регина, родилась 2 января 1814 года. Она получила обстоятельное и многостороннее образование. Свой творческий путь девушка, как и многие люди пера, начала со стихов. По собственным словам Клары, желание писать родилось у нее после встречи с писательницей Идой Хан-Хан (настоящее имя – Ида Мария Луиза София Фридерика Густава, графиня фон Хан). Переехав в Берлин, Клара Мюллер сблизилась с либеральным кружком, близким к обществу «Молодая Германия». Свои первые опыты Клара послала на рецензию молодому писателю-историку Теодору Мундту, за которого впоследствии вышла замуж. Мундт положительно отозвался об этих сочинениях. После ряда рассказов и мелких повестей, которые были переизданы в 1860-х годах под серийным названием «Мелкие романы», Луиза (теперь она уже писала под псевдонимом) взялась за написание романов из современной жизни. Одна за другой выходят такие вещи, как «Судьба женщины» (1839), «Любовь и деньги» (1842), «Юстина» (1843).
После революции 1848 года, в событиях которой принимала участие и либерально настроенная чета Мундтов, Луиза Мюльбах перешла к созданию исторических романов. Их художественные достоинства невысоки, но они изобилуют интересными эпизодами, что и обеспечило этим книгам стойкий успех на литературном рынке. Романы Л. Мюльбах нравились тем, кто ценит в книге фабулу и не расположен обращать внимание на достоинства стиля. Исторические произведения писательницы интересны еще и тем, что сюжеты своих романов она строила на реальных мемуарах изображаемых ею героев. Свое предпочтение Луиза отдает известным личностям, жившим в XVIII–XIX веках. Первым в ее большой исторической библиотеке стал многотомный роман «Фридрих Великий и его двор» (1853). За ним последовали: «Иосиф II и его двор», «Исторические характеры», «Наполеон в Германии». Одновременно Луиза становится хозяйкой популярнейшего в Берлине литературного салона. Помимо собратьев по перу и берлинской богемы, салон посещают представители высшей прусской знати, например, принц Георг Прусский, герцог Эрнст фон Заксен-Кобург, Карл Гуцков и др.
После смерти мужа в 1861 году писательница продолжила свое творчество, создав такие популярные исторические романы, как «Эрцгерцог Иоганн и его время», «Шестая жена короля Генриха VIII», «Германия времен “Бури и Натиска”» и др. Последние 12 лет своей жизни Луиза Мюльбах много путешествовала и писала очерки о своих странствиях, например, «Письма из Египта» (1861), «Швейцария. Путевые зарисовки» (1865). Она публиковала очерки о личных впечатлениях во время путешествий по Франции, Ираку, Палестине. Писательница скончалась в Берлине в 1873 году. В следующем году увидел свет ее последний исторический роман «Протестантские иезуиты». Точное число написанных Луизой произведений неизвестно, потому что огромное множество ее «мелочей» рассеяно по газетным и журнальным страницам. Подсчитать их очень трудно. В современной Германии творчество Л. Мюльбах подзабыто, но в англоязычных странах, в том числе в США, ее исторические романы все еще пользуются популярностью. Видимо, потому, что они очень близки к современной «литературе факта».
Анатолий Москвин
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ Л. МЮЛЬБАХ:
«Фридрих Великий и его двор» (Friedrich der Große und sein Hof, 1853)
«Иосиф II и его двор» (Kaiser Joseph der Zweite und sein Hof, 1857)
«Наполеон в Германии» (Napoleon in Deutschland, 1859)
«Эрцгерцог Иоганн и его время» (Erzherzog Johann und seine Zeit, 1863)
«Шестая жена короля Генриха VIII» (Katharina Parr, Heinrichs VIII von England letze Königin, 1864)
Часть первая
I
Выбор Духовника
Это было в 1543 году. Английский король Генрих VIII снова стал самым счастливым, самым достойным зависти человеком во всем королевстве, так как сегодня он снова женился, а Екатерина Парр, молодая вдова барона Лэтимера, имела опасное счастье быть избранной шестой женой короля.
Разумеется, для вдовы незначительного барона было большой честью и громадной гордостью счастье стать законной супругой английского короля и возложить на свою главу королевскую корону. Тем не менее сердце Екатерины Парр сжимала какая-то смутная тревога, ее щеки были бледны и холодны, а сурово стиснутые губы едва-едва смогли разжаться пред алтарем, чтобы вымолвить налагающее брачные цепи «да».
Наконец священная церемония окончилась, и обе высшие духовные особы – Гардинер, епископ винчестерский, и Кранмер, епископ кентерберийский, повели, как того требовал придворный этикет, новобрачных в их покои, чтобы еще раз благословить их и помолиться вместе с ними до того, как начнется официальное празднование.
Как ни была бледна и взволнованна Екатерина, она все-таки проделала все необходимые церемонии с истинно королевской осанкой и достоинстом, и, когда она твердым шагом и с гордо поднятой головой шествовала между обоими епископами через роскошно убранные комнаты, никто не мог бы заподозрить, какие мрачные предчувствия трепетали в ее душе.
Вместе со своими спутниками и в сопровождении своей новой свиты она прошла через роскошные приемные комнаты и вступила во внутренние покои. Здесь, следуя этикету того времени, Екатерина должна была отпустить придворную свиту, так как в личные комнаты королевы могли проследовать только оба епископа и фрейлины. Но и оба епископа не смели пройти далее приемной королевы. Король подписал весь церемониал сегодняшнего дня, и тот, кто хотя бы на йоту осмелился отступить от его предписаний, был бы объявлен государственным преступником и поплатился бы за это, может быть, даже и жизнью.
Поэтому Екатерина с усталой улыбкой обратилась к обоим епископам и попросила их обождать здесь, пока она не позовет их. Затем она кивнула своим фрейлинам и проследовала в их сопровождении в уборную.
Епископы остались наедине в приемной, и казалось, что это было одинаково неприятно им обоим, так как лбы их покрылись густой сетью недовольных морщин; словно по взаимному уговору, они разошлись в противоположные углы комнаты.
Наступила продолжительная пауза. Не слышно было ни единого звука, кроме тиканья больших дорогих часов, стоявших на камине, да еще с улицы время от времени доносились отдаленные возгласы восторженных толп, шумящими потоками стекавшихся со всех сторон к дворцу.
Гардинер подошел к окну и с какой-то странной, мрачной улыбкой посматривал на облака, которые с бешеной скоростью мчались по небу, гонимые бурным ветром.
Кранмер стоял у стены и в печальном раздумье смотрел на портрет Генриха Восьмого, писанный мастерской рукой Гольбейна. И когда он смотрел на эту фигуру, выражавшую бездну истинно королевского величия и жестокости, когда вглядывался в эти глаза, смотревшие с мрачной строгостью, в эти губы, которые улыбались в одно и то же время и приветливо, и грозно, его охватило глубокое сочувствие к молодой женщине, которую он сегодня благословил на… блестящее несчастье. Он вспомнил, как ему пришлось уже вести к брачному алтарю и благословлять супружество двух прежних жен короля, а потом сопутствовать им обеим, когда они всходили на ступени эшафота.
Как легко могла подпасть достойная всякого сочувствия юная супруга короля такой же мрачной участи; как легко могла Екатерина Парр, подобно Анне Болейн и Екатерине Говард, заплатить за краткие часы блеска позорной смертью!.. Достаточно одного неосторожного слова, взгляда, улыбки – и она погибнет, так как подозрительность короля была безгранична и его жестокость не находила достойного наказания для того, кем он считал себя оскорбленным.
Вот какие мысли занимали епископа Кранмера. Они смягчили его и расправили на лбу суровые складки.
Теперь он уже сам улыбнулся тому неудовольствию, которое испытал незадолго пред этим, и сам упрекал себя в легкомысленном отношении к святости своего призвания, так как не выказал никакой готовности пойти навстречу своему врагу с попыткой примирения.
Кранмер знал очень хорошо, что Гардинер был его врагом; последний достаточно часто доказывал ему это своими поступками, хотя на словах и старался выказать расположение.
Но если Гардинер даже и ненавидел его, то из этого не следовало, что он, Кранмер, должен отвечать ему такой же ненавистью, что, презрев заветы своего высокого призвания, он имеет право назвать своим врагом того, кого должен был бы любить и почитать, как собрата.
Поэтому благородный Кранмер устыдился своего минутного недовольства. Ласковая улыбка осветила его спокойное лицо. С полной достоинства кротостью и нежной ласковостью он прошел через комнату, направляясь к епископу винчестерскому Гардинеру.
Тот посмотрел на него мрачным взглядом и, не отходя от оконной ниши, в которой стоял, стал поджидать, пока Кранмер подойдет к нему. Когда он посмотрел в это благородное, улыбающееся лицо, им овладело такое чувство, которое заставляло руки сжиматься в кулаки, от которого так и подмывало ударить этого человека, дерзавшего соперничать с ним в славе и почестях. Но в решительный момент Гардинеру пришло в голову, что в данную минуту Кранмер все-таки является фаворитом короля, так что с ним приходится быть осторожным. Поэтому он затаил в сердце свои дикие желания и заставил свое лицо принять обычное, серьезное и непроницаемое выражение.
Теперь Кранмер вплотную подошел к Гардинеру, и его светлый, сияющий взор остановился на мрачной фигуре.
– Ваше преосвященство, я подхожу к вам с тем, – заговорил Кранмер кротким, благозвучным голосом, – чтобы сказать вам, насколько я от всего сердца желаю, чтобы королева избрала вас своим духовником и пастырем души, и уверить вас, что в этом случае в моей душе не будет ни малейшего недовольства. Я отлично пойму, если ее величество изберет в свои духовники такого выдающегося и уважаемого священнослужителя, как вы, и все уважение и почтение, которое я питаю к вам, не сможет не увеличиться еще благодаря этому. Так позвольте же мне скрепить сказанное рукопожатием.
Он протянул Гардинеру руку, но последний, очень небрежно ответив на рукопожатие, сказал:
– Вы очень великодушны, ваше преосвященство, и в то же время вы – очень тонкий дипломат, так как хотите просто очень искусным и остроумным способом показать, что мне следует делать, если королева изберет пастырем души именно вас. А что она сделает это, вы знаете так же хорошо, как и я. Поэтому для меня просто унизительно стоять здесь из пустого требования этикета и ждать, выберут меня или с презрением оттолкнут в сторону.
– Но почему вы смотрите на все это дело с такой мрачной стороны? – кротко спросил Кранмер. – Почему вы хотите непременно усмотреть выражение презрения в том, что не вас выберут на такую должность, которую замещают не по заслугам или отличиям, а просто по индивидуальной симпатии молодой женщины?
– А, так вы признаетесь, что меня не выберут! – воскликнул Гардинер с злой усмешкой.
– Я уже сказал вам, что не имею ни малейшего понятия о желании и намерениях королевы, и мне кажется, что привычка епископа кентерберийского всегда говорить правду известна всем.
– Разумеется, это все знают… Но ведь все также знают, что Екатерина Парр была самой пламенной поклонницей епископа кентерберийского и что теперь, когда она добилась своих целей и стала королевой, она сочтет своим долгом выказать ему свою благодарность.
– Вы намекаете на то, что я сделал ее королевой? – воскликнул Кранмер. – Но уверяю вас, ваше преосвященство, что и в данном случае, как и во многих касающихся меня вещах, вы плохо осведомлены.
– Возможно, – холодно возразил Гардинер. – Во всяком случае можно не сомневаться, что юная королева является пламенной защитницей этой подлой новой религии, которая подобно чуме распространилась из Германии по всей Европе, принеся с собою порчу и растление для всего христианского мира. Да, Екатерина Парр, теперешняя королева, склоняется к учению того самого еретика, которого святой отец поразил громом своего отлучения; она всей душой предана реформации!
– Вы забываете, – с тонкой усмешкой сказал Кранмер, – что гром этого отлучения поразил и голову нашего короля и что он так же мало повредил Генриху Восьмому, как и Лютеру. Кроме того, осмелюсь напомнить вам, что мы не называем больше римского папу «святым отцом» и что вы сами признали короля главой церкви.
Гардинер отвернулся, чтобы не дать заметить недовольство, гнев, исказившие его лицо. Он чувствовал, что зашел слишком далеко и открыл слишком много из области своих сокровенных мыслей. Но его пылкая, страстная натура не всегда могла сдерживаться, и хотя обыкновенно он и бывал тонким дипломатом и гибким придворным, по временам наступали моменты, когда священник-фанатик одерживал в нем верх над придворным и дипломат был побеждаем служителем церкви.
Кранмер сочувствовал замешательству Гардинера и, следуя естественной доброте своего сердца, сказал:
– Давайте не будем здесь спорить о догматах и решать вопрос, кто более заблуждается – папа или Лютер. Мы находимся в приемной молодой королевы, так давайте же займемся немного судьбой этой женщины, которую Господь избрал для блестящей участи.
– Блестящей? – переспросил Гардинер, пожимая плечами. – Знаете, давайте-ка сначала подождем конца ее жизненного пути, а потом уже станем судить, был ли он блестящим… Уже много королев входило сюда с уверенностью, что будут почивать на розах и миртах, но наступал момент, когда им приходилось убеждаться, что их ложе было пылающим костром, сжегшим их тело.
– Это правда, – пробормотал Кранмер с легкой дрожью ужаса. – Быть супругой нашего короля – опасное счастье! Но именно потому нам и не следует увеличивать опасность ее положения, которое станет несравненно ужаснее, если мы присоединим ко всему еще и нашу ненависть и вражду. Вот поэтому-то я и обращаюсь к вам с просьбой, за исполнение которой с своей стороны ручаюсь словом: на кого бы ни выпал выбор королевы, не будем сердиться на это и таить планы мести! Господи Боже мой! Да ведь женщины – это такие бедные, странные существа, они так нерасчетливы в своих желаниях и симпатиях!
– Знаете, мне кажется, что вы чересчур хорошо знакомы с женщинами! – воскликнул Гардинер с злобной усмешкой. – В самом деле, не будь вы епископом кентерберийским и не запрети король под страхом тяжкого наказания духовенству вступать в брак, я мог бы подумать, что у вас самих имеется любимая женщина, которая и посвятила вас в основательное знание женского характера!
Кранмер отвернулся и с каким-то непонятным смущением старался избежать пытливых взглядов Гардинера.
– Мы говорили не обо мне, – сказал он наконец, – а о молодой королеве, и мне хотелось снискать для нее ваше расположение. Я видел ее сегодня почти в первый раз и никогда не говорил с нею, но весь ее вид сильно тронул меня, и мне показалось, будто ее взоры умоляли нас обоих стать ей поддержкой на том трудном пути, по которому до нее шло уже пять женщин, нашедших на этом пути только несчастье и слезы, только позор и кровавую судьбу.
– Так пусть же Екатерина старается не отступить от истинного пути, как это сделали все ее предшественницы! – воскликнул Гардинер. – Пусть она будет достаточно умна и вдумчива, и да просветит ее Господь и наставит в истинном знании и вере, дабы она не дала себя увлечь по ложной дороге безбожников и еретиков и оставалась всей душой среди истинно верующих!
– Кто же может сказать, что только он один верует истинно? – печально пробормотал Кранмер. – Ведь существует так много путей, ведущих к небу, и никто не знает, который из них является истинным!
– Тот, которым бредем мы! – воскликнул Гардинер с высокомерной гордостью служителя церкви. – Горе королеве, если она осмелится пойти другим путем. Горе ей, если она обратит свой слух и внимание к новому учению, идущему к нам из Германии и Швейцарии, если она погрузится сердцем в светскую мудрость! Я буду самым верным и ревностным слугой ее, если она будет со мной, но стану ее злейшим врагом, если она пойдет против меня!
– А назовете ли вы «идти против вас», если королева не изберет вас своим духовником?
– Уж не хотите ли вы, чтобы я назвал это «идти со мной»?
– Ну, так дай же Бог, чтобы она избрала вас! – воскликнул Кранмер с пламенной искренностью, сложив руки и обратив взор к небу. – Бедная королева! Первое доказательство любви твоего супруга может стать для тебя первым несчастьем! О, к чему он дал тебе свободу самой избрать своего духовника! Почему он сам не сделал этого выбора!
В этот момент дверь в королевские покои открылась, и на пороге появилась леди Джейн, дочь графа Дугласа и первая фрейлина королевы.
Затаив дыхание, оба епископа молчаливо смотрели на нее. Это был серьезный, торжественный момент, глубокое значение которого ясно сознавали все трое.
– Ее величество королева, – дрожащим голосом сказала леди Джейн, – приглашает его высокопреосвященство епископа кентерберийского явиться в ее кабинет, чтобы помолиться вместе с нею.
– Бедная королева! – пробормотал Кранмер, проходя комнаты и направляясь к королеве. – Бедная королева! Она только что приобрела непримиримого врага!
Леди Джейн подождала, пока Кранмер исчез за дверью, затем торопливо подбежала к епископу винчестерскому и, полусклонив пред ним колена, сказала с выражением глубокого смирения:
– Пощадите, ваше преосвященство, пощадите! Мои увещевания не привели ни к чему и не смогли поколебать ее решение!
Гардинер поднял коленопреклоненную и сказал с принужденной улыбкой:
– Хорошо, леди Джейн, я не сомневаюсь в вашей ревности. Вы – верная слуга церкви, и она за то будет любить вас и наградит, как мать. Значит, решено: королева…
– Еретичка! – шепотом договорила леди Джейн. – Горе ей!
– А будете ли вы верны нам и преданно служить нам?
– Я буду верна каждой мыслью и каждой каплей крови!
– Тогда мы одолеем Екатерину Парр, как одолели Екатерину Говард. На эшафот еретичку!
– На эшафот еретичку! – повторил граф Дуглас, который только что вошел в комнату и услыхал последние слова епископа. – Да, она погибнет, потому что мы будем ее бдительными и неустанными врагами. Но я нахожу, что с вашей стороны довольно неосторожно вести такие речи в приемной королевы. Давайте-ка выберем для этого более удобный час! Кроме того, вам, ваше преосвященство, надо отправиться в большой зал, где уже собрался весь двор и ждут только короля, чтобы в торжественной процессии отправиться за юной королевой и показать ее на балконе народу. Так идемте же!
Гардинер молча кивнул головой и отправился в большой зал. Граф Дуглас последовал за ним вместе с дочерью.
– Екатерина Парр погибла, – шепнул он на ухо леди Джейн. – Екатерина Парр погибла, и ты будешь седьмой женой короля!
В то время как в приемной велись эти речи, юная королева лежала распростершись ниц пред духовником и вместе с ним воссылала к Богу пламенные мольбы о счастье и мире. Слезы дрожали в ее глазах, а ее сердце сжималось словно в предчувствии близящегося несчастья.
II
Королева и ее подруга
Наконец-то стал приближаться к концу этот долгий день церемоний и торжеств, и Екатерина могла уже надеяться, что скоро прекратятся на сегодня эти бесконечные представления и улыбки.
Она показалась вместе с супругом на балконе, чтобы принять восторженные поздравления толпы и поблагодарить милостивым кивком головы. Затем в большом тронном зале пред ней продефилировал длинный ряд ее новоизбранной свиты, и с каждым лордом, с каждой леди она перекинулась парой ничего не говорящих, ласковых слов. Затем, восседая рядом с супругом, она дала аудиенцию депутации от столичного населения и парламента, но с внутренним ужасом внимала пожеланиям счастья и поздравлениям, с которыми до нее приветствовали уже пятерых жен короля.
Однако, несмотря на все это, Екатерина могла заставить себя улыбаться и казаться счастливой; она хорошо знала, что взоры короля ни на мгновенье не упускали ее из вида и что все эти дамы и кавалеры, рассыпавшиеся пред ней в льстивых приветствиях и комплиментах, в глубине души были ее самыми жесточайшими врагами. Ведь своей свадьбой она разрушила массу надежд, отодвинула в сторону много других женщин, считавших за собою гораздо больше, чем у нее, прав занять высокий пост королевы. Екатерина знала, что все эти разочаровавшиеся в своих надеждах дамы и их родственники никогда не простят ей того, что еще вчера она была равной им, а сегодня уже вознеслась до трона; она знала, что все они с зоркостью шпионов подстерегали каждое ее слово, движение, улыбку, чтобы иметь возможность выковать из этого обвинение или смертный приговор.
Наконец все эти представления, доказательства преданности и комплименты кончились, и празднество дошло до наилучшей своей части – все приглашенные отправились к столу.
Для Екатерины это было первой минутой отдыха, покоя. Она знала, что с того момента, как Генрих VIII садился за стол, он переставал быть величественным королем и ревнивым супругом, превращаясь в утонченного гастронома, страстного гурмана, и решение вопроса, удался ли паштет и достаточно ли тонок вкус у сазана, было для него гораздо важнее блага народа и процветания государства.
А после обеда наступил час нового отдыха, нового наслаждения, на этот раз – настоящего, которое даже на некоторое время заслонило в сердце Екатерины мрачные предчувствия и трепетные страхи и озарило ее лицо розовым светом веселости и грацией счастливого смеха.
Дело в том, что король Генрих приготовил для своей юной супруги совершенно неожиданный и своеобразный сюрприз. Он приказал в Уайтхольском замке устроить театр, на котором придворные разыграли комедию Плавта. До того времени еще не бывало театральных представлений, кроме религиозных, разыгрываемых народом во время больших церковных праздников, – мистерий и моралитетов. Король Генрих VIII был первым, кто устроил театр для светских представлений и приказал ставить на нем пьесы, сюжет которых заключался не в драматических эпизодах священной истории. И как он освободил церковь своего государства от ее духовного главы, римского папы, так теперь он хотел освободить и сцену от церкви, чтобы иметь возможность видеть на ней что-либо другое, кроме поджаривания святых и избиения богобоязненных монахов.
Представление римской комедии было новым, пикантным развлечением и большой неожиданностью для молодой королевы. Для удовольствия королевы Генрих приказал разыграть «Curculio», и хотя Екатерина с брезгливой краской стыда слушала неприличные и бесстыдные шутки римского народного поэта, зато Генриха это еще более веселило и вдохновляло, так что самые неприличные сцены вызывали у него взрывы грубого смеха и бурные аплодисменты.
Наконец и эта часть празднества окончилась, и Екатерина могла удалиться в спровождении фрейлин во внутренние покои.
Теперь она была одна, вне подозрительных взглядов. Улыбка исчезла с ее уст, и на лице отразился отпечаток глубокой грусти.
– Джейн, – сказала она своей фрейлине, графине Дуглас, – прошу тебя, закрой дверь и задерни занавески на окнах, чтобы никто не мог ни видеть, ни слышать меня – никто, кроме тебя, моей подруги, спутницы моих счастливых детских игр. О, боже мой, боже мой, к чему я была так неразумна и покинула тихий замок отца! Зачем я пустилась в бурный поток жизни, полной ужасов и отчаянья?
Леди Джейн смотрела на нее со злорадной усмешкой.
«Она – королева и плачет, – подумала она про себя. – Боже мой, ну как можно чувствовать себя несчастной, когда становишься королевой?»
Однако, приблизившись к Екатерине, леди Джейн присела на низенькую скамеечку у ее ног и, запечатлев горячий поцелуй на свисавшей руке королевы, сказала заискивающим тоном:
– Ваше величество, вы изволите плакать? Боже мой, так неужели же вы чувствуете себя несчастной? А я-то с таким торжеством радости приняла весть о поразительном счастье моей подруги, я надеялась встретить в ней светящуюся радостью, гордую и счастливую королеву!.. Ведь я боялась только одного, только одно терзало меня – это как бы королева не перестала быть моим другом. Поэтому-то я и торопила отца как можно скорее покинуть Дублин, чтобы, следуя вашему приказу, поспешить сюда. О боже, как бы хотела я видеть вас счастливой и гордой своим величием!
Екатерина провела руками по лицу и сказала со скорбной улыбкой:
– Ну и что же? Разве ты недовольна тем, что увидела? Разве же ты не видела во мне в течение целого дня улыбающейся королевы? Разве не была я одета в затканное золотом платье? Разве не сверкала моя шея бриллиантами? Разве из моих волос, красуясь, не выглядывала королевская диадема и разве не настоящий король сидел бок о бок со мной? Так довольно же этого теперь, Джейн! Целый день ты видела королеву, позволь же мне на краткий, мимолетный момент снова стать чувствующей и страдающей женщиной, которая может излить все свои жалобы и горести на груди своей подруги. Ах, Джейн, если бы ты знала, как страстно ждала я этого часа, который казался мне бальзамом для моего бедного, насмерть пораженного сердца, как весь этот день я молила небо только об одном: верни мне моего друга, возврати мне мою Джейн, чтобы она могла поплакать со мной, чтобы около меня было существо, которое понимает меня и не даст себя обмануть мишурным блеском внешнего великолепия!..
– Бедная Екатерина, бедная королева! – шепнула леди Джейн.
Екатерина испуганно вздрогнула и, закрыв своей усыпанной бриллиантами рукой рот Джейн, сказала:
– Не называй меня так! Королева! Боже мой, разве в одном этом слове не звучат все ужасы прошлого? Королева! Разве это не значит быть обреченной эшафоту и кровавому судилищу? Ах, Джейн, смертельный ужас холодит мне кровь! Я – шестая королева Генриха Восьмого. Значит, и я тоже буду осуждена или со стыдом и позором свергнута с трона.
Она закрыла лицо руками, все ее тело дрожало. Она не видела, с каким злорадством смотрела на нее леди Джейн, она не подозревала, с какой внутренней радостью встречала ее «подруга» эти жалобы и вздохи!
Но вслух леди Джейн сказала:
– К чему такие опасения, Екатерина? Король любит вас; весь двор обратил внимание на то, с какой нежностью и любовью смотрел он на вас сегодня и с каким восторгом прислушивался к каждому вашему слову. Успокойтесь! Король любит вас!
Екатерина, судорожно схватив ее за руку, шепнула:
– Король любит меня, а я… я дрожу пред ним; даже более того – меня пугает его любовь. Его руки обагрены кровью, а когда сегодня я видела его облеченным в пурпур, я подумала: скоро и моя кровь брызнет на этот царский багрянец!
Джейн засмеялась, после чего произнесла:
– Вы больны, Екатерина! На вас слишком сильно подействовала неожиданность вашего счастья, и чересчур возбужденные нервы вызывают в душе всевозможные страшные картины – вот и все!
– Нет, нет, Джейн, эти мысли вечно жили во мне. Они неотлучно роились во мне с того самого момента, когда король избрал меня своей супругой.
– Так почему же вы не отклонили от себя этой чести? – спросила леди Джейн. – Почему же не сказали «нет», когда король посватался к вам?
– Ты спрашиваешь, почему я этого не сделала? Ах, Джейн, разве ты до такой степени новичок при дворе, что не знаешь самой простой истины: надо или повиноваться приказу короля, или умереть! Боже мой! Мне еще завидуют! Меня называют величайшей и могущественнейшей женщиной во всей Англии! Да неужели никому не ясно, что я беднее и беспомощнее последней уличной нищенки, которая по крайней мере имеет право распоряжаться собою, как хочет? Я не смела выбирать сама, я должна была либо обречь себя смерти, либо принять королевскую руку, протянувшуюся ко мне. А ведь мне не хотелось еще умирать, мне еще очень много хочется от жизни, так как до сих пор я имела от нее крайне мало! Ах, это несчастное, безрадостное существование, которое было моим уделом до сих пор!.. Разве не представляло оно собой цепи отречений и лишений, осыпавшихся цветов и печальных туманных образов? Правда, до сих пор я еще не испытывала того, что обыкновенно называют несчастьем. Но разве может быть более глубокое несчастье, чем то, когда не знаешь счастья, когда жизнь течет без желаний и надежд и постоянная скука пронизывает эту безрадостную, окруженную блеском и роскошью жизнь?
– Ты не была несчастливой? – воскликнула Джейн. – Но ведь ты – круглая сирота?
– Я потеряла мать в таком раннем возрасте, что даже не знала ее, а когда умер отец, то это показалось мне скорее счастьем, так как по отношению ко мне он никогда не был настоящим отцом, он был только строгим тираном и повелителем.
– Но ведь ты была замужем!
– Замужем! – повторила Екатерина со скорбной улыбкой. – Это значит, что отец продал меня старому, разбитому параличом лорду Невилль, у постели которого я провела несколько безрадостных, скучных лет, пока мой муж не оставил меня богатой вдовой. Люди, разумеется, опять-таки назвали это счастьем, потому что я стала молодой независимой вдовой! Но к чему была мне эта независимость, раз меня сковали новыми узами? Сперва я была рабой отца, потом – мужа, а затем, по его смерти, – рабой своих владений. Я перестала быть сиделкой только для того, чтобы стать управительницей имения! О, это время было самым скучным во всей моей жизни, и все-таки ему я обязана своим единственным счастьем, так как в то время познакомилась с тобой, моя Джейн, и мое сердце, не знавшее доселе нежности, привязалось к тебе со всей стремительностью первой страсти. Поверь мне, Джейн, когда явился скитавшийся где-то вдали племянник моего мужа, оттягавший у меня имение, единственным моим горем была необходимость расстаться с тобой и твоим отцом, моими добрыми соседями по имению. Люди выражали мне сожаление по поводу потери владений, а я благодарила Бога, что Он снял с меня бремя этих забот, и переехала в Лондон, чтобы начать там наконец жить и чувствовать, чтобы познать настоящее счастье и истинное несчастье…
– И что же ты нашла здесь?
– Несчастье, Джейн, ибо я стала королевой.
– И это – твое единственное несчастье?
– Единственное, но оно достаточно велико, так как обрекает меня на вечный страх, на вечное притворство. Ах, Джейн! Скажу тебе одно – я живу и в то же время испытываю все муки смерти. Знаешь, Джейн, когда король явился ко мне, признался мне в любви и предложил свою руку, пред моими глазами внезапно нарисовалась страшная картина. Предо мною был не король, а палач! И мне казалось, что у его ног я вижу три трупа, так что с криком отчаяния я упала в глубоком обмороке к его ногам. Очнувшись, я увидала, что король держит меня в объятиях. Он вообразил, что я упала в обморок от неожиданного счастья. Он поцеловал меня и назвал своей невестой, он не допускал даже и мысли, чтобы я могла отказать ему! А я – ты можешь презирать меня за это, Джейн, – я не нашла в себе достаточно мужества, чтобы сказать решительное слово. Видишь ли, Джейн, люди называют меня честолюбивой, уверяют, что я дала Генриху согласие только потому, что он – король. Ах, не знают люди, как я боюсь этого королевского венца! Они не знают, что в ужасе я принялась умолять Генриха отказаться от меня, чтобы не восстанавливать против меня всех остальных женщин в королевстве. Они не знают, что я призналась ему в любви, но только для того, чтобы уверить его, будто я отказываюсь от своего счастья во имя счастья престола и короля; я заклинала его выбрать себе достойную супругу среди царствующих принцесс Европы. Но Генрих отверг мою жертву. Он хотел иметь такую королеву, которая принадлежала бы ему и как женщина, и как вещь, кровь которой он мог бы пролить как муж и повелитель! И вот я стала королевой. Я примирилась с ожидающей меня участью, но все-таки отныне все мое существование превратится в вечную борьбу со смертью. Зато я хочу по крайней мере продать свою жизнь как можно дороже, и библейское изречение, сообщенное мне Кранмером, будет теперь моим девизом на тернистом пути жизни!
– Какое изречение? – спросила Джейн.
– «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби», – ответила Екатерина, с усталой улыбкой склоняя голову на грудь и отдаваясь скорбным, полным мрачных предчувствий думам.
Что касается леди Джейн, то она с жестоким спокойствием смотрела на дрожащую королеву, которая, давши повод для радости всей Англии, сидела пред ней удрученная печалью и горем.
Вдруг Екатерина подняла голову. Ее лицо приняло теперь совершенно другое выражение, она вся светилась решимостью, твердостью и смелостью. С легким кивком головы она протянула руку подруге, привлекла ее к себе ближе и сказала, целуя ее в лоб:
– Благодарю тебя, Джейн, благодарю тебя! Ты успокоила мое сердце и освободила его от гнетущей тяжести затаенной скорби. Кто может высказаться, может открыть свое горе, тот почти избавился от него. Так спасибо же тебе, Джейн! Отныне ты будешь видеть меня веселой и полной решимости. Сейчас моими устами жаловалась тебе женщина; но ведь я теперь – королева и знаю, что мне надлежит выполнить столь же тяжелую, сколь и возвышенную задачу. И я даю тебе свое слово, что выполню ее. Новый свет, зажегшийся над миром, не должен затемняться более кровью и слезами, и в этой злосчастной стране не должно более выдавать истинно верующих и разумных за бунтовщиков и еретиков! Вот задача, которую внушил мне Господь, и клянусь тебе, что я выполню ее. Поможешь ли ты мне и в этом, Джейн?
Леди Джейн ответила рядом каких-то несвязных слов. Екатерина не поняла их и, взглянув на Джейн, с удивлением заметила, какой смертельной бледностью покрылось ее лицо. Екатерина еще раз пытливо и внимательно взглянула ей прямо в глаза.
Пред этим пламенным, испытующим взглядом леди Джейн потупилась. На мгновенье фанатизм пересилил в ней все остальные соображения, и как ни приучилась она скрывать свои истинные мысли и чувства, на этот раз дала им прорваться наружу и выдала их проницательным взорам подруги.
– Мы уже давно не видались с тобой, – грустно сказала Екатерина, – целых три года! Это – большой срок для сердца девушки! А ведь эти три года ты была с отцом в Дублине при строго-католическом дворе. Этого я не приняла во внимание! Но, как бы ни изменились твои убеждения, я уверена, что твое сердце осталось прежним и ты наверное осталась прежней гордой, великодушной Джейн, которая прежде никогда не унижалась до лжи, хотя бы эта ложь и могла снискать тебе счастье и выгоду. Так я спрашиваю тебя, Джейн, какой религии ты придерживаешься? Веришь ли ты в святость римского папы или же следуешь новому учению, провозглашенному миру Лютером и Кальвином?
Леди Джейн, улыбнувшись, ответила:
– Разве я решилась бы появиться пред вами, если бы склонялась в душе к католической церкви? Екатерину Парр приветствуют все английские протестанты как новую покровительницу запрещенного учения, а католические попы уже призывают анафему на ее главу и проклинают как ее самое, так и ее новое счастье. А вы еще спрашиваете меня, не принадлежу ли я к числу приверженцев той самой церкви, которая проклинает и предает анафеме вас? Вы спрашиваете меня, верю ли я в папу, оскорбившего буллой отлучения того самого короля, который является не только моим повелителем и господином, но и супругом моей обожаемой Екатерины! О, королева, вы не любите меня, если обращаетесь ко мне с подобными вопросами!
И, будто бы полная страдания, леди Джейн рухнула к ногам Екатерины и зарылась головой в складках ее платья.
Екатерина наклонилась к ней, чтобы поднять ее и прижать к своему сердцу. Вдруг она вздрогнула, и смертельная бледность покрыла ее лицо.
– Король! – шепнула она. – Король идет сюда!
III
Король Генрих VIII
Екатерина не ошиблась. Дверь открылась, и на пороге показался обер-гофмаршал с золотым посохом в руках.
– Его величество король! – шепнул он торжественным, серьезным тоном, наполнившим Екатерину тайным ужасом, словно в этих словах для нее внезапно прозвучал смертный приговор.
Но она заставила себя улыбнуться и приблизилась к двери, чтобы встретить короля.
Теперь послышался громовый грохот, и по гладко выструганному полу зала покатился большой, посаженный на колеса стул, в который вместо лошадей были запряжены люди. С тонким льстивым умыслом этот стул был сделан в виде триумфального сиденья древних победоносных римских цезарей, чтобы при прогулках по залам в этом экипаже доставлять королю приятную иллюзию, будто он совершает триумфальную поездку и к трону цезарей его приковывает совсем не тяжесть его жирных членов. Король Генрих VIII охотно верил льстивому обману кресла и придворных, и, когда в залитой золотом зале видел в венецианских зеркалах свой образ отраженным тысячею изображений, он с удовольствием погружался в грезы триумфатора и совершенно забывал, что этому стулу он обязан не величием подвигов, а грузностью тела.
Эта отвратительная гора мяса, целиком заполнявшая колоссальный стул, эта куча говядины, облаченная в пурпур, эта обрюзгшая, бесформенная фигура была Генрихом Восьмым, королем «счастливой Англии». Но на этой бесформенной груди была еще и голова!
Последняя была полна мрачными, гневными мыслями, а сердце томилось жаждой кровавых, зловещих зрелищ. Хотя необъятное тело и было приковано к стулу своей громоздкостью, однако его дух не отдыхал никогда и вечно хищным коршуном носился над головами подданных, чтобы наметить себе невинную голубку, на которую он мог бы броситься с когтями, выпить ее кровь и вырвать сердце, чтобы возложить его трепещущим и горячим на алтарь своего кровожадного бога.
Стул короля остановился, и Екатерина со смеющимся лицом поспешила к нему, чтобы помочь своему царственному супругу вылезть.
Генрих приветствовал ее милостивым кивком головы и отверг помощь прислуживавших пажей.
– Отойдите! – сказал он им. – Отойдите прочь! Здесь мне должна протянуть руку помощи одна только Екатерина, чтобы с улыбкой радости ввести в брачный покой! Идите, мы чувствуем себя сегодня юными и сильными, словно в самые счастливые и прекрасные дни прошлого, и молодая королева должна увидеть, что ее ласки добивается не расслабленный годами старец, а сильный, помолодевший от любви муж! Не подумай, Кэт, что я воспользовался этим стулом по слабости. Нет, это произошло потому, что, тоскуя и страстно желая тебя, я хотел увидать тебя как можно скорее! – Он, улыбаясь, поцеловал супругу в лоб и, слегка опираясь на ее руку, легко слез со стула. – Убирайтесь теперь с этим экипажем, убирайтесь все! – сказал он. – Мы хотим остаться наедине с этой юной, прекрасной женщиной, которую господа епископы отдали сегодня нам в собственность!
Следуя знаку руки короля, вся блестящая свита удалилась, и Екатерина осталась наедине с супругом. Ее сердце билось так бешено, что губы дрожали и грудь бурным валом вздымалась под платьем.
Генрих видел это и улыбался, но то была холодная, мрачная улыбка, от которой Екатерина побледнела.
«Даже в любви его не покидает улыбка тирана! – подумала она. – Быть может, еще только вчера он с этой же самой улыбкой, с которой теперь хочет признаться мне в любви, подписал чей-нибудь смертный приговор или сделает это завтра же».
– Любишь ли ты меня, Кэт? – внезапно спросил король, смотревший до того времени на жену с молчаливым раздумьем. – Скажи, Кэт, любишь ли ты меня?
Он пытливо посмотрел ей в глаза, как будто желая проникнуть в самую душу.
Екатерина выдержала его взгляд и не отвела своего взора. Она чувствовала, что этот момент является решающим и должен отразиться на всем ее будущем, и уверенность в этом давала ей особенную энергию и твердость.
Теперь она была уже не робкой, дрожащей девушкой, но решительной, смелой женщиной, готовой бороться с судьбой за свое величие и блеск.
– Любишь ли ты меня, Кэт? – переспросил ее король, и его высокое чело слегка омрачилось.
– Не знаю! – ответила Екатерина с улыбкой, очаровавшей короля, так как в ней было столько пленительной кокетливой грации, столько задорной стыдливости!
– Ты не знаешь этого? – с удивлением повторил Генрих. – Ну, клянусь Божьей Матерью, первый раз в моей жизни женщина решается дать мне подобный ответ! Ты – храбрая женщина, Кэт, и я хвалю тебя, что ты решаешься ответить мне таким образом. Я люблю храбрость, так как редко встречаю ее в других. Ведь все дрожат предо мной, Кэт, все! Все знают, что я не отступлю пред кровопролитием и что в твердом сознании королевской власти и долга я так же спокойно подпишу смертный приговор, как и любовное письмо.
– О, вы – великий король! – пробормотала Екатерина.
Генрих не обратил внимания на ее слова. Он углубился в самосозерцание, которому отдавался с удовольствием, непрестанно утверждаясь в своем величии и великолепии.
– Да, – продолжал он, и его глаза, бывшие, несмотря на ожирение, очень большими, засветились ярким пламенем. – Да, все дрожат предо мной, потому что знают меня за строгого и справедливого короля, не щадящего своей собственной крови, когда дело идет о том, чтобы карать и предупреждать преступления и наказывать преступника, не разбирая того, насколько близко стоит он к королевскому трону. Поэтому берегись, Кэт, берегись! Ты видишь во мне Божьего мстителя, судью людей! Короли носят пурпур не потому, что он красив и ярок, а потому, что он красен, как кровь, и потому, что предвечное право королей – проливать кровь преступных подданных, чтобы человеческие прегрешения не оставались неотмщенными. Только так понимаю я свою власть, и так я буду проводить ее вплоть до конца своих дней. Не правом миловать, а правом карать отличаются властители от других, более низко стоящих людей. На устах короля должен вечно дрожать Божий гром, и словно молния должен низвергаться гнев короля на главу виновного.
– Но ведь Господь – не только Бог гнева, но и Бог сострадания и прощения, – сказала Екатерина, стыдливо и застенчиво опуская голову на плечо короля.
– В том-то и заключается преимущество Бога пред королями, что Он может давать место жалости и милосердию там, где мы, короли, можем только карать и казнить. Ведь должно же быть нечто, что делает Бога более великим и мощным, чем короли! Но что я вижу, Кэт? Ты дрожишь, и на твоем милом личике исчезла ласковая улыбка? О, не бойся меня, Кэт! Будь всегда правдива со мной, тогда я постоянно буду любить тебя и ты будешь в полной безопасности. А теперь, Кэт, объясни, как это ты не знаешь, любишь меня или нет?
– Я не знаю этого, ваше величество. Да и как мне знать и называть каким-либо именем то, что совершенно мне незнакомо?
– Так ты никогда не любила, Кэт? – спросил король с выражением радости.
– Никогда! Отец обращался со мной очень дурно, и я не могла чувствовать к нему ничего, кроме ужаса и страха!
– А супруга, Кэт? Того человека, который был моим предшественником в обладании тобою, разве ты не любила?
– Супруг? – раздумчиво спросила она. – Правда, отец продал меня лорду Невиллю, и, когда священник соединил наши руки, люди стали называть меня его женой. Но он отлично знал, что я не любила его, да ему этого и не нужно было. Ему нужна была не женщина, а сиделка. Лорд дал мне свое имя, как его дает отец своей дочери, и я была для него только дочерью, верной, послушной дочерью, которая с радостью исполняла все свои обязанности и ухаживала за ним вплоть до самой его смерти.
– Ну а после его смерти, дитя? Ведь с того дня протекли годы, Кэт! Ну скажи, умоляю тебя, Кэт, скажи правду, только самую чистую правду! Разве ты ни разу не любила после смерти твоего мужа?
Король смотрел на жену с видимым страхом и с громадным напряжением искал ответа в ее взоре. Но она не отвела от него своих глаз и сказала ему с очаровательной улыбкой:
– О, еще до недавнего времени, еще несколько недель тому назад я частенько плакала над собой в отчаянии от одиночества и холода моего существования. Мне так хотелось вскрыть свою грудь и поискать там, где же потерялось сердце, которое оставалось равнодушным и холодным и не выдавало мне горячим биением своего существования. О, ваше величество, я тосковала над собой и в своей безумной торопливости уже роптала на небеса, лишившие меня благороднейшего преимущества женщины, а именно: прекраснейшего права и способности любить!
– Ты говоришь, Кэт, что это было с тобой вплоть до недавнего времени? – с испугом спросил король.
– Да, ваше величество, вплоть до самого дня, в который вы оказали мне честь впервые заговорить со мной!
Король слегка вскрикнул и, порывисто прижав Екатерину к себе, спросил:
– Ну а с тех пор, скажи мне, мой маленький, нежный голубок, бьется твое сердце?
– Да, ваше величество, оно бьется, о, так бьется, словно хочет разорваться! Когда я заслышу ваш голос, когда я вижу ваш облик, то мне кажется, что холодная жуть насквозь пронизывает меня всю и вся кровь приливает к сердцу. Мне кажется, будто мое сердце заранее чувствует ваше приближение, еще до того, как глаза видят вас. Ведь еще пред тем, как вы входите ко мне, я чувствую особенный трепет сердца и дыхание спирает в моей груди; и когда это случается, я всегда знаю, что вы приближаетесь ко мне и что скоро ваше присутствие освободит меня от этого напряженного состояния. Когда вас нет со мной, я думаю о вас, а засыпая, вижу во сне только вас одних. Скажите же мне, ваше величество! – ведь вы знаете все! – скажите, люблю ли я вас?
– Да, да, ты любишь меня! – воскликнул Генрих, почувствовавший себя, благодаря такому неожиданному признанию, юношески пылким. – Да, Кэт, ты любишь меня, и если я смею верить твоим нежным признаниям, то я – твоя первая любовь! Повтори мне еще раз: ты была лорду Невиллю только дочерью и больше ничем?
– Больше ничем, ваше величество!
– И у тебя никогда не было любовников?
– Никогда, ваше величество!
– Так неужели же должно исполниться счастливое чудо! Неужели же я женился не на вдове и сделал королевой чистую девушку? – воскликнул Генрих.
Под взором пламенных страстных глаз короля Екатерина потупилась, и глубокий румянец залил ей лицо.
А король, бурно прижимая ее к своей груди, воскликнул:
– О, вот женщина, которая краснеет от стыда!.. Что за очаровательное зрелище!.. Ну разве же все мы, даже не исключая и королей, не являемся глупыми, близорукими людьми! Чтобы не обрекать и своей шестой жены кровавой плахе, я, не доверяя похотливой испорченности вашего пола, избрал себе в жены вдову, а эта вдова, по счастливой случайности, осмеивает новый закон[1] мудрого парламента и исполняет то, чего даже не обещала. Подойди ко мне, Кэт, дай мне поцеловать тебя! Ты открыла сегодня предо мной счастливую, сияющую будущность и приготовила мне неожиданную гордую радость. Благодарю тебя за это, Кэт, и да будет моим свидетелем Матерь Божия, что я никогда не забуду этого! – Он снял с пальца драгоценное бриллиантовое кольцо, надел его ей на палец и затем продолжал: – Пусть это кольцо будет тебе напоминать о настоящем часе, и если ты когда-либо обратишься ко мне с какой бы то ни было просьбой и покажешь это кольцо, то я исполню ее.
Он нежно поцеловал супругу в лоб и хотел крепче сжать ее в объятиях, как вдруг снаружи донеслись приглушенная дробь барабанов и звон колоколов.
Генрих вздрогнул и выпустил Екатерину из своих объятий. Он прислушался: бой барабанов продолжал звучать, время от времени издали доносились всплески шума, напоминавшего морской прибой и, очевидно, производимого большой массой народа.
С диким проклятием король распахнул стеклянные двери и вышел на балкон.
Екатерина смотрела ему вслед с загадочной полустыдливой, полурассерженной улыбкой.
– По крайней мере я так и не сказала ему, люблю ли я его, – тихо пробормотала она. – Он сам истолковал мои слова так, как подсказывало ему тщеславие. Но как бы там ни было, а я не желаю умирать на эшафоте!
Решительным шагом она последовала за королем на балкон.
Барабанный бой все еще продолжался, и изо всех церквей лился колокольный звон.
Ночь была очень темной и тихой; казалось, что весь Лондон погрузился в глубокий сон, и темные силуэты домов вздымались вокруг, словно громадные гробы.
Вдруг горизонт начал освещаться, и на небе показалась ярко-красная полоса, которая разгоралась все ярче и ярче, так что вскоре весь горизонт оказался залитым пурпурными потоками огня, и даже на балкон, где стояла королевская чета, огненными отблесками ложились яркие полоски.
Колокола все еще заливались и стонали, и время от времени издали доносились пронзительные крики и ропот тысяч смешавшихся голосов.
Вдруг король обернулся к Екатерине, и его лицо, казавшееся пред тем покрытым кроваво-красной вуалью, теперь пылало дикой, демонической радостью.
– Ах, – сказал он, – я знаю, что это такое! Ты, моя маленькая чародейка, совсем сбила меня с толку и лишила ясности мысли! На мгновение я перестал быть королем, так как хотел всецело и безраздельно быть твоим любовником. Теперь же я снова вспоминаю о прелести моей карающей власти! Это костры пылают там так весело, а шипение и крики означают то, что мой веселый народ всей душой радуется той комедии, которую я приказал разыграть сегодня пред ними во славу Божию и во имя моего королевского достоинства!
– Костры? – дрожа, воскликнула Екатерина. – Но ведь вы не хотите этим сказать, ваше величество, что как раз в эту минуту там умирают люди в страданиях и муках, что в тот самый момент, когда король называет себя счастливым и довольным, некоторые из его подданных обречены отчаянному несчастью и самым ужасным мучениям? О нет, мой король не станет омрачать свадебный день своей королевы печальным соседством смерти! Он не захочет до такой степени смутить всю радость моего счастья!
Король засмеялся.
– Нет, я не только не хочу омрачить для тебя этот день, но, наоборот, желаю озарить его веселыми струйками огня, – ответил он, простирая руки и показывая на пылающее небо. – Это – наши свадебные факелы, дитя, самые прекрасные и святые факелы, моя Кэт, так как они горят во имя Бога и короля! А вздымающееся к небесам пламя, уносящее души еретиков, взметнется к Богу и передаст Ему радостную весть, что самый верный и послушный из его сынов не забывает королевских обязанностей даже в день своей величайшей радости и всегда остается карающим слугой своего Бога.
Генрих был страшен, говоря это. Его освещенное пламенем лицо приняло дикое, угрожающее выражение, его глаза пылали, на тонких, тесно сжатых губах играла холодная, мрачная улыбка.
«О, ему неведомо сострадание! – сказала про себя Екатерина, в ужасе глядя на короля, с фантастическим воодушевлением любовавшегося потоками пламени, в которых сейчас, быть может, извивался в предсмертных муках какой-либо его несчастный подданный, страдавший «во славу Божию и во имя короля». – Нет, ему неведомо страдание и жалость!»
Теперь Генрих обернулся к ней и, нежно охватив рукой затылок, обвил пальцами ее стройную шею, нашептывая ей на ухо нежные слова и признания.
Екатерина задрожала. В этих ласках короля для нее заключалось что-то особенно непристойное и отвратительное. Ей казалось, будто палач щупает шею своей жертвы, выискивая место, где он может попасть наверняка.
Так когда-то Анна Болейн, вторая супруга Генриха VIII, обвив шею своими нежными, белыми ручками, обратилась к специально выписанному из Кале палачу с следующими словами:
– Прошу вас, постарайтесь попасть сразу и метко! Ведь у меня такая маленькая, узенькая шейка!
Так схватил король за шею Екатерину Говард, свою пятую жену, когда она хотела прижаться к нему, а он, убежденный в ее неверности, отбросил ее от себя с дикими проклятиями. Черные полосы от его пальцев были еще видны на ее шее, когда она положила голову на плаху.
А теперь для Екатерины Парр это страшное прикосновение означало ласку, на которую она должна была отвечать улыбкой и радостным взором!..
Обвив ее шею, Генрих шептал ей нежные слова и вплотную прижался лицом к ее щеке.
Но Екатерина не обращала внимания на его страстные нашептывания. Она не видела ничего, кроме кроваво-красных полос на небе; она не слышала ничего, кроме жалобных стонов осужденных.
– Пощадите, пощадите! – простонала она. – О, пусть сегодняшний день будет праздником для всех ваших подданных! Будьте милосердны, и если вы на самом деле любите меня, то исполните мою первую просьбу, с которой я обращаюсь к вам. Подарите мне жизнь этих несчастных! Пощадите, ваше величество, пощадите!
И вдруг, словно мольбам королевы ответило эхо, из комнаты послышался полный отчаяния жалобный голос, повторивший:
– Пощадите, ваше величество, пощадите!
Генрих резко повернулся, и его лицо приняло мрачное, гневное выражение. Он уставился на Екатерину, словно желая прочесть на ее лице, знает ли она, кто дерзает вмешиваться в их разговор.
Но лицо Екатерины выражало только глубочайшее изумление.
– Пощадите, пощадите! – повторил голос.
Король издал крик ярости и бросился в комнату.
IV
Король Божьим гневом
– Кто осмеливается мешать нам? – воскликнул Генрих, бурно врываясь с балкона в комнату. – Кто осмеливается говорить здесь о пощаде?
– Я осмеливаюсь на это! – ответила какая-то молодая дама, которая с бледным, горестным лицом подбежала к королю и в сильном возбуждении бросилась к его ногам.
– Мария Аскью! – в отчаянии воскликнула Екатерина. – Мария, что тебе нужно здесь?
– Пощады нужно мне, пощады для этих несчастных, которые страдают там! – воскликнула девушка, показывая с выражением полного отчаяния на побагровевшее небо. – Я прошу пощады ради самого короля, который хочет быть настолько жестоким, чтобы отправлять на бойню, словно скотов, самых лучших, самых благородных из своих подданных!
Королева пришла в ужас при этих горячих словах девушки. Она знала своего супруга; знала, что каждому, осмелившемуся сказать ему дерзкое слово, грозила строжайшая немилость, а порой даже и смерть. И чтобы отвлечь от Марии грозившую ей участь, она умоляюще воскликнула, обращаясь к Генриху:
– О, ваше величество, сжальтесь над этим несчастным ребенком! Сжальтесь над ее пламенным возбуждением и ее юной пылкостью. Она еще не привыкла к таким картинам ужаса; она еще не знает, что к числу печальных обязанностей короля принадлежит обязанность карать там, где он, быть может, охотно миловал бы!
Генрих улыбнулся, но взор, который он бросил на коленопреклоненную пред ним девушку, заставил Екатерину задрожать. В этом взоре она прочла смертный приговор.
– Если не ошибаюсь, – спросил король, – Мария Аскью служит при вас второй фрейлиной и назначение ее произошло по вашему настоятельному желанию?
– Да, ваше величество, – ответила Екатерина.
– Значит, вы ее знаете?
– Нет, ваше величество: несколько дней тому назад я увидала ее в первый раз. Но она очень понравилась мне с первой встречи, и я почувствовала, что буду любить ее, как друга.
Но король все еще думал о чем-то, и ответы Екатерины не удовлетворили его.
– Почему же вы так интересовались этой молодой особой, если даже не знали ее? – спросил он.
– Мне горячо рекомендовали ее!
– Кто рекомендовал ее вам?
Екатерина запнулась: она почувствовала, что в своей поспешности зашла, пожалуй, слишком далеко и королю небезопасно говорить правду.
– Епископ Кранмер, ваше величество! – ответила Екатерина, поднимая взор на короля и смотря на него с бесконечно очаровательной улыбкой.
В этот момент с улицы донесся оглушительный грохот барабанов, сквозь который прорывались жалобные крики и стоны. Огненные языки взметнулись еще выше, и теперь совершенно ясно было видно, как пламя с злорадной жадностью порывалось лизнуть небеса.
Мария Аскью, почтительно молчавшая во время разговора королевской четы, не выдержала, и напряженность момента лишила ее последних остатков осторожности.
– Боже мой, боже мой! – сказала она, дрожа от ужаса и с мольбой простирая руки к королю. – Разве же вы не слышите ужасного стона отчаяния этих несчастных? Ваше величество, заклинаю вас вашим собственным смертным часом, сжальтесь над этими несчастными! Прикажите по крайней мере убить их сначала, а потом уже бросать в пламя! Избавьте их от этого ужасного мучительства!
Генрих бросил гневный взор на коленопреклоненную девушку, затем подошел к двери, ведшей в соседний зал, где короля поджидали придворные, кивнул епископам Кранмеру и Гардинеру, чтобы они подошли ближе, и приказал лакеям широко распахнуть двери зала.
Вся сцена производила какое-то своеобразное впечатление, эта столь тихая до того комната вдруг стала ареной большой драмы, которая, быть может, должна была кончиться кровавым эпилогом.
Главные персонажи этой сцены все еще оставались в небольшой, обставленной с блеском и роскошью спальне королевы. Посредине комнаты стоял король в расшитой золотом и блестевшей драгоценными камнями одежде, ослепительно сверкавшей в свете люстры. Рядом с ним стояла молодая королева, и ее прекрасное, милое лицо с боязливым напряжением было обращено к королю, по строгим и мрачным чертам которого она словно старалась разгадать развязку этой сцены. Недалеко от них на коленях стояла девушка, скрывая в ладонях залитое слезами лицо; далее, сзади, стояли оба епископа, смотревшие на группу с серьезным, холодным спокойствием.
Сквозь широко распахнутые двери зала можно было видеть напряженные, полные любопытства лица придворных, которые тесной толпой стояли у дверей, а против них, сквозь открытую балконную дверь, видно было пылавшее заревом небо, с улицы доносились звон колоколов, грохот барабанов, стоны и вой народа.
Затем наступила глубокая тишина, и когда вслед за этим король заговорил, звук его голоса дышал таким железным спокойствием и холодом, что всех присутствующих пронизал невольный трепет.
– Ваши высокопреосвященства, – обратился он к епископам, – мы призвали вас, чтобы силой ваших молитв и мудростью ваших слов вы изгнали из этой молодой особы беса, которым она, без сомнения, одержима, так как она дерзает обвинять своего короля и повелителя в жестокости и несправедливости.
Оба епископа подошли ближе к коленопреклоненной девушке; оба положили ей руки на плечи и склонились к ней, но каждый с особым выражением лица. Взгляд Кранмера был ласков и кроток, и сочувственная, ободряющая улыбка была на его тонких устах. Наоборот, выражение лица Гардинера сохраняло ясный отпечаток холодной, мрачной иронии, а улыбка, игравшая на его толстых, чувственных губах, ясно говорила о радости бессердечного жреца, готового заколоть пред алтарем своего идола трепещущую жертву.
– Ободрись, дочь моя, ободрись и оправься, – шепнул Кранмер.
– Да будет над тобой и нами всеми Бог, благословляющий праведных и карающий грешников! – сказал Гардинер.
Но Мария Аскью почувствовала ужас от прикосновения его руки и резким движением высвободила плечо.
– Не трогайте меня! Это вы – палач тех несчастных, которых казнят теперь там! – резко сказала она, а затем, снова обращаясь к королю и умоляюще простирая к нему руки, она воскликнула: – Пощадите, король Генрих, пощадите!
– Пощадить? – повторил король. – Пощадить? А кого? Тех, кого казнят там, на улице? Так скажите же мне, ваши высокопреосвященства, кого возводят сегодня на костры? Кто осужден?
– Это – еретики, которые обвиняются в исповедании нового вероучения, занесенного к нам из Германии. Они решаются отвергать духовную власть нашего господина и короля! – сказал епископ Гардинер.
– Это – католики, которые признают римского папу за верховного пастыря христианской церкви и не желают кроме него считать никого своим господином! – произнес епископ Кранмер.
– Вот видите, – воскликнул король, – эта юная девица обвиняет нас в несправедливости, однако там, на кострах, находятся не только еретики, но и католики. Поэтому мне кажется, что мы, как и всегда, справедливо и беспристрастно предаем эшафоту только действительно виновных!
– О, если бы вы увидали то, что я видела, – с ужасом сказала Мария Аскью, – тогда вы собрали бы все свои жизненные силы для одного-единственного крика, который выразился бы в единственном слове: «Пощадите!» И вы крикнули бы это слово отсюда прямо к месту мучения и отчаяния!
– Что же вы видели там? – улыбаясь, спросил король.
Мария Аскью выпрямилась, и ее стройная фигура поднялась теперь, словно лилия, между обеими темными фигурами епископов. Ее глаза были неподвижны и широко раскрыты, на благородных и нежных чертах лица лежал отпечаток отчаяния и ужаса.
– Я видела женщину, которую вели на казнь, – сказала она. – Это была не преступница, а знатная дама, гордое и возвышенное сердце которой никогда еще не затаивало в себе мысли о предательстве или неверности. Она была верна своей вере и убеждениям и не могла отречься от Бога, которому служила. Когда она шла через толпу, казалось, будто сияние мученического венца окружает ее голову и ее седые волосы сверкают серебряными лучами. Все решительно склонялись пред ней, и самые бессердечные мужчины плакали при виде этой несчастной женщины, которая прожила на свете более семидесяти лет и которой не могли позволить умереть на ее старческом одре, а хотели убить во славу Бога и короля. Она же улыбалась и ласково кивала рыдающему народу, и шла к эшафоту так, как будто это был трон, на который ей стоит только воссесть, чтобы принять восторги и почести толпы. Двухгодичное тюремное заключение заставило побледнеть ее щеки, но не в силах было затушить огонь ее глаз и убить силу ее духа; а бремя семи десятков прожитых лет не заставило ее склонить свою голову и не сломило ее мужества. Гордо и твердо поднялась она по ступенькам эшафота, еще раз поклонилась народу и воскликнула: «Я помолюсь пред Господом за вас». Когда же она подошла к палачу и тот потребовал, чтобы она дала связать свои руки и встала на колена, положив голову на плаху, эта женщина воспротивилась и гневно оттолкнула его от себя. «Только предатели и преступники кладут свою голову на плаху! – воскликнула она громовым голосом. – Я же не обязана делать это и не желаю подчиняться вашим кровавым законам, пока еще во мне есть хоть капля дыхания жизни! Возьмите же ее, если сможете!» И тут началась такая ужасная сцена, которая объяла сердца всех присутствующих отчаянием и ужасом. Словно затравленный зверь, бегала графиня вокруг плахи. Ее седые волосы развевались по ветру, а черное платье обвивало ее темным облаком. А за ней бегал в своем кроваво-красном одеянии палач с занесенным топором в руке. Он старался поразить ее ударом топора, она же, поворачивая голову то туда, то сюда, старалась избежать его смертоносных ударов. Но в конце концов ее сопротивление становилось все слабее и слабее, удары топора начали попадать в нее и окрасили кровью ее седые волосы, свисавшие на плечи пурпуровыми полосами. С раздирающим сердце криком она рухнула без чувств на помост. Но рядом с ней упал и палач, обессилевший в этой погоне, от которой подкосились его ноги и руки. Тяжело дыша, он не был в силах подтащить бесчувственную, истекавшую кровью старуху к плахе, не был в состоянии поднять топор, чтобы отделить ее благородную голову от туловища. Народ выл от горя и ужаса и, рыдая, умолял о пощаде. Сам лорд верховный судья не мог сдержать слезы. Он приказал прекратить эту страшную работу, пока графиня и палач не отдохнут, потому что, как гласит закон, осуждена должна была быть не умирающая, а живая. Графиню распростерли на эшафоте и старались привести ее в чувство. Палачу влили в рот крепкого вина, чтобы придать ему новые силы для его злодейского дела… Народ отвернулся к воздвигнутым по обеим сторонам эшафота кострам, на которых собирались сжечь четырех остальных мучеников. Я же бросилась бежать прочь оттуда, и вот, король, я лежу у ваших ног. Еще есть время! Пощадите, король, пощадите графиню Соммерсет, последнюю из Плантагенетов![2] Последующие династии на английском престоле, Ланкастерская и Йоркская, были ответвлениями этого дома.)
– Пощадите, ваше величество, пощадите! – повторила Екатерина Парр, с плачем и трепетом прижимаясь к супругу.
– Пощадите! – повторил и архиепископ Кранмер, за которым шепотом это же слово робко повторили некоторые из придворных.
Большие сверкающие глаза короля быстрым проницательным взглядом окинули всех собравшихся.
– Ну, а вы, архиепископ Гардинер, – спросил он затем с выражением холодной иронии, – не хотите разве тоже просить о пощаде, как все эти мягкосердечные души?
– Господь Бог наш – карающий Бог, – торжественным тоном ответил Гардинер, – а в Писании сказано, что того, кто прогрешил, Бог наказывает до третьего или четвертого колена.
– А что написано, то должно быть соблюдено, – громовым голосом воскликнул король. – Нет пощады злодеям, нет сожаления преступникам! Да ниспадет топор на главу виновного, да пожрет пламя тела нечестивых!
– Ваше величество, подумайте о своем высоком назначении! – воскликнула Мария Аскью вдохновенным голосом. – Подумайте, какое высокое имя дали вы себе сами в вашей стране! Вы наименовали себя главой церкви и хотите одновременно главенствовать в духовной жизни и царствовать на земле. Так окажите же акт милости, король, потому что вы называетесь королем Божьей милостью.
– Нет, я не называюсь королем Божьей милостью!.. я называюсь королем Божьим гневом! – воскликнул Генрих, угрожающе поднимая кверху руку. – Мое дело отправлять к Богу грешников, а уж там Он может миловать их, если хочет. Я – карающий судья, который судит по закону без жалости. Пусть осужденные взывают к Богу, и Он пусть милует их, я же не могу и не хочу сделать это. Совершено преступление против закона, и я должен покарать виновных…
– Так горе, горе вам и всем нам! – воскликнула Мария Аскью. – Горе вам самим, король Генрих, если правда все то, что вы только что сказали! Тогда те люди, которые недавно возведены на костер, были правы, когда бранили вас, называя тираном! Тогда прав римский папа, называя вас отверженным и отлученным и проклиная вас именем Христа. Ведь вы не знаете Бога, являющегося Любовью и Жалостью! Вы – не приверженец Того, который сказал: «Любите врагов своих и благословляйте проклинающих вас!» Горе вам, король Генрих, если ваши дела на самом деле обстоят так печально…
– Молчи, несчастная, молчи! – воскликнула Екатерина и, с силой отталкивая пылающую гневом девушку, схватила руку короля Генриха и поднесла ее к своим губам, после чего шепнула: – Ваше величество! Вы только что говорили мне, что любите меня. Докажите это, простив эту девушку за ее страстную возбужденность. Докажите это, позволив мне отвести Марию Аскью в ее комнату и запретить ей говорить!
Но в этот момент Генрих был совершенно неподвластен каким-либо другим чувствам, кроме гнева и кровожадной радости. Он с недовольством оттолкнул от себя Екатерину и, устремив острый, пронизывающий взгляд на девушку, сказал резким, глухим голосом:
– Оставьте ее! Пусть говорит. Никто не смеет решиться перебить ее!
Мария Аскью не обратила ни малейшего внимания на все то, что происходило вокруг нее. Она все еще находилась в том состоянии крайней экзальтации, которая не знает никаких страхов и не отступает ни пред какой опасностью. Она в этот момент с радостью сама взошла бы на костер, и ей почти хотелось святого мученичества.
– Говорите, Мария Аскью, говорите! – приказал король. – Скажите, знаете ли вы, что сделала та самая графиня, за которую вы умоляете меня о пощаде? Знаете ли вы, за что обрекли костру этих четверых мужчин?
– Я знаю это, Генрих, король Божьим гневом! – с пламенной страстностью ответила девушка. – Я знаю, почему вы послали на эшафот эту благородную графиню и почему ей нечего ждать от вас пощады! Она благородной, королевской крови, а кардинал Полюс – ее сын. Вы хотите наказать сына в матери и, не будучи в силах казнить кардинала, убиваете его мать!
– Ого, вы – очень образованный ребенок! – воскликнул король с мрачной иронической улыбкой. – Вы знаете мои самые сокровенные мысли и мои затаеннейшие побуждения. Без сомнения, вы тоже являетесь верной католичкой, раз смерть католической графини переполняет ваше сердце такой скорбью. В таком случае вам придется согласиться, по крайней мере, что я прав, приказывая сжечь остальных четырех еретиков!
– Еретиков? – вдохновенно воскликнула Мария. – Вы называете еретиками тех благородных людей, которые с радостной улыбкой идут на смерть за свои убеждения и веру? Король Генрих, король Генрих! Горе вам, если вы осудили этих людей как еретиков! Они одни и являются истинно верующими, истинными слугами Господними! Они не признают человеческого гнета, и как вы сами не захотели признавать духовное главенство папы, так и они не хотят признавать вас главой церкви. Они говорят, что главой церкви является только Один Бог; так кто же признает за собою достаточное право назвать их за это преступниками!
– Я! – воскликнул властным тоном Генрих VIII. – Я признаю за собой это право! Я говорю, что они – еретики и что я уничтожу всех их и растопчу ногами не только их, но и всех тех, кто думает так же, как и они! Я говорю, что пролью их кровь и приуготовлю им такие муки, пред которыми задрожит каждый человек! Господь посылает Свое откровение через меня в огне и крови! Он вложил мне меч в руки, и, подобно святому Георгию, я растопчу своими ногами дракона еретичества! – Гордо подняв свое покрасневшее от гнева лицо и дико вращая налившимися кровью глазами, он продолжал: – Слушайте вы все, собравшиеся здесь! Нет сожаления и пощады еретикам, нет помилования католикам! Я – тот единственный, которого наш Господь Бог избрал Своим палачом и благословил на главенство и власть! Я – верховный служитель церкви, и кто решится отрицать за мной эту власть, тот богохульствует, а кто настолько дерзок, что хочет поклоняться другому главе церкви, тот – жрец Ваала и поклоняется идолам. Падите все ниц предо мной и почтите во мне Бога, земным представителем которого являюсь я и который воплощается во мне во всем Своем полном ужаса и величия великолепии! Падите ниц предо мной, так как я один являюсь верховным служителем церкви!
И, словно под единым ударом, все преклонили колена, и на пол склонились не только гордые кавалеры и блестевшие золотом и драгоценными камнями леди, но даже и оба епископа, и сама королева.
Несколько мгновений Генрих любовался этим зрелищем, и его глаза, сверкая радостью и торжеством, оглядывали приниженно склонившееся собрание, представлявшее собою весь цвет знати королевства.
Вдруг его взор остановился на Марии Аскью. Только она одна не преклонила колен и стояла посреди коленопреклоненных, гордо выпрямившись, подобно королю.
Мрачная тень пробежала по лицу Генриха.
– Вы не хотите повиноваться моему приказанию? – спросил он.
Она покачала кудрявой головой и, твердо и пронзительно посмотрев на него, ответила:
– Нет! Подобно тем, последний предсмертный крик которых мы только что слышали, я скажу вам: только одному Богу надлежит воздавать подобную почесть; Он один является главой церкви. Если вы хотите, чтобы я преклонила колена пред вами как пред моим королем, я сделаю это, но я не преклонюсь пред вами как главой церкви!
По знаку короля все поднялись с колен, с затаенным дыханием ожидая развязки этой страшной сцены.
Наступила пауза. Король Генрих сам едва переводил дыхание и должен был употребить некоторое время, чтобы собраться с мыслями.
Но не гнев или раздражение сковывали ему язык; он не был ни взбешен, ни раздражен. Только одна радость волновала его до такой степени – радость найти еще одну жертву, на которой он мог бы удовлетворить свою кровожадность, муками которой он мог бы натешиться досыта и предсмертный стон которой мог бы с жадностью вдохнуть в себя.
Никогда Генрих не бывал так весел, как в момент подписания смертного приговора. Именно тогда-то он и осознавал вполне свое величие, чувствуя себя господином над жизнью и смертью миллионов других людей, и это чувство переполняло его гордостью и счастьем, так как особенно зримо подчеркивало его превосходство над другими. Поэтому, когда теперь он обернулся к Марии Аскью, его лицо было спокойно и весело, а голос звучал ласково, почти нежно.
– Мария Аскью, – сказал он, – знаете ли вы, что все сказанное вами уличает вас в государственной измене?
– Я знаю это, ваше величество!
– А знаете ли вы, какое наказание ожидает государственного преступника?
– Смерть! Я знаю это!
– Смерть на костре! – совершенно спокойно поправил ее король.
Сдержанный ропот пробежал среди присутствующих.
Только один голос осмелился произнести слово «пощады!». Это был голос Екатерины, супруги короля.
Она выступила вперед, она хотела подбежать к королю и еще раз молить его о помиловании, о милосердии, но вдруг почувствовала, что чья-то рука тихо удерживает ее на месте. Рядом стоял архиепископ Кранмер, который смотрел на нее серьезным, умоляющим взглядом.
– Тише, тише! – прошептал он. – Ее вам не удастся спасти, она погибла. Подумайте о себе самой, о чистой и святой религии, защитницей которой вы являетесь. Поберегите себя ради вашей церкви и единоверцев!
– А она пусть умирает? – спросила Екатерина, глаза которой наполнились слезами, когда она взглянула на бедного ребенка, стоявшего против короля с дивной, невинной улыбкой.
– Быть может, нам еще удастся спасти ее, но сейчас для этого совсем неподходящий момент, – заметил Кранмер. – Всякое сопротивление воле короля может только еще больше раздражить его, и он способен приказать бросить девушку в пламя еще горящих костров; лучше уж помолчать пока!
– Да, помолчим! – пробормотала Екатерина, вздрагивая от ужаса и отходя снова к оконной нише.
– Смерть в огне ожидает вас, Мария Аскью! – повторил Генрих. – Нет пощады государственной преступнице, осмеливающейся обвинять и ругать своего короля!
V
Соперники
В тот самый момент, когда король почти радостным голосом объявил Марии Аскью смертный приговор, на пороге королевской спальни показался какой-то кавалер и смело подошел к Генриху.
Это был молодой человек благородной и строгой красоты, и его гордая осанка на диво отличалась от приниженных, съежившихся фигур остальных придворных. Его высокая, гибкая фигура была облечена в сверкавший золотом панцирь, на плечах была накинута бархатная мантия с вытканной на ней графской короной, а на темных локонах кокетливо сидел расшитый золотом берет, с которого на плечи свешивалось белое страусовое перо. Продолговатое лицо было типично аристократическим; его щеки поражали какой-то почти прозрачной бледностью; вокруг слегка вздернутых уголков губ играла полупрезрительная, усталая улыбка. Высокий выпуклый лоб и орлиный профиль носа придавали его лицу смешанное выражение отважности и задумчивости. Только глаза как-то не подходили к этому лицу; они не были ни усталы, как рот, ни задумчивы, как лоб. Весь огонь и вся задорная веселость и безрассудность юности сверкали в этих черных пламенных глазах.
Когда его взоры были потуплены, его можно было бы принять за истасканного, утомленного светской жизнью аристократа, когда же он поднимал свой взор в упор и видно было, как пламенели и сверкали его зрачки, в нем сразу можно было распознать молодого человека, полного самой безрассудной, храбрости и честолюбивейших желаний, полного страстного пыла и безграничной гордости.
Он подошел к королю и, преклонив перед ним колена, сказал громким, звучным голосом:
– Пощадите, ваше величество, пощадите!
Король Генрих изумленно отступил на шаг назад и почти с отчаянием посмотрел на смелого просителя.
– Томас Сеймур! – сказал он. – Томас, так ты вернулся? И первым же твоим делом является самый необдуманный и безрассудно смелый поступок?
Молодой человек, улыбнувшись, произнес:
– Я вернулся – это значит, я дал шотландцам доброе морское сражение и отнял у них четыре военных корабля. Я спешу с ними сюда, чтобы преподнести их своему королю и повелителю в качестве свадебного дара, и вот как раз в тот момент, когда я переступил порог зала, я услыхал ваш голос, возвещавший смертный приговор. Разве же не естественно, что я, приносящий вам весть о победе, нахожу в себе смелость обратиться к вам с просьбой о помиловании, для которой, как кажется, у всех этих гордых и благородных кавалеров не нашлось достаточно храбрости!
– А! – сказал король, облегченно вздыхая. – Так ты даже не знал, за кого и по поводу чего ты просишь о помиловании?
– Нет, знал! – ответил молодой человек, и его смелый взгляд с презрением окинул всех собравшихся. – Я знал, как только вошел сюда, что осужденной может быть лишь эта девушка, которая стоит посреди этого блестящего и храброго собрания такой одинокой, покинутой всеми, словно зачумленная. Ну а вам хорошо известно, мой благородный король, что при дворе таким образом узнают осужденных и впавших в немилость; от них все бегут, и никто не дерзнет дотронуться до таких отверженцев хотя бы кончиком пальца!
Король Генрих, улыбнувшись, сказал:
– Томас Сеймур, граф Сэдлей, сегодня, как и всегда, вы действуете необдуманно! Вы просите о помиловании, даже не зная, достойна ли пощады та, за которую вы просите!
– Нет, знаю, потому что вижу, что она – женщина! – ответил неустрашимый граф. – А женщина всегда достойна пощады, и каждому рыцарю приличествует и надлежит немедленно стать ее защитником, хотя бы только для того, чтобы этим в ее лице выказать свое почтение и обожание всему благородному и могущественному женскому полу. Поэтому я и прошу о помиловании этой девушки!
С сильно бьющимся сердцем смотрела Екатерина на молодого графа, и ее щеки пылали ярким румянцем. Она видела графа в первый раз, но, несмотря на это, в ней пробуждалось к нему самое пылкое участие, почти нежный страх за него.
– Он только себя погубит, – пробормотала она, – он не спасет Марии, а себя погубит… Боже мой, боже мой, имей же хоть немного сочувствия к моему страху!
Она со страхом взирала на короля, полная твердой решимости немедленно броситься на помощь графу, с таким великодушием и благородством выступившему на защиту невинной девушки, если только и на него обрушится гнев ее царственного супруга. Но, к ее изумлению, лицо Генриха оставалось веселым и довольным.
Подобно дикому хищному животному, которое, следуя своему инстинкту, ищет себе добычу только тогда, когда оно голодно, Генрих чувствовал себя сытым на этот день. Там, на улицах, еще пылали костры, на которых сожгли четырех еретиков; там еще стоял эшафот, на котором только что казнили графиню Соммерсет, а он уже успел найти себе новую жертву! К тому же Томас Сеймур всегда был его любимцем. Его беззаветная храбрость, веселость и энергия всегда действовали на короля, а кроме того, он был страшно похож на свою сестру, Джейн Сеймур, третью супругу короля.
– Я не могу оказать вам эту милость, Томас, – сказал Генрих. – Правосудие не должно задерживаться на своем пути, а там, где оно высказало слово осуждения, милость не может иметь место. А произнесенный сейчас смертный приговор есть правосудие твоего короля. Поэтому вы вдвойне не правы: вы не только просили о пощаде, но и обвинили моих кавалеров. Неужели же вы и на самом деле думаете, что, будь эта девушка невиновна, не нашлось бы рыцаря, готового выступить на ее защиту?
– Да, я это думаю, – смеясь, воскликнул граф. – Солнце вашего благоволения отвернулось от этой бедной девушки, а в таких случаях ваши придворные теряют зрение и не могут уже разглядеть окутанную мраком фигуру!
– Ошибаетесь, милорд, я видел ее! – произнес вдруг другой голос, и другой кавалер вступил из зала в комнату. Он подошел к королю и, склонив пред ним колена, сказал громким, решительным голосом: – Ваше величество, и я тоже прошу о пощаде Марии Аскью!
В этот момент послышался легкий крик в той стороне, где стояли дамы, и на одно мгновение над головами остальных женщин показалось бледное, испуганное лицо леди Джейн Дуглас.
Но никто не обратил на это внимания. Все взоры были устремлены на группу, стоявшую посередине комнаты; все с напряженным вниманием смотрели на короля и обоих молодых людей, которые осмеливались выступить на защиту женщины, осужденной самим королем.
– Генри Говард, граф Сэррей! – воскликнул король, и теперь на его лице промелькнула тень гнева. – Как? И вы решаетесь просить за эту девушку? Так вы даже не хотите предоставить Томасу Сеймуру преимущество быть самым безрассудным человеком при моем дворе?
– Я не хочу, ваше величество, позволить ему думать, что он храбрее всех, – возразил молодой человек, устремив на Томаса Сеймура вызывающий взгляд.
Последний ответил на это холодной, пренебрежительной усмешкой и, пожимая плечами, сказал:
– О, я охотно позволяю вам, граф Сэррей, безопасно следовать за мною по тропинке, прочность которой я предварительно испытал, рискуя собственной жизнью. Вы видели, что я до сих пор не потерял еще ни головы, ни жизни в этом безумно смелом предприятии, и это придало вам мужества последовать моему примеру. Есть новое доказательство вашей рассудительной храбрости, почтеннейший граф Сэррей, и я должен похвалить вас за это.
Яркая краска ударила в благородное лицо графа, его глаза метали молнии, и, дрожа от гнева, он, положив свою руку на меч, начал:
– Похвала Томаса Сеймура, конечно…
– Молчать! – повелительно перебил его король. – Я не позволю, чтобы двое благороднейших кавалеров моего двора вздумали сделать днем раздора тот день, которому следовало быть великим общим праздником. Поэтому приказываю вам примириться. Подайте друг другу руки, и пусть ваше примирение будет искренним. Я, ваш король, повелеваю вам это.
Молодые люди обменялись взорами ненависти и едва сдерживаемого бешенства и высказали друг другу глазами те оскорбительные и вызывающие слова, которые не смели больше произнести их уста. Король приказал, и при всем своем могуществе и знатности они должны были повиноваться королю. Поэтому они беспрекословно подали друг другу руки и пробормотали несколько тихих, невнятных слов, которые, пожалуй, должны были выражать взаимное извинение, но остались непонятыми обоими.
– А теперь, ваше величество, – сказал после того граф Сэррей, – я осмеливаюсь повторить свою просьбу. Пощадите, государь, пощадите Марию Аскью!
– А вы, Томас Сеймур, – спросил король, – повторяете ли вы также вашу просьбу?
– Нет, я от нее отказываюсь. Граф Сэррей защищает Марию Аскью, следовательно, я отступаю назад, потому что она – несомненно преступница; вы, ваше величество, говорите это, значит, так оно и есть. Сеймуру не подобает защищать особу, провинившуюся против своего короля.
Это новое косвенное нападение на графа, казалось, произвело глубокое, но весьма различное впечатление на всех присутствующих. Одни лица побледнели, другие просияли злорадной улыбкой; тут плотно сжатые губы бормотали угрозы, там открывались уста, чтобы высказать вполголоса одобрение и согласие.
Чело короля омрачилось и нахмурилось: стрела, так искусно пущенная графом Сэрреем, попала в цель. Вечно подозрительный и недоверчивый, король пришел в тем сильнейшее беспокойство, что большая часть его кавалеров очевидно и явно принадлежала к сторонникам Генри Говарда, тогда как число приверженцев Сеймура оказывалось незначительным.
«Эти Говарды – опасные люди, я буду старательно следить за ними», – подумал Генрих VIII, и в первый раз его взор остановился с мрачной враждебностью на благородном лице Генри Говарда.
Между тем Томас Сеймур, желавший только уколоть своего давнишнего врага, тем самым решил судьбу несчастной Марии Аскью. Теперь стало почти невозможным заступиться за нее, а молить о пощаде этой женщины значило участвовать в ее преступлении. Томас Сеймур отступился от нее, потому что она сделала себя недостойной его защиты как государственная преступница, провинившаяся пред своим королем.
У кого хватило бы безумной храбрости брать ее теперь под свою защиту?
Генри Говард сделал это. Он повторил свою мольбу о пощаде Марии Аскью. Но лицо короля омрачалось все более и более, и придворные с ужасом видели приближение момента, когда его гнев сразит и уничтожит несчастного графа Сэррея.
В рядах придворных дам также виднелись побледневшие лица, и не одна пара прекрасных и лучезарных очей омрачилась слезою при виде этого храброго и красивого кавалера, рисковавшего жизнью за женщину.
– Он погиб! – прошептала Джейн Дуглас и, совершенно разбитая, уничтоженная, прислонилась на одно мгновение к стене. Но потом она выпрямилась и ее взор загорелся смелой решимостью. – Я попробую спасти ее, – сказала она про себя, твердо выступила из рядов дам и приблизилась к королю.
Одобрительный шепот пробежал среди присутствующих; все лица просияли, все взоры устремились с благосклонностью на леди Джейн. Всем было известно, что она – подруга королевы и последовательница нового учения; поэтому ее великодушное заступничество за графа Сэррея являлось весьма знаменательным и важным.
Леди Джейн склонила свою прекрасную, гордую голову пред королем и сказала ясным, серебристым голосом:
– Ваше величество! От имени всех женщин прошу у вас пощады Марии Аскью, потому что она – женщина! Граф Сэррей уже сделал это, потому что истинный кавалер всегда остается верен себе и неизменно обязан исполнять свой благородный, священный долг защиты беспомощных и погибающих. Истинный джентльмен не спрашивает, заслуживает ли женщина его защиты; он оказывает ей покровительство именно потому, что она – женщина и нуждается в его помощи. И если я от имени всех женщин благодарю графа за его заступничество за женщину, то присоединяю к его просьбе и мою, чтобы никто не имел права сказать, будто мы, женщины, всегда трусливы, лишены мужества и не осмеливаемся спешить на помощь человеку в беде. Итак, я прошу вас, ваше величество, о пощаде Марии Аскью.
– И я, – сказала королева, снова приближаясь к супругу, – также присоединяю мою просьбу, ваше величество. Сегодня праздник любви, мой праздник, государь. Так пусть же любовь и милость восторжествуют!
Она смотрела на Генриха VIII с пленительной улыбкой, ее глаза сияли так лучезарно, сулили столько счастья, что король не мог противиться ей.
В глубине сердца он был готов на этот раз склониться к помилованию преступницы, но ему был нужен для этого какой-нибудь предлог, чье-нибудь посредничество. Он торжественно поклялся не щадить ни единого еретика и не имел права нарушить свое слово только из-за того, что королева просила его о помиловании.
– Ну, – сказал он после некоторого раздумья, – я согласен исполнить ваши просьбы, согласен помиловать Марию Аскью, при том, однако, условии, что она откажется и торжественно отречется от всего, что говорила здесь. Довольны ли вы этим, Екатерина?
– Довольна, – печально ответила королева.
– А вы, леди Джейн Дуглас и Генри Говард граф Сэррей?
– Мы довольны!
Все взоры обратились теперь вновь на Марию Аскью, которую присутствующие оставили без внимания, несмотря на то, что ее дело занимало всех.
Девушка, со своей стороны, также относилась безучастно к остальному обществу и почти не замечала, что происходило вокруг нее. Она стояла, прислонившись к отворенной двери балкона, и смотрела вдаль, на пламенеющий горизонт. Ее душа была с благочестивыми мучениками, за которых она горячо молилась Богу, в своей лихорадочной экзальтации завидуя их мучительной смерти. Совершенно отрешившись от настоящего, она не слышала ни молений своих защитников, ни ответа короля.
Рука, положенная на плечо Марии, заставила ее отвлечься от мечтательной задумчивости.
Возле нее стояла молодая королева Екатерина Парр.
– Мария Аскью, – поспешно прошептала она, – если тебе мила жизнь, исполни требование короля. Это – единственное средство для твоего спасения. – После этого она взяла девушку за руку и, подведя ее к королю, громко сказала: – Ваше величество, простите пылкому горю бедной девушки, которая в первый раз присутствовала при казни и была так потрясена этим зрелищем, что едва ли сознавала, какие безрассудные, преступные слова невольно вырвались у нее в вашем присутствии. Итак, простите ее, ваше величество, потому что она с радостью готова отказаться от них.
Крик ужаса вырвался из уст Марии, а ее глаза вспыхнули гневом. Она оттолкнула от себя руку королевы и спросила с презрительной улыбкой:
– Мне отказываться? Никогда, миледи, никогда! Клянусь Богом, который да помилует меня в мой смертный час, что я не отрекусь от своих слов. Да, горе и ужас подсказали мне их, но сказанное мною – все же истинная правда. Ужас заставил меня говорить и принудил обнажить пред вами свою душу. Нет, я не отрекаюсь от своих слов! Я говорю вам, что те, которых казнят вон там, – святые мученики и что они идут на Небо к Богу, чтобы обвинить пред Ним царственного палача. Да, они святые, потому что вечная истина просветила их души и сияла вокруг их лиц ярче пламени костра, в которое ввергла их рука неправедного судии. Ах, я должна отречься? Я должна последовать примеру Шакстона, низкого и вероломного служителя своего Господа, который из страха телесной смерти отрекся от вечной правды и в богохульственной трусости сделался клятвопреступником пред святым учением? Король Генрих, говорю тебе, берегись лицемеров и изменников, берегись своих собственных гордых и надменных мыслей!.. Кровь мучеников вопиет против тебя к Небу, и со временем Господь Бог будет так же неумолим к тебе, как ты был неумолим к благороднейшим из своих подданных! Ты предаешь их убийственному огню, потому что они не хотят верить тому, что проповедуют им жрецы Ваала, потому что они не хотят верить в истинное превращение чаши, потому что они отрицают, что истинное тело Христа содержится после освящения в Святых Дарах, все равно, хороший или дурной священник совершал таинство евхаристии. Ты предаешь их палачу за то, что они – верные последователи своего Господа и Бога.
– А вы разделяете мнение этих людей, которых зовете мучениками? – спросил король, когда Мария Аскью смолкла на минуту, запыхавшись от волнения.
– Я разделяю его.
– Значит, вы отрицаете истину шести статей?
– Я отрицаю ее.
– Вы не согласны видеть во мне верховного главу церкви?
– Един Бог – глава и владыка Своей церкви.
Наступила пауза, страшная, полная ужаса. Каждый чувствовал, что для этой несчастной девушки все потеряно, что ей нет больше спасения и ее судьба бесповоротно решена.
На лице короля играла улыбка.
Придворные знали эту улыбку и боялись ее еще более, чем бури королевского гнева. Когда Генрих VIII так улыбался, это значило, что он принял твердое решение; тогда он был уже не подвластен ни малейшему колебанию, никакому сомнению; смертный приговор был уже решен им, и его кровожадная душа радовалась новой жертве.
– Ваше высокопреосвященство! – сказал наконец Генрих, обращаясь к архиепископу винчестерскому. – Подойдите сюда.
Архиепископ приблизился к нему и встал возле Марии Аскью, бросавшей на него гневные, презрительные взгляды.
– Именем закона повелеваю вам взять под стражу эту еретичку и предать ее духовному суду, – продолжал король. – Она проклята и погибла; ее надо судить, как она того заслуживает.
Архиепископ положил руку на плечо Марии Аскью и торжественно произнес:
– Именем Божеского закона арестовываю тебя!
Ни одного слова не было сказано больше. Лорд верховный судья молча последовал знаку архиепископа и, коснувшись своим жезлом Марии Аскью, приказал своим солдатам вывести ее вон.
Мария Аскью, улыбаясь, протянула им руки и с гордо поднятой головой направилась из зала в окружении стражи, в сопровождении архиепископа винчестерского и лорда верховного судьи…
Придворные расступились, чтобы пропустить девушку с ее провожатыми, а потом снова сомкнули свои ряды, как смыкаются и спокойно катятся дальше волны моря, поглотившие труп. Мария Аскью была уже для всех трупом, погребенным мертвецом. Волны прошумели над ней, и все снова стало весело и блестяще, как было раньше.
Король подал руку своей юной супруге и, нагнувшись к ней, шепнул на ухо несколько слов, которых не понял никто, но которые заставили вздрогнуть и покраснеть молодую женщину.
Заметив это, Генрих засмеялся и напечатлел поцелуй на ее челе. После того он обратился к своему двору:
– Теперь доброй ночи, милорды и джентльмены! – сказал он с милостивым кивком головы. – Праздник кончился, и нам нужен покой.
– Не забудьте принцессы Елизаветы, – прошептал епископ Кранмер, когда откланивался Екатерине и целовал протянутую ему руку.
– Я не забуду ее, – прошептала Екатерина и с сильно бьющимся сердцем, дрожа от затаенного страха, смотрела, как все удалялись, оставляя ее наедине с королем.
VI
Заступничество
Когда все удалились и Генрих VIII снова остался наедине с супругой, он сказал:
– А теперь, Кэти, забудем все, кроме того, что мы любим друг друга.
Он обнял молодую женщину и с жаром прижал ее к сердцу. В смертельном изнеможении склонилась она к нему на плечо и осталась так лежать, как сломленная роза, совершенно разбитая, совершенно безвольная.
– Ты не хочешь поцеловать меня, Кэти? – улыбаясь, спросил Генрих. – Значит, ты сердишься на меня еще за то, что я не исполнил твоей первой просьбы? Но что ты хочешь, дитя? Как поддерживать мне пурпур моей королевской мантии вечно свежим и ярким, если я перестану постоянно подкрашивать его кровью преступников? Лишь карающий и уничтожающий король есть настоящий король, и трепещущее человечество признает его таковым; короля уступчивого, щедрого на милости, оно презирает и смеется над его жалостливой слабостью! Ба! Ведь человечество – такое жалкое, презренное стадо, что уважает и признает только того, кто приводит его в трепет, а народы – такие презренные, глупые дети, что питают уважение лишь к тому, кто ежедневно потчует их кнутом и при случае бичует некоторых из них до смерти! Взгляни на меня, Кэти, и скажи, существует ли в мире король, который царствовал бы дольше моего и счастливее, которого его народ любит больше и которому лучше повинуется, чем мне? Это происходит оттого, что я подписал уже свыше двухсот смертных приговоров; значит, каждый чувствует, что если не будет мне повиноваться, то я без всяких колебаний пошлю его на плаху вслед за остальными.
– О, вы говорите, что любите меня, – прошептала Екатерина, – а между тем толкуете о крови и смерти, находясь у меня!
Король, засмеявшись, произнес:
– Ты права, Кэти, но поверь: в глубине моего сердца дремлют еще иные помыслы, и если бы ты могла заглянуть туда, то не обвинила бы меня в холодности и равнодушии! Я действительно люблю тебя, моя дорогая, девственная невеста, и в знак того ты должна попросить у меня какой-нибудь милости. Да, Кэти, обратись ко мне с просьбой, и, в чем бы она ни заключалась, я даю тебе свое королевское слово, что исполню ее. Ну, Кэти, подумай хорошенько, чем я могу тебя порадовать!..
Екатерина улыбнулась, несмотря на внутренний трепет и ужас, и ответила:
– Ваше величество, вы подарили мне столько бриллиантов, что я могу сиять и сверкать ими, как ночь звездами. Если бы вы подарили мне замок на морском берегу, это было бы равносильно моему изгнанию из Уайтхола и лишению меня вашей близости; поэтому я не хочу для себя особенного замка, я желаю жить только при вас, в ваших замках, и жилище моего короля должно быть моим единственным жилищем.
– Прекрасно и умно сказано, Кэти, – одобрил король. – Я припомню эти слова, если твоим врагам вздумается когда-нибудь соблазнять меня, чтобы я отправил тебя в иное жилище и в другой замок, чем тот, где обитает с тобою твой король! Ведь и Тауэр – замок, Кэт, но я даю тебе мое королевское слово, что ты никогда не будешь в нем жить! Итак, тебя не прельщают ни драгоценности, ни замки! Значит, ты собираешься потребовать от меня человеческой головы?
– Да, ваше величество, человеческой головы!
– Вот я и угадал! – со смехом подхватил король. – Ну, говори же, моя маленькая кровожадная королева, чью голову хочешь ты иметь? Кто должен положить ее на плаху?
– Я действительно выпрашиваю у вас человеческую голову, ваше величество, – мягким, искренним тоном ответила Екатерина, – но я не хочу, чтобы эта голова пала; напротив, я желаю, чтобы она поднялась. Я прошу для себя человеческой жизни, но не с тем, чтобы уничтожить ее, а чтобы осветить счастьем и радостью! Я никого не хочу ввергнуть в тюрьму, я хочу возвратить дорогой, любимой особе свободу, счастье и блеск, которые подобают ей. Ваше величество, вы позволили мне просить у вас милости! Вот я и прошу вас: призовите принцессу Елизавету обратно к вашему двору. Разрешите ей жить при нас в Уайтхоле. Дозвольте, чтобы она была всегда возле меня и разделила со мною мое счастье, мой блеск. Ваше величество, не дальше как вчера принцесса Елизавета далеко превосходила меня саном и величием, а после того как сегодня ваша всемогущая воля и милость поставили меня выше всех прочих женщин, я уже смею любить принцессу Елизавету, как родную сестру и самую дорогую подругу. Разрешите мне это, мой король! Пусть принцесса Елизавета[3] приедет к нам в Уайтхол и пользуется при нашем дворе подобающими ей почестями.
Король ответил не вдруг, но по его спокойному и улыбающемуся виду можно было догадаться, что просьба юной супруги не разгневала его. Что-то вроде умиления дрогнуло в его чертах, а глаза на минуту подернулись слезою. Он порывисто схватил руку Екатерины и, поднеся ее к губам, воскликнул:
– Благодарю тебя, ты бескорыстна и великодушна. Это – очень редкое качество, и я буду высоко ценить тебя за него. Но ты, сверх того, смела и бесстрашна, потому что отважилась на то, на что не решался до тебя ни единый человек. Ты дважды в один вечер ходатайствовала за осужденную и за опальную! Ты не похожа на жалких, пресмыкающихся придворных, не похожа на лицемерную и трепещущую толпу, которая, не попадая зубом на зуб, простирается предо мною ниц, поклоняясь мне, как своему богу и владыке. Ах, поверь мне, Кэти, я был бы более кротким и склонным к прощению королем, если бы народ не был таким глупым и презренным животным: собакой, которая становится тем смирнее и ласковее, чем больше мы ее колотим. Но ты, Кэти, ты совсем не такая. Ты знаешь, что я навсегда удалил Елизавету от моего двора и изгнал ее из моего сердца, все же ты ходатайствуешь за нее. Это благородно с твоей стороны, и я люблю тебя за то, Кэти, и исполню твою просьбу. А чтобы ты видела, Кэти, как я люблю тебя и доверяю тебе, я открою тебе сейчас одну тайну: я уже давно хотел приблизить к себе вновь Елизавету, но стыдился подобной слабости пред самим собою. Давно томился я желанием заглянуть когда-нибудь опять в умные, большие глаза моей дочери, сделаться для нее добрым и нежным отцом и этим отчасти загладить то, в чем я, пожалуй, погрешил против ее матери. Ведь иногда в бессонные ночи предо мной встает прекрасный образ Анны, она смотрит на меня печально-кроткими глазами, заставляя содрогаться мое сердце. Но я не смею никому в том признаться, чтобы люди не сказали, будто я раскаиваюсь в своих поступках. По этой причине я преодолел свою тоску по дочери и свою отеческую нежность, о которой никто не догадывался, и казался с виду бессердечным отцом; ведь никто не хотел помочь мне и облегчить для меня задачу стать любящим родителем. Ах, эти придворные! Они так глупы, что их пониманию доступно только то, что звучит в наших речах, но о том, что говорит и к чему готовится наше сердце, они не знают ровно ничего. А тебе это известно, Кэти, ты – женщина умная и вдобавок великодушная. Пойдем, Кэти; вот этот поцелуй дарит тебе благодарный отец, а этот, да, этот – твой супруг, моя прекрасная королева!
VII
Генрих VIII и его жены
Ночное спокойствие победило наконец дневные бури, и после треволнений, празднеств и удовольствий глубокая тишина водворилась в замке Уайтхол и во всем Лондоне. Подданные короля Генриха могли хотя на несколько часов оставаться безопасно у себя по домам и при затворенных ставнях, при запертых дверях или спать и грезить во сне, или предаваться набожным занятиям, за которые они в дневную пору, пожалуй, были бы объявлены преступниками. Они могли несколько часов предаваться сладостной и блаженной мечте, считая себя людьми свободными, не знающими запрета в своей вере и помыслах, потому что сам король Генрих спал, а вместе с ним архиепископ винчестерский и лорд-канцлер также смежили свои бдительные и зоркие благочестивые очи убийц, чтобы отдохнуть немного от своей христианской должности сыщиков.
Между тем казалось, будто не все придворные предались отдохновению и последовали примеру короля. По крайней мере, невдалеке от опочивальни королевской четы сквозь массивные штофные занавеси, спущенные в окнах, проникал слабый свет. Можно было догадаться, что свечи в этой комнате еще не затушены, а присмотревшись внимательнее, нетрудно было заметить, что от времени до времени на занавесях обрисовывалась человеческая тень. Обитатель этой комнаты, значит, еще не ложился спать, и, вероятно, тревожные думы заставляли его порою беспокойно бродить взад и вперед.
Эта комната принадлежала леди Джейн Дуглас, первой фрейлине королевы. Архиепископ винчестерский поддержал своим могущественным влиянием желание Екатерины иметь вблизи себя свою любимую подругу юности. Таким образом, сама того не подозревая, королева содействовала дальнейшему успеху планов лицемерного архиепископа, направленных против нее.
Действительно, Екатерина не знала, какие резкие перемены произошли в характере ее подруги в четыре года, в течение которых она не видела Джейн; королева не догадывалась, как пагубно отозвалось пребывание в строго католическом Дублине на впечатлительной душе подруги ее детских игр и как сильно изменился весь ее нрав.
Благодаря своему фанатизму и назиданиям священников Джейн Дуглас сделалась совершенной лицемеркой. Она могла улыбаться, затаив в сердце ненависть и замышляя мщение, она могла целовать в губы ту, в гибели которой, может быть, поклялась, могла сохранять невинную, кроткую личину, наблюдая в то же время за всем и следя за каждым вздохом, каждой улыбкой, каждым вздрагиванием век.
Джейн Дуглас была одна и, прохаживаясь взад и вперед по комнате, перебирала в уме события сегодняшнего дня. Так как теперь никто не наблюдал за нею, она сбросила кроткую, серьезную маску, которую все привыкли видеть у нее на лице. Черты девушки обнаруживали в быстрой смене все разнообразные чувства, волновавшие ее, печальные и веселые.
Она, единственной целью которой было до настоящего времени служить церкви, посвящая этому служению всю свою жизнь, она, чье сердце до сих пор было доступно только честолюбию и набожности, испытывала сегодня совершенно новые чувства, о которых не подозревала раньше! Новая мысль вторглась теперь в ее жизнь: в ней проснулась женщина, и ее сердце, закаленное и защищенное набожностью от греховных соблазнов, неудержимо било тревогу.
Девушка пыталась сосредоточиться на молитве и так наполнить свою душу мыслями о Боге и церкви, чтобы никакой земной помысел, никакое желание не могли найти в ней больше места. Но пред ее внутренним взором снова и снова всплывал благородный образ Генри Говарда, а в ушах все звучал его серьезный, мелодичный голос, словно волшебной гармонией заставлявший трепетать ее сердце.
Сначала леди Джейн противилась этим пленительным фантазиям, наводившим ее на такие странные, неведомые до сих пор мысли, но наконец женщина взяла в ней верх над фанатичной католичкой, и она, опустившись в кресло, предалась мечтам и грезам.
«Узнал ли он меня? – спрашивала она себя. – Помнит ли он, как мы год назад виделись в Дублине при дворе короля?.. Нет, нет, он и не думает о том! В то время он не замечал никого, кроме своей молодой жены, и был занят ею одной. Как это выходит, что, когда я хочу нравиться, на меня не обращают внимания? Почему те двое мужчин, которыми я интересовалась в жизни, никогда не отдавали мне предпочтения? Я чувствовала, что люблю Генри Говарда; но эта любовь была грехом, потому что граф Сэррей был женат. Я насильно оторвала от него свое сердце и посвятила его Богу, потому что единственный мужчина, которого я могла бы полюбить, оставался равнодушен ко мне. Но даже вера в Бога и набожность не в состоянии совершенно заполнить женское сердце. В моей груди оставалось еще место для честолюбия, и если я не была счастливой женщиной, то захотела по крайней мере сделаться могущественной королевой. О, у меня все было так хорошо рассчитано, так тонко продумано! Архиепископ уже говорил обо мне королю и успел склонить его к своему плану, но когда я спешила сюда из Дублина на его зов, вдруг явилась эта ничтожная Екатерина Парр, похитила у меня короля и разрушила все наши планы! Никогда не прощу я ей этого! Я сумею отмстить за себя. Я заставлю ее покинуть это место, которое принадлежит мне, и если для достижения моей цели не найдется иного средства, то она должна идти на эшафот, подобно Екатерине Говард. Я хочу сделаться королевой Англии, я хочу…»
Она внезапно прервала самое себя и прислушалась. Ей померещился осторожный стук в дверь ее комнаты.
Девушка не ошиблась; тихий стук повторился с своеобразными преднамеренными паузами. То был явно условный знак.
«Это – мой отец», – сказала себе леди Джейн и, снова приняв серьезную, кроткую мину, пошла отворять ему.
– Ах, значит, ты меня ожидала? – спросил лорд Арчибальд, целуя в лоб свою дочь.
– Да, я ожидала вас, батюшка, – с улыбкой ответила леди Джейн. – Я догадывалась, что вы придете, чтобы поделиться со мною впечатлениями сегодняшнего дня, а также для того, чтобы дать мне указания на будущее, как я должна вести себя.
Граф опустился на оттоманку и, посадив дочь с собою рядом, спросил:
– Никто не может подслушать нас здесь, не так ли?
– Никто, батюшка! Мои служанки спят в четвертой комнате, и я сама заперла двери, ведущие к ним. Что же касается прихожей, через которую вы пришли, то она, как вам известно, совершенно пуста; там негде спрятаться. Следовательно, остается еще запереть дверь, ведущую оттуда в коридор, чтобы мы были защищены от всякого внезапного вторжения. – Она побежала в прихожую, чтобы запереться изнутри, после чего, возвратясь и заняв свое прежнее место на оттоманке, сказала: – Теперь мы ограждены от шпионов.
– А стены, дитя мое? Уверена ли ты, что они надежны? Ты смотришь на меня удивленными глазами и с явным сомнением? О господи, какая ты все еще невинная и неопытная девочка! Разве я не повторял тебе всегда мудрого и великого правила: «Сомневайся во всем и не доверяй ничему, не исключая и того, что ты видишь воочию!» Не доверяйся ни людям, ни стенам, Джейн, потому что – говорю тебе – под их гладкой поверхностью скрываются предательские тайники. Однако на сегодня я согласен верить, что эти стены невинны и за ними не притаился никакой шпион. Я готов верить этому, так как хорошо знаю эту комнату. Я познакомился с ней в давнишние времена, когда переживал прекрасные, чарующие дни. В ту пору я был еще молод и красив, а сестра короля Генриха не была еще замужем за шотландским королем и мы горячо любили друг друга. Ах, я мог бы рассказать тебе удивительные истории о тех счастливых днях! Я мог бы…
– Но, дорогой батюшка, – перебила его леди Джейн, – конечно, вы пришли сюда так поздно ночью не с целью рассказывать мне о том, что я знаю уже давным давно? Вернее всего, вы пожелали поделиться со мною тем, что успел здесь подметить ваш проницательный, безошибочный взор.
– Ты права, – произнес печальным тоном лорд Дуглас. – Теперь на меня нападает иногда болтливость; это – верный признак, что я старею. Само собою разумеется, я пришел сюда говорить не о прошедшем, но о настоящем. Итак, потолкуем о нем! Ах, я много испытал сегодня, многое видел, многое подметил, и вот результат моих наблюдений: ты будешь седьмою супругой короля Генриха.
– Не может быть! – воскликнула леди Джейн, лицо которой невольно просияло радостью.
Отец заметил это.
– Дитя мое, – предостерег он ее, – обрати внимание на то, что ты все еще не привыкла удерживать в повиновении черты своего лица. Так, например, ты хотела казаться сейчас сдержанной и добродетельной, а между тем твое лицо приняло выражение гордой радости. Однако это между прочим! Самое главное то, что ты будешь седьмою супругою короля Генриха! Но, чтобы достичь этого, требуется большое внимание, основательное знакомство со здешними обстоятельствами, неусыпное наблюдение за всеми окружающими, непроницаемое искусство притворства и, наконец, точное и глубокое знание особы короля, истории его царствования и его характера. Обладаешь ли ты этим знанием? Известно ли тебе, что значит метить в седьмые супруги короля Генриха и как надо взяться за дело, чтобы достичь этой цели? Изучила ли ты характер Генриха?
– Немного, пожалуй, но, конечно, недостаточно! Ведь вы знаете, что все земное было не так близко моему сердцу, как святая церковь, служению которой я посвятила себя и ради которой охотно пожертвовала бы всем своим существом, за которую я положила бы всю свою душу, все сердце, если бы вы сами не решили иначе моей судьбы. Ах, батюшка, если бы мне было дозволено следовать своей склонности, то я удалилась бы в Шотландии в монастырь, чтобы проводить жизнь в тихом созерцании и в набожных смиренных трудах, ограждая свой слух от всякого шума светской суеты. Но мои желания не захотели уважить, и устами Своих достойных и святых служителей Господь Бог повелел мне оставаться в мире, чтобы принять на себя бремя величия и королевского блеска. Следовательно, если я помышляю о нем и стремлюсь стать королевой, то не потому, чтобы меня прельщали пустая пышность и блеск, но единственно из-за того, что через меня церковь снова нашла бы опору у слабого и непостоянного короля, а сам он вернулся бы опять к истинной вере.
– Отлично сыграно! – воскликнул ее отец, пристально и неотрывно смотревший ей в лицо, пока она говорила. – Честное слово, искусная игра! Все было в полнейшем согласии: жесты, выражение глаз, интонация голоса. Дочь моя, я беру назад свое порицание. Но поговорим о короле Генрихе. Разберем этого человека в его домашней, политической и религиозной жизни, чтобы уметь с ним обращаться на основании этих знаний. Итак, потолкуем сначала о его женах. Их жизнь и смерть представляют превосходные указания для тебя. Знаешь ли ты, у которой из этих женщин было больше всего мужества? У его первой жены, Екатерины Арагонской! Ей-богу, это была преумная женщина и прирожденная королева. При всей скупости Генрих с радостью пожертвовал бы лучшим драгоценным камнем из своей короны за возможность найти в ней какую-нибудь тень, малейший след супружеской неверности. Но, несмотря на все его старания, решительно не находилось никакого способа возвести эту женщину на эшафот, а чтобы устранить ее посредством яда, король был тогда еще слишком труслив и слишком добродетелен. Таким образом, он терпел постылую жену до тех пор, пока она превратилась в старуху с седеющими волосами и стала ему противна. И вот, после семнадцатилетнего супружества, на доброго, набожного короля внезапно напали религиозные сомнения; прочитав в Библии слова: «Ты не должен жениться на своей сестре», – великий и хитрый монарх почувствовал ужасные угрызения совести. Он простерся ниц, ударял себя в грудь и вопил: «Я совершил великий грех, потому что взял в супружество жену моего брата, следовательно, свою сестру. Но я исправлю это. Я расторгну преступный брак!» Знаешь ли ты, дитя, почему хотел он расторгнуть его?
– Потому что полюбил леди Анну Болейн, – улыбаясь, ответила Джейн.
– Совершенно верно! Екатерина постарела, а король все еще был молодым человеком, и кровь стремительно текла по его жилам огненным потоком. Но он был еще немножко добродетелен и робок, а главное свойство его натуры пока не развилось. Он не был пока кровожадным, потому что еще не отведал крови. Итак, Анна Болейн должна была сделаться его супругой, чтобы он мог любить ее. А чтобы достичь этого, он бросил вызов целому свету, сделался врагом папы и открыто восстал против верховного главы церкви. Так как святой отец не давал ему развода, король Генрих отпал от истинной веры и сделался богоотступником. Он провозгласил самого себя верховным главою всей церкви и в силу такого сана объявил свой брак с Екатериной Арагонской недействительным. По его словам, он внутренне не давал согласия на это супружество, и потому оно, в сущности, совсем не было совершено. Правда, Екатерина имела в лице принцессы Марии живое доказательство своего совершившегося брака. Но что было за дело до того влюбленному и упрямому королю! Принцесса Мария была объявлена незаконнорожденной, а королева должна была с этих пор стать не более как вдовою принца Уэльского. Всем было строжайше запрещено применять королевский титул к женщине, которая в продолжение семнадцати лет называлась королевою Англии и пользовалась почетом и всеми преимуществами, связанными с этим высоким саном, а также воздавать ей почести, подобающие королеве.
– О, батюшка, как это жестоко! – воскликнула леди Джейн.
– Да, жестоко, но это я всегда считал самым умным и ловким деянием нашего короля, который обнаружил во всей этой истории с разводом удивительную последовательность и решительность. Однако все это произошло благодаря тому, что он был раздражен сопротивлением. Заметь это хорошенько, дитя мое, потому что именно с этой целью я так подробно останавливался на всех вышеприведенных обстоятельствах, заметь же хорошенько: король Генрих совершенно неспособен выносить какое-либо противоречие или подчиняться принуждению. Поэтому притворяйся недоступной и равнодушной; это раззадорит короля. Не лови никогда его взглядов; тогда он пожелает встречаться с твоими взорами; когда же наконец он полюбит тебя, толкуй до тех пор о своей добродетели и неподкупной совести, пока Генрих для ее успокоения не отправит на эшафот этой несносной Екатерины Парр или пока он не поступит с нею, как с Екатериной Арагонской, и не заявит, что внутренне он не давал согласия на этот брак и, следовательно, Екатерина не королева, а только вдова лорда Невилля.
– Но что же было дальше, после удаления первой королевы? – спросила леди Джейн.
– Второю супругою Генриха сделалась прекрасная Анна Болейн. Я часто видал ее и скажу тебе, Джейн, что она обладала дивной красотой. Когда Анна подарила своему супругу принцессу Елизавету, я слышал, как он сказал, что стоит теперь на вершине своего счастья, у цели своих желаний, потому что королева Анна родила ему дочь и через это доставила его трону прямую и законную наследницу. Но безоблачное счастье продолжалось лишь короткое время!
В один прекрасный день король убедился, что Анна Болейн – не самая красивая женщина в мире, как он думал, но что при его дворе есть особы еще красивее ее, которые, следовательно, еще более достойны носить сан английской королевы. Он увидал Джейн Сеймур, а Джейн бесспорно превосходила красотою Анну Болейн, потому что не была еще супругой короля и потому что на пути к обладанию ею вставало препятствие в лице королевы Анны Болейн.
Эту помеху следовало устранить.
В силу своей верховной власти Генрих снова мог бы развестись со своей супругой, но он не хотел повторяться, он желал быть всегда оригинальным, и никто не должен был осмелиться сказать, будто его разводы с женами служат только прикрытием для малодушной любовной похоти.
С Екатериной Арагонской он развелся, вняв голосу возмущенной совести, поэтому для Анны Болейн нужно было придумать иное средство.
Простейшим способом отделаться от нее был эшафот. Почему бы Анне не взойти на него, если столько других предшествовали ей на этом пути? Ведь в жизни короля наступил новый момент: тигр лизнул крови! Леди Рошфор, тетка Джейн Сеймур, нашла нескольких мужчин, которым приписывала любовную связь с Анной Болейн. Ей, как первой статс-даме королевы, могло быть все известно, и король поверил ее клевете. Он поверил ей, хотя четверо мнимых любовников королевы, которых приговорили к смертной казни за их преступление, за исключением одного, поклялись на эшафоте, что Анна Болейн невиновна и что они никогда не находились даже вблизи от нее. Единственный, кто обвинил королеву в любовной связи с собою, был Джеймс Смитон, музыкант. Но ему обещали подарить жизнь за это признание. Между тем нашли неудобным сдержать это обещание из боязни, что у обвиняемого не хватит духа подтвердить свое показание на очной ставке с королевой. Однако, чтобы избежать упрека в неблагодарности за его полезное признание, ему оказали милость, приговорив этого несчастного вместо обезглавления к более приятной и легкой смерти на виселице.
Итак, прекрасная и пленительная Анна Болейн была принуждена положить голову на плаху. В день ее казни король распорядился устроить большую охоту, и рано утром мы выехали в Эппинг-Форест. Сначала король был необыкновенно весел и шутлив; он смеялся моим едким замечаниям, и чем больше я злословил, тем веселее было ему. Наконец мы остановились; король так много говорил и смеялся, что невольно почувствовал голод. Поэтому он расположился под дубом и, окруженный своей свитой и охотничьими собаками, принялся с большим аппетитом завтракать; однако он стал теперь несколько тише и молчаливее, а от времени до времени с явной тревогой и страхом обращал лицо в сторону Лондона. Вдруг оттуда донесся пушечный выстрел. Все мы знали, что это – сигнал, который должен был возвестить королю, что голова Анны Болейн пала. Все мы знали это, и жуткий трепет пробежал у нас по телу. Один король улыбался и, встав с земли и приняв от меня ружье, произнес с веселым лицом: «Свершилось! Дело кончено. Спустите собак и поскачем травить кабана». Да, это, – печально заключил лорд Дуглас, – было надгробным словом короля Генриха его прелестной и невинной супруге.
– Вы жалеете ее, батюшка? – с удивлением спросила Джейн. – Но ведь Анна Болейн, если не ошибаюсь, была врагом нашей церкви, последовательницей богопротивного и проклятого нового учения!
Старый вельможа, почти презрительно пожав плечами, возразил:
– Это не мешало леди Анне принадлежать к числу красивейших и прелестнейших женщин Старой Англии. Вдобавок при всей своей приверженности к новой вере она оказала нам существенную услугу, потому что на нее падает вина в смерти Томаса Моруса. За то, что он не одобрил ее брака с королем, Анна Болейн ненавидела его, как и ее супруг, который не мог простить Морусу его отказ присягнуть королевскому главенству. Генрих между тем все-таки пощадил бы его, потому что в то время он питал еще некоторое уважение к учености и добродетели, а Томас Морус был таким знаменитым ученым, что король невольно пасовал пред ним. Но королева требовала его смерти, и ученому пришлось идти на казнь. О, поверь мне, Джейн, то был великий и печальный час для всей Англии, когда Томас Морус положил голову на плаху. Одни мы, люди в Уайтхоле, приятно проводили время как ни в чем не бывало. Мы исполняли новый род танца под музыку, сочиненную самим королем, а когда натанцевались до усталости, сели за карты. И вот, как раз когда я обыграл его королевское величество на несколько гиней, является комендант Тауэра с докладом о совершившейся казни. Он описал нам вкратце последние минуты великого ученого. Король бросил карты и, метнув на Анну Болейн гневный взор, произнес дрогнувшим голосом: «Ты виновна в смерти этого человека!» С этими словами он встал и удалился в свои покои, куда никто не смел следовать за ним, даже сама королева.
Итак, ты видишь, что Анна Болейн имеет право на нашу благодарность, потому что смерть Томаса Моруса избавила Старую Англию от другой великой опасности. Меланхтон и Буцер, а с ними некоторые из знаменитейших проповедников Германии собрались в путь, чтобы прибыть в Лондон и в качестве послов от германских государей протестантского вероисповедания провозгласить короля Генриха главою их союза. Но ужасная весть о казни их друга напугала депутатов и заставила их вернуться обратно с полдороги.
Итак, мир праху несчастной Анны Болейн, которая, однако, была отмщена в свою очередь, отмщена в лице ее преемницы и соперницы, ради которой ей пришлось взойти на эшафот, в лице Джейн Сеймур.
– Но ведь та была любимой супругою короля, – подхватила леди Джейн, – и, когда она скончалась, король горевал о ней два года.
– Горевал! – презрительным тоном воскликнул лорд Дуглас. – Он горевал по всем своим женам. Он и по Анне Болейн наложил на себя траур и появлялся всюду только в белом траурном одеянии. Наружная скорбь – что она значит? Ведь горевала и Анна Болейн о Екатерине Арагонской, которую сама столкнула с королевского трона. Восемь недель видели ее в желтом траурном одеянии по первой жене Генриха, но Анна Болейн была женщина умная и отлично знала, что желтый цвет ей к лицу.
– Однако, – возразила леди Джейн, – король горевал не только наружно, напоказ, но и внутренне, потому что лишь два года спустя решился вступить в новый брак.
Граф Дуглас расхохотался:
– Однако в эти два года вдовства он утешался с очень красивой возлюбленной, французской маркизою Монтрейль, и женился бы на ней, если бы умная красавица не предпочла вернуться обратно во Францию, найдя чересчур опасным вступать в супружество с Генрихом, над женами которого тяготеет какой-то злой рок, потому что ни одна из них не сошла с трона естественным образом.
– Однако, батюшка! Джейн Сеймур сделала это вполне естественно: она умерла после родов.
– Ну да, конечно, после родов, но все же не естественной смертью, потому что она могла быть спасена. Но Генрих не захотел спасти ее. Любовь государя уже остыла, и, когда во время трудных родов врачи спросили его, кого им спасать: мать или ребенка, он не колеблясь ответил: «Спасайте ребенка, пусть мать умирает. Жен я могу иметь еще довольно». Ах, дочь моя, я не желаю тебе умереть такой естественной смертью, какая постигла несчастную Джейн Сеймур, которую, как ты говоришь, король оплакивал целых два года.
Но вот по истечении этого срока с ним случилось нечто новое, необычайное! Он влюбился в картину и, будучи в своем царственном самомнении уверен, что прекрасный портрет, написанный с него Гольбейном, нисколько не льстит ему, но воспроизводит его природные черты совершенно верно, не допускал и мысли, чтобы кисть Гольбейна могла польстить принцессе Анне Клевской и прикрасить ее наружность. Таким образом, Генрих опрометчиво влюбился в ее портрет и, недолго думая, отправил в Германию своих послов за оригиналом этого портрета, чтобы привезти оттуда в Англию новую избранницу его сердца. Сам он поехал ей навстречу к месту высадки, в Рочестер.
Ах, дитя мое, много странного и смешного перевидел я на своем веку, богатом приключениями, однако сцена в Рочестере принадлежит к самым пикантным из моих воспоминаний. Король был воодушевлен, точно поэт, влюблен, как двадцатилетний юноша, и в таком настроении началось наше романтическое свадебное путешествие, в котором Генрих принимал участие переодетый, под именем моего кузена Тейля. На меня, как на тогдашнего шталмейстера короля, было возложено лестное поручение передать молодой королеве приветствия от ее пылкого супруга и просить принять рыцаря, который должен вручить ей королевский подарок. Она исполнила мою просьбу, противно ухмыляясь широким ртом и выставляя напоказ ужасный ряд желтых зубов. Я распахнул двери и пригласил короля войти. Ах, если бы ты видела эту сцену! То был единственный комический эпизод в кровавой трагедии брачной жизни Генриха. Если бы ты видела, с каким порывистым нетерпением бросился король в комнату, а потом, при виде принцессы, внезапно отшатнулся и уставился на нее выпученными глазами. Немного опомнившись, он медленно попятился назад и молча сунул мне в руку драгоценный подарок, метнув в то же время горевший гневом взор на архиепископа Кромвеля, который привез ему портрет принцессы и склонил его к этому браку. Романтический, пламенный любовник исчез при этом первом взгляде на возлюбленную. Генрих снова приблизился к принцессе, но на этот раз уже не в качестве кавалера; в суровых, поспешных словах объявил он ей, что она видит пред собою самого короля. Генрих наскоро поздоровался с нею и удостоил ее холодного формального лобзания. После того он схватил меня за руку и увлек вон, подав знак остальным следовать за собою. Когда же мы покинули эту злополучную и безобразную принцессу и удалились от нее на порядочное расстояние, то взбешенный король сказал Кромвелю: «Так это, по-вашему, красавица? Она – фландрская кобыла, а не принцесса!»
Генрих тотчас объявил, что только наружно, а не по внутреннему убеждению и по совести согласился на этот брак, который ужасает его теперь, потому что в сущности он был бы не чем иным, как супружеской изменой, клятвопреступлением и двумужеством. Ведь отец Анны некогда обручил ее с сыном герцога Лотарингского и обязался торжественною клятвою, по достижении дочерью совершеннолетия, сочетать их браком; они уже обменялись кольцами и брачный договор был давно составлен. Таким образом, Анна Клевская была, собственно, замужнею, и Генрих при своей чуткой совести не мог вступить в супружество с чужою женою. Поэтому он делал ее своей сестрою и предлагал ей для жительства дворец в Ричмонде, если бы принцесса пожелала остаться в Англии. Она приняла эти условия и осталась в английских пределах.
Анна Клевская была отвергнута за безобразие, и тогда король Генрих выбрал себе пятой супругой Екатерину Говард за ее красоту. Она была замечательно красива, и сердце пожилого короля воспламенилось вновь юношеской любовью. Он любил ее так горячо, как ни одну из своих жен, был так счастлив в этом браке, что, преклонив колена в храме, всенародно и во всеуслышание благодарил Бога за счастье, которым дарила его прекрасная молодая королева. Но оно продолжалось недолго. На другое же утро после его благодарственной молитвы Екатерина попала в тюрьму по обвинению в супружеской измене и бесстыдном прелюбодеянии. Свыше семи любовников предшествовало ее царственному возлюбленному и некоторые из них сопутствовали ей даже во время триумфальной поездки по Йоркширу, которую она совершала вместе с королем. Несмотря на свой гнев, Генрих все-таки любил ее, и, когда ему доставили неопровержимые доказательства виновности королевы, он залился слезами, как ребенок. Но так как он не мог уже быть ее любовником, то захотел превратиться в ее палача. И он привел в исполнение свою волю. Екатерине пришлось положить на плаху свою прекрасную голову, как сделала это раньше ее Анна Болейн.
Ах, королю понадобилось долгое время, чтобы оправиться от такого удара! Два года искал он чистой, непорочной девственницы, которой предстояло сделаться его королевой, не подвергаясь опасности вступить на кровавый помост. Однако такой невесты для него не нашлось, и Генрих женился на вдове лорда Невилля, Екатерине Парр. Но тебе известно, дитя мое, что имя Екатерины оказывается роковым для супруг нашего государя. Первую Екатерину он оттолкнул от себя, вторую – обезглавил. Какую-то участь готовит Генрих третьей из них?
Леди Джейн улыбнулась.
– Екатерина не любит его, – сказала она. – И я думаю, что она, подобно Анне Клевской, была бы не прочь обратиться в сестру короля, сложив с себя сан королевы.
– Екатерина не любит короля? – спросил лорд Дуглас с напряженным любопытством. – Значит, она любит другого? – прибавил он, чутко насторожившись в ожидании ответа.
– Нет, батюшка! Ее сердце – чистый лист бумаги, на котором не написано пока ничьего имени.
– Тогда нам нужно написать на нем чье-нибудь имя, которое должно довести ее до эшафота или до изгнания! – с жаром подхватил старый вельможа. – Это уж твое дело, дитя мое, вооружиться железным грифелем и так глубоко и неизгладимо напечатлеть им чье-нибудь имя в сердце Екатерины, чтобы король со временем легко мог прочесть его.
VIII
Отец и дочь
Некоторое время молчали оба.
Видя, что леди Джейн все более и более углубляется в свои мечты, ее отец наконец прикоснулся рукой к ее плечу и торопливо спросил:
– О чем ты думаешь, Джейн?
Девушка сильно вздрогнула и, глядя на графа в замешательстве, проговорила:
– Я соображаю, какую выгоду для нашей цели могла бы я извлечь из всего того, что ты рассказал мне.
Лорд Дуглас покачал головой с недоверчивой улыбкой и проговорил наконец торжественным тоном:
– Берегись, Джейн, берегись, как бы твое сердце не обмануло твоего разума! Для успеха нашего дела необходимо прежде всего, чтобы ты сохранила твердость ума и сердца. Обладаешь ли ты этой твердостью, Джейн?
Под его проницательным взором девушка смущенно опустила веки. Лорд Дуглас заметил это, резкое слово готово было сорваться с его уст; но он удержался. Как умный дипломат, он хорошо знал, что иногда бывает полезнее молчать, чем вступать в открытую борьбу.
Чувства подобны драконовым зубам Тезея. По мере их уничтожения они снова вырастают с удвоенной силой. Поэтому лорд Дуглас старался не замечать смущения своей дочери.
– Прости, милая, – сказал он, – что я в своем усердии и нежных заботах о тебе захожу слишком далеко. Я знаю, твоя милая, чудная головка достаточно умна, чтобы носить корону; я знаю, в твоем сердце нет места для других чувств, кроме честолюбия и религиозности. Поэтому давай обдумывать дальше, что нам необходимо делать для достижения намеченной нами цели.
Мы говорили о Генрихе как супруге, о Генрихе как человеке, и судьба его жен могла, надеюсь, послужить для тебя достаточно поучительным примером. Никогда не должна ты допускать опасное чувство уверенности, так как жена короля Генриха в действительности никогда не может быть уверена в своем будущем и меч всегда поднят над ее головой. Ты должна всегда смотреть на своего супруга, как на изменчивого любовника, которого беспрестанно нужно завоевывать заново. Прежде всего, Джейн, я могу открыть тебе тайну. Знай, что этот король, провозгласивший себя первосвященником своей церкви и когда-то названный папою «рыцарем веры и правды», в сущности является королем, не имеющим никакой религии. Он сам не знает, чего хочет, и, кокетничая с обеими партиями, он сегодня – еретик, старающийся казаться просвещенным, сильным человеком, лишенным предрассудков, а завтра – католик, смиренный раб Божий, ищущий и обретающий благо лишь в любви и благочестии. Но в глубине души Генрих совершенно безразлично относился к обоим вероисповеданиям. Если бы папа тогда одобрил его развод с Екатериной Арагонской и не создал ему затруднений, то король Генрих остался бы и поныне преданнейшим слугою католической церкви. Но в этом случае с ним поступили недальновидно, противоречием раздражили его, возбудили его тщеславие и гордость, вызвали сопротивление, и вот Генрих сделался реформатором церкви, исключительно из страсти к противоречию, а не по убеждению. Это, дитя мое, ты никогда не должна забывать. Генрих отрекся от папы и присвоил себе главенство над церковью; но у него не хватило мужества довести дело до конца и всецело отдаться реформации. Он – не католик, однако посещает обедню; он упразднил монастыри – и все же запретил священникам вступать в брак; он ввел причастие под одним видом, однако же верит в претворение вина в святую кровь Спасителя.
– За это, – сказала Джейн, – святой отец по праву назвал его «вероотступником и богохульником, похитителем святой церкви». За это папа объявил его недостойным королевской короны и обещал ее тому, кто силою оружия победит его. За это папа запретил всем подданным повиноваться Генриху и признавать его своим королем.
– Тем не менее он остался королем Англии и держит своих подданных в рабском подчинении, – возразил граф Дуглас, пожимая плечами. – Это предание анафеме послужило королю скорее на пользу; оно побудило его к гордой оппозиции и доказало его подданным, что отлучение его от церкви не препятствует ему быть счастливым и жить в свое удовольствие. Проклятие папы ничуть не повредило королю и не пошатнуло его трона; а между тем папский престол в Риме с отпадением короля лишился очень чувствительной поддержки, в которой он нуждается. Вот поэтому мы должны употребить все старания, чтобы возвратить святой церкви вероломного короля.
Он не желает быть ни католиком, ни протестантом и, чтобы доказать свою беспартийность, воздвигает ужасные гонения на обе партии. Поистине можно сказать, что в Англии вешают католиков и сжигают тех, которые не хотят быть католиками. Королю доставляет особое удовольствие жестокой и твердой рукой поддерживать равновесие между двумя партиями. Когда он заключает в темницу паписта за непризнание короля главою церкви, он в тот же день подвергает пытке протестанта за то, что тот отрицает действительное претворение вина в кровь или не признает необходимости тайной исповеди. Во время последнего заседания парламента, действительно, повешены пять человек за непризнание короля главою церкви и пять человек преданы сожжению за то, что объявили себя протестантами. А в этот вечер, Джейн, накануне своей свадьбы, он, желая показать свою беспартийность как глава церкви, приказал связывать католиков с протестантами попарно и, как собак, бросать на костры, объявив при этом католиков государственными изменниками, а протестантов – еретиками.
– О нет, я не хочу быть королевой Англии! – воскликнула леди Джейн, бледнея и содрогаясь. – Меня приводит в ужас этот жестокий и дикий король, в сердце которого нет места для сострадания и прощения!
Отец засмеялся:
– Разве ты не знаешь, дитя, каким способом можно укротить гиену и приручить тигра? Нужно доставлять им все новую и новую добычу, а так как эти хищники любят больше всего кровь, нужно заботиться, чтобы их жажда крови всегда была вполне удовлетворена. Единственное и неизменное свойство короля – это жестокость и кровожадность; если позаботиться об удовлетворении этих его существенных потребностей, он будет всегда милостивым и любящим супругом.
Томас Морус отлично понимал и определял одним метким словом всю сущность его характера. Я как сейчас вижу пред собою спокойное, кроткое лицо этого мудреца; он стоит у окна, король Генрих – подле него, обняв за шею своего канцлера, с благоговейным вниманием слушает его речи. Когда король ушел, я подошел к Томасу Морусу и поздравил его с известным всему миру благоволением к нему короля. «Король искренне любит вас», – сказал я. «Да, да! – подтвердил он со своей ласковой, спокойной улыбкой. – Да, король действительно любит меня! Однако он ни на минуту не задумался бы пожертвовать моей головой ради приобретения какого-нибудь драгоценного бриллианта, ради прекрасной женщины или пяди земли во Франции». Он был прав: действительно, ради прекрасной женщины он поплатился своей головой. Нет, Джейн, твоим первым и священным правилом должно быть – никогда не доверяться королю вполне и никогда не рассчитывать на продолжительность и прочность его расположения. Его вероломному сердцу иногда доставляет удовольствие осыпать милостями тех, чья гибель предрешена, или украшать орденами и бриллиантами тех, кого он завтра замышляет убить. Его самолюбию лестно подобно льву поиграть с мышонком, раньше чем проглотить свою добычу. Так поступил он с Кромвелем, своим долголетним другом и советником, за которым не числилось никакого другого преступления, кроме того, что он первый показал королю портрет некрасивой Анны Клевской, прикрашенной художником Гольбейном. Король не выказал Кромвелю своего гнева, не сделал ему ни единого упрека. Напротив, признавая его великие заслуги, он пожаловал ему звание графа Эссекса, украсил орденом Подвязки и произвел в лорда обер-камергера. И вот когда Кромвель почувствовал уверенность и с гордостью наслаждался королевскими милостями, только тогда король велел арестовать его и заключить в тюрьму и обвинил его в государственной измене. Итак, Кромвель был казнен за то, что Анна Клевская не понравилась королю, и за то, что ее портрет был сильно прикрашен художником Гольбейном.
Однако довольно о прошлом, Джейн! Теперь подумаем о средствах, какими можно было бы низвергнуть новую жену Генриха, стоящую на нашем пути. Когда она будет низвергнута, тогда уже не представит особого труда заместить ее тобою. Теперь ведь ты здесь, поблизости от короля. Если бы мы были здесь раньше, ты теперь уже была бы вместо Екатерины Парр королевой Англии. На наше несчастье, я был любимцем регента Шотландии и не смел приблизиться к Генриху. Необходимо было там впасть в немилость, чтобы здесь приобрести расположение короля. Теперь мы здесь и можем начать борьбу. Ты сегодня уже сделала значительный шаг вперед к нашей цели. Ты обратила на себя внимание короля и упрочила за собою расположение Екатерины. В настоящее время нас победили Кранмер и Екатерина, но скоро победит еретиков Гардинер с Джейн Дуглас. Мы возведем еретиков на эшафот, и в этом заключается наш план.
– Но это будет трудно привести в исполнение, – со вздохом заметила леди Джейн. – Королева обладает чистой, ясной душой, у нее умная голова и ясный взор.
– Ты должна лишить ее этой чистоты, льстивыми словами ты должна опутать ее сердце и соблазнить ее на грех.
– О, это было бы преступление, отец! – воскликнула леди Джейн. – Это значило бы не только разрушить ее земное счастье, но погубить также и ее душу. В этом я не буду вам послушна. Я ненавижу ее, это – правда, так как она стоит на моем пути к высшему положению, я желаю ее гибели, это – правда, так как она носит корону, которой я сама хочу обладать, но никогда я не буду так гнусна, чтобы собственноручно вливать в ее душу яд, от которого она должна погибнуть. Я согласна быть демоном, который во имя Бога изгонит ее из рая, но ни в каком случае не змеей, которая во имя дьявола соблазнит ее на грех.
Девушка умолкла и, тяжело дыша, откинулась на подушки, но тут рука отца опустилась на ее плечо; он, бледный от гнева, посмотрел на нее злобно сверкающим взором и грозно крикнул:
– Ты не хочешь? Ты осмеливаешься восставать против священных заповедей церкви? Разве ты забыла, в чем поклялась святым отцам, последовательницей которых ты состоишь? Разве ты забыла, что братья и сестры священного союза не должны иметь иной воли, кроме воли их главы? Разве ты забыла великий обет, который ты дала нашему главе – Игнатию Лойоле? Отвечай мне, неверная и непослушная дочь церкви! Повтори мне клятву, которую ты дала ему при вступлении в священное общество учеников Иисуса! Повтори клятву, говорю тебе!
Как бы под властью невидимой силы, леди Джейн поднялась, скрестила руки на груди и стояла, смиренная и дрожащая, пред отцом, фигура которого грозно возвышалась над нею.
Наконец она промолвила:
– Я клялась послушно подчинить воле святых отцов свою собственную волю, мои желания и стремления, мою жизнь. Я клялась служить святой, единой душеспасительной церкви всеми доступными мне способами, не пренебрегать никакими средствами, не гнушаться ничем, что может вести к цели, так как цель оправдывает средства и нет преступлений, если они совершаются во славу Бога и святой церкви!
– Ad majorem Dei gloriam![4] – произнес лорд Дуглас, благочестиво сложив руки. – А ты знаешь, что тебя ожидает, если ты преступишь свою клятву?
– Меня ожидают позор на земле и вечная погибель.
– А что ожидает тебя, если ты останешься верна своей клятве и будешь исполнять все данные тебе повеления?
– Слава на земле и вечное блаженство на небесах!
– Следовательно, ты будешь королевой на земле и на небесах. Тебе, значит, известны святые заповеди общества и ты помнишь свою клятву?
– Да, помню!
– Тебе известно также, что святой Лойола, покидая нас, дал обществу Иисуса в Англии своего главу – генерала, которому все братья и сестры должны слепо и беспрекословно повиноваться?
– Я знаю это!
– А ты знаешь, по какому знаку члены союза могут узнать своего генерала?
– По кольцу Лойолы, которое он носит на первом пальце правой руки.
– Вот это кольцо, смотри! – сказал граф, протягивая руку. Леди Джейн вскрикнула и, почти потеряв сознание, опустилась к ногам отца.
Лорд Дуглас поднял ее и, заключив в свои объятия, с ласковой улыбкой произнес:
– Ты видишь, Джейн, что я не только твой отец, но и твой учитель. Ты будешь повиноваться мне, не правда ли?
– Я буду повиноваться! – произнесла она беззвучно и поцеловала руку, на которую было надето роковое кольцо.
– Ты будешь для Екатерины Парр, по твоему выражению, змеей, соблазняющей ее на греховные поступки?..
– Да, буду.
– Ты поведешь ее ко греху и соблазнишь ее на любовь, которая послужит к ее гибели?
– Я сделаю это, мой отец.
– Теперь я назову тебе того, кого она должна полюбить и кто должен быть орудием ее гибели. Ты будешь содействовать тому, чтобы королева полюбила Генри Говарда, графа Сэррея.
Леди Джейн невольно вскрикнула и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть.
Отец посмотрел на нее гневным, пронзительным взором и воскликнул:
– Что означает этот возглас? Почему тебя так поражает этот выбор?
Однако леди Джейн быстро овладела собою и ответила:
– Меня это поразило потому, что граф уже обручен.
Странная улыбка мелькнула на устах ее отца.
– Не впервые случается, – сказал он, – что женатый человек становится опасным для сердца женщины, и часто именно такого рода препятствия еще более разжигают пламя любви. Сердце женщины преисполнено противоречием и настойчивостью.
Леди Джейн потупилась и ничего не возразила. Она чувствовала на себе острый, проницательный взгляд отца и знала, что он читает в ее душе даже тогда, когда она не смотрит на него.
– Итак, ты больше не противишься? – спросил он наконец. – Ты внушишь юной королеве любовь к графу Сэррею?
– Я попытаюсь, отец!
– Если ты возьмешься за дело с искренним желанием успеха, то будет полная удача. Ты сама говорила, что сердце королевы еще свободно; значит, имеется благодатная почва, на которой брошенное семя даст роскошный плод. Екатерина Парр не любит короля; ты научишь ее полюбить графа Генри Говарда.
– Однако, отец, – сказала леди Джейн с иронической улыбкой, – для достижения результата необходимо прежде всего обладать магической формулой, в силу которой граф первый воспылал бы любовью к королеве. У нее гордая душа, и она никогда настолько не потеряет собственного достоинства, чтобы полюбить человека, который не пылает к ней страстью. У графа имеется не только невеста, но, как говорят, еще и любовница.
– А значит, ты считаешь недостойным для женщины полюбить мужчину, который не боготворит ее? – спросил граф многозначительным тоном. – Я рад слышать это от моей дочери; в таком случае я могу быть уверен, что она не полюбит графа Сэррея, известного повсюду под именем «покорителя женских сердец». Без сомнения, твоя умная головка предугадывала, какое поручение я возложу на тебя относительно графа; в противном случае казалось бы странным, что у тебя имеются такие подробные сведения о частной жизни графа. Впрочем, ты ошибаешься; если бы высокопоставленная, но тем не менее очень несчастная дама действительно полюбила графа Сэррея, то ее участь была бы такой же, как и всегда бывает: ей пришлось бы покориться судьбе.
При этих словах отца на лице леди Джейн блеснул луч радости, но она тотчас смертельно побледнела.
В этот момент ее отец прибавил:
– Граф Генри Говард предназначен для Екатерины Парр, и ты должна помочь ей полюбить этого гордого, прекрасного графа, этого верного слугу единой душеспасительной церкви; королева должна полюбить его так горячо, чтобы пренебречь всеми опасностями, всеми предосторожностями.
Леди Джейн попыталась еще раз возразить, ссылаясь на слова отца, хотела найти еще один выход:
– Вы считаете графа верным слугою нашей церкви и все же хотите вовлечь его в ваш опасный план? Вы, вероятно, не подумали, что одинаково опасно как любить королеву, так и быть любимым ею? Если любовь к графу Сэррею несомненно приведет королеву к смертной казни, то и графа ожидает та же участь независимо от того, отвечает он на ее любовь или нет.
Граф Дуглас, пожав плечами, произнес:
– Когда дело идет о благе церкви и святой религии, мы не должны отступать ни пред какой опасностью, грозящей одному из нашей партии. Если единая, святая церковь может почерпнуть новые жизненные силы в этой мученической смерти, то пусть падет голова графа Сэррея!.. Однако, Джейн, начинает уже светать, я должен покинуть тебя. Прощай, дитя мое! Теперь мы оба знаем свои роли и постараемся удачно сыграть их. Ты – подруга и поверенная королевы, а я – беспечный царедворец, который веселыми шутками старается вызвать улыбку на уста своего короля. Вот и все. Доброго утра, Джейн, и спокойного сна! Ты должна уснуть, дитя, для того чтобы твои щечки сохранили свежесть, а глазки – свой блеск. Король ненавидит бледные, печальные лица. Спи спокойно, будущая королева Англии!
Он поцеловал дочь в лоб и неслышными шагами удалился из ее комнаты.
IX
На следующий день
Большой прием окончился. Сидя на троне рядом с королем, Екатерина Парр принимала поздравления своих придворных. Ласковый взор Генриха и едва слышные нежные слова, с которыми он обращался к Екатерине, убеждали наблюдательных и ловких царедворцев, что король влюблен в свою юную супругу ничуть не менее, чем был влюблен в нее как в невесту.
По окончании большого приема, когда в торжественном церемониале пред королевской четой прошли все вельможи и знатные люди государства, король подал руку своей супруге, чтобы, согласно тогдашнему придворному этикету, проводить ее на средину приемного зала и представить ей весь персонал ее двора.
Однако этот путь от трона на средину зала значительно утомил короля; такая прогулка в тридцать шагов была для него непривычна, тягостна, и он стремился поскорее заняться чем-нибудь более приятным. Поэтому он подозвал своего обер-церемониймейстера и приказал открыть двери, ведущие в столовый зал, а себе велел подать «домашний экипаж» и с возможным величием расположился в своем кресле на колесах, нетерпеливо выжидая, когда королева окончит прием и будет сопровождать его к завтраку.
Представление придворных дам и всего женского придворного персонала уже прошло, очередь была за мужчинами.
Обер-церемониймейстер читал список лиц, которые должны занять должности при королеве, – список, составленный королем собственноручно. При каждом новом имени на лицах придворных появлялась легкая улыбка удивления, так как особы, поименованные обер-церемониймейстером, были все лорды – самые красивые, самые молодые и любезные.
У многих мелькнула мысль, что, быть может, король затеял жестокую игру со своею супругой. Окружая ее молодыми людьми, он, быть может, желал подвергнуть ее опасности и неминуемой гибели или же хотел пред всем светом показать непоколебимую добродетель своей юной супруги.
Список начинался с наименее значительных придворных должностей и постепенно переходил к высшим и ответственным.
Осталось еще наименовать самых главных приближенных лиц королевы – обер-шталмейстера и обер-камергера; оба эти лица занимали несомненно самое видное положение, так как один из них был постоянно при королеве.
Таким лицом являлся обер-камергер. Когда королева была у себя, во дворце, он должен был быть неотлучно в ее приемной и только при его посредстве можно было попасть к королеве, ему она отдавала все приказания относительно увеселений и всех планов на текущий день; он должен был измышлять новые развлечения, новые увеселения, он вместе с тем имел право принимать участие в более интимных вечерних кружках королевы и имел право стоять позади стула королевы, когда королевская чета желала поужинать попросту, без соблюдения церемониала. Поэтому положение обер-камергера считалось очень важным, и он неизбежно должен был сделаться или ее поверенным и близким другом, или же коварным и злейшим врагом!
Положение обер-шталмейстера было не менее важно. Как только королева покидала дворец, он должен был сопровождать ее всюду, будь то на прогулках пешком или в экипаже, будь то верхом по лесу или в золоченой яхте по Темзе. Положение обер-шталмейстера было, пожалуй, еще важнее, еще исключительнее. Хотя для обер-камергера всегда были открыты покои королевы, в них он никогда не оставался с нею наедине, так как всегда присутствовала дежурная фрейлина, исключавшая возможность какой бы то ни было близости с королевой. Совсем другое дело – обер-шталмейстер. Он всегда имел случай говорить с нею так, что никто их не слышал. Он подавал ей руку, помогая сесть в экипаж; он сопровождал ее при верховой езде, при прогулках на воде. Словом, он имел тысячу возможностей быть с нею наедине и, дабы оберегать королеву, занимал подле нее место более близкое, чем придворные дамы.
Поэтому понятно, какое огромное значение имела эта должность, в особенности если принять во внимание, что во дворце король был почти неотлучно при своей супруге, но на прогулках он уже не мог сопровождать ее, так как вследствие своей все увеличивающейся тучности не покидал дворца иначе как в экипаже.
Естественно, что весь двор с напряженным вниманием ожидал того момента, когда обер-церемониймейстер назовет этих двух лиц, имена которых до тех пор держались в строжайшей тайне. Король собственноручно вписал эти два имени лишь утром, пред тем как передать список обер-церемониймейстеру.
Не только двор, но и сам король с интересом ждал этого момента. По выражению лиц он хотел определить количество друзей и врагов обоих избранников. Одна только молодая королева была со всеми равно любезна; ее сердце билось совершенно спокойно и мерно, она не понимала значительности этого момента.
Даже голос обер-церемониймейстера дрогнул, когда он произнес:
– Звание обер-камергера при королеве его величество возлагает на милорда Генри Говарда, графа Сэррея!
Шепот одобрения послышался отовсюду, и на всех лицах отразилось радостное изумление.
– У него очень много друзей, – пробормотал король про себя. – Он, следовательно, опасен!
Он гневным взором окинул молодого графа, когда тот приблизился к королеве, преклонил колено и приложился губами к ее протянутой руке.
Далее обер-церемониймейстер торжественным тоном прочитал:
– Звание обер-шталмейстера королевы его величество возлагает на милорда Томаса Сеймура, графа Сэдлея!
Хорошо, что в этот момент внимание короля было всецело поглощено наблюдением за выражением лиц своих подданных. Если бы он взглянул на свою супругу, то заметил бы, как при этом имени радостное изумление выразилось на ее лице и довольная улыбка мелькнула на ее устах.
Но Генрих думал только о своем дворе; он видел только, что число лиц, обрадованных избранием Сеймура, далеко уступало числу приветствовавших Сэррея.
Король нахмурил брови и пробормотал про себя:
– Эти Говарды становятся слишком могущественны! Я буду следить за ними!
Томас Сеймур приблизился к королеве, преклонил колено и поцеловал ее руку. Екатерина приняла его с приветливой улыбкой.
– Милорд, – сказала она, – вы сейчас приступите к своим обязанностям, и, надеюсь, исполнение моего поручения встретит одобрение всего двора. Милорд, возьмите своего наилучшего скакуна и поспешите в замок Гольт, к принцессе Елизавете. Передайте ей послание его королевского величества ее отца, и она последует за вами сюда. Скажите ей, что я жажду обнять ее как подругу, как сестру и прошу у нее прощения за то, что хочу сохранить для себя местечко в сердце ее короля и отца, а не могу предоставить его всецело ей. Поспешите в замок Гольт, милорд, и привезите к нам принцессу Елизавету!..
Часть вторая
I
Шут короля
Со дня последней свадьбы Генриха VIII прошло два года, а Екатерина Парр все еще сохранила расположение короля, ее врагам все еще не удавалось погубить ее и возвести на престол седьмую королеву.
Екатерина была всегда предусмотрительна, всегда настороже. Она ежедневно говорила себе, что этот день может быть ее последним днем, что какое-либо неожиданное слово или поступок могут лишить ее и короны и жизни, так как дикость и жестокость Генриха VIII возрастали день ото дня и достаточно было пустяка, чтобы он вспыхнул самым резким гневом, уничтожавшим всякого, кто возбудит его. В сознании этого Екатерина была чрезвычайно осторожна. Она страстно любила жизнь, она вовсе не хотела умереть, так как все еще ждала той настоящей жизни, о которой она до сих пор лишь мечтала в смутных грезах; она жаждала ее, так как трепетно бившееся сердце говорило, что оно готово пробудиться от холодной спячки.
Был прекрасный, весенний солнечный день. Екатерина пожелала воспользоваться им и совершить прогулку верхом, чтобы хоть на миг позабыть, что она – королева. Она хотела насладиться лесом, чудным дыханием мая, пением птиц, зеленью лугов и полной грудью вдохнуть в себя чистый весенний воздух.
Она хотела прокатиться верхом. Никто и не подозревал, сколько тайных желаний и сокровенного восторга вызывала в ней предстоящая прогулка. Никто и не подозревал, что она уже давно испытывала радость в предвкушении этой поездки верхом и потому едва-едва осмеливалась желать ее, так как это было исполнением ее самого страстного желания.
Екатерина уже надела амазонку, и маленькая бархатная шляпа с огромным белым пером покрывала ее красивую голову. Она ходила взад и вперед по комнате и нетерпеливо ждала возвращения обер-камергера, которого послала к королю, чтобы спросить его, не нужно ли ему о чем-нибудь переговорить с ней пред ее прогулкой.
Вдруг дверь отворилась и на пороге комнаты появилась странная фигура. Это был маленький, сгорбленный мужчина в платье из пурпурного шелка, с вычурной пестротою изукрашенном буфами и бантами всевозможных цветов; эта пестрота одеяния являлась странным контрастом с седыми волосами и серьезным, мрачным лицом этого человека.
– А-а, королевский шут! – с веселой улыбкой произнесла Екатерина. – Ну-ну, Джон Гейвуд, что привело вас ко мне? Ну, что? Вы являетесь посланником короля или снова выкинули какую-нибудь глупость и пришли ко мне искать защиты?
– О нет, ваше величество, – ответил Джон Гейвуд, – я не выкидывал глупости и не приношу вам вестей от короля. Я не приношу вам ничего, кроме самого себя. Ах, ваше величество, я вижу, что вы хотите смеяться, но прошу, забудьте на мгновение, что Джон Гейвуд – королевский шут и что ему не подобает делать серьезную мину и иметь грустные мысли, как другим людям.
– О да, я ведь знаю, что вы не только шут короля, но и поэт! – с добродушной улыбкой сказала Екатерина.
– Да, вы правы, я – поэт, и потому совершенно справедливо, что я ношу этот дурацкий колпак, так как ведь все поэты – дураки, – с горькой иронией возразил Гейвуд. – Однако я явился к вам, ваше величество, не как дурак и не как поэт; я пришел, потому что хочу обнять ваши ноги и поцеловать их. Я пришел сказать вам, что вы превратили меня, Джона Гейвуда, в вашего вечного раба! С этого дня я, как верный пес, буду лежать у вашего порога и буду охранять вас от всякого врага и всякого злого умысла, которые могут угрожать вам. Во всякое время дня и ночи я буду готов служить вам и не буду знать ни покоя, ни отдыха, когда дело коснется исполнения вашего повеления или какого бы то ни было пожелания!
Шут произнес все это дрожавшим от волнения голосом, слезы оросили его глаза, и, опустившись на колени, он склонил к ногам Екатерины свою голову.
– Но чем же это я внушила вам такое чувство благодарности? – удивленно спросила Екатерина.
– Вы? – спросил шут. – Вы, ваше величество, спасли моего сына от костра! Этот прекрасный, благородный юноша был уже присужден к смерти за то, что с благоговением говорил о Томасе Морусе, за то, что сказал, что этот великий и благородный человек справедливо поступил, предпочтя умереть, но не изменить своим убеждениям. Ах, ведь в наше время совершеннейший пустяк подвергнуться смертному приговору! Ведь для этого достаточно всего нескольких необдуманно сказанных слов! А наш жалкий, слюнявый парламент в своей трусости и ничтожестве всегда готов все осудить, потому что знает, что король Генрих постоянно жаждет крови, постоянно мерзнет без костра! Таким образом осудили и моего сына, и если бы не вы, приговор был бы приведен в исполнение. Но вы, которую Господь ангелом примирения посадил на этот залитый кровью королевский трон, вы, ежедневно рискующая своею жизнью и короной ради освобождения одного из тех несчастных, которые являются жертвами фанатизма и жажды крови, вы спасли моего сына!
– Так тот молодой человек, которого вчера намеревались сжечь на костре, был вашим сыном? – спросила королева.
– Да, это был мой сын.
– И вы не сказали об этом королю, вы не просили его о помиловании? – изумилась королева.
– Если бы я только сделал это, то мой сын безвозвратно погиб бы! Ведь вам отлично известно, что король крайне гордится своею беспристрастностью и своею… добродетелью! О, если бы он знал, что Томас – мой сын, он сам осудил бы его на смерть, чтобы доказать народу, что Генрих VIII повсюду находит виновных и карает преступников, чье бы имя они ни носили и кто бы ни просил за них! Даже и ваши мольбы не смягчили бы короля, так как первосвященник английской церкви никогда не простил бы того, что этот бедный молодой человек – незаконный сын своего отца, что он не вправе носить его имя, что его мать – жена другого, которого мой Томас должен называть своим отцом!
– Бедный Гейвуд! – сострадательно произнесла королева. – Да, теперь я понимаю вас! Король ни в коем случае не простил бы этого, и если бы он только знал, то ваш сын наверное погиб бы на эшафоте!
– Вы спасли его, ваше величество! – воскликнул шут. – Теперь вы верите, что я вечно буду благодарен вам?
– Да, верю! – с приветливой улыбкой сказала королева, протягивая ему руку для поцелуя. – Я верю вам и принимаю вашу службу!
– И вы будете нуждаться в ней, ваше величество, так как грозовые тучи собираются над вашей головой и вот-вот заблестят молнии и загрохочет гром.
– О, я не боюсь этого! У меня крепкие нервы! – улыбаясь, возразила королева. – С наступлением грозы природа лишь оживает, и я всегда видела, что после грозы сияет солнце.
– Вы храбры! – грустно сказал Гейвуд.
– Это оттого, что я не знаю за собой никакой вины!
– Но ваши враги сочинят для вас вину! Ах, когда нужно оклеветать ближнего и погубить его, люди становятся поэтами!
– Но вы сами сказали, что поэты – безумцы и что их нужно всех повесить на одном суку, – смеясь, произнесла королева. – Отлично, мы поступим с клеветниками так, как следует поступать с поэтами, вот и все!
– Нет, это еще далеко не все! – энергично воскликнул Гейвуд. – Ведь клеветники походят на дождевых червей. Их режут на куски, но этим отнюдь не умерщвляют их, а, напротив, умножают и каждого наделяют несколькими головами.
– Но в чем же меня обвиняют? – нетерпеливо воскликнула Екатерина. – Разве моя жизнь не открыта для всех? Разве я когда бы то ни было старалась иметь какую-либо тайну? Разве мое сердце – не хрустальный дворец, в который может заглянуть каждый, заглянуть и убедиться, что в нем совершенно бесплодная почва и что в нем не растет ни единого, даже самого жалкого растеньица?
– Если даже это так, то ваши враги посеют плевелы и постараются уверить короля, что это – жгучая любовь, выросшая в вашем сердце.
– Как? Меня хотят обвинить в преступной любви? – спросила королева, и ее губы слегка дрогнули.
– Мне еще неизвестен план ваших врагов, – ответил шут. – Но я узнаю его. Заговор в полном ходу. Итак, берегитесь, ваше величество! Не доверяйтесь никому, так как враги обыкновенно прикрываются лицемерием и льстивыми словами.
– Если вы знаете моих врагов, то назовите их! – сказала Екатерина с нетерпением. – Назовите мне их, чтобы я могла остерегаться их.
– Я пришел сюда не для того, чтобы обвинить кого-либо, а лишь для того, чтобы предостеречь вас. Поэтому я буду осторожен и не укажу вам на ваших врагов, но зато назову вам ваших друзей.
– Ах, следовательно, у меня есть и друзья? – со счастливой улыбкой прошептала Екатерина.
– Да, у вас есть друзья, притом такие, что готовы пожертвовать ради вас своею жизнью!
– О, назовите мне их, назовите мне их! – воскликнула Екатерина, вся так и трепеща от радостного ожидания.
– Прежде всего я назову Кранмера, архиепископа кентерберийского. Это ваш верный и надежный друг, на которого вы можете положиться. Он любит вас как королеву и ценит как единомышленницу, которую ниспослал ему Господь, чтобы здесь, при дворе всехристианнейшего и всекровавейшего короля, довести до конца святое дело реформации и пролить свет познания в эту тьму суеверия и поповства.
– Да, вы правы! – задумчиво произнесла королева. – Кранмер – благородный и надежный друг и довольно часто поддерживал меня у короля против булавочных уколов моих врагов, которые хотя и не убивают, но все же покрывают ранами все тело и насмерть истомляют его.
– Защищайте его и тем самым вы защитите самое себя!
– Ну, а кто же еще мои друзья? – спросила Екатерина.
– Я отдал первенство Кранмеру, но теперь, ваше величество, назову себя вашим вторым другом. Если Кранмер – ваш защитник, то я готов быть вашим псом, и, верьте мне, пока у вас есть такой защитник и такая собака, вы неуязвимы. Кранмер оградит вас от всех камней, лежащих на вашем пути, а я изгрызу всех ваших врагов, таящихся по придорожным кустам и готовых из засады напасть на вас.
– Благодарю вас! Истинно благодарю вас! – искренно произнесла Екатерина. – Ну а дальше?
– Дальше? – с грустной улыбкой повторил Гейвуд.
– Назовите мне еще моих друзей!
– Ваше величество! – воскликнул шут. – Достаточно и того, если в жизни найдешь двух друзей, на которых можно положиться и верностью которых не руководит корыстолюбие. Вы, может быть, являетесь единственной коронованной особой, которая может похвастать такими друзьями.
– Я – женщина, и много женщин окружает меня и ежедневно клянется мне в неизменной дружбе и преданности. Разве они не достойны имени друзей? – задумчиво спросила Екатерина. – Неужели недостойна его и леди Джейн Дуглас, которую я уже много лет называю своей подругой и которой верю, как родной сестре? Скажите, Гейвуд, скажите хотя вы, о котором говорят как о человеке, знающем все, что происходит при дворе! Скажите, неужели леди Джейн Дуглас не подруга мне?
Джон Гейвуд вдруг стал серьезен и мрачен и задумчиво потупил взор. Затем он обвел комнату беспокойным взглядом, как бы желая убедиться, не притаился ли где-нибудь соглядатай, и, вплотную подойдя к королеве, прошептал:
– Не доверяйте ей! Она – папистка, и Гардинер – ее друг.
– Ах, я подозревала это! – печально прошептала королева.
– Но слушайте, ваше величество! – продолжал шут. – Не обнаруживайте вашего подозрения ни взглядом, ни словом, ни малейшим намеком. Усыпите эту ехидну верою в вашу беспечность, да, да, усыпите ее! Это – ядовитая и опасная змея, которую нельзя дразнить, а не то, прежде чем вы в состоянии будете предвидеть это, она ужалит вас. Будьте всегда добры, всегда доверчивы, всегда приветливы по отношению к ней. Однако о том, что вы не желаете поведать Гардинеру и графу Дугласу, не говорите леди Джейн. О, верьте мне, она напоминает льва в венецианском Дворце дожей. Те тайны, которые вы доверяете ей, заносятся в обвинительный акт против вас пред кровавым трибуналом.
Екатерина, смеясь, покачала головой и сказала:
– Вы слишком преувеличиваете, Гейвуд. Возможно, что религия, которую леди Джейн тайно исповедует, отчуждает ее сердце от меня, но она никогда не будет в состоянии изменить мне или вступить в союз с моими врагами. Нет, нет, мой Джон, вы ошибаетесь. Было бы непростительным легкомыслием поверить вам. О, как плачевен был бы мир, если бы мы никогда не могли довериться даже самым верным и любимым нашим друзьям.
– Да, мир дурен и плачевен, и приходится отчаяться в нем или смотреть на него как на веселую шутку, которой дразнит и манит нас дьявол. Для меня он вот именно такая шутка, ваше величество! И я сделался королевским шутом именно потому, что это положение по крайней мере дает мне право изливать весь яд презрения на пресмыкающихся и говорить правду тем, у которых вечная ложь словно патока каплет с губ. Мудрецы и поэты – истинные шуты нашего времени, и так как я не чувствую в себе призвания быть королем или духовником, палачом или агнцем Божиим, то я сделался шутом.
– Да, шут – значит эпиграммист, пред колким языком которого трепещет весь двор, – заметила Екатерина.
– Так как я не могу, подобно своему державному повелителю, приказать судить этих преступников, то я караю их жалом своего языка, ваше величество, – промолвил шут. – Ах, повторяю вам, ваше величество, вы будете нуждаться в этом союзнике. Будьте настороже! Сегодня утром я уже слышал первые раскаты грома и в глазах леди Джейн заметил тайные молнии. Не доверяйте ей! Не доверяйте никому здесь, кроме своих друзей – Кранмера и Джона Гейвуда!..
– И вы говорите, что среди всего этого двора, среди всех этих блестящих женщин, этих смелых кавалеров, бедная королева не имеет ни одного истинного друга, ни одной души, которой она может довериться, ни одной руки, на которую может опереться? – почти с упреком спросила Екатерина. – О, подумайте, Гейвуд, сжальтесь над бедной королевой. Припомните! Скажите, неужели только вы двое? Ни одного друга, кроме вас?
Шут взглянул на королеву и глубоко вздохнул. Он, пожалуй, лучше ее самой мог читать в тайниках ее сердца и знать его глубокие раны. Однако он сочувствовал его горю и желал несколько смягчить его.
– Я припомнил, – тихо и печально произнес шут. – У вас есть еще третий друг при этом дворе.
– Ах, еще один друг? – воскликнула Екатерина уже более веселым и звонким голосом. – Назовите мне его, назовите! Вы же видите, что я сгораю от нетерпения услышать его имя.
Джон Гейвуд со странным, не то выжидательным, не то печальным выражением посмотрел на пылающее лицо Екатерины, на миг поник головою на грудь и вздохнул.
– Ну же, Джон, назовите мне третьего друга! – нетерпеливо повторила королева.
– Разве вы не знаете его, ваше величество? – спросил Джон Гейвуд, снова пристально смотря ей прямо в лицо. – Разве вы не знаете его? Это Томас Сеймур, граф Сэдлей.
Словно солнечный луч скользнул по лицу королевы, и она тихо вскрикнула.
– Солнечные лучи прямо падают на ваше лицо, ваше величество! – печально продолжал Джон Гейвуд. – Берегитесь, как бы они не ослепили вашего ясного взора. Встаньте в тень, ваше величество; вы слышите, идет та, которая могла бы выдать солнечный свет на вашем лице за признаки пожара.
Вслед за тем отворилась дверь, и на пороге комнаты показалась леди Джейн. Она обвела быстрым, испытующим взглядом комнату, и незаметная улыбка мелькнула на ее бледном, красивом лице.
– Ваше величество, – торжественно произнесла она, – все готово! Если вам угодно, можно ехать на прогулку. Принцесса Елизавета ждет вас в аванзале, и ваш обер-шталмейстер уже держит поводья вашего коня.
– А где же обер-камергер? – краснея, спросила Екатерина. – Разве король ничего не поручил ему передать мне?
В этот самый момент вошел граф Дуглас и сказал:
– Его величество приказал передать вам, ваше величество, что вы можете избрать целью своей поездки такой далекий пункт, какой вам будет угоден. Великолепная погода достойна того, чтобы королева наслаждалась ею и вступила в состязание с солнцем.
– О, король всегда был и будет галантнейшим кавалером! – со счастливой улыбкой сказала Екатерина. – В таком случае идемте, Джейн, поедем вместе!
– Простите, ваше величество, – сказала леди Джейн, отступая. – Я не могу сегодня воспользоваться милостивым разрешением сопровождать вас, ваше величество. Сегодня дежурство леди Анны Эттерсвиль.
– Ну, тогда до следующего раза, Джейн! А вы, граф Дуглас, поедете с нами? – пригласила королева.
– Ваше величество, король приказал мне явиться к нему в кабинет.
– Смотрите, пред вами королева, которая покинута всеми своими друзьями! – весело произнесла Екатерина и легким, эластическим шагом направилась через зал к ожидавшему ее двору.
– Здесь что-то происходит, о чем я должен разузнать! – пробормотал Джон Гейвуд, вместе с другими выходя из зала. – Поставлена мышеловка, так как кошки остаются здесь и жадно ждут свою добычу.