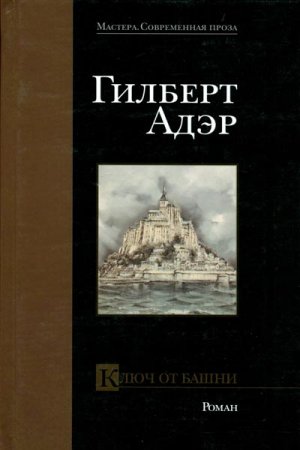
Туэейк-туэейк-туэейк-туэейк-туэейк-туэейк-туэейк.
Они все больше меня гипнотизировали, механические дворники моего приземистого, желтушного, подержанного «мини»: выписывали туда-сюда, туда-сюда по часовой стрелке и против часовой стрелки две накладывающиеся друг на друга арки на ветровом стекле и умудрялись не сцепиться — казалось, еще чуть-чуть… и все-таки нет — друг с другом на его середине. И все больше они напоминали мне воздушных гимнастов на предварительной разминке: взлетают по двум изящным, асинхронным параболам в брезентовый космос шапито — и назад, снова ввысь и снова назад, всякий раз грозя столкнуться в воздухе и всякий раз чуть недотягивая друг до друга. Даже их звук гипнотизировал — необъяснимо тупой бурчащий скрип, возникавший при протирке стекла вниз, к залепленному грязью уплотнителю. И эти краткие секунды, когда ветровое стекло оказывалось протертым дочиста и прежде чем на нем появлялась новехонькая сыпь дождевых капель, были небольшим, но подлинным сюрпризом, смутным разочарованием оттого, что за этот промежуток вид за стеклом не переменился, что темное глухое шоссе передо мной осталось, каким было, и только иногда километровый столб, неестественно яркий в серой мути, подтверждал, что я продвигаюсь вперед.
Этот умирающий день был колдовски расцвечен. Мне пришло в голову, что я все-таки заблудился, и, вытащив из перчаточника мой зеленый «Мишлен», я неуклюже расстелил на коленях Бретань. Осторожнее, осторожнее. Я устремил взгляд на шоссе, на карту, снова на шоссе, снова на карту. Последним населенным пунктом был Сен-Мишель-де-Лу, следующим будет Шампьё. Пока все ничего. С ловкостью гуся, обрабатывающего перья в хронологическом порядке, я сложил карту, потом сложил ее еще раз и еще раз, убрал в уютное гнездышко в приборной доске и позволил свободным пальцам правой руки исполнить веселое барабанное соло на пушистом чехле рулевого колеса.
Я скосил глаза на мои часы. Дешевые с черным циферблатом, на металлическом браслете со всякими ненужными приспособленьицами, как у бойскаутского перочинного ножа. Шесть сорок пять. А вот впереди и Шампьё, точка в точку. Шампьё уже позади.
И опять я на темном глухом шоссе. Дождь лил с прежней силой. Собиралась гроза, и я услышал раскат грома прямо над головой. По стеклу застучали дробинки, тут же сметаемые в небытие размеренным движением дворников.
Внезапно — но как знать, не заметил ли я гораздо раньше и только не осознавал? — сквозь муть стекла, точно неопознанное пятнышко на экране радара, пробился мазок водянистого белого света.
И начал увеличиваться, увеличиваться. А в тот момент, когда я осознал, что это такое, произошло дорожное происшествие.
Шоссе, как это принято во Франции, обрамляли два ряда платанов, чьи обычно аккуратные прически растрепались под ливнем. Прежде чем я успел разобрать, что, собственно, происходит вокруг меня, небо сверху донизу расколол безупречный зигзаг молнии. Я увидел, как она устремилась к платану у самой обочины прямо впереди меня и на мгновение окутала его кору жиденьким голубоватым пламенем crèpe Suzette[1]. Над мшистым комлем поднялся водевильный клуб дыма, последовал нутряной скрип, а затем оглушительный хлопок грома, казалось, сотряс все окрестности. Ствол платана неуклюже взмыл корнями в воздух и затем жутким замедленным движением лег поперек залитого водой асфальта.
Подчиняясь двойному паническому импульсу, я вжался затылком в леопардовый чехол на спинке сиденья, продолжая вытянутыми руками стискивать рулевое колесо, и вдавил педаль тормоза в пол. Старенькие шины завизжали, меня швырнуло на ветровое стекло, еще пара дюймов… но тут мне в живот свирепо врезалась пряжка ремня безопасности и спасла от изуродования. Машина встала прямо перед преградившей ей путь огромной черной массой. От небесной тверди отделился плотный сгусток темноты и рикошетом пронесся по шоссе.
Я отключил дворники, и в ту же секунду с такой же моментальностью исчез и мазок белого света.
Около минуты я сидел, не представляя, когда же мое сердце перестанет колотиться о ремень безопасности. Меня томило желание закурить, но хотя столкновения удалось избежать, меня все еще не оставлял страх — совершенно иррациональный, — что «мини» вот-вот вспыхнет. Я расстегнул пряжку, открыл дверцу и, пошатываясь, выбрался наружу. Воздух овеял мне щеки чудесной прохладой.
Мой взгляд сразу остановился на безобразном иззубренном провале в правом строю платанов. Сраженное дерево перекинулось через шоссе, полностью его перегородив. Горизонтально распростертое, так сказать, избранное волей судеб, оно мне показалось куда более широким в обхвате, более внушительным и густым, чем все его выстоявшие собратья. Вот это — дерево, подумал я. Такое, каким должно быть дерево.
Я закурил сигарету, и она, как ни старался я загородить ее от дождя, тут же обрела грязновато-желтый оттенок «голуазки». Теперь я понял, чем был мазок света. По ту сторону платана стояли другая машина и другой водитель. Но грудь у меня вздымалась, сердце барабанило, и они пока не вызвали у меня ни малейшего интереса.
Наконец я услышал мужской голос:
— Ah çа — çа, c'est commode![2]
И не нашел ничего лучше, как глупо ответить:
— Oui.[3]
Наступило молчание, а затем:
— Вы, там! Вы англичанин?
— Да… да, англичанин.
Неприятное ощущение — разговаривать с кем-то через ширму. Где он? Почему не покажется?
Но его машина возникла в поле моего зрения. «Роллс-ройс», скорее всего серебристый. Однако установить точный оттенок можно было бы, только осмотрев его при свете дня, как пары новых ботинок, примеряемых в магазине, освещенном флуоресцентными плафонами.
Через какие-то секунды я увидел и водителя. Его затянувшаяся невидимость не таила никаких скрытых умыслов. Он просто стоял на левой обочине, скрытый от меня спутанной, смятой кроной изуродованного дерева. Высокий, лет сорока пяти. В полумраке он показался мне не то что толстым, но лишенным углов. На нем были элегантнейший голубой или серо-голубой костюм в узкую полосочку и торопливо наброшенное кожаное пальто. Поднятый воротник франтовато обрамлял шею.
Он сделал над стволом жест неясного значения.
— Жан-Марк Шере. Очень жаль, что мы не можем пожать друг другу руки, — сказал он по-английски без акцента, но с некоторой напыщенностью.
— Гай Лантерн.
Мы одновременно подошли к стволу, как теннисисты к сетке после чересчур жаркой игры.
На кожаном пальто Шере расцветали розетки капель. Он выглядел более раздосадованным, чем ошеломленным. Он мимоходом пнул ствол — просто срывая раздражение, а не в надежде, что его удастся сдвинуть.
— Merde! Oh, merde merde merde merde merde merde![4]
— Полагаю, могло быть и хуже, — выпалил я.
— Хуже?
— Оно могло бы упасть на вас или на меня.
— А, да! — сказал Шере. — Да, действительно, оно могло упасть на вас или на меня. А может быть, и на нас обоих. Оно могло бы пришибить нас… — Он вздохнул, обнаружив (как уже заметил я), что его сарказмы ничему не помогают. — Но раз уж судьба нас в этой мере пощадила, так что нам делать? Мы же не можем провести тут всю ночь. И, как вы видите, по краям шоссе глубокие кюветы. Так что и объехать его невозможно.
Я взвесил положение.
— Послушайте, — сказал я, — а может, сделать так? Один из нас останется здесь на случай, если подъедут еще машины, а другой развернется и поищет телефон или гараж.
— Il n'en est pas question[5], — резко ответил Шере, и так, будто говорил сам с собой. Потом продолжал более любезным тоном: — Простите меня. Как мне ни тяжело в этом признаться, но это дерево, эта молния — они, без сомнения, спасли нам жизнь. Не знаю, как вы, но я бы врезался в вашу машину, если бы меня вовремя не остановили. Но ваше предложение… боюсь, о нем не может быть и речи. Мне надо успеть на паром — последний паром из Шербура. Мне необходимо на него успеть.
— Мне очень жаль, но не вижу…
Он перебил меня:
— Погодите! Вы подали мне мысль. Каковы ваши планы?
— Простите?
— Ваши планы, намерения? Я хочу сказать: куда вы направляетесь?
Этот вопрос меня удивил, но у меня не было причин умалчивать.
— В Сен-Мало.
— Сен-Мало?
— Да. Я вроде как путешествую.
— Сен-Мало — это идеально. И надолго вы думаете там остаться, могу ли я спросить?
— На пять-шесть дней. Мне надо вернуться в Англию в понедельник на той неделе.
— Превосходно. Я вижу, что мы можем заключить сделку.
— Сделку? Какую сделку?
— Но разве вы еще не поняли, мой дорогой? — продолжал он приятельским тоном.
(Понял ли я? Да, может быть, уже понял.)
— Бартер, — объяснил теперь уже почти благодушный Шере. — Нам надо поменяться машинами.
Я хихикнул:
— Вы же не серьезно?
— Совершенно серьезно. — Шере мурлыкал, как мотор «роллса». — Это простейшее, изящнейшее решение нашего взаимного затруднения. Единственное решение. Вот… — Он протянул мне через поваленный ствол белую квадратную карточку. В бледном свете дрожащего огонька моей зажигалки я прочитал тисненые строчки:
JEAN-MARK CHERET
SPECIALISTE EN BEAU-ARTS[6]
И в нижнем правом углу:
Villa Latarus
14 rue de Pavot
Saint-Malo 3612512[7]
— Я, как вы видите, искусствовед. Я… как бы это выразиться?.. У меня есть клиенты, которым я даю советы. Которые платят мне за советы. И очень щедро, могу добавить. Одному из этих клиентов требуются мои услуги. По ту сторону Ла-Манша. Господин из Ливана, богатый и не скупой — сочетание, боюсь, встречающееся все более редко, — и обожающий самые чудесные, очень дорогие objets d'art[8]. Я только что получил от него категорическое распоряжение по телефону в том тоне, какой «не терпит возражений». — Кавычки, без сомнения, были непреднамеренными, но тем не менее слышались ясно, настолько любовно Шере посмаковал иностранную идиому. — В Англии я пробуду два, ну, от силы три дня. Столько мне потребуется, чтобы дать совет моему клиенту, возобновить кое-какие контакты на Корк-стрит и вернуться в Сен-Мало. Обменявшись машинами, поймите, мы оба сможем развернуться, как вы выражаетесь, и завершить наши поездки, а через три дня встретиться в моем доме — адрес на моей визитной карточке у вас в руках — и снова ими обменяться. Никаких проблем, никаких хлопот. Сообщив надлежащим властям о случившемся, мы отправимся каждый своей дорогой. Что скажете?
Такой убедительный Шере! Убедительный до такой степени, будто он предлагал продать мне «роллс», а не одолжить. И тем не менее…
— С вашего позволения, нет.
— Но ради всего святого, почему?
— Не то чтобы я вам не доверял, поймите, но просто я предпочел бы не усложнять и без того неприятную ситуацию.
Шере нетерпеливо подставил дождю часы на запястье.
— Послушайте, Лантерн, время не ждет. Вы говорите, что не доверяете мне. — Он отмахнулся от моей попытки возразить. — Я понимаю ваши сомнения. Но в конечном счете я готов доверить вам мой «роллс-ройс», а взамен прошу лишь на несколько дней вашу, подозреваю, подержанную… — Он чуть-чуть оскорбительно оборвал фразу. — Я полностью застрахован. А вы?
— Естественно.
— Ну, так в чем сложность? К тому же, — добавил он, — разве не так завязывается дружба на всю жизнь?
На секунду я застыл без движения. Дождь лил как из ведра. К моему лбу прилипли спутанные пряди. Воротничок рубашки обхватывал шею, точно холодные липкие пальцы. Мои ботинки очень неохотно, но, несомненно, впитывали воду. И всего в нескольких шагах от меня маняще поблескивал «роллс».
— Да… договорились, — услышал я свой голос.
— Молодчага, — сказал Шере, снова взглянув на часы. Затем быстро зашагал назад к «роллсу», из которого молниеносно извлек глянцевый черный кейс и небольшой чемодан.
— Не забывайте, что руль у него слева, — сказал он, возвращаясь. — Вы скоро привыкнете. По Франции легче, чем на вашей. Встретимся в четверг на вилле. Или, если предпочитаете, в пятницу. Сами выберите время. А до тех пор повеселитесь хорошенько.
Я все еще колебался, словно решение не было уже принято. Но непристойная быстрота, с какой Шере завершил свою часть сделки, не оставила мне времени для дальнейших раздумий. Я извлек свой багаж из «мини» — видавший виды чемодан и две теннисные ракетки. Тем временем Шере вынул из своего чемоданчика хрустящую ослепительно белую рубашку, отломил ветку с поваленного платана и укрепил навстречу дождевым струям импровизированный белый флаг.
— Сойдет. Однако не забудьте — из первой же телефонной будки позвоните властям.
Я кивнул. После чего со взаимным bon voyage[9] мы обменялись автомобильными ключами и перелезли через дерево навстречу друг другу. Я опасливо забрался в «роллс», куда более просторный, чем мой «мини», и расположился поудобнее внутри стильного коричневого под дуб салона. За затемненным ветровым стеклом виднелся почти взлетающий с капота посеребренный Дух Экстаза. Я сжал рулевое колесо обеими руками и несколько секунд поглаживал его, потом включил зажигание.
Минуту спустя, словно подчиняясь единому пульту дистанционного управления, две наши машины, две миниатюрные игрушки Бога, одновременно развернулись и разъехались в противоположных направлениях.
Было почти девять вечера, когда — после остановки en route[10] для звонка властям согласно инструкции — я пожирал и пожирал все то же монотонно темное глухое шоссе, переваривая и выплевывая его позади себя, и наконец оказался на окраинных улицах Сен-Мало.
Должен сразу сказать, что сперва Сен-Мало показался мне таким же угрюмым и негостеприимным провинциальным французским городом, как все, в которых мне удалось побывать. Старые, с запертыми ставнями дома перемежались с кварталами современных муниципальных многоквартирных зданий. Густой сумрак перекрестка внезапно разорвал холодный свет бензоколонки самообслуживания, точно в темной кухне открыли дверцу морозильника. И никаких пешеходов. Очаровательный Сен-Мало, старинный Сен-Мало, живописный Сен-Мало путеводителя для туристов, который я засунул в чемодан не далее чем утром, должен был находиться где-то здесь, однако улицы, по которым я ехал, были такими безликими, что в первый раз после расставания с Шере меня начали смущать размеры и величавость «роллс-ройса». Даже в такой уныло безотрадный воскресный вечер мне пришлось дважды давать задний ход, пропуская встречную машину, и я решил остановиться в первом же более или менее пристойном отеле, который окажется на моем пути.
Долго мне ждать не пришлось. Свернув за угол, я сразу же увидел вертикальные на косом фоне дождевых струй буквы Н, О, Т и Е и, пока я их осмыслял, загорелась недостающая L, раза два отчаянно замигала, словно ей в глаз попала соринка, и снова, пульсируя, погасла. Я притормозил, чтобы рассмотреть все получше. Однозвездочное заведение, хотя его несоблазнительный фасад и щеголял множеством рекламок, какие даже самые захудалые гостиницы во Франции обязательно накапливают на протяжении ушедших лет. Непрезентабельный вестибюль был освещен, но совершенно пуст. За скверными тюлевыми занавесками окна на первом этаже я разглядел что-то вроде гибрида бара с телевизионной комнатой. Можно было еле-еле различить бледно-голубое мерцание включенного экрана, но перед ним я никого не увидел.
Хотя в отношении отелей я никогда не был слишком разборчив, но мимо этого, конечно, проехал бы, не остановившись, если бы не поздний час и не дождь; и если бы не решающий факт: к отелю примыкал двор, где три машины уже устроились на ночлег. Меня очень пугала мысль припарковать чужую машину прямо на улице, и уже начинало грызть сожаление, что я позволил себе согласиться на бредовую затею Шере, а потому я тут же без колебаний свернул во двор.
L'Hotel de l'Apothéose[11] — такое несколько комичное название носила эта убогая гостиница. Минуту-другую я постоял перед конторкой портье. Ее накрывало прозрачное стекло, которое моим мокрым пальцам казалось таким же гладким и хрупким, как глазировка крем-брюле, а под стеклом была развернута карта района, украшенная Восточным и Западным Ветрами с клубами, вырывающимися из надутых щек, и крохотными фигурками яхтсменов, воднолыжников и игроков в гольф. На стене напротив меня висела квадратная полка, состоящая из неглубоких ячеек, четыре дюйма на четыре, с ключом или без ключа от номера в каждой (из шестнадцати ключей не хватало только двух). Рядом с полкой висела репродукция морского пейзажа Дюфи и список сомнительно недорогих расценок. На конторке рядом с устаревшим телефонным аппаратом, таким же тяжелым и безликим, как тупое орудие грабителя в темном переулке, лежала свернутая в трубку L'Equipe[12]. И еще маленький колокольчик, которым я после некоторых колебаний помахал. К моему удивлению, ночной портье тут же возник над конторкой, позади которой лежал на диване.
Это был человек в годах, с внешностью корсиканца и пролетарской смуглостью, которая была приобретена не в Сен-Мало. Он раза два моргнул, словно, увидев меня перед собой, не поверил своим заспанным глазам. Затем сказал с сильнейшим марсельским акцентом:
— Мсье?
Я попросил номер с ванной или с душем.
— Ce sont toutes des chambres avec salle de bain[13], — ответил он, обернулся к ячейкам, снял с крючка первый же ключ и вручил его мне. — C'est au premier. Bonne nuit, monsieur.[14]
Я был немножко ошарашен. Никогда прежде я не селился в первом номере отеля. Одна из тех вещей, которые с вами никогда не случаются. Ну, как вдруг оказаться самым первым пассажиром, который войдет в самолет. Несколько секунд я тупо смотрел на ключ, а улыбка ночного портье подбодряла и подбодряла меня. Наконец я спросил, не надо ли выполнить какие-нибудь формальности, может быть, заполнить какой-нибудь бланк? Неужели он даже не хочет узнать мою фамилию?
Портье покачал головой:
— Le matin, monsieur. Vous ferez tout ça le matin. Ne vous inqiétez-vous pas, monsieur.[15]
Нельзя ли, спросил я его тогда, прислать мне в номер чего-нибудь поесть? Но, еще не договорив, понял, насколько глупа подобная просьба.
Грустно покачав головой, словно он был того же мнения, портье взял свернутый в трубку номер L'Equipe.
— Mais non, vous voyez bien, у a pas de tel service ici. Bonne nuit, monsieur.[16]
Я посмотрел на стеклянную дверь в конце вестибюля. Дождь все еще шел. И задул порывистый ветер: в прямоугольной раме дверей три проходивших мимо морячка зашатались, как пьяные Пьеро. Потом мимо входа в отель протопал мужчина в дождевике, держа перед собой под прямым углом большой полосатый зонт, как таран. Но едва я его увидел, как зонт вывернуло наизнанку, и его владельца унесло за пределы видимости. Со вздохом я поднял мой чемодан — даже не проверив возможности, что его отнесет в мой номер портье, — и поднялся по темной лестнице в первый номер, который — скромный, чистый и практичный — был точным подобием номера любой гостиницы в мире.
Распаковав чемодан и приняв душ, я лег спать в половине одиннадцатого. Больше по привычке, чем опасаясь, что ночь окажется шумной, я открыл коробочку с розовыми восковыми затычками и заткнул уши последней неиспользованной парой.
Они были такими же пушистенькими, как когда я их купил, а под пушком — розовыми, будто марципан. Не помню, как я заснул.
Проснулся я в восемь тридцать и проспал бы и дольше, если бы меня мягко не извлек из забытья назойливый свет, лившийся в окно, штору которого я забыл опустить накануне вечером. Ночь прошла не так уж спокойно. Мне снился тот же сон, который всегда мне снится, сон, который вовсе не сон, а ужасающе прозрачное воспроизведение — точное до мельчайших деталей, насколько я способен судить теперь, — того мгновения, которое в своей яви парадоксально казалось сном: визг покрышек, готическая арка обремененных снегом деревьев у нас над головой, одинокий снеговик на лугу, обмирающий под солнцем, как гвардеец на параде. Лицо Урсулы в момент столкновения, ее лицо под моим беспомощным взглядом…
Я распахнул окно второго этажа и высунул голову наружу. День был сухим и прохладным. Небо — молочным. Дождь перестал, а ветер сдул себя прочь. С поникшими парусами Сен-Мало медленно дрейфовал в открытое море.
Я прошлепал в ванную побриться. Шел десятый час, и я упустил возможность заказать завтрак в номер. (Le petit déjeuner complet est servi dans les chambres entre 7.30 et 9.00 — гласило извещение, прикрепленное к двери. Le petit déjeuner anglais supplément de 45 francs.[17])
Внизу в фойе у конторки портье чинно выстроилось гордое маленькое шотландское семейство с клетчатыми чемоданами: отец, мать и двое отпрысков-близнецов в половину их размера, но вокруг по-прежнему не было ни души — никаких других постояльцев, прибывших или отбывающих, вообще никого, кроме все того же портье, с которым я беседовал накануне вечером.
Как и погода, он тоже изменился. Во-первых, сбрил облачка с лица и выполоскал змеящиеся полосочки грязи из морщин. Осияв меня улыбкой, когда я шагнул к конторке, он обратился ко мне с приветствием на моем родном языке:
— Доброе утро, мсье. Надеюсь, вам хорошо спалось?
— Очень хорошо, благодарю вас, — ответил я, скользнув ключом по конторке. — Могу я теперь зарегистрироваться?
— К несчастью, мсье, patronne[18] еще нет. Но спешить некуда. Когда вернетесь днем, хорошо?
— Как вам удобнее, — сказал я невозмутимо, хотя и недоумевал из-за такого пренебрежительного нежелания сделать мое присутствие в отеле официальным. Затем, постучав по двум внутренним нагрудным карманам пиджака, лежит ли в одном паспорт, а в другом бумажник, я приготовился уйти.
— Он же ваш, верно? — неожиданно спросил меня портье.
— Мой?
— Автомобиль.
— Ав… А, понимаю, вы про… — Я взглянул в сторону автостоянки за окном. — М-м-м… — И вдруг я услышал, как говорю, не покраснев: — Ну да, он действительно мой — за мои грехи.
Он потряс резиновой правой кистью в традиционном жесте французского пролетария — смесь зависти и восхищения.
— Belle bagnole! Une Rolls-Royce, n'est-ce pas? Ou plutot, comme vous l'appelez, vous autres Anglais, une «Rolls».[19]
— Точнее, «ройс».
— Une quoi?[20]
— «Ройс». Une «Royce», pas une «Rolls».[21]
Он уставился на меня с недоумением, очень мне приятным.
— Значения это ни малейшего не имеет, вы понимаете, — сказал я с подсюсюком (только богу известно, где я подцепил эту ужимочку, да и для чего, если на то пошло), — но те из нас, у кого он есть, называют его «ройс».
— Une Royce, dites-vous? Première nouvelle, monsieur.[22]
— Я же говорю: чтобы знать это, нужно его иметь.
Я кивнул ему на прощание и небрежной походкой вышел на улицу.
Вымытый ночным дождем «роллс» сверкал в утреннем воздухе. Как я и вычислил, он был серебряным, и вот теперь, когда я впервые увидел его при свете дня, меня сразило великолепие этого автомобиля, неопровержимо лучшего в мире. Я следил за тем, как прохожие — относительно редкие, так как Hotel de L'Apothéose был, оказывается, расположен в довольно-таки непрезентабельном quartier[23] — поворачивали головы влево, словно для отдачи чести, и смотрели на него не отрываясь. До этих минут я по-настоящему не понимал, как радикально владение ценностями может поднять самоуважение.
Где-то вдали закричала чайка. В конце улицы, по которой я неторопливо брел, оказалось кафе, на вид не слишком оживленное, и я решил позавтракать там. Выбрал столик в душноватом зале и заказал чашку шоколада с круассаном. Из-за плеча у меня доносилось странно приятное пощелкивание мраморных шариков, перелетающих от препятствия к препятствию на наклонной плоскости игорного автомата. Я открыл путеводитель и начал читать о Сен-Мало.
На северо-западной стороне французского восьмиугольника на полпути между мысом Фрэель и мысом Груэн залив Сен-Мало образует часть того побережья Ла-Манша, которое с начала века носит название Изумрудного берега и которое между Эрки и Гранвилем изгибается в бухту Мон-Сен-Мишель. Иными словами, с востока на запад эти берега отличаются особым разнообразием пейзажей. На восток от Канкаля до устья Селюна простираются обширные плоские пространства бухты Мон-Сен-Мишель — отвоеванные у моря польдеры — и песчаные косы, от которых в некоторых местах море при отливе отступает порой более чем на десять километров.
Я заглянул в оглавление путеводителя, который купил в Оксфорде. Там не оказалось ни фамилии автора, ни каких-либо указаний на то, что это перевод с французского — чем, впрочем, в определенном смысле он никак не был. Я пробежал еще несколько абзацев.
Стены Сен-Мало образуют классический променад, совершать который каждый уважающий себя житель Сен-Мало (или малоец) вынужден по меньшей мере один раз в день! Таким образом, не торопясь, можно менее чем за час завершить обход всего города, который, кстати, невелик — его периметр не превышает одной морской мили (1852 метра). Обходя Сен-Мало таким образом, можно лучше оценить и его размеры, и архитектуру. Стены образуют высокую галерею над пляжами и бухтой, и оттуда можно следить, особенно в разгар сезона, за парусными регатами и соревнованиями по виндсерфингу.
Не знаю, то ли поддавшись таким путаным хвалам, то ли вопреки им, но я подумал: а почему бы и нет? Вот возьму и отпраздную первый день моей остановки в Сен-Мало, совершив прославленный классический променад.
Заплатив по счету, я вышел из кафе, держа курс на всепроникающий аромат Атлантического океана. Я прошел по безмолвным улицам той части города, в которой провел ночь, по улицам, где выросли безликие и даже не слишком высокие учрежденческие здания — несомненно, после союзнических бомбардировок, — будто сорняки в травяном бордюре. В старинный обнесенный стеной квартал я проник через ворота, упорно именовавшиеся Новыми, — они, как утверждала табличка, были построены в 1709 году, — пройдя под сводчатой аркой с гербом Сен-Мало и девизом «Semper Fidelis»[24]. Затем свернул в мощенный булыжником проход, где дверь, наподобие двери средневековой темницы, выходила в сумрачную нишу — именно так, сообщал мой путеводитель, пытались проникнуть в город путники семнадцатого века после наступления комендантского часа. А потом я наконец поднялся на стену, которая змеилась над берегом, точно Великая китайская стена.
Небо испещряли узкие голубые ленты, влекущие за собой, как я надеялся, череду безукоризненно солнечных дней, а галерея уже кишела совершающими променад парочками, нацеливающими камеры и на перламутровый океан, и на Национальный форт в облачках кружащих чаек, и на ведущую к нему сложенную из камней пешеходную дамбу, пересекающую сухое дно при отливе, чтобы в моросящие дни покрываться под ногами грязью, точно линолеум в пригородных прихожих. Прогуливающиеся парочки исчислялись десятками — молодые, пожилые, старые (последние чаще оказывались английскими) в пластиковых плащах, вспыхивающих огнем в бледном солнечном свете. Имелись и семьи всех мыслимых национальностей — их дети радостно бежали вперед, пока не пугались, что вот-вот окажутся далеко вне орбиты своих родителей. Я с извращенным удовольствием следил, как такие дети вдруг останавливались точно вкопанные и тревожно вытягивали шеи, стараясь заглянуть за грузные фигуры незнакомых людей, пока наконец с восторгом не обнаруживали в море чужих лиц те — такие знакомые и привычные. Тут были группы прибывших в экскурсионных автобусах немцев, и швейцарцев, и японцев — даже компания вездесущих черных африканцев, от которых мне никак не удается отделаться до конца. Когда на энном этапе этого chemin de ronde[25] меня окружили их мужественные черные лица и слепяще белые зубы, я почувствовал себя последней неаппетитной белой шоколадкой в коробке среди обычных темно-коричневых.
И вот тут — со всей внезапностью — тот роковой вопрос, который нависал надо мной с момента, когда я покинул отель — а может, когда я покинул Англию, как знать? — наконец вырвался наружу и не позволил больше уклоняться от него. «Что, о Господи, что я делаю тут?» Я тоскливо посмотрел по сторонам. Уйти от этого было некуда: если не считать меня, тут никто не был сам по себе. Или сама по себе. Никто. Один, я был вдвойне один, так как был один в своем одиночестве. Вероятно, я выглядел наиболее угнетающим из всех человеческих типов — тем, кого великое пульсирующее энергией сообщество живых сторонится даже больше, чем любого откровенного мерзавца, — «печальным человеком», кем-то, кого подозревают в том, что «в нем вовсе нет жизни». И вот тут, повторяю, какой бы глупой детской чепухой это ни показалось тем, кто никогда не попадал в подобную ситуацию, — ведь и часа не миновало, как я весело покинул «Апофеоз», — я понял, что больше не могу. Просто не могу больше.
Каким уродливым гротеском была мысль провести неделю одному в Сен-Мало. В Сен-Мало! Да, почему в скучном старом Сен-Мало, во имя всего святого? Почему не в Булони с олухами, которые приезжают туда на денек всласть нахлебаться дешевого красного вина? Почему не в Дьеппе, как Робби Росс и Реджи Тернер в начале века, тешившие себя иллюзией, что они «путешествуют», раз уж переплыли Ла-Манш? Почему не в Остенде, на манер старой девы из пригорода, прокучивающей нежданное наследство? Но ведь даже старые девы путешествуют парами!
Сен-Мало? Да кто даст ломаный грош, кто даст кусок дерьма, кто даст выеденную скорлупу за его «гармоничную и симметричную инженерную архитектуру», как клишированно сообщает мой путеводитель; за его нелепо названный «Белый отель», где провел детство Шатобриан? Кто даст ломаный грош за Шатобриана и его детство? Никто — ни вправду, ни искренне, ни тайно, — ни единая из этих пар, этих семейств, этих компаний, чьи бесцельные кружащие пути я пересекал, зная, да, зная, что все они чувствуют себя такими же неприкаянными, как и я, но им хотя бы есть с кем разделить эту неприкаянность. Некоторых из них я даже ловил в буквальном смысле слова на том, что они украдкой поглядывали на свои часы, будто решая, когда можно будет сложить вещи и отправиться домой, туда, где жизнь имеет цель и направление, пусть даже и не всегда легко распознать, какие именно. А здесь нет никакой цели, никакого направления — ничего, кроме прославленного классического променада, от которого никто из нас не посмел уклониться.
Ну и фарс! О чем я только думал? Какими никчемными и ненужными выглядят все радужные надежды, все старания, влагаемые нами в путешествие — даже в жалкую неделю в Сен-Мало, — когда мы наконец оказываемся перед реальностью! Неужели нам не дано измерить свои глубины, постигнуть себя, пусть не сейчас, но хоть когда-нибудь?
Нет, нет, я не мог больше. Пресные красоты живописности мертвым грузом легли на мои плечи. Я чувствовал, как мои собственные часы крепко цепляются за мое запястье, высасывают из него время, словно пиявки. Я ощущал, что бросаюсь всем в глаза, бросаюсь в глаза своим одиночеством. У меня возникло ощущение, что стоит мне задержаться еще на сутки, даже еще на час в этой забытой богом дыре, и кончится тем, что я завяжу гнусный пустопорожний разговор с какой-нибудь милой пожилой английской парой, которая спокойно шествует по chemin de ronde, никого не трогая. Или — и того хуже — с каким-нибудь жалчайшим одиночкой. Естественно, при условии, что такой отыщется.
В голове у меня жужжало, и я опасался, что со мной произойдет один из тех коротких, но сильнейших припадков, которые в последние месяцы составляли наиболее пугающий побочный эффект лечения, которое я проходил. Слева за покачивающимся человеческим лесом впереди меня я разглядел крутую каменную лестницу, ведущую в старый город, и добрался до нее как мог быстрее. Я спускался, перепрыгивая через три ступеньки, и чуть было не упал в моем лихорадочном стремлении поскорей покинуть стены. Внизу царило спокойствие и не было прохожих. Дрожащей рукой я закурил сигарету и довольно долго прохаживался взад-вперед, жадно затягиваясь.
Необычным для меня было то, что я выкурил вторую, потом третью. К часу дня после третьей сигареты я успокоился, моя душа обрела умиротворение. И я был готов действовать. Мимо пирожковых и киосков, предлагающих открытки и сувениры, мимо кафе, где подавались только бретонские galettes и crepes[26], вдоль тесных кривых улочек, непроходимых из-за толп, я медленно добрался до отеля «Апофеоз». Я не торопился, потому что мне было необходимо собраться с мыслями.
Поездка обернулась жутчайшей ошибкой, это я знал твердо: даже портье, казалось, понял, что мое пребывание там будет таким кратким, что не стоит тратить время на узаконивание этого пребывания. И я уже взвешивал, не вернуться ли мне в Англию сегодня же, просто покончить с напрасным переводом времени и успеть на ближайший паром, так, чтобы никто не узнал про мою глупость, когда, подходя к отелю, я увидел на автостоянке машину Шере. «Роллс»! Чертов «роллс»! С чем-то вроде ужаса я сообразил, что застрял в Бретани по меньшей мере еще на три дня. Я же не могу уехать, пока Шере не вернется с моим «мини»! Мне на глаза навернулись слезы. Будь он проклят! Будь проклято его хитроумное разрешение нашей обшей проблемы!
А еще я понял, что голоден как волк. Отпер дверцу машины, влез за руль и пролистал путеводитель. Поскольку я и помыслить не мог о том, чтобы пообедать в одиночестве в приличном ресторане, тот, который я наконец выбрал, не значился в списке рекомендованных путеводителем, а только рекламировался на полях одной страницы. Реклама изображала упоительно спортивную парочку неопределенного возраста, восторженно созерцающую перегруженный сервировочный столик, который как раз подкатил к ним метрдотель в смокинге. Правду сказать, меня прельстил именно идиотизм, так как я уже убедился, какими несбыточными были мои эпикурейские мечтания перед отъездом из Англии о нескончаемой череде трехзвездочных трапез, поглощаемых в одиноком блаженстве. La Belle France![27] Ну и фарс! Ну и фарс!
Мои честолюбивые стремления теперь сводились просто к желанию утолить голод, и я вывел «роллс-ройс» со стоянки на улицу так внушительно, будто он был авианосцем. Потому что — как я теперь обнаружил — это была чертовски неповоротливая машина! Она двигалась вперед со всем толстокожим достоинством и неторопливостью слона магараджи, вынуждая беспечные компании туристов, гуляющих вразвалку посреди мостовой, торопливо прыскать вправо и влево. В первый раз я ощутил явную ностальгию по моему милому, не подавляющему, неброскому «мини».
Минуты шли, и я ощутил еще кое-что. Мне все сильнее и сильнее чудилось, что за мной наблюдают. Мне мерещилось, что кто-то меня выслеживает, и я скашивал глаз на зеркало заднего вида. Хотя я вскоре убедился, что с того момента, как я отъехал от «Апофеоза», ни одна машина не задерживалась долго в рамке зеркала, мне никак не удавалось избавиться от ощущения, что по городу я еду под незримым присмотром, и, катя под стенами, я выворачивал шею, проверяя, не была ли какая-нибудь из подзорных труб, расставленных на них через определенные промежутки, — подзорных труб, в которые вы всовывали десятифранковую монету, если вам приходило желание увидеть горизонт крупным планом, — так не была ли она повернута вниз, нацелена на улицы самого Сен-Мало, вниз прямо на меня. Безнадежно! Хотя я и полз по непроходимым улицам старого города с черепашьей скоростью, мне ни разу не удалось затормозить на нужные секунды.
Затем на перекрестке, когда светофор пыхнул на меня красным светом, мои глаза, точно магнитом, притянул человек, который переходил улицу и внезапно повернул голову в мою сторону без всякой, как мне казалось, цели и уставился на мое ветровое стекло. Правду сказать, когда я его заметил, он еще стоял на тротуаре, сцепив пухлые пальцы на толстом животе, словно пряжку в виде змеиной головы на поясе школьника; и мой взгляд он привлек потому, что, такой жирный и оплывший, он был поразительно не похож на тоненького изящного человечка, то красного и остерегающего, то зеленого, пропускающего вперед, который вспыхивал на табло под светофором прямо над его головой. И еще он заинтриговал меня тем, что был одновременно и разодет, и раздет. Разодет в том смысле, что на нем был костюм консервативного покроя, выдававший руку фешенебельного лондонского портного, костюм, который выглядел крайне неуместно на улицах бретонского приморского курорта. Но и раздет в том смысле, что на нем поверх этого костюма не было пальто в такой день, когда солнце отнюдь не припекало. Перейдя примерно четверть улицы, он повернулся в мою сторону. По его брыластому лицу пробежала почти неразличимая тень тревоги. На краткую секунду он остановился как вкопанный — или мне просто почудилось? — потом пошел дальше, а для меня вспыхнул зеленый свет.
Закусочная, которую я избрал, оказалась именно такой, какой я ее себе и рисовал, — ярко освещенная стеклянная клетка, обрушившая на меня свой шум и гул, едва я прошел сквозь вращающуюся дверь. Мне почудилось, будто я повернул ручку радиоприемника на максимальную громкость. Снаружи горстка дрожащих клиентов устроилась на веранде под маркизой, укрывая от ветра свои croques-monsieurs[28]. Внутри было тепло и сыровато. Я остановился у двери, думая, не повернуться ли и не поискать ли удачи где-нибудь еще. Но где?
Никто не подошел ко мне с приглашением войти, никто не был во мне заинтересован. С тем же успехом я мог быть невидимкой. Я стоял в растерянности, а официанты кружили с подносами, уставленными choucroute[29], явно специальностью этого заведения, и креветками в гнездышках из черных водорослей, и омарами в красных панцирях, тягающимися в великолепии с королевскими регалиями. Я, как мог, пытался не вторгаться ни в чье пространство, но где бы мне ни удавалось припарковаться, я тут же оказывался на дороге у кого-то. Словно одно мое присутствие, самое мое одиночество воздействовало как легкое снотворное, мягкий депрессант на тех, кто имел несчастье закусывать поблизости от меня. Я прямо-таки слышал, как при моем приближении их разговор утрачивает живость и непосредственность. И тем не менее никто не трудился усадить меня.
В конце концов я подошел к метрдотелю и попросил столик.
Он оглядел меня с головы до ног:
— Vous-etes seul, monsieur?[30]
— Oui, je suis[31], — ответил я неуклюже.
Он немедленно перешел на английский.
— Сожалею, мсье, — сказал он, пожимая всей своей верхней частью торса в прямо-таки пародийной французской манере, — но если вы один, вы не откажетесь разделить столик.
Он быстро подвел меня к банкетке на двоих, где уже сидел средних лет мужчина над тарелкой moules marinière[32]. Темно-серый галстук, пуловер под синим пиджаком, на лацкане которого красовалась крохотная красная розетка, пара очков без оправы — нет, он явно не был туристом. Когда я снял пальто, он поднял на меня глаза, легким намеком на улыбку признал мое существование и неторопливо забрал автожурнал, все еще в бандерольной заклейке, с моей половины столика. Метрдотель вручил мне меню величиной с бульварную газету, и, почти не заглянув в него, я заказал тарелку лукового супа, жареную камбалу и графин белого вина.
Вскоре после того, как я принялся за суп, мой сосед заговорил со мной.
— Вы видите эту машину? — спросил он по-французски.
— Прошу прощения?
— Я сказал: вы видите эту машину?
— Какую машину?
— Вон там. На автостоянке.
Я обернулся. В раме ближайшего окна, затмевая все машины вокруг, виднелся «роллс-ройс». Его радиатор отражал скудные отсветы солнца и ухмылялся нам в зубастой самоуверенности. Бесспорно — шедевр.
Я повернулся назад к моему соседу за столиком.
— Только представьте себя за его рулем! — вздохнул он и утер салфеткой ус, охристый от никотиновых пятен. — Если бы, вставая утром, я знал, что поеду на работу на таком красавце, меня не приходилось бы будить дважды, можете мне поверить.
— А он мой, — сказал я, поднося ко рту ложку с супом.
— Что?
— Он мой. Это мой автомобиль.
Сквозь стекла очков, которые теперь седлали середину его переносицы, словно запасная пара глаз, он несколько секунд молча буравил меня взглядом. Затем с легким отхаркиванием «ну, если вы так говорите» он принялся за своих moules, высасывая из каждой сначала мясо, затем сок, прежде чем добавить к непрерывно растущей пирамидке на десертной тарелочке пустую раковину, черную, как клюв вороны.
Только когда я доел суп и ждал, чтобы мне принесли камбалу, он снова нарушил молчание.
— Eh, dites-moi, mon ami[33], — сказал он, а кожа на его лице была совсем красной от пара, курившегося над его тарелкой.
— Да?
— Этот «роллс-ройс»? Он, вы говорите, ваш?
— Да, — ответил я, несколько раздраженный скрытой насмешкой, которую уловил в его голосе. — Мне кажется, именно это я и сказал.
— Но, если так, простите, — начал он (еще не зная, что он скажет, я уже изнывал от желания отвесить пощечину этой пятнисто-красной лунообразной физиономии), — почему кто-то еще уезжает в нем?
Если бы я в эту секунду отхлебнул вина, то поперхнулся бы, как неуклюжий молодой премьер в развеселой комедии. А так я просто оглянулся на окно. Сомнений не было: «роллс» выезжал со стоянки.
У моего соседа даже челюсть отвисла: я взвился на ноги, схватил пальто со стула, а стул опрокинул на пол. Потом локтями проложил себе дорогу между посетителями, собиравшимися сесть за столик или встать из-за него, и прорвался через зал к двери. Распахнул ее, не думая о том, не расквашу ли я нос какому-нибудь бедняге — правду сказать, меня это совершенно не тронуло бы, — и успел увидеть, как «роллс-ройс» со все еще неизвестной величиной за рулем осторожно выбирается на улицу. В полном ошеломлении я кинулся за ним и одновременно, в пылу катастрофы забыв мой французский, принялся кричать на родном языке, нелепо, но неизбежно:
— На помощь! Держи вора! Держи вора!
Сквозь свои крики я услышал, как кто-то сзади закричал по-французски:
— Au voleur![34]
Au voleur! Ну конечно же! Как я мог забыть такое простейшее выражение?
Будучи англичанином, я обернулся на того, кто так уместно просуфлировал мне, на моего нежданного толмача, и увидел позади себя метрдотеля из закусочной, запыхавшегося, совершенно сизого.
— Je vous remercie bien, monsieur[35], — сказал я от души.
Он положил ладони мне на плечи.
— Ah çа-çа-çа, c'est quelque chause![36] — рявкнул он мне в лицо. — Vous etes drole, vous! Vous — vous criez au voleur quand c'est vous-meme, le voleur![37]
Я уставился на него в недоумении.
— Я? Вор? Да о чем вы, ради всего святого, говорите? Угнали же мой автомобиль!
Не выпуская меня, он подсунул к моему лицу белый листок так близко, словно намеревался утереть мне нос. Счет за мой обед — обед, который я съел частично, но за который, как теперь до меня дошло, не уплатил ничего. Времени для объяснений не было. Конечно, трудно поверить, что человек способен быть настолько тупицей, как этот дебильный метрдотель, настолько гнусно придирчивым при заведомо исключительных обстоятельствах, но, хотя я поймал себя на том, что вспоминаю все злобные антифранцузские клише, которых наслышался за годы и годы, неизменно их отметая, я вытащил бумажник, сунул ему двухсотфранковую купюру и пустился преследовать удаляющийся «роллс-ройс» Шере.
Улицы Сен-Мало планировались для лошадей, а не автомобилей, и потому вору было непросто маневрировать по ним в «роллсе» — как утром и мне. Однако, хотя я бежал за ним, как не бегал уже порядочно лет, отчаянно лавируя в толпе туристов, казалось, сворачивая за угол, я едва успевал увидеть, как искомая машина сворачивала за угол в дальнем конце улицы и вновь скрывалась из виду. Я сворачивал, и она сворачивала. Я сворачивал, и она сворачивала. Снова и снова, и до того регулярно, что я уже подумывал, не лежит ли на мне какое-то заклятие. Из страха поставить себя в еще более глупое положение я больше не мог вынудить себя снова позвать на помощь, закричав «держи вора!» или «Au voleur!». И пока я бежал, я ни разу не увидел ни единого полицейского.
В конце концов я окончательно потерял «роллс-ройс» из виду и простоял несколько минут, привалившись к садовой ограде и переводя дух. Пытаясь совладать с бешеным сердцебиением — таким, что я даже прижал руку к левой стороне груди, будто тенор, — я оглядывался по сторонам. Судя по всему, я очутился в чисто жилом quartier, тенистом, тихом и буржуазном. На стене каждого дома имелась полированная доска черного мрамора с броской кудрявой надписью, будто ящерица, камуфлирующаяся под плющ или перья папоротника, грозящие погрести ее под собой, с каким-нибудь причудливым названием, предположительно французским эквивалентом «Тихой гавани» или даже «Chez nous»[38]. Полагаю, очень многие сочли бы эту улочку как место постоянного проживания немножко скучной и мещанской. И все же в ней чувствовался легкий зловещий привкус, будто что угодно было возможно, что угодно могло происходить за такими безупречными фасадами, такими прекрасными кружевными занавесками, такими тщательно выстриженными петушками и жирафами.
Бабочка — если не мое выскочившее наружу сердце — вальсировала в безмятежном воздухе. На груди моей рубашки проступили веснушки пота. «Роллс-ройса» нигде не было видно. Мне оставалось только одно: вернуться в центр города и сообщить об угоне. Уповать мне оставалось лишь на размеры и уникальность «роллса» — поди скрой его! — а вот полицейские силы Сен-Мало особенного доверия мне не внушали. В любом случае моему путешествию пришел конец, конец гибельный, катастрофический. А так как до возвращения Шере покинуть город я не мог, то мне даже не было дано махнуть рукой и вернуться в Англию.
Я пошел, побрел назад, назад в отель. И тут, свернув в соседнюю улицу, практически такую же, как предыдущая, я увидел его. Там, на площадке у виллы двадцатых годов — виллы, чья низкая белая плоская крыша придавала ей легкое сходство с бараком, — там, рядом с другой машиной более скромных пропорций стоял «роллс-ройс». Он материализовался из воздуха столь же волшебным образом, как и исчез, будто просто для того, чтобы подразнить меня.
Ко мне тут же вернулось второе дыхание, и я кинулся через улицу. Когда я достиг площадки, мужчина, непомерно высокий мужчина, без возраста, исхудалый телом и лицом, одетый в угольно-черный расстегнутый двубортный костюм, воздвигся из-за «роллса» и ринулся на меня. Я попытался что-то сказать, не знаю что, так как не сумел произнести ни слова. Лишившись от бешенства членораздельной речи, я попробовал открыть дверцу водителя. Она оказалась запертой. Я принялся рыться в карманах пальто, ища ключи, но был тут же прижат к машине. Руки нападавшего были сразу повсюду. Одна рука вырисовывалась на фоне неба, другая блокировала стеклянную дверь виллы, а третья — во всяком случае, то, что казалось третьей рукой, — пыталась отпереть парадную дверь. Я вырывался, я вопил, я дернул его за лацкан — и только оцарапал большой палец обо что-то острое, как булавка. Застонав, я ослабил свою и без того слабую хватку. Не упустив этого преимущества, он прижал шишковатую ладонь к моим губам, а другой рукой ухватил меня за шиворот и поволок — я извивался, как мальчишка, пойманный за кражей яблок, — внутрь дома через открытую дверь.
Мы оказались в темной передней. Я дергал его руку, стараясь оторвать его ладонь от моего рта. Он продолжал меня тащить. В demi-jour[39] что-то зазвенело, и я внезапно оказался в просторной комнате с высоким потолком, залитой солнечным светом.
Мы продолжали бороться. Заскользили по натертому паркету, но тут я зацепился ногой за край ковра и почувствовал, что опрокидываюсь, — в глазах у меня завертелся узор из голубых и коралловых ромбов. Ноги подо мной разъехались, точно ножки карточного столика, я увидел будто криво подвешенную под потолком кружащую череду картин, главным образом восемнадцатого века, насколько я сумел разобрать. Однако там был и Миро — даже такие ошалелые глаза, как мои, не могли его не узнать, а еще — большой портрет обнаженной девочки-подростка, томно раскинувшейся перед топящимся камином.
Затем позади себя я услышал женский голос:
— Mais qu'est — ce que c'est que ce cinéema?[40]
Эффект был мгновенным. Мой противник ослабил хватку. С внезапной угрюмой заботой о соблюдении приличий он снял руку с моей шеи и даже попытался помочь мне подняться с пола. Я вырвался от него, быстро пригладил волосы и обернулся к говорившей.
Она наполовину спустилась с лестницы. Лет двадцати пяти-тридцати, в свободной шелковой рубашке кремового цвета и серых свободных брючках — их искусно расположенные складочки подчеркивали тонкую, гибкую талию. Светлые волосы, гладко зачесанные со лба, тяжелой прямой волной падали на плечи, а брови, заметно более темные, чем волосы, напоминали двух симметрично молящихся ангелочков. Между пальцами правой руки, опиравшейся на перила, была зажата сигарета, а на указательном пальце я заметил тусклого золота неровной формы римское кольцо без камня.
Она была загорелой. Но даже издали я заметил, что это был денежный, а не солнечный загар, загар элегантности и недвижимого имущества, обеспеченности и уверенности в завтрашнем дне, загар, столь же естественный для ее расы, как черная пигментация для зулуса. Природно загорелая кожа богатых, словно бронзовевшая изнутри наружу.
Но она спросила о причине драки, и на смеси английского с французским я объяснил, что увидел мой автомобиль, мой угнанный автомобиль на площадке перед, как я полагаю, ее домом. Не произнеся ни слова, она перебила меня — спустилась с лестницы, раздавила только-только закуренную сигарету, беспощадно разминая хрупкую трубочку, пока сигарета не была изуродована, как старое велосипедное колесо на свалке, подошла к окну и посмотрела в него, потом обернулась ко мне без улыбки:
— Ваш автомобиль, мсье?
— Ну, не…
— Хм?
— Точнее говоря, это не совсем мой автомобиль.
— Да. Точнее говоря, это автомобиль моего мужа.
— Вашего мужа? — Я уставился на нее. Потом поглядел по сторонам. Ну конечно же, конечно. Как я не сообразил этого раньше? — Теперь я понял. Вы — мадам Шере?
— А вы, мсье? Кто вы? И каким образом к вам попал автомобиль моего мужа?
Как мог сжато, я изложил все, что произошло со мной накануне с момента высадки во Франции. Говоря, я изучал ее лицо. В том, что ее изумил мой необычайно краткий рассказ, сомнений не было, и я истолковал такую ее реакцию как явный признак, что она мне поверила.
Я не обращал практически никакого внимания на мужчину, с которым сцепился перед домом. Но когда я завершил свою историю, мадам Шере сначала рассеянно кивнула два-три раза, словно мой рассказ был необходимой, но в конечном счете скучной формальностью, словно в случившемся со мной не было ничего из ряда вон выходящего, словно желая сказать: «Да, да, разумеется, совершенно очевидно, что иначе быть не могло, так к чему надоедать мне подробностями?» — Затем она обернулась к нему и, взмахнув новозакуренной сигаретой, сказала негромко:
— Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Va chercher la clé.[41]
При этих словах он направился к двери. Хотя мне показалось странным, что мы еще не принесли взаимных извинений, я позволил себе указать, что идти за ключами надобности нет, так как они у меня в кармане. Все так же рассеянно она махнула, чтобы он вышел. Затем словно бы очнулась от этой рассеянности, и мы представились друг другу. Ее звали Беатрис.
— Естественно, — сказала она, — вы должны и дальше пользоваться машиной, как уговорились с Жан-Марком.
Я сказал что-то неопределенное, но, к моей досаде, оно содержало избыток «не», словно я вежливо отказывался от ее любезного предложения (но, как я сказал себе, вопроса о том, чтобы я остался без машины, не вставало), и даже услышал, как извинился перед ней за схватку в ее гостиной.
— Прошу вас, — сказала она, — прошу вас! Извиняться должна я. Саша глубоко предан моему мужу. Увидев машину в городе, он, вероятно, подумал, что с Жан-Марком что-то случилось… ну, вы понимаете… — Ее голос замер, и вновь на несколько секунд она впала в прежнюю рассеянность. Затем изогнула запястье перед глазами, будто смотря на часы. Только часов там не было. Она продолжала смотреть на свое обнаженное загорелое запястье, на заметно более светлое пятно на нем в форме наручных часов. — До чего же я загорела, — заметила она рассеянно, — практически могу определять время без часов.
— Сейчас без четверти два, — сказал я, поглядев на мои часы.
— Мой бедный друг, вы, наверное, умираете от голода.
И я принял ее приглашение перекусить с ней.
И мы перекусили — холодное мясо, омлет, салат и белое бургундское — в столовой: только трое нас у одного конца длинного стола красного дерева. Беа (она настояла, чтобы я называл ее так), мой противник, которого звали Саша, Саша Либерман, и который, как выяснилось, был партнером Жан-Марка, и я. На стене за дальним концом стола, частично заслоненный букетом белых роз, висел в рамке натюрморт Шардена: краюха черного хлеба, такая же зачерствелая и сакраментальная, как человеческий мозг. К креслу было прислонено другое полотно — Брак, горлица, — будто оставленное там, потому что для него не нашлось места получше, будто кто-то, войдя в комнату, просто швырнул его на это кресло, как шляпу. Сами стены были недавно ободраны и выкрашены заново в светлых пастельных тонах, а над нашими головами низко свисала шестирожковая чугунная люстра, точно гигантский паук, болтающийся под своей паутиной.
Одинаково пренебрегая едой и разговором, снова и снова наполняя свою рюмку, Саша почти ничего не говорил, почти ничего не ел и пил, как губка. Беа, наоборот, была само внимание и даже, если я правильно воспринял некоторые сигналы, начала флиртовать со мной. Когда она расспрашивала меня обо мне, я ответил с той долей правды, какую мог себе позволить, что я писатель — о, просто биографии! Биографии других людей…
— И это, боюсь, — сказал я с грустной улыбкой, — история моей жизни…
И что я некоторое время болел — ничего серьезного, просто затяжной грипп, подозрение на пневмонию, оказавшееся ложной тревогой, — и решил устроить себе передышку, прежде чем вернуться к работе.
— И как вам ваша передышка? — спросила она безразлично.
Я почувствовал, что мне задан вопрос-ловушка. И не знал, как ответить, — я, который всего час назад проклинал мою встречу с ее мужем и последствия этой встречи, благодаря которым я оказался запертым в Сен-Мало. Несколько секунд я неопределенно мычал и готовился промычать негативно, ответить какой-нибудь вежливой неопределенностью, но в отрицательном смысле, и тут зазвонил телефон.
Она встала, чтобы взять трубку, говоря, что, вероятно, это звонит Жан-Марк, чтобы, со своей стороны, прояснить ситуацию. И я оказался за столом наедине с Сашей. Он крошил салатные листья на еще более крохотные кусочки, явно испытывая какой-то стресс.
— Беа очаровательна, — сказал я, пытаясь завязать разговор.
На это он обнажил беловатые десны и режуще коричневые зубы, но ничего не сказал.
— Она говорит, что вы работаете с Жан-Марком, — не сдавался я. — Но в чем, собственно, состоит ваша работа?
Он помедлил с ответом. Потом сказал с такой неохотой, будто слова из него выдирали клещами:
— То и се. Сделки.
— О?
Наступила пауза, после чего я прибавил:
— Мне кажется, вам следует знать, что по-английски (мы говорили по-английски), когда кто-то говорит, что делает то и се, чтобы жить, это звучит… ну… не совсем чисто.
— Не совсем чисто? Что это значит?
— Ну, понимаете, немного противозаконно.
Саша уставился на меня — и с полным на то правом, так как я слишком поздно понял, насколько грубо-неуместным было мое пояснение. Я тотчас прикусил язык и, сперва бессознательно, а затем со все большим вниманием начал прислушиваться к телефонному разговору Беа, отрывки которого доносились до нас. Телефон стоял на мраморном столике в коридоре за дверью столовой, и Беа полуприслонялась, полусидела на столике, помахивая ногой взад и вперед и разглядывая носок туфли.
—..Oui, oui, oui, c'est ça…[42] — услышал я, как она говорила. — Mais tout a fait… puisque je vous le dis… oui, oui, ici-meme… mais si, mais si, lui aussi est là… parfaitement… oui… d'ailleur je le trouve plutot séduisant… bien sur… oui… oui… ne vous inquiétez pas… oh non, non, surtout pas ça… non… je trouverais un moyn… oui… oui… oui… au revoir.[43]
Она вернулась к нам и, ничего не сказав про звонок, сразу спросила:
— Что противозаконно, Гай?
Ответил Саша. Язык у него заплетался, и пока он говорил, Беа на него очень внимательно смотрела.
— Моя жизнь. То, чем я занимаюсь. Он думает, что они противозаконны.
Я поспешно возразил:
— Нет, право же! Вы неверно меня цитируете. Я просто указал, что на английском слово «сделка» несет в себе отрицательный…
— Сделка? — повторила Беа, переводя взгляд с него на меня, словно ее не пригласили принять участие в игре в загадки, которую затеяли мы с Сашей.
— Я спросил Сашу, чем он занимается, а он ответил «сделками».
Намазывая гусиный паштет на крекер, Беа улыбнулась:
— Ну, надеюсь, когда он заключает сделку, то выполняет ее.
На это Саша ответил:
— Иногда приходится менять условия.
— Чтобы изменить условия сделки, нужны двое.
— Двое, — сказал Саша. — А иногда трое.
— По моему опыту в деловых сделках (если уж мы говорим именно о деловых сделках), трое — это уже комитет. И ничего сделано не будет.
— Странно! — сказал Саша. — Насколько известно мне, третий — лишний.
Беа не выдержала. Сердито бросив ножик на стол, она перешла на французский:
— Ne te rends pas ridicule, mon cher. Devant notre invité.
— Notre invité? C'est gentil, ça. Eh bien, non.
— Quoi?
— Non, je te dis, non.
— Mais quoi, non?
— N'oublie pas qu'elle est à moi, la clé.
— Tais toi, imbécile.[44]
На что Саша отозвался сухим пепельным смешком.
— Comme disent nos amis anglais[45]: «С гениями спорить невозможно».
На лице Беа отразилось такое презрение, что мне стало почти жаль его.
— Кретин! — отрезала она. — Я спорю не с гением, я спорю с тобой.
Саша, казалось, хотел что-то ответить, но передумал. Ну а я вскочил, бормоча извинения. Беа даже не стала уговаривать меня остаться — настолько ясной и понятной была причина, побуждавшая меня уйти. Тем не менее она пока не сочла нужным извиниться за поведение Саши, но проводила меня наружу, а он пьяно поник над столом. Когда мы остановились на пороге и Беа вскинула тонкую руку, прислоняясь к косяку, она спросила, где я остановился в Сен-Мало. Я объяснил, и она сказала, что ее муж свяжется со мной, как только вернется из Англии.
— Кстати, это ведь был Жан-Марк? — спросил я.
Она посмотрела на меня с недоумением:
— Жан-Марк?
— Это ведь он звонил?
— А! Да-да. Извините, мне следовало бы сразу сказать про это. Да, он звонил, чтобы предупредить меня, что вы появитесь через день-два. Я ответила, что вы уже здесь.
После паузы она добавила:
— Что мне сказать, Гай?
— Не говорите ничего. Вы тут ни при чем.
— Видите ли, обычно Саша не такой. Но только он, используя выражение ваших соотечественников, притягивает несчастные случаи. Хотя эти несчастные случаи словно бы всегда происходят с другими. И, как вы, вероятно, догадались, он немножко… — Она не стала продолжать, и я так никогда и не узнал, хотела ли она сказать «немножко не в себе» или «немножко влюблен в меня».
Беа закрыла дверь. Я нашарил ключи «роллса». Включая зажигание, я услышал, как внутри виллы вспыхнула перебранка — из тех, которые обычно завязываются после прощания с непредвиденным гостем, но только куда более громкая и более злобная. И тут же меня начало преследовать что-то, что я услышал, но раньше, что-то сказанное в столовой и показавшееся мне не совсем… как бы это выразить?.. не совсем верным, причем я мог бы прояснить… да, но что? И кто это сказал? Некоторое время, лавируя по улицам Сен-Мало, я продолжал ломать голову над этим. Но у меня на языке ничего не вертелось и даже не приближалось к нему.
Остаток дня был сплошным мучением. Я все время ощущал себя нечетным гостем на званом обеде. Все, кроме меня, весело проводили время или, казалось, весело проводили время. Или, в наихудшем случае, притворялись, будто проводят время весело. Все, кроме меня, наслаждались или, казалось, наслаждались или делали вид, будто наслаждаются chemin de ronde и собором и очаровательными сувенирными киосками, а я просто кружил и кружил по стене все более и более бесцельно.
Хотя я и оттягивал, насколько это в человеческих силах, вечернюю еду, автоматически точный момент истины для одинокого путешественника, было всего только шесть, когда я поужинал в дешевой пиццерии, самозваной «Драг-Пицце». Потом побрел к пляжу. Небеса пылали. Зубчатый гребень обрывов бретонского побережья уходил на юг, где только-только что не сплавлялся с горизонтом. В свете раннего вечера его зубцы выглядели одновременно и неровными, и отточенными, словно ряд только что заостренных карандашей в коробке. К обветшалому пирсу были привязаны две гребные лодки. Они ворочались и подергивались во сне, и их судорожно-беспокойное постанывание было тише самой тишины.
В этот час пляж был совершенно пуст, хотя хлопотливые беззаботные дневные следы все еще сливались и пересекались друг с другом в призрачных, будто движущихся узорах. В вышине надо мной кружили и пикировали чайки, пронизывая воздушный берег нашей планеты. Чувствуя себя ужасающе бледным, вызывающе английским, я спустился на грязный песок и начал медленно прогуливать по нему мои воспоминания, будто прогуливал собаку.
Позднее, у себя в номере, я распростерся на кровати и закурил сигарету. Струйка дыма, лениво закручиваясь спиралью, поднималась вверх, словно я проецировал на потолок кинопленку. Окно я оставил открытым, и уличные огни соткали сложную паутину теней у меня за спиной.
На тумбочке у кровати стояли мои дорожные часы в кожаном футляре. Еще не было и десяти, а я уже вернулся в номер, разделяя одиночество только с романом Энтони Берджеса. У меня под окном четверо итальянцев, видимо две супружеские пары, многословно обсуждали, чем поужинать и где. Я засунул в уши пару затычек для ушей.
Внезапно зазвонил телефон. Ночной портье. В вестибюле меня спрашивает дама, дама по имени (портье смолк, чтобы узнать имя, которое я уже ожидал услышать)… Беатрис Шере. Ей необходимо поговорить со мной.
Я надел пиджак, лишь в последнюю секунду спохватившись и вытащив затычки из ушей, и сбежал вниз по лестнице. Ночной портье без тени неловкости ел глазами Беа в дождевике без пояса и пуговиц, таком длинном, что он подметал пол. Она прислонялась к колонне из faux-marbre[46], и тут я сообразил, что во всех случаях, когда я ее видел, она к чему-то да прислонялась. Словно обладала инстинктивным умением кошки втискиваться в разделительную зону между чем-то и чем-то. Кошка особенно счастлива, когда устраивается в узеньком пустом пространстве между двумя диванными подушками или растягивается в маленьком просвете между ковром и плинтусом, опоясывающим комнату. Сходство у Беа было именно с кошкой. Мне представилось, как она в купальнике нежится на каком-то южном пляже — половина ее торса на песке, половина — в море, и набегающая на берег волна постепенно заполняет равнобедренный треугольник ее раздвинутых загорелых ног. В какой-то своей предыдущей жизни, сказал я себе — эта женщина, конечно, имела не одну предыдущую жизнь, — она, несомненно, была кошкой.
Мы обменялись рукопожатием.
— Я понадеялась на удачу, — сказала она, расчесывая волосы пальцами. — Я была уверена, что не застану вас, но искать вас я могла только по этому адресу.
Мне стало стыдно, что меня застали в номере в такой ранний час.
— День был очень долгим.
— И вы совсем измучены?
Радуясь такому предлогу, я клюнул на приманку.
— Я совсем без задних ног.
— Понимаю. — Она помолчала. — Настолько, что не сможете выпить со мной?
— Вы имеете в виду — сейчас?
— А почему бы и нет?
— Да, почему бы и нет, — ответил я после секундного колебания. — Собственно говоря, — сказал я, — собственно говоря, с большим удовольствием.
— Может быть, воспользуемся «роллсом»? Я видела его снаружи. И знаю местечко, где нам никто не помешает.
Мы выехали из Сен-Мало на запад по залитому луной береговому шоссе. С одной стороны его обрамляли холмы и леса, а дальше — на еще более высоких холмах — фермы почтенных лет, обнесенные каменными стенками и скрытые из виду по самые крыши. С другой — океан, зеркально спокойный, если не считать положенного пенного кипения вокруг миниатюрного архипелага островков, сложенных из валунов, и у мысов, встававших из него, точно черные айсберги. Беа рядом со мной всю дорогу не проронила ни слова, кроме указаний, куда сворачивать, а потом замолчала вовсе, потому что впереди простиралось береговое шоссе без единого перекрестка. Она отодвинулась от меня, насколько позволяло сиденье, но, сказал я себе, ко мне это не могло иметь отношения, просто мягкий угол «роллса» обеспечивал два чувственных соприкосновения — с чехлом сиденья и с окном — вместо одного. И она курила. Я сообразил, что всякий раз, когда я ее видел, она еще и курила.
Наконец она сказала, чтобы я остановился, и я свернул на подъездную дорогу сияющего неоновыми огнями отеля, уже запруженную машинами.
При отеле был бар «Монна Ванна», темный, прохладный, войти в который можно было, только спустившись по клаустрофобичной винтовой лестнице. Вдоль всех четырех стен выстроились низенькие столики на ножках из гнутых труб. Каждый столик освещался нарцисстически удлиненной, изъеденной проказой лампой жуткой, гротескной формы и бредовой расцветки, будто пародия на никогда не существовавший стиль, art déco[47], который сложился в двадцатых и тридцатых годах Вселенной, цивилизация которой была извращенной параллелью нашей. Сиденьями служили пуфы — кроваво-красные, créme de cacao[48] и в том же духе. В зале была еще только одна пара, и когда мне наконец удалось распознать мелодию, я понял, что фоновой музыкальной записью были Les Biches[49] Пуленка. Только подумать!
Заказ у нас взял бармен, шепелявый юный кусок мяса, который назвал Беа по имени. Минут двадцать мы с ней разговаривали ни о чем — приятно, бездумно, прихлебывая виски. Я заказал повторить. На этот раз бармен перегнулся через столик у самого моего лица и зашептал шипящие глупости Беа на ухо. Она шутливо его оттолкнула и закурила новую сигарету.
Обозленный небрежной фамильярностью бармена, осмелев из-за виски, которого мне пить не полагалось, я следил, как она набирает полные легкие дыма.
— Вам не кажется, что вы курите слишком много сигарет? — сказал я.
Несколько секунд Беа молча смотрела на меня.
— Так ведь я же, — сказала она потом с насмешливой наивностью, — курю их по одной. — Она сверкнула на меня глазами. — Но знаете, Гай, — продолжала она, — вы самый настоящий… не знаю, есть ли такое слово в английском… но вы самый настоящий gaffeur[50].
— Gaffeur?
— Сами подумайте. Сначала вы обвиняете Сашу в том, что он практически преступник. Теперь говорите мне — мне, с которой еще и дня не знакомы, что я слишком много курю. Так прямолинейно, Гай, так без обиняков. Может быть, вы все-таки не такой классический корректный англичанин, каким представляетесь?
— От души надеюсь, что нет, — ответил я не совсем таким забубенным тоном, как мне хотелось бы, и добавил, что вовсе не хотел быть грубым. Разумеется, меня совершенно не касается, сколько сигарет она выкуривает. А что до фразы, которую я сказал Саше у нее в столовой, то я просто пытался завязать разговор.
— Ведь с ним это непросто, — сказал я.
— Я знаю. Поэтому я и пришла к вам в отель. Хотела извиниться за то, что произошло сегодня, по-настоящему извиниться. Как не могла при нем. К тому же я вроде врача: предпочитаю беседовать с моими по одному.
(Моими?)
— Я уже говорил вам, что извиняться не в чем. Но скажите мне, — продолжал я, — кто он?
— Кто — кто?
— Этот Саша, кто он, собственно, такой?
— Партнер Жан-Марка. Я думала, вы знаете.
— Знаю. Но этим ведь все не исчерпывается.
— Нет?
— Ну, возьмите для примера то, что произошло сегодня. Почему он сел в «роллс-ройс» и уехал, вместо того чтобы узнать, каким образом машина оказалась снова в Сен-Мало? Что это за партнер? Ведь могли же быть абсолютно логичные объяснения. И объяснение было. Пусть и не совсем логичное. Ему требовалось просто немного подождать.
— Я знаю.
— Почему он ведет себя так? Что означал взгляд, который он не спускал с вас за столом?
Беа улыбнулась:
— На что вы намекаете, Гай? Что у Саши есть надо мной какая-то зловещая власть?
— Нет… Но, если бы это не было настолько смехотворно, я сказал бы, что он ревнует ко мне.
— Так и есть. Он ревнует ко всем. Это у него в природе.
Я хотел выяснить еще кое-что.
— Он живет на вилле?
Беа приподняла полупустую стопку с виски к глазам — ее глазам, которые, когда я поглядел на стопку со своей половины столика, казалось, плавали там, как две голубые аквариумные рыбки. Она допила оставшееся виски и, стуча кубиками льда, будто игральными костями, махнула стопкой шепелявому бармену, сигналя, чтобы он опять повторил. Потом сказала без всякой связи с предыдущим:
— Знаете, Гай, в чем основная ошибка человеческих взаимоотношений?
— Нет. Так в чем?
— В том, что мы вступаем в брак с возлюбленными, тогда как нам следовало бы выбирать для этого друзей. Любовный роман — это спазма. Ну, как чихание. Нельзя узаконивать чихание.
Я задал, как мне показалось, подразумеваемый вопрос:
— Так почему вы вышли за Жан-Марка?
На этот раз я заметил, что поймал ее врасплох.
— Знаете, Гай, — сказала она в конце концов, — вы перегибаете палку. Приобщаетесь к чьей-то жизни — жизни, длившейся долго-долго до вашего появления на сцене и после… чего? После двух часов уже считаете, что имеете полную картину. Ну а это вовсе не так.
Я открыл было рот, но она меня перебила:
— Вы хотите знать про Жан-Марка и меня? Хорошо. Я вам скажу. Не понимаю, с какой, собственно, стати, но скажу.
После чего я узнал, что Беа уже давно жена Жан-Марка только формально. Они поженились, когда ей не было еще и двадцати. Жан-Марк преподавал в Ecole des Beaux-Arts[51] в Париже, где она, бретонка самого скромного (если верить набросанной ею картине, крестьянского) происхождения, подрабатывала натурщицей.
— Боюсь, это клише, что-то из Пуччини, но такое случается и на самом деле, так что незачем морщиться. Естественно, я была благодарна Жан-Марку, но я его и любила. Даже была влюблена в него. Какое-то время… как мне кажется… — Она сделала очаровательную гримаску. — Теперь уже трудно вспомнить. Все это происходило двенадцать лет назад. В течение двенадцати лет он меня холил и готовил — его любимое выражение. Холил и готовил. И безусловно, с полным успехом. Когда я гляжусь в зеркало, Гай, я вижу двоих: ту, какой меня считает Жан-Марк, и где-то, где-то даже теперь, все эти годы спустя, та, какой себя знаю я.
— Но ведь так чувствуют практически все. Мы дети, переодетые в одежду взрослых.
— Тогда скажем, что я не могу быть благодарной всю жизнь напролет. Есть предел количеству «спасибо», которые можно говорить одному человеку и сохранять искренность.
— А Саша?
— Саша был там. Это особая его способность. Оказаться на месте в нужный момент. Был бы кто-нибудь еще… — Она не договорила и эту фразу, однако добавила: — И это тоже позади, на случай, если вы и об этом хотите спросить.
А я, я невольно задался вопросом: не собираюсь ли я влюбиться в нее? Что за фантазия! Нелепость, да к тому же чисто детская… И все же, даже оставив в покое необычные обстоятельства нашей встречи, романтически-банальный удар молнии (запатентованный фирменный знак судьбы, ее истертый старый ярлык) и обмен автомобилями, моим извинением, моим единственным извинением за подобную мысль был тот факт, тот бесспорный факт, что все мы ведем двойную жизнь. Никто не может подсматривать за нашими любовями и похотливыми желаниями. Никто не может запустить ищеек обнюхивать внутренность нашего мозга. Сексуальное влечение — это то, что астрономы называют сингулярностью. Это черная дыра психики, где первоочередности реалистического императива недействительны. У себя в мыслях, сказал я себе, мне дано делать то, что я хочу.
Мы допивали по третьей стопке. Шепелявый бармен вышел, и мы остались в зале совсем одни. От этих размышлений меня отвлек вопрос Беа, женат ли я.
Женат ли я? Виски ввергло меня в дерзость и бесшабашность. Мне так хотелось рассказать… дать себе волю.
Я помолчал и…
— Я был женат, — ответил я. — Но я убил свою жену.
— Вы убили свою жену? — невозмутимо сказала Беа, воспроизводя мою притворную бесстрастность.
В первый раз я заговорил о смерти Урсулы с кем-то вне стен клиники. Моим друзьям, разумеется, мне ничего не надо было объяснять, а те, кто навещал меня в палате, ни разу не коснулись этой темы. Иногда я ловил их на том, что они подбирались к ней, подбирались почти вплотную, но в последний момент неизменно прядали в сторону.
Это был несчастный случай, полицейская статистика, банальная новогодняя статистика. Единственно не банальным было то, что я ничего не пил. Ни единого бокала шампанского, ни единой кружки пива — ничего, кроме минеральной воды, которую попивал весь обед. Урсула даже пожаловалась, что я перегибаю палку, и на пути домой, положив голову мне на плечо, она снова мне пьяненько выговаривала, и тут произошло это. На границе между Сассексом и Гемпширом вблизи придорожной площадки отдыха примерно в четыре часа дня — я как раз указал ей на потрескавшийся деревянный столб с указателем, увенчанный снежным колпаком. Словно, сказал я, в какой-нибудь из рождественских повестей Диккенса. И вот тут-то я в первый раз увидел сон, который не был сном, когда я впервые услышал визг скользящих юзом покрышек и увидел арку деревьев над нами, увидел снеговика на поле, обмирающего под солнцем, как гвардеец на параде, увидел лицо Урсулы в миг столкновения, лицо Урсулы, на которое я продолжал беспомощно смотреть, когда оно начало раскалываться на нестерпимую паутину разбегающихся трещинок.
— Когда это было?
— Когда? — Мне пришлось напрячь мысли. — Четырнадцать месяцев назад.
Четырнадцать месяцев. Последние четырнадцать месяцев я провел в том, что прежде называли — щадящий эвфемизм, который теперь уже полностью утратил былое умягчающее свойство, — в психиатрической клинике. Четырнадцать месяцев назад я добровольно отправился туда. Согласился подписать стандартное заявление, якобы оставляющее за мной право выбора: сначала я упирался, и меня пришлось уламывать.
«Это же просто бумажка», — сказал директор клиники (клинический, напрашивается слово), протягивая мне свою шариковую ручку.
«Как и смертный приговор», — помню, подумал я тогда.
Но ошибся. Клиника оказалась чудесным местом, расположенным среди сассекских холмов, окруженным заповедными землями Национального треста, главным образом густыми лесами, хотя в саду клиники единственными деревьями были пальмы, такие же безупречные, как эгретки. Ее окна закрывались тяжелыми веками бирюзовых штор, как в манхэттенском особняке, и выходили на восемь акров участка, где никто из обитателей, кроме меня, казалось, никогда не гулял. Там имелись крикетное поле, бильярдная и штат сестер, чья радость и облегчение, что они устроились работать в частной клинике, ощущались почти физически. Они никогда не оставляли меня наедине с собой, днем ежеминутно появлялись в моей палате, чтобы измерить давление, взять на анализ мочу, и оставляли любые другие дела, стоило мне кашлянуть, и даже сопровождали меня рука об руку — меня во всей моей наготе — в мою личную ванную и помогали подняться по трем ступенечкам, чтобы забраться в ванну.
Ко мне был приставлен психотерапевт, доктор Лодер, низенький, всегда щеголевато одетый, чаще всего в джемпере из тонкой шерсти, и с волосатым, завязанным толстым узлом шерстяным галстуком. В отличие от остального персонала, предпочитавшего нестесняющую приятную небрежность.
Вначале говорил только он, блаженно болтая обо всем, что приходило ему в голову. Помню монологи о поэзии Марвелла, о романах Джорджа Дю Морье, об ужении форели в горных шотландских речках, о немногих лондонских отелях, где все еще сервируют добрый старый чай по-шотландски (его выражение), и одному Богу известно, о чем еще. Еще я помню, что только ему одному из всех сотрудников клиники было разрешено держать собаку — фокстерьера, щенка, кобелька с подростковой развалочкой и квартетом пушистых белых лап, которые придавали ему забавно школьный вид и приводили мне на ум какого-нибудь долговязого юного атлета в белых носочках. Звали его Мао — думается, грустная дань десятилетию, когда юный Лодер уповал переделать мир. Я часто встречал их обоих, совершавших оздоровительный променад (еще один лодеризм) в саду клиники.
Заметную часть моего пребывания там мой натранквилизированный мозг не воспринимал толком то, что говорил Лодер, и я ложился спать, ошеломленный состоянием моего рассудка точно так же, как и когда просыпался утром. И все-таки, возможно, именно поэтому его хаотичный режим начал действовать. Быть может, я начал «реагировать» (как было сказано в моей истории болезни, в которую я заглянул тайком), потому что в своем сумеречном состоянии не мог избавиться от убеждения, что Лодер никакой не врач, а просто симпатичный старикан, рядом с которым я случайно оказался — в пивной или в замусоренном зале ожидания на каком-то вокзале, — и он, перескакивая с темы на тему, старается не столько «излечить» меня, сколько, столкнувшись с моим угрюмым аутизмом, заполняет паузы, рождаемые моим антисоциальным молчанием. Если в конце концов я все-таки «раскрылся», как самому Лодеру нравилось — слишком нравилось — определять мою реакцию на его метод (вероятно, потому-то я теперь и касаюсь этой формулировки, не имеющей ничего общего с тем, что я переживал на самом деле, в защитных рукавицах кавычек), то лишь по той причине, что я больше не мог стерпеть, чтобы он вел наши разговоры единолично. Сеанс за сеансом ко мне возвращалась привычка говорить — и наконец я заговорил о смерти Урсулы.
Томас Манн где-то пишет о «привыкании не привыкать». Так вот, когда я покинул клинику, всего за несколько дней до отъезда в Бретань, я ни в коей мере не чувствовал себя «вылеченным» от чего бы то ни было, но, пожалуй, начал привыкать к тому, что не привыкаю к моему нервному срыву — к моей бессоннице, моим снам, приступам головокружения, истощающей апатии. Быть может, я начал ощущать, что вылечиваюсь от ощущения, что я не вылечился.
— Или это ничего не значит?
Я обернулся к Беа, которая слушала меня не перебивая, даже не закуривая сигарету, — а более убедительного доказательства того, насколько она поглощена моим рассказом, я не мог бы потребовать.
— Это значит, что произошел несчастный случай — и вам потребовалось четырнадцать месяцев, чтобы убедиться: это был несчастный случай.
— Несчастный случай? Но какая тут связь с тем, чувствую ли я себя виноватым или нет?
— А вы чувствуете себя виноватым? Вы же все-таки ее не убивали.
Я поднял глаза от моей пустой стопки.
— Откуда вы знаете?
Молчание.
— Так убили?
Новое молчание.
— Да, — сказал я, подумав. — Да, я чувствую, что убил ее.
Она взяла меня за руку. Ничего не сказав, ощущая, как кончики моих пальцев от прикосновения к ее ладони защекотало электричество, я позволил ей увести меня вверх по винтовой лестнице через пустой вестибюль гостиницы и на автостоянку.
Молча мы с обеих сторон подошли к «роллсу». Устроившись за рулем, я смотрел, как она гибко опустилась на сиденье… и продолжал следить за ней дольше, чем намеревался. Она в свою очередь посмотрела на меня.
— Пенни за ваши мысли, Гай. Нет, забудьте, — сразу же добавила она и обеими руками кокетливо погладила груди, живот, бедра, делая вид, будто ищет монетку. — У меня нет пенни.
Я выключил мотор, который уже завел. Беа уютно свернулась у меня под боком, обхватив руками колени. Кончики ее элегантных туфель чуть заглядывали за край сиденья. Потом мы обнялись. Мы обнялись с неистовым исступлением, и у меня возникло чувство, будто призрачные негативы ее сердца, горла, внутренностей отпечатываются на моих, а моих — на ее. Мы изрешечивали поцелуями наши лица, наши губы, наши лбы, наши щеки. Оглушенный экстатичным гулом моей страсти, я ничего не слышал и только видел, как Беа повторяет «еще!», «еще!» всякий раз, когда, на секунду выныривая, чтобы глотнуть воздуха, я отрывался от ее губ. Ощущение было такое, будто мы катаемся на лыжах по струящемуся молочному шоколаду.
Затем с такой же внезапностью все оборвалось. Тишину прорезал вопль. Беа смотрела не на меня, а мимо меня. Я повернул голову параллельно ее, и за окном машины увидел, словно на рентгеновском снимке, лицо черепа: глаза — две плоские тени, увязшие в липком море бледности. Был и нос, расплющенный о стекло.
Я оторвался от Беа и открыл дверцу. Отпрянув в испуге, лицо исчезло с той же мгновенностью, с какой — уже так давно! — мазок света от фар «роллса» исчез с ветрового стекла моего «мини», однако два глаза продолжали жечь мои. Глаза принадлежали Саше. Лицо его было пепельным, монохромным, одержимым неизбывной тоской, как у какого-нибудь довоенного киноидола.
Я протянул к нему руку, то ли чтобы оттолкнуть, то ли чтобы утешить, сам теперь не знаю. Потому что при этом моем движении мы оба услышали голос Беа в «роллсе»:
— Sacha! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'espionnes maintenant?[52]
Этот голос, настолько лишенный теплоты, нежности, даже простого человеческого сострадания, которое могло бы спасти положение, — сострадания, которое я сам на секунду почувствовал к нему, подействовал на Сашу самым жутким образом. Я никак не ожидал увидеть подобного выражения на его лице — не омерзения, но абсолютной беспомощности и отчаяния. Из его рта вырвался странный скрежещущий звук: он скрипел зубами. Несколько секунд мы стояли друг против друга. Потом он бросился бежать. Прежде чем я успел его схватить — если я протянул руку с этой целью, — его нелепый тощий силуэт, окутанный черным костюмом слишком большого размера и каким-то образом более темный, чем смоляная тьма, в свой черед его окутавшая, хлопал рукавами на фоне горизонта, как огородное пугало в трауре. (Мне вспомнилось, как еще на вилле «Лазарь» мне показалось, что он страдает каким-то редким расстройством координации движений.)
Я было бросился за ним, но из «роллса» до меня донесся раздраженный оклик Беа:
— Гай! Гай, вернись, пожалуйста, в машину. Надо его догнать. Ты не понимаешь, на что он способен.
Я поспешно забрался в «роллс».
— Быстрей включи мотор. И, Гай, — сказала она, прижимая мою руку к рулевому колесу, — если ты не хочешь никогда меня больше не видеть — никогда! — ты должен поддерживать меня во всем, что я буду говорить и делать. Ты понял? Какую бы боль это тебе ни причиняло.
Я кивнул:
— Да, я понимаю. Но…
— Поезжай!
Мы помчались в нелепую погоню — нелепую потому, что нам потребовалось целых тридцать секунд, чтобы нагнать беднягу, чьи всхлипывающие зигзаги туда-сюда увели его лишь на несколько десятков шагов от того места, где был припаркован «роллс». А когда мы поравнялись с ним у лохматящейся травой неухоженной обочины, он за это время, казалось, где-то увеличился, а где-то уменьшился до более человеческих размеров — и был просто человеком, человеком, как все прочие люди. При виде него, при виде его такого несомненного горя я вновь ощутил непрошеный прилив сострадания.
Сначала Саша отказался сесть в машину, даже когда Беа невозмутимо указала, что домой пешком ему не дойти. Она уговаривала и убеждала его и велела ему взять себя в руки — мы сядем и обсудим все, как взрослые цивилизованные люди. Она роняла загадочные намеки на общее прошлое, закрытое для меня. Некоторые были ласковыми, другие (на мой слух) совсем нет, и я увидел, что он поддается, хотя и продолжал свирепо смотреть на меня с той злобой, которая запомнилась мне в первый момент нашей встречи. Наконец, когда слова сделали все, что могли, Беа перегнулась за моими плечами и просто открыла заднюю дверцу «роллса». Продолжая трястись от ярости, Саша залез внутрь, и мы вернулись в Сен-Мало.
Внутри лазурно-кораллового салона Беа закурила новую сигарету и сделала глубокую затяжку. Я сидел в кресле, напряженно выпрямившись. Саша — он не пожелал сесть, не пожелал чего-нибудь выпить — стоял перед нами, заслоняя Балтуса над каминной полкой.
— Послушай, Саша, — сказала Беа, гася и до половины не выкуренную сигарету о дно весомой мутновато-зеленовато-синеватой стеклянной пепельницы, плавательного бассейна в миниатюре, — я поехала в отель Гая только по одной причине, только по одной. Принести ему мои извинения за безобразную сцену в столовой. Вот и все, о чем мы говорили. Я чувствовала, что обязана извиниться перед ним.
Я распознал две лжи. Однако Саша вцепился в первую.
— Значит, — сказал он, переведя взгляд с Беа на меня, а потом назад на Беа, — ты поехала к нему в отель, так? На чем? На «роллсе»?
— Ну разумеется, нет, — ответила она и глазом не моргнув. — Каким бы это образом? Машина, как тебе известно, была у Гая весь день. Я вызвала такси.
— Понимаю, — сказал Саша. — Понимаю. Ты вызываешь такси, чтобы отправиться за двадцать километров от города в надежде, что он, — тыча в меня пальцем, — вдруг да окажется у себя в номере.
— Нет, — сказала Беа героически терпеливым тоном. — Я позвонила Гаю, чтобы извиниться, а он пригласил меня приехать выпить с ним. Я согласилась. А что? Мне надо было отказаться?
Я напрягал память, стараясь вспомнить название отеля, путь к которому мне указывала Беа в «роллсе» и в котором, как я сию секунду узнал, мне полагалось проживать, но не смог, хоть убейте.
— А в машине? — саркастически спросил Саша. — Ты так приносишь свои извинения?
— А это, — сказала Беа, — просто случилось, как часто бывает. Гай знает, что он для меня не значит ровно ничего.
Слушая ее, я заверял себя, что Беа вынуждена говорить так, что она заранее предупредила меня о своей стратегии, и все же… и все же…
Теперь Саша обернулся ко мне.
— Et la clé[53], — сказал он, обдавая меня односложными французскими словами, — çа vous dit quelque chause?[54]
Уже в третий раз за этот день они упоминали при мне какой-то «ключ».
— La clé? Quelle clé? De quoi vous parlez tous les deux?[55]
— La clé de la tour.[56]
Я по очереди посмотрел на них, сознавая, что из нас троих только я не понимаю, о чем говорит Саша. Вот тут Беа явно была на его стороне.
— О чем, собственно, речь? Ни о каком ключе я ничего не знаю. Может, кто-нибудь из вас объяснит?
Наступила пауза, а потом Беа вместо того, чтобы ответить мне, спросила Сашу, признает ли он теперь, что его подозрения были безосновательны.
Он смотрел на нее целую вечность. Потом почти с сожалением покачал головой:
— Trop tard, Вéа, trop tard. Meme si je m'efforçais de te croire, meme si tu ne lui as rien dit — après cette petite scène révoltante je ne pourrais plus te faire confiance. Plus jamais.[57] — Тут он перешел на английский, словно желая удостовериться, что я его пойму. — Но ты увидишь. Вы оба увидите. Я принял меры предосторожности.
Покраснев, Беа инстинктивно стрельнула взглядом по салону.
— Что ты еще натворил?
Саша промолчал.
— Черт, ну каким же ты бываешь дураком! Нет, это я дура. Я была дура, что верила, будто могу положиться на тебя. Ну хватит, пойми! Все кончено. Все.
Саша побелел. Вновь он выглядел как побитая собака — воплощением безутешного горя, и нижняя губа у него дрожала, как у ребенка, получившего нагоняй. Затем он вышел из комнаты своей обычной дергающейся марионеточной походкой.
И всего через две минуты мы услышали урчание автомобиля на подъездной дороге, а потом на улице. Беа подошла к окну и отодвинула штору. Я вопросительно посмотрел на нее.
— Пустяки. Я его знаю. Он вернется завтра же.
После ухода Саши в комнате наступило странное затишье — затишье после бури, а не перед ней, как утверждает присловье, и некоторое время мы с ней молчали. Ни Беа, ни я не находили, что сказать друг другу, даже если нам и было что сказать. Из ее молчания я сделал вывод, что она все еще раздумывает над случившимся, и потому не стал отвлекать ее вопросами, которые напрашивались. Но когда она заговорила, то всего лишь предложила выпить. Я опять спросил ее — ведь Саша ушел, и все было спокойно, — в чем, собственно, дело, все эти разговоры о ключах и башнях. Она ответила, что тут нет ровно ничего — во всяком случае, ничего такого, о чем она могла бы рассказать.
Я сказал, что выпью виски… и добавил, что, надеюсь, она знает, что может всегда рассчитывать на меня, если попадет в беду. Но, возможно, этих слов она не расслышала, потому что уже вышла в кухню, откуда до меня донесся звук открываемой дверцы холодильника, а секунду спустя — потрескивание кубиков льда, выламываемых из пластмассовых сот. Один запрыгал по столу и ударился об пол. Затем наступила тишина.
Прождав ее минуту-другую, я встал и прошел через коридор в кухню. На столе, выдвинутом из стены и делящем сверкающее чистотой пространство точно пополам, — эмалированный поднос и две наполненные льдом хрустальные стопки. Однако бутылки с виски не было видно. Я решил, что Беа отправилась на ее поиски в какую-нибудь еще комнату.
Я вернулся в салон и сел на диван перед стеклянным кофейным столиком, длиной почти равным дивану, который мог в этом отношении потягаться со стойкой гавайского бара. Я сидел, курил, думал, думал и курил — выпуская дым через одну ноздрю, а мои мысли, каковы бы они ни были, через, так сказать, другую. Уже полностью сбитый с толку событиями предыдущих суток, я совершенно не представлял себе, что произойдет дальше, и у меня начинало невыносимо стучать в висках. Я рассматривал, почти не замечая этого, прекрасную цветовую гамму обстановки салона: Балтус над каминной полкой (действительно великолепный), жанровые картины XVIII века, повешенные одним созвездием сбоку от камина, словно им полагалось быть частями одного большого полотна в обрамлении музея, и, наконец, кофейный столик передо мной. На этом столике обосновалась внушительная зажигалка в форме лампы Аладдина, ваза с элегантно ажурными — вероятно, искусственными — ветками ольхи, увешанными сережками. Стопки книг альбомного формата. Их корешки были строго параллельны друг другу (хотя названия на корешках располагались вверх ногами, но я прочел без особого труда: «Роберт Маплторп», «Кристиан Берар», «Ханс Беллмер» и самый с закавыкой «L'Histoire de la Peinture en Trompe l'Oeil»[58]). И тут я заметил на левом конце столика, симметрично стопкам на правом конце, еще один прекрасный альбом, раскрытый на одноцветной иллюстрации, половина которой пряталась под номером «Фигаро». Авторучка с золотым пером пересекала ее наискось.
Не могу объяснить почему, но мой взгляд остановился именно на этой конфигурации предметов. И именно на них (опять-таки, кто знает почему?) я решил сфокусировать взгляд так, чтобы все вокруг слилось в одно неясное пятно, и только книга, ручка и «Фигаро» четко выделялись на теперь смазанном фоне. Но все равно они оставались на слишком далеком расстоянии. Что-то понудило меня сесть прямо — до этих пор я расслабленно откидывался на спинку дивана — и рассмотреть все поближе.
Середина иллюстрации, повторяю, была прикрыта газетой и авторучкой, и теперь я разглядел, что под ними тянется подпись, но видны целиком были только первые и последние слова. Я прочел их. Слева от «Фигаро» было два: «La» и «Clé», а справа три: «de La Tour».
La Clé de La Tour. Ключ от Башни.
Я повторял эти пять слов про себя и по-французски, и в переводе. Потом совсем выпрямился и, небрежно смахнув авторучку, медленно поднял «Фигаро». Скрытая ими, занимавшая полный разворот иллюстрация оказалась глянцевой черно-белой репродукцией какой-то картины. И теперь без «Фигаро» и авторучки подпись можно было прочесть in toto[59], а именно: «La Clé de Vair» кисти Georges de La Tour[60].
На картине были две человеческие фигуры — обе поясные. Фигура слева от смотрящего изображала безбородого молодого мужчину с завитыми волосами, курносого и чуть одутловатого. В верхней части торса чудилась некоторая пухлость, как у евнуха, и писался он явно не с натуры — короче говоря, он не был таким уж убедительным изображением живого человека, если учитывать славу художника. Причем лицо было выписано куда менее искусно, чем одежда: складчатый берет, увенчанный страусовым пером, таким же непритязательным, как клуб табачного дыма из трубки, темная бархатная туника с дьявольски сложными, старательно выписанными завязками на плечах и камзол с многоцветной вышивкой на тему королевской охоты — нарядные придворные и охотничьи псы как сжатые пружины. Слева от него, то есть для меня — справа, стояла женщина. Однако различить ее черты было много труднее, так как в левой руке она держала свечу, освещавшую только нижнюю половину ее безупречно овального лица, из-за чего, если она позировала, эффект был значительно снижен. Ее пепельно-светлые волосы были уложены в тугой шиньон, из которого на смертельно белый лоб вдобавок к крутому локону выбилась непокорная прядь; ее глаза под длинными ресницами были даны, так сказать, в профиль — скошенными на мужчину, а рот у нее был чуточку приоткрыт, словно она как раз сказала ему что-то важное. Одета она была скромнее — в простое платье с полукруглым девичьим вырезом, украшенное только поясом, расшитым бирюзой и жемчугом, поясом, который ослеплял куда меньше, чем мог бы, из-за теней, которые, точно бабочки, окружали зловещее сияние свечи. Не считая этих двух фигур, в тесном пространстве, в которое поместил их Ла Тур — не больше монашеской кельи, — имелись еще только два композиционно значимых предмета: дверь, толстая деревянная ручка которой виднелась за фигурой молодого человека, и не то окно, не то миниатюрный пейзаж, написанный в диссонирующей перегруженной манере, напоминающей Эль Греко, — остров, встающий из бурлящего океана, сужаясь вверх и вперед в скалистый черный конус. На вершине этой скалы, будто воткнутый там флаг альпиниста, стояла каменная башня самой элементарной постройки и на вид абсолютно бесполезная, так как в ней не было ни двери, ни окон.
Собственно, имелась еще одна деталь — и самая многозначительная, однако выписанная так тонко, что я сумел обнаружить ее только после нескольких секунд напряженного разглядывания. Правой рукой женщина тайком передавала мужчине (хотя почему тайком? В комнате, кроме самого художника, не было никого, кто мог бы поймать их in flagrante[61], что бы там эти двое ни замышляли) маленький горностаевый кошелечек или футляр, оба конца которого были стянуты шнуром с прихотливыми кисточками. Форма, размеры и асимметричные выпуклости неопровержимо свидетельствовали, что внутри этого кошелечка или футляра находится ключ.
Под подписью была врезка с хроникой прошлого картины. Я завороженно читал:
«La Cléde Vair» («Меховой ключ») Ла Тура почти наверное был написан в начале 1640-х годов, на что ясно указывают два момента. Во-первых, на полотне есть подпись художника (по-латыни) у левого края, тогда как нам уже известно, что ни на одном из ранних полотен Ла Тура подписи нет. Во-вторых, пусть она и не столь яркий пример того, чего он позднее достиг в этом жанре, картина, без всякого сомнения, принадлежит к таинственной серии «ночных полотен», начатой, как принято считать, «Уплатой долга», ныне находящейся во Львовском музее. Бесспорно, датировка более позднего полотна всегда оставалась интригующим вопросом, поскольку рядом с подписью поставлена дата, но разобрать возможно только две первые цифры «16», а потому датировка, предложенная советским историком искусства и преданным поклонником Ла Тура Юрием Золотовым 16(41) или 16(42), остается открытым вопросом. Тем не менее картина настолько явно сходна с «Уплатой долга» стилем, техникой и композицией, что «La Cléde Vair» либо непосредственно предшествовала этому полотну, либо, что вероятнее, была написана не позднее чем через год или два.
О происхождении картины не известно ничего (то есть кто заказал ее и, учитывая неясность иконографии, зачем), и первые следы ее существования мы находим в начале XIX века в государственном архиве, где она упоминалась в описании коллекции Ивана Домского (1761–1829), московского вельможи, который, насколько известно, затем подарил эту картину в 1824 году Любомирскому музею в Санкт-Петербурге (где одно время находилась и «Уплата долга»). Хотя к имени художника он был равнодушен — он нигде его не называет, — Тургенев упоминает (к сожалению, мимоходом) ее в двух критических эссе о живописи, которые он написал в 1880-х годах; таким образом, мы можем предположить, что скорее всего она находилась в этом музее до революции 1917 года. Однако с этого момента никаких зафиксированных упоминаний о «La Cléde Vair» в России — или, разумеется, в Советском Союзе, как она начала затем называться, — больше нет, как и дальнейших подтверждений самого существования картины вплоть до 1937 года, того года, когда была сделана данная фотография.
Практически одновременно Золотов и именитый парижский торговец картинами Пьер Розенберг установили, что автором фотографии был некий Микаэл Дюфен, уроженец Кана, ныне покойный. Дюфен, увы, не вел систематической регистрации заказов и их выполнения; его фотоателье на рю Лоррен в Кане давно снесено, а все его потомки уже скончались, кроме дочери, живущей теперь в Женеве, но она ничего не помнит об обстоятельствах фотографирования картины.
Таким образом, если оставить без внимания не слишком надежный каталог Любомирского музея (который в соответствии с неофициальной и полуофициальной практикой некоторых русских музеев вполне мог и дальше числить ее в своей коллекции уже после исчезновения), можно с достаточной уверенностью утверждать лишь то, что достоверно «La Cléde Vair», полотно, знаменующее критический период в творчестве Ла Тура, видели в 1885 году, о чем упоминается в газетной публикации эссе Тургенева. Как ни прискорбно, приходится предположить, что картина потеряна для нас навсегда.
Заложив страницу большим пальцем, я закрыл книгу и изучил сначала корешок — издательство, заметил я, «Порлок Пресс» в Кембридже (Кембридж в Англии, а не Кембридж в Массачусетсе), — а затем переплет. «Живопись семнадцатого века», автор — некий Александр Либерман. Ни фотографии автора, ни биографической справки на задней крышке, а потому я опять открыл книгу и начал снова разглядывать репродукцию.
Мой взгляд шарил по ней, а в висках начинал биться пульс. Что-то в этой картине меня тревожило… что-то в ней… что-то, что мне не вполне удавалось…
— Eh bien.[62] Ты нашел ключ.
Я вздрогнул. Передо мной стояла Беа, держа бамбуковый поднос с парой полных льдом стопок, которые я видел на кухне, но теперь в обществе наполовину полной бутылки «Джонни Уоркера». (И могу добавить в скобках, меня осенило, что ей понадобилось непомерно длительное время, чтобы отыскать эту бутылку. Или она, прикинул я, или она хотела, чтобы я заметил альбом, открытый — услужливо развернутый — на нужной странице? Закрой скобки, сказал я себе, но глаза держи открытыми.)
Она поставила поднос на кофейный столик, с трудом отыскав для него место среди флотилии предметов — книг, зажигалки, вазы с ольховыми сережками, — уже бросивших якорь на его поверхности. Я смотрел на нее внимательно, молча, выжидая момента, чтобы поставить ее лицом к лицу с доказательством. Бывает мгновение, когда собираешься опуститься в шезлонг и физически уже не можешь откинуться ниже, и остается только упасть, довериться воздуху, и шезлонгу, и принципу, что, когда ты прорежешь первый, второй лояльно окажется на своем месте, чтобы поймать тебя. В моих отношениях с Беа наступило именно это мгновение.
Ткнув пальцем в репродукцию, я сказал:
— Это la clé de la tour, верно?
Беа кивнула — и опять у меня возникло чувство, что она подталкивает меня, хочет, чтобы я знал, что продвигаюсь (теплее, теплее), и кивком не только подтверждая то, что я уже обнаружил, но словно подбодряя для дальнейших открытий, вытягивая из меня каждый новый фрагмент истины, как подсказкой за подсказкой можно добиться, чтобы школьник назвал-таки какую-нибудь историческую веху: Нормандское завоевание, сэр, тысяча шестьдесят шестой год.
— Из чего следует, — продолжал я, — что она не пропала, что она существует. Это так?
Молчание.
— Это так?
Беа опять безмолвно кивает.
— Я слышал, как ты сегодня утром в этой самой комнате велела Саше пойти поискать ключ — va chercher la clé[63] — вот твои точные слова. Из чего следует, что ключ… то есть, я хочу сказать, картина находилась где-то внутри виллы… Нет, я опять ошибаюсь, потому что Саша вышел за ней наружу… Ну да!.. Конечно же! Картина была спрятана где-то в машине, в «роллсе».
Кивок.
— Итак, картина действительно существует и была в «роллсе»… Однако… (горячо до белого каления)… Жан-Марк сам предложил мне обменяться машинами, из чего следует, что он про это не знал. Он не мог знать, что она в «роллсе», иначе не стал бы меняться. Но ты знала… Ты и Саша — Саша Либерман, Александр Либерман, вы оба знали, что картина там. (Жорж де Ла Тур — я кружил по Сен-Мало с бесценным полотном Жоржа де Ла Тура в багажнике, или где там оно было спрятано, в моей машине.)
Беа налила нам обоим виски и всунула стопку мне в пальцы.
— Выпьем, — деловито распорядилась она и выпила свое виски залпом.
Я отхлебнул виски без всякой охоты, дожидаясь, чтобы она заговорила. А когда она заговорила, то рассказала почти невероятную историю. Мне следует понять, настаивала она, суть ее отношений с Жан-Марком. Из фраз, оброненных ею в «Монне Ванне», я уже вывел, что с угасанием их физического тяготения друг к другу, сменившегося взаимным равнодушием, которое рано или поздно грозит наступить во всяком долгом браке, их брак стал в буквальном смысле слова браком по расчету. На самом деле, как я узнал теперь, у Беа Жан-Марк вызывал отвращение. Он, как оказалось, не утратил вожделения к ней, а она уже давно достигла того предела, когда ей стали невыносимы его ласки и лапанье, его попытки контролировать, с кем она проводит время, какую одежду носит, даже сны, которые она видит.
Когда я полушутливо спросил ее, уж не хочет ли она сказать, что Жан-Марк ее «купил», она ответила «да». Он купил ее, как купил «роллс», как покупал свои картины и все, чем обладал в своей жизни. И постепенно она начала искать спасения из этого ада.
И выход подсказал Саша, он же Александр Либерман, знаток французского искусства семнадцатого века с международной репутацией и автор книги, которая все еще лежала на кофейном столике между Беа и мной. Люди часто приносили Саше картины для оценки. И вот такая картина, принадлежавшая супружеской шестидесятилетней паре из Нормандии (он — живое воплощение французского провинциального notaire[64], она, робкая, видимо смущенная мыслью, что они тратят время такого знаменитого специалиста, не говоря уж о собственных деньгах, на какую-то, по ее мнению, третьесортную мазню, которой они маскировали дверцу стенного сейфа в библиотеке notaire), оказалась «La Clé de Vair». Через несколько минут тщательного исследования Саша понял, что картине следовало бы храниться в сейфе, а не хранить его. Она стоила неизмеримо больше, чем все беличьи запасы, которые notaire и его супруга могли накопить к закату своих дней. Хотя он никогда не видел картину вживе, Саша немедленно опознал ее — ведь он же поместил ее репродукцию в своей книге. За века пропало столько полотен Ла Тура — и предположительно навсегда, хотя, возможно, они всего лишь валялись забытыми в каком-нибудь чулане. Это был отнюдь не единственный случай подобной находки.
В тот же самый день Саша из студии примчался по береговому шоссе и рассказал Беа обо всем. И в этой манне с небес она немедленно и наконец-то увидела возможность выползти из-под могильной плиты своей собственной жизни.
— Я была на пределе. Я бы сделала что угодно. Не суди меня строго.
— Беа, я вообще не собираюсь тебя судить.
Тут она подошла к щекотливой части. Беа призналась, что это она предложила купить картину по дешевке у ее сбитых с толку и неосведомленных владельцев — хотя и не настолько по дешевке, чтобы не пробудить у них подозрений. Собственно говоря, они с Сашей были готовы уплатить за нее тридцать тысяч франков — весьма приличная сумма во многих отношениях, хотя далеко не справедливая цена подлинного Жоржа де Ла Тура. Мсье и мадам Нотариус ничего не заподозрили, наоборот, были многословно благодарны и согласились без колебаний. Имя и порядочность Саши котировались как-никак очень высоко, его книги они не читали, вероятнее всего — даже не знали о ее существовании, для объяснения же, почему он покупает картину — пристойное, как он определил ее для них, хотя и эклектичное творение одного из французских эпигонов Караваджо, — он сослался на свою страсть ко всем образчикам живописи той эпохи, независимо от их направления или степени талантливости.
— Но почему Саша подставил под удар свою репутацию, пойдя на такой обман?
— Сначала он не хотел, — ответила Беа. — Мне пришлось его убеждать.
— И как же ты его убедила?
Беа помолчала, а потом ответила:
— Ну а как ты думаешь? Я переспала с ним.
— Ах так.
— Саша был влюблен в меня. Был влюблен с тех самых пор, как начал сотрудничать с Жан-Марком. Меня он не интересовал, что не помешало Жан-Марку начать нас подозревать. Иногда я думаю, что он продолжал держать Сашу при себе не только потому, что Саша незаменим — о живописи он знает столько, сколько Жан-Марку и не снилось, — но еще и для того, чтобы нас испытывать. Словно считал, что, расставшись с ним, он так никогда и не узнает, было ли между нами что-нибудь. А чтобы нас можно было изловить, Саша должен был оставаться рядом; тогда шанс застукать нас на чем-либо заметно возрастал. И я задолго до де Ла Тура подумывала, не утешить ли мне Сашу, не лечь ли с ним в постель — просто чтобы Жан-Марк оказался прав. Есть два способа реагировать на беспочвенные обвинения. Можно либо опровергать их, либо подтвердить. Гай, я опровергала, отрицала. Снова и снова, но это не помогало, и потому я уже созрела для подтверждения, когда началась история с «La Clé de Vair». Вероятно, это все и решило.
— О, разумеется!
— Ты обещал не судить.
— Не буду, не буду! Продолжай.
Ну, теперь у них на руках был этот шедевр Ла Тура, и около месяца они не могли решить, что с ним делать. Только одно они знали твердо: о том, чтобы выставить картину на открытую продажу, не могло быть и речи. Даже если злосчастные супруги были не способны определить истинную ценность картины, ее нельзя было представить на рассмотрение мира искусства. Если бы о том, что она сохранилась, стало известно, началось бы умопомрачительное перетягивание каната между заинтересованными и негодующими сторонами: в их числе русские власти (не говоря уж об их французских аналогах), Любомирский музей, потомки, буде они окажутся в целости и сохранности, Ивана Домского, а в арьергарде, пусть безнадежно, сражались бы двое простачков из Нормандии, которые были в таком восторге от своих тридцати тысяч франков. Ирония заключалась в том, что проблему, и без того крайне щекотливую, заметно осложнил сам Саша, написав про эту картину в своей книге.
Но имелась еще одна и еще даже более прелестная ирония. Выход из затруднения, сам того не зная, обеспечил Жан-Марк. Одним из самых богатых его клиентов был ливанский промышленник, который вел привольную затворническую жизнь в загородном почти дворце в одном из близких к Лондону английских графств — Беа казалось, что в Кенте, — и дворец этот был битком набит полотнами Старых Мастеров и petits-maitres[65]. Рожденный миллиардером, унаследовав космополитическую флотилию нефтяных танкеров, он, по словам Жан-Марка, был не то чтобы черной овцой своей семьи, но, если такое возможно, ее серой овцой. Желая только одного: чтобы его оставили в покое смаковать собираемые им сокровища, в делах компании, носившей его имя, он обходился почетом без власти, и его присутствие на совещаниях требовалось, только когда надо было подписать какие-нибудь бумаги. Опять-таки, по словам Жан-Марка, Наср (как звали клиента) подписывал множество документов, иногда в его, Жан-Марка, присутствии. Одни он прочитывал, другие нет, но, казалось, особой разницы это не составляло. Подписанные документы мгновенно забирались с его письменного стола раньше, чем успевали просохнуть чернила его подписи, парой арабских деятелей с козлиными бородками и в костюмах от Армани, которые затем исчезали из его жизни, чтобы месяц спустя вновь возникнуть с кейсом, полным новых документов на подпись. Промежутки между подписываниями Наср занимал развешиванием и переразвешиванием своих трофеев, своих Леже и Модильяни, Коро и Ренуаров. И коллекционирование картин превратилось у него в такую манию, что, по убеждению Беа, он, как и некоторые другие клиенты Жан-Марка, которых она могла бы назвать, не стал бы проявлять излишнюю скрупулезность в вопросе о происхождении и точном юридическом статусе подлинного Жоржа де Ла Тура, появись у него шанс его заполучить.
Она не ошиблась. Саша был втихомолку отправлен позондировать Насра, и — как она и предвидела — последний, когда ему показали фотографию картины, тут же пожелал незамедлительно стать ее владельцем. Спланировать все удалось отлично. Им было предложено десять миллионов фунтов за оригинал, десятая часть которых будет положена на такой-то банковский счет в Цюрихе, а остальное выплачено после доставки.
Доставка. Вот тут-то, как и многие новички до них, они перемудрили. Хотя бдительные и чуточку тронутые ксенофобией англичане все еще сохраняли таможенный досмотр, проводился он много небрежнее, чем в былые дни до Европейского союза. Было бы куда проще, а возможно, и разумнее, если бы Саша — поскольку Беа и шагу сделать не могла без того, чтобы Жан-Марк не потребовал отчета: куда, зачем и с кем — просто приземлился в Хитроу и прорысил через обычно пустующий зал таможенного досмотра со свернутым в рулон «La Clé de Vair» под мышкой. С другой стороны, это была картина, а не миниатюра, а Саша отнюдь не чуждался паранойи, и именно он под конец родил идею спрятать ее в «роллсе», в ящике под задним сиденьем, и предложить ливанцу просто вытребовать Жан-Марка в Кент для консультации. Он приедет, картину без его ведома извлекут из автомобиля, консультация будет отлично подмазана, но не впервые ни к чему не приведет… Или же Наср закажет Жан-Марку купить для него какую-нибудь малозначащую недорогую картину, действительно выставленную на продажу. И все прошло бы без сучка без задоринки, если бы случайная молния не повалила платан, остановивший Гая и Жан-Марка по обе его стороны.
Когда Саша увидел «роллс» на стоянке в городе, он, естественно, предположил, что их план обернулся катастрофой и…
— И, — вздохнула Беа, — остальное ты знаешь.
— Так, значит, ты тогда говорила по телефону с Жан-Марком? — спросил я, совершенно забыв, что уже задавал этот вопрос.
— Да нет, — ответила Беа в отличие от того раза. — Это был сам Наср. Он позвонил мне, чтобы сообщить о ситуации. Я боялась, как бы ты не догадался, что это был не Жан-Марк, ведь я называла его «vous», а не «tu»[66].
— Я догадался, — сказал я, — да только сам ничего не понял. (Так вот, значит, что весь день вертелось у меня на краешке памяти!)
Я налил себе еще виски. Беа нагнулась надо мной перед Балтусом, проверяя, как на меня подействовал ее рассказ. Где-то справа от нас за пределами видимости тишину нарушали «тик-так» часов на каминной полке, становясь все громче.
— Ты не забыл, что ты сказал?
— А что я сказал?
— Что я могу всегда на тебя рассчитывать.
— «Если попадешь в беду» — вот что я сказал.
— Но я же попала в беду, разве ты не понимаешь? Наср меня подозревает. Откровенно говоря, не думаю, что он поверил в историю с молнией.
— Не удивляюсь. Не будь она правдой, я бы и сам не поверил.
Тут я добавил категорично, почти машинально и совершенно неубедительно:
— Послушай, Беа, у вас с Сашей остается только один выход: вернуть деньги, которые вы уже получили. Поверь мне, другого выхода нет.
— Так ты мне не поможешь?
— Помочь тебе? А ты понимаешь, о чем ты просишь? Чтобы я стал соучастником преступления.
Беа встала на колени на каминном коврике передо мной, и я почувствовал, как дрожат ее загорелые пальцы, когда они сжали мои руки.
— Что такое десять миллионов фунтов для этого Насра? Я же тебе сказала, он миллиардер. Не миллионер — миллиардер! — Она мотнула головой. — И в любом случае сейчас уже поздно. Он не допустит, чтобы мы не продали ему картину теперь, когда он ее учуял. А даже если и так, то что Саше и мне с ней делать? Или ты забыл, что мы купили ее за паршивые тридцать тысяч франков? Из этого нам не выкрутиться.
— Почему? Саше нужно просто признаться, что он только после покупки, изучая картину, понял, что это подлинный Ла Тур, а потом вернуть ее тем, у кого купил.
— Признаться, что он не сумел сразу опознать Ла Тура — Саша Либерман, историк, эксперт! Его репутация будет погублена. А когда узнает Жан-Марк, а не узнать он не может, мне лучше не жить.
Она придвинулась на коленях еще ближе, вторгаясь в мое воздушное пространство. Ее глаза были теперь так близко к моим, что казались даже ближе них. Будто ее тело обрело совершенно новое измерение, никем не исследованное; будто и мое собственное тело через гармонично приуроченный миг одновременности обрело совершенно новые чудесные сенсорные свойства, чтобы его исследовать.
— Послушай, Гай, — прошептала она. — Это мой шанс, но он может стать и твоим. Твоя жизнь может начаться заново. Ты только подумай — десять миллионов фунтов! Все, чего ты когда-либо желал, теперь твое. — И она повторила (на этот раз, как я осмелился темно вообразить, вовсе не повторяясь, но давая мне совсем иное обещание): — Все!
— А ты, Беа? Как насчет тебя и Саши?
— С этим покончено, клянусь. Да и если быть честной, это никогда ничего не значило. Но в любом случае теперь с этим покончено.
Я посмотрел на ее поднятое ко мне лицо и понял, что пути назад нет. И, воспользовавшись тишиной, зависшей после ее последних слов, я притянул ее к себе на диван, сначала нежно, потом грубо, почти по-звериному, и все эти секунды я изливал свою жажду ее на ее глаза, на ее ресницы, на эти длинные, тонкие, поддающиеся пересчету ресницы, изнывая от желания пересчитать их все до единой. И медленно, но с поразительной легкостью и бессознательностью я воскресил заржавевшие, но незабываемые каденции начала любовной игры.
Ночь намазала мои сомкнутые веки густым слоем сливочного масла. Я глубоко зарылся в подушку, будто это было облако, будто моя голова с веками под сливочным маслом может дивным образом пробуравить подушку насквозь до нижней ее половины, половины, все еще гнездящейся в темноте. Я перевернулся на другой бок. Наверное, на пол-оборота. И мои глаза полуоткрылись. Во всяком случае, я обнаружил голубой абажур, которого, насколько мне помнилось, я никогда прежде не видал, а на стене по ту сторону комнаты — изображение венецианской регаты в блестках отсветов — фотография, а может быть, и Каналетто: определить точнее я не мог, так как в глазах у меня еще не прояснилось.
По утрам наши чувства открывают лавочку по скользящему графику. И вот я внезапно услышал за окном (и моим вновь открывшимся глазам указанное окно предстало точно по расписанию) какофонию веселых детских воплей и визга. Я говорю «внезапно» не потому, что какие-то детишки (в парке? во дворе детского сада где-то поблизости?) выбрали именно эту секунду, чтобы повеселиться, но потому, что мой слух как раз открыл ставни навстречу новому дню и эти вопли и визги оказались его первыми нетерпеливыми клиентами. Я еще раз перевернулся и раскинул руки и ноги по четырем углам кровати, зевая всем телом. Потом открыл глаза уже насовсем. Бледный солнечный свет просачивался в щели оливково-зеленых жалюзи и капал в спальню. В спальню? На стене справа от меня висело зеркало в форме огромной слезы. Под ним стоял черный чугунный столик, а на нем возле лампы в форме переплетенных стеблей плюща и с абажуром из мелких латунных полос, образующих подобие рыцарского забрала, красовалась помпейская двуглавая ваза — без цветов. Дальше имелся полированный комод красного дерева, украшенный пикассоидным угловатым торсом (быть может, даже работы Пикассо, кто знает?), смахивающим на большое раздавленное насекомое. А на стене напротив меня висела фотография — или Каналеттография — венецианской регаты.
Рядом со мной никто в постели не лежал. Легкая вдавленность многозначительно морщила ту половину простыни, на которой спала Беа, однако, как я обнаружил, бесстыже проверив это опытным путем, никаких интимных намеков на ее присутствие тут не сохранилось. Видимо, она встала уже довольно давно.
Мои часы оставались у меня на запястье. Двадцать две минуты девятого. Я встал, совершенно голый, и протер глаза, очищая их от сливочного масла. На полу у кровати лежал халат, который я ненадолго надевал накануне ночью, когда шлепал в ванную и оттуда. Не упустив случая поближе познакомиться со вкусами Жан-Марка, я подобрал его и осмотрел. Серебристо-серый атлас и повторяющиеся две фигуры, как на странице журнала мод: молодой человек в костюме светского хлыща — черные лакированные туфли, черный шелковый галстук-бабочка, высокий накрахмаленный воротничок — и молодая женщина в газовом, по лодыжки, платье с орхидеей, приколотой к корсажу, облокачивались о поручни океанского лайнера тридцатых годов. А по диагонали лайнер фигурировал уже в одиночестве, прорезая носом стилизованные фонтаны изящно закрученной пены. Я накинул халат на плечи, подошел к окну, всунул палец между планками жалюзи и приподнял верхнюю, словно веко эпилептика. Ни детского сада, ни парка, откуда могли доноситься разбудившие меня крики. Однако, хотя солнце и светило, я заметил, что на улице было холодно — дыхание проносящихся мимо машин было хорошо видно в неподвижной, еще не рассеявшейся туманной дымке. И еще я заметил, как мимо виллы бойкой походкой прошла женщина, почти школьница: точеные ножки в черных чулках и волосы, стянутые в конский хвост. Невероятно тоненькая — сплошная талия, — а уши у нее чем-то закрыты. Сначала мне показалось, что от холода, но это были наушники какого-то хитрого приспособленьица, испускающие звуки, которые, подобно Жанне д'Арк, услышать была способна лишь она одна. На площадке перед фасадом был припаркован «роллс».
Неторопливо — куда более неторопливо, чем дома, — я умылся, почистил зубы указательным пальцем, поплевав на ладонь, пригладил волосы и спустился в салон. Ни малейших следов Беа. Шторы подняты, но никакого порядка наведено не было, и комната при всей ее воздушной элегантности навевала унылое ощущение утра после бурно прожитой ночи. Я стоял там, прикидывая, не следует ли мне позвать Беа, и тут услышал в одной из соседних комнат, в которой не был ни разу, какой-то странный шум, какие-то шорохи и пошаркивания на уровне пола. Я прошел через салон, остановился у полуоткрытой двери и заглянул внутрь.
Комната оказалась библиотекой с душноватым пыльным запахом, темной и мужской. Кто-то имел обыкновение курить там трубку. У одной из стен стояла металлическая стремянка, и на всех ступеньках этой стремянки громоздились книги, создавая впечатление, что вторая, более высокая стремянка, установленная параллельно первой, следует по ее стопам. На полу валялись еще книги, а на полках по стенам зияли пустоты, предположительно прежде занятые этими книгами. В одном углу стоял шахматный столик. В противоположном углу черный как ночь телевизор, весь такой же зеркальный, как и его экран, покоился на стопке толстых томов — каждый под прямым углом к верхнему и нижнему. С того места, где я стоял, они выглядели совсем настоящими, но скорее всего были деревянной раскрашенной подделкой, вырезанной из одного чурбака. Нижняя секция полок на стене напротив меня не просто зияла пустотами, а была открыта целиком. Книги там тоже были поддельными. А внутренность открытой секции, вернее, внутренность сейфа, который, мне стало ясно, она маскировала, была заслонена от меня коленопреклоненной фигурой. Беа! Она не слышала, как я вошел. Она перебрасывала через плечо рыжие конверты, и папки, и пачки бумаг, перевязанные малиновыми лентами. А на ковре в форме полумесяца, который прилегал к дивану, точно ярко-пестрая фовистская тень, лежал альбом с рисунками Старых Мастеров — сильфидно-эфирные защитные прокладки из папиросной бумаги были смяты и порваны.
— Что ты ищешь?
Мой вопрос на мгновение сбил Беа с ритма, но она не ответила.
— Беа, ответь же, что ты ищешь?
— Пожалуйста, не вмешивайся, Гай, — сказала она, не повернув головы. — Это тебя не касается.
И тут я понял, что пропало и даже как оно пропало.
— «La Clé de Vair», так?
Кивнув, она вынула правую руку из глубины стены — пустой, — откинулась на босые пятки и принялась бить себя по лбу.
— Imbécile que je suis! Imbécile! Imbécile! Imbécile![67]
— Саша?
Она снова кивнула.
— Пожалуйста, раскури мне сигарету, Гай. Они на столе в салоне.
Я вернулся в салон, взял две сигареты из рубиново-красной пачки «Данхилла», закурил обе и одну вложил ей в пальцы.
— Когда я позвонила ему утром, он бросил трубку. Я знаю Сашу, и это не должно было бы меня встревожить. Однако встревожило, и я заглянула в сейф. Вероятно, он забрал картину, когда вчера убежал в таком бешенстве. Он сумасшедший, абсолютно сумасшедший. Я просто не знаю, что он может выкинуть.
— А ты не знаешь, куда он отправится?
— У него есть студия на берегу, на Мон-Сен-Мишель. Он там не живет, понимаешь? Он там прячется. — Последняя бесполезная пачка бумаг выскользнула из ее рук на ковер. — Придется поехать туда, попробовать урезонить его. Он, я думаю, меня послушает… надеюсь… но тянуть нельзя, потому что Саша на таком взводе, что может…
Она ухватила меня за кисть под широким монашеским рукавом халата Жан-Марка, откинула рукав и посмотрела на мои часы.
— Прости мою невежливость, Гай, но мне нужен «роллс». Только для одной поездки. В худшем случае на все утро, но и только.
Я покачал головой.
— Ты мне его не дашь?
— Я еду с тобой.
— Глупее ничего не придумаешь. Ведь именно из-за твоего присутствия он повел себя так. И если увидит тебя со мной…
— Я не отпущу тебя одну. Я не доверяю Саше и предпочту не доверять ему там, рядом с тобой, чем здесь, в одиночестве. Не забывай, ключи от машины в кармане у меня. Хочешь не хочешь, радость моя, — сказал я впервые удавшимся мне небрежным тоном кинозвезды, совсем для меня не естественным, — поедем мы вместе.
— Если так, — сказала она, больше не настаивая, — тебе надо одеться и побриться. Я хочу уехать через пятнадцать минут.
Я сел за руль рядом с Беа и вывел «роллс» на улицу, совершенно свободную от машин, а на первый взгляд — и от пешеходов. До того противоестественной была эта тишина, что начинало казаться, будто в соседних домах никто не живет и все они выставлены на продажу.
Однако в тот момент, когда я уже собрался нажать на газ, произошло нечто немыслимое. Неизвестно откуда взявшись, со внезапностью, которая заставила меня ударить по тормозам, перед машиной возник молодой парень. И какой парень! Первое, что я заметил сквозь не такое уж кристально чистое ветровое стекло, была его прическа. Волосы выстрижены в могиканском стиле, а каждый вертикальный вихор густо напомажен и закручен в тончайшее острие. К тому же вихры были многоцветными с переходами от кирпично-красного к розоватости чайной розы и к нежной зелености. Самым же странным было, что его голова выглядела бритой, будто вертикальные вихры просто наклеили на скальп или же искусственно в него вживили. Если не считать надбровных дуг, которые нависали над его глазами, как симметричные выступы обрыва, его лицо казалось не выпуклым, а вогнутым, но нарочно, будто он втягивал его, на манер толстого купальщика, который семенит по пляжу и все время втягивает живот, пока не окунется в океан. Когда он шагнул ближе, я увидел, что в его правом ухе болтается английская булавка, что его черный кожаный костюм весь в бахроме таких же булавок, а шею опоясывает колье из лезвий к безопасным бритвам. Он остановился перед нами, положив руки на бедра.
В полном ошеломлении я опустил стекло в дверце и высунул бы голову наружу, если бы мне не помешал еще один человек, который, возникнув из того же ниоткуда, буквально прислонился к «роллсу». Во всех отношениях он был полной противоположностью своему спутнику. Под тем углом, под которым мне пришлось смотреть на него, он казался очень высоким, однако для столь высокого человека фигура у него была гармоничная. Под расстегнутым черным пальто на нем был голубовато-серый костюм с жилетом и еще галстук с несимметричным черно-белым узором, от которого рябило в глазах. Он заметно облысел, и остатки его кремово-седых волос были взбиты над ушами, создавая впечатление, причем, несомненно, обдуманное, что на нем парик восемнадцатого века. И он улыбался… или, вернее, на губах у него была улыбка, что в конечном счете отнюдь не то же самое.
— Доброе утро, — сказал он чуть ли не учтиво. — Мое имя Риети. Мистер Риети. Не устроиться ли нам поудобнее?
Мы с Беа вытаращили глаза друг на друга.
Риети всунул голову в окно так близко от меня, что я ощущал запах его дыхания.
— Не тревожьтесь, мадам Шере. Мы не бросим вас в одиночестве. Мы намерены подвезти вас обоих.
— Подвезти? — повторила Беа.
— Да-да, подвезти. У меня ведь такое впечатление, что мы едем туда же, куда и вы. Куда именно, признаюсь, я пока не знаю, но надеюсь узнать в пути. Так не устроиться ли нам поудобнее?
— Послушайте, — начал я, — не знаю, кто…
— Ну разумеется, не знаете. Но узнаете. Боже мой, непременно узнаете. — И он окликнул парня, все еще перегораживавшего дорогу: — Малыш!
Пока тот ковбойской развалочкой направился к машине, Риети, подхихикнув, шепнул нам:
— Я их всех называю Малышами. А ведь хорош, не правда ли? Последняя из могиканских стрижек — в этом он весь, мой Малыш! — И его туловище затряслось от гулкого утробного хохота, казалось, взболтавшего все, что укрывал его жилет.
Теперь Риети и Малыш стояли по сторонам машины. Рвани я вперед в этот момент, вероятно, маневр мне удался бы. Но я был загипнотизирован этой нелепой клоунской парочкой и не шелохнулся, когда Риети открыл дверцу со своей стороны, а Малыш одновременно со своей.
— А теперь, сэр, — сказал мне Риети, — мы поедем с вами, хотите вы того или нет, так что будьте так добры, обойдитесь без показного героизма. Если вы — но осторожно, осторожно, дорогой мой, — переберетесь на заднее сиденье ко мне, Малыш сядет за руль. Мадам Шере, останьтесь на своем месте. Повторяю: пожалуйста, без рукоприкладства. Малыш (это отступление предназначалось только для меня) сломает вам шею легче, чем соломинку. И хотя я не киллер — Боже меня оборони! — однако имею при себе скрипучий, но очень эффективный револьвер, — он похлопал по правому карману пальто, который, бесспорно, заметно топорщился вокруг чего-то твердого, — и буду счастлив пульнуть для начала, скажем, в мизинец либо в тот или иной из этих симпатичных больших пальцев. Ну как, мы все готовы занять свои места?
Я взглянул на Беа. Она торопливо кивнула мне, словно говоря: «Делай, как он говорит».
Оказавшись, когда я вылез из «роллса», на секунду почти щека к щеке с Риети, я использовал безопасность нашего насильственного физического соседства, чтобы хорошенько его разглядеть. Его складчатое лицо отнюдь нельзя было назвать бесцветным. В нем сквозила подлинная, пусть и мясистая сила, подлинная личность. Такого типа лицо можно увидеть в галерее портретов окаменелых светил нашего столетия, столпов гуманизма. Шоу, Манн, Уэллс, Ортега-и-Гассет, Сибелиус со злоехидной добавкой Алистера Кроули — вот-вот, больше всего Риети походил на незаконнорожденного, противоестественного отпрыска Сибелиуса и Кроули.
Наши взгляды встретились. Он улыбнулся, не разжимая губ, как человек, стыдящийся своих зубов. А после того, как я скользнул в угол по чехлу заднего сиденья, он последовал за мной и резко захлопнул дверцу. Тем временем Малыш занял мое прежнее место за рулем рядом с Беа и блаженно водил пальцами по ребристой черной поверхности рулевого колеса.
Так мы просидели несколько секунд. «роллс» оставался неподвижным, мы все хранили молчание. Потом Риети, взглянув в окно, нарушил его:
— Мадам Шере, я жду ваших указаний. Если вы не против, то довольно томить нас неизвестностью. Куда точно мы направляемся?
— Кто вы? — сказала Беа наконец, оборачиваясь к нему.
— Законный вопрос, милая дама, — хихикнул он, куртуазно наклоняя голову. — Я, как вам уже известно, Риети. Я служу у некоего мистера Насра… Как вижу, это имя что-то говорит вам обоим. Ну, так мистер Наср был… как бы это выразить?.. он не был полностью удовлетворен сказочкой о дереве, поваленном молнией. Чудесная история сама по себе, это бесспорно, но, увы, не вполне и более чем неправдоподобна. И тем более, поскольку мистер Лантерн, никому не знакомый, ни в чем не повинный посторонний человек после этого фантастического эпизодика словно бы проводил и проводит много времени в вашем обществе.
Беа попыталась его перебить, но он поднял ладонь и остановил ее, прежде чем она успела открыть рот.
— Поймите меня, — сказал он. — Я был в Сен-Мало с первого дня операции. Всему, что вы делали — делали на людях, — я был свидетелем. Довольно некрасивая предосторожность со стороны мистера Насра, можете вы сказать. Но ведь он просто жаждет вступить во владение картиной, а кроме того — едва ли мне нужно напоминать вам, — он уже вложил порядочную сумму в этот проект. Кстати, как я замечаю, упоминание о картине отнюдь не поразило нашего друга Лантерна, как можно было бы ожидать, и мне остается только предположить, что мой инстинкт меня не обманул и он полностью осведомлен о том, что поставлено на карту. О чем бишь я? Ах да! Хотя эту историю, мадам Шере, вы и ваш муж подтвердили независимо друг от друга, мистер Наср тем не менее не мог избавиться от подозрения, что все не так уж благополучно, и распорядился, чтобы я — разумеется, с Малышом — начал бы играть более активную роль в происходящем. Вот так, мадам. Аванс, который вы получили, в полной безопасности, но на основании моих донесений мистер Наср пришел к выводу — и можно ли его винить? — что вам самой, увы, больше доверять нельзя. Совершенно очевидно, что картина не спрятана на вилле «Лазарь». А потому вы сообщите мне, где она, а я организую ее доставку через Ла-Манш.
Беа извлекла из сумочки сигарету и, прежде чем закурить, три-четыре раза постучала сигаретой по пачке, жест, которого — хотя в чем-то он соответствовал ее характеру — прежде я у нее не замечал, а Бог свидетель, я видел, как она закуривала множество сигарет. Предположив, что таким образом она старается выиграть время, я решил ответить первым:
— Фантастический эпизодик, как вы его назвали, чистая правда, даю вам слово чести.
— Ах, дорогой сэр, со всем уважением… — прожурчал Риети. — Слова чести, слова чести — я не склонен полагаться на чье-то слово чести.
— Говорю же вам, что мы совершенно невинны и вы напрасно нас подозреваете.
— Невинны, вы говорите, невинны? Неужели вы не понимаете Лантерн, что люди моей профессии не должны доверять именно невинным? На мошенников я могу положиться. Злодеев я понимаю. У них есть своя специальность, и, да благословит их Бог, они остаются ей верны. Растратчики не шантажируют. Поджигатели не мухлюют с уплатой налогов. Серийные убийцы не грабят табачные магазины. А вот невинные! Они, по определению, способны на все, и мы узнаём, на что они способны, только когда уже поздно. Господи, сохрани меня от невинных! — Тут Риети сложил кончики пальцев, словно и в самом деле возносил молитву Всемогущему. — Существует (да, да, да я лично за это поручусь!) разновидность, очень зыбкая разновидность, не спорю, но тем не менее разновидность воровской чести. Однако до сих пор я что-то не замечал избытка чести среди вас, честных людей.
Вслед за этой тирадой наступило молчание. Ни Беа, ни я не нашли что ответить. То есть пока ее нижняя губа не скривилась в полуулыбке и она внезапно не спросила:
— Скажите, Риети, вам многих усилий стоит казаться поперек себя выше?
Риети уставился на нее, и даже Малыш прекратил по-детски трогать пальцами приборную доску и обернулся, чтобы услышать, как его наставник ее обрежет.
Но, к моему удивлению, лицо Риети тут же расслабилось, а из крохотного чопорного ротика вырвался тот же гулкий утробный хохот.
— Черт побери, мадам, вы редкостная женщина, что есть, то есть! Просто редкостная! Если бы мы встретились при более благоприятных обстоятельствах! — Он вздохнул. — Да, но мы напрасно тратим время, не ваше — мое. Где, повторяю, находится «La Clé de Vair»? Если у вас на вилле, в чем у меня есть серьезные причины сомневаться, отдайте мне его, и через пару недель вы станете богаче, чем вам могло привидеться в самом сладком сне. Если нет, так отправимся немедленно туда, где находится картина.
Беа продолжала невозмутимо курить, используя сигарету — я понял, что она всегда использует их таким образом — как реквизит, как старый-престарый, освященный обычаем прием, который помогал ей унять дрожь в руках и давал время подготовить следующую реплику. Однако, затеяв эту игру теперь, казалось мне, она сильно рисковала, поскольку я не просто видел, но непосредственно ощущал, как эта уловка все больше раздражает Риети, — эта слишком уж очевидная уловка, слишком откровенное притворство. Я чувствовал, как его бескостная жирность все больше напрягается на заднем сиденье рядом со мной.
— Мадам, вы заставляете меня ждать.
В том, что Беа в конце концов рассказала ему, правда имелась, но не вся. Сначала она сказала, что («извините, я повторяюсь») на шоссе Сен-Мало действительно произошел обмен машинами. Что, как и заподозрил Риети, Ла Тур уже не в сейфе виллы. Что, поскольку они вместе решили, что картина будет в большей безопасности у него в студии, ее хранителем теперь стал партнер Жан-Марка Александр Либерман, чье имя как крупнейшего из ныне живущих специалистов по творчеству Жоржа де Ла Тура, конечно, Риети известно. И что она и я («Ах, Гай, вот как? — вставил Риети. — Интереснее и интереснее!») сегодня утром решили забрать ее назад.
Наступило молчание, затем Риети пожал плечами:
— Очень хорошо. Нет, я не говорю, что поверил вашей истории — с какой, собственно, стати? — но я готов принять ее, хотя бы по той причине, что она очень мило подводит нас к этой минуте — при условии, вы понимаете, что следующая часть окажется не менее удовлетворительной. Где студия этого мистера Либермана?
— Ну, видите ли, — сказала Беа, — в этом-то и проблема.
— Проблема! Я так и думал.
Из приборной доски Беа выдернула маленькую пепельницу, вбила окурок в кучку пепла и резко защелкнула ее.
— Проблема в Саше.
— Саше? Кто такой Саша?
— Александр. Нашел картину Саша, но сразу же план начал его очень смущать. В своей основе, поймите, он честный человек. Он даже говорил о том, что ему следует обратиться к надлежащим властям и отдать картину. Однако я знаю, что сумею его переубедить. Сказать правду, он в меня влюблен.
— Вполне естественно! Он же мужчина, не так ли?
— Но если я явлюсь к нему с вами и с… — она запнулась, словно такое имя-прозвище невозможно было произнести вслух, — с вами и с Малышом, ну, он может потерять контроль над собой. Я искренне считаю, что ради нас всех нам с Гаем следует поехать одним.
Риети смотрел на нее почти так, будто разглядывал картину в галерее. Он актерски задышал, и я ждал, что он подавит зевок, однако он не был настолько уж прямолинеен. Тем не менее он заговорил с еще более театральной оттяжкой. Хотя, не мог я не заметить, от гулкого хохота он отказался.
— Так! Вы утверждаете, что оставили Ла Тура — причем ради большей безопасности картины — у индивида, который, как вы же сообщили мне, «в своей основе честный человек», индивиду, который даже говорит о том, чтобы обратиться к «надлежащим властям» — к полиции. Это недостойно вас, мадам. Воображение, которым вы наделены в избытке, ничего не стоит, если оно не настроено на потребности и побудительные мотивы тех, с кем вы имеете дело. В частности, потребность в уважении к их умственным способностям. Я не стану притворяться, будто понимаю, какую маленькую игру вы затеяли с моими нынешними потребностями и побудительными мотивами, и меня совершенно не трогает, если я никогда ее не пойму. Деньги не мои, и если быть абсолютно откровенным, а я предпочитаю, чтобы человек был откровенным, невзирая ни на какие обстоятельства, то лично я гроша ломаного не дам за Жоржа де Ла Тура. Но я задал вам разумный вопрос и ваш ответ нахожу оскорбительным. Меня оскорбляет, что меня сочли идиотом.
— Безусловно, я не считаю вас идиотом.
— Да? Тогда покончим с ерундой. Где, повторяю, «La Clé de Vair»?
— По причине, которую я вам объяснила, Риети, я не могу…
Она так и не договорила то, что собиралась сказать. Спокойно, абсолютно без единого ненужного движения Риети достал револьвер из кармана пальто и наклонился вперед. Он ухватил сзади скромный изгиб воротничка ее блузки и засунул ствол так глубоко вдоль ее голой спины, что виден был только кулак, сжимающий рукоятку. От щекочущего прикосновения холодного металла к голой коже спина Беа напряглась, под легким покровом блузы выпятились лопатки. Я подобрался, но, не посмотрев на меня, Риети сказал:
— Оставайтесь на месте, Лантерн, а не то я, безусловно, спущу курок.
Надо отдать ему должное. Этот маневр был осуществлен на редкость экономно — Малыш обернулся посмотреть, что происходит позади него, только услышав угрозу Риети.
Затем, еще больше наклонившись вперед и отвратительно изящным жестом отклонив жемчужную серьгу, словно она могла помешать Беа расслышать его слова, Риети начал нашептывать ей на ухо:
— Послушайте меня, милая дама. Я дважды задал вам простой вопрос и дважды получил по рукам. Я терпеливый человек, в отличие от многих и многих моих коллег, мог бы я добавить. И потому я вас спрашиваю в третий и последний раз. Но если вы и дальше будете втирать мне очки, я спущу курок. Не могу предсказать, куда попадет пуля. Она может располосовать вашу нежную спину, может застрять в развилке ваших не менее нежных ягодиц. Или же вовсе не задеть вашего тела. Это риск, на который я готов пойти. Это риск, на который вы должны быть готовы пойти, если откажетесь ответить.
— Беа, прошу тебя! — вскрикнул я. — Бога ради!
— Мон-Сен-Мишель, — сказала Беа.
— Мон-Сен-Мишель? — Не убрав револьвера, Риети покатал этот новый факт у себя в мозгу, как знаток вин благодушно катает на языке капельку марочного бургундского. — Мон-Сен-Мишель! Как забавно. Где на Мон-Сен-Мишель?
— Где?
— На какой улице? Номер дома?
— Я честно не знаю. Разве на Мон-Сен-Мишель дома нумерованы?
— Предупреждаю, мадам, перестаньте играть со мной, — сказал Риети, нахмурившись. — Я откупориваю свой револьвер, — он тут же поправился с тяжеловесным юмором, — я снимаю мой револьвер с предохранителя, извините за неуклюжую шутку.
Эта неуместная шутливость не помешала ему снять револьвер с предохранителя. Я услышал щелчок под тонкой завесой блузки Беа.
— Да погодите, погодите! — сказала она поспешно. — Я правда не знаю названия улицы. Или номера. Но я знаю, где находится студия Саши. Узнаю дом, когда окажусь там. Поверьте мне, я говорю вам правду. — И она повторила: — Поверьте мне.
Секунд десять Риети держал паузу. Наконец с нарочитой неторопливостью, которую я, возможно, слишком великодушно объяснил скорее осторожностью, чем жестокостью, он вытащил пистолет из блузки Беа и убрал назад в карман пальто.
— Хорошо, мадам, — сказал он, — мне кажется, я вам верю. Или, скажем, я решил вам поверить — пока. Значит, в Мон-Сен-Мишель.
Откинувшись на спинку поуютнее, он повторил:
— Мон-Сен-Мишель. Какой каприз судьбы. И может быть, — добавил он, чуть помолчав, — когда это ненужно запутанное дело будет доведено до конца, к соответствующему удовольствию нас всех, мы вчетвером поужинаем в «La Mère Poularde»[68]. Как мне говорили, это самое-самое на Мон-Сен-Мишель. Сэр Уинстон Черчилль как-то поужинал там, а также Помпиду — или надо произносить Помпидукс?.. Но не важно.
Он потер большие ладони-оладьи.
— Теперь, — сказал он весело, — когда наши mauvais quart d'heures[69] благополучно остались позади, почему бы нам всем не расположиться поудобнее, чтобы в меру насладиться предстоящей небольшой экскурсией? Что, хотелось бы мне узнать, может сказать об этом notre cher[70] Пруст?
Из другого, безревольверного кармана, вздутого, пожалуй, не меньше своего сотоварища, он извлек потрепанную книжку в бумажной обложке, слегка завернувшуюся по краям страниц. Она оказалась «Содомом и Гоморрой», четвертым томом — во всяком случае, в английском переводе — «А la rechèrche du temps perdu»[71] Пруста. К моему изумлению, он открыл ее наугад, несколько секунд шарил взглядом по развороту, а затем начал читать: «Если удовольствие обедать не дома, к чему я стал совершенно равнодушен, опять воскресло, когда обрело новую форму поездки по побережью, а затем подъема в экипаже на обрыв над морем высотой в шестьсот футов, и вызвало у меня нечто вроде опьянения, в La Raspelière[72]это чувство отнюдь не рассеялось».
Молчание. Затем он закрыл книжку с благоговением, словно говоря: «Ну, что тут скажешь?», даже если бы кому-то из нас и захотелось высказать свое мнение, нам бы это дозволено не было, так как в восторженном изумлении Риети ощущался деспотический оттенок, будто предостерегающий нас: «Нет-нет, ничего не говорите — не сейчас, не нарушайте волшебности чуда, которому мы только что были свидетелями».
И однако эту волшебность нарушил он сам.
— Как уместно, как потрясающе уместно! Но Пруст есть Пруст. В этом романе, — сказал он, постукивая указательным пальцем по замусоленной обложке, — не просто один литературный шедевр наряду с другими, в нем — вся литература. Читайте Пруста, и вам не надо будет читать ничего другого. Последние двадцать семь лет мне ни разу не потребовалось открыть другую книгу. Я начинаю с первой страницы «В сторону Сванна», а когда достигаю конца «Обретенного времени», то опять начинаю сначала. Если же оказываюсь в критическом положении или — вот как сейчас — кризис благополучно разрешается, я открываю том, который как раз читаю, и всегда, всегда без исключения, нахожу фразу, которая выражает самую суть данного дела. Пруст, короче говоря, это моя Библия.
Я просто не мог поверить. Вот меня держат пленником в Сен-Мало — внутри «роллс-ройса», который не принадлежит мне, — гротескный гангстер и его карикатурный подручный, чьи вихры расходятся от черепа, словно позолоченные лучи эмблемы солнца, венчающей раму зеркала над каминной полкой. И вот он, гангстер этот, ошарашивает меня Прустом. Нет, это шутка, какая-то жуткая шутка.
Сам Риети, однако, вновь бурлил словоохотливостью:
— Так едем же прочь из этого невыразимо унылого городишки! Мадам Шере, будьте столь любезны, дайте необходимые указания Малышу. Насколько мне помнится, Мон-Сен-Мишель находится на расстоянии всего часа езды или около того по береговому шоссе — «по побережью, а затем подъем на обрыв над морем высотой в шестьсот футов», потрясающе, ну просто потрясающе! — и главный в данный момент стоящий перед нами вопрос, как нам выбраться на это шоссе. Предоставляю действовать вам.
С этими словами он извлек из внутреннего кармана пальто пухлую сигару. Развернул, яростно откусил кончик и выплюнул мерзкую струйку слюны в полуоткрытое окно. Раскурил сигару, медленно затягиваясь и медленно выдыхая, и я завороженно следил, как великолепное кольцо дыма на мгновение зависло под низким сводом над задним сиденьем точно на середине между ним и мной, будто нимб без святого, и медленно растворилось в воздухе у нас на глазах.
Пятнадцать минут спустя мы вырвались из Сен-Мало и наконец оказались на шоссе, по которому мы с Беа ездили накануне вечером. Под нами колыхался океан, и каждая из складок, чередой возникавших на его волнующейся поверхности, при приближении к берегу разглаживалась катящимся цилиндром пены, который затем распадался на пляже, развертывая темный полукруг засасываемой песком влаги, словно яичный белок, вылитый на шипящую раскаленную сковородку. Над нами простиралась луговая равнина, однообразие которой лишь изредка нарушалось крестьянским домом да какой-нибудь буйно разлаявшейся собакой, которая кидалась на ворота усадьбы, когда мы проезжали мимо. Солнце затмилось. Низкие провисающие тучи, холодные, не сулящие ничего хорошего, затеняли ветровое стекло «роллса», и я ощущал соленый ветер снаружи, а иногда даже замечал на горизонте размокшую линяющую радугу.
На шоферском сиденье передо мной Малыш хранил молчание. Если не считать горлового «вей-вей-вей-вуум!», которое он испускал, обгоняя другие машины, словно «роллс» поглощал необъятные, надрывающие сердце дали, а не ехал вдоль северо-западного побережья Франции со скоростью, отвечающей всем положенным ограничениям, я пока еще не слышал его голоса. Однако я заметил, что он все чаще скашивает на Беа похотливый взгляд, а потом начинает ерзать на сиденье, стараясь поудобнее устроить все свои интимности. Она тем временем давила сигарету за сигаретой в пепельнице приборной доски, с силой нажимая на каждую, пока с последней струйкой дыма жизнь в ней не угасала полностью — словно некто топил котенка в ручье.
Создается впечатление, будто мы ехали в полном молчании. Вовсе нет. Болтун Риети добродушно рассуждал о том о сем — о вздорном убеждении Беа, что она сумеет скрыть от него правду, об истории про поваленное дерево («Замечательно, замечательно, я получил такое большое удовольствие!»), о том, что произойдет с нами, если мы опять позволим себе какой-нибудь просчет, и о чем угодно еще, что взбредало ему в голову. А кроме того — Пруст! Например, когда нам было сообщено, что Риети не более и не менее как живет у Насра в Кенте, и когда он принялся разглагольствовать о радостях жизни в деревне, а не в городе, он провозгласил:
— О, я знаю, что божественный Марсель может выразить это несравненно лучше, чем я. Что же, посмотрим, посмотрим! — Он извлек томик «Содома и Гоморры», открыл его, как казалось, на случайной пожелтелой странице и прочел: —«Затем лучи солнца внезапно уступили место лучам дождя; они расчертили весь горизонт, опутав ряды яблонь своим серым неводом».
— Изумительно, просто изумительно, — вздохнул он, причмокивая губами, как человек, только что съевший персик или яблоко с одной из яблонь Пруста, и предался размышлениям об удивительной уместности этой цитаты. Десять минут спустя, когда мы проезжали мимо стада меланхоличных горных коз, расположившихся по уступам крутого склона, будто хор в старомодно поставленной опере (уподобление, признаюсь, принадлежало Риети, а не мне), вновь был извлечен Пруст, открыт наугад и продекламирован с напыщенной звучностью:
— «Кони сна, как и кони солнца, движутся в атмосфере, не оказывающей никакого сопротивления, так равномерно, что требуется небольшой метеорит вне нас (посланный из лазури каким Неизвестным?)»… «посланный из лазури каким Неизвестным?» — повторил он, покачивая тяжелой головой, словно не в силах поверить уместности и великолепию этого уподобления, — «…чтобы поразить наш обычный сон (у которого иначе не было бы причины оборваться, и он длился бы подобием движения мира, не имеющего конца), понудить его резко обратиться к реальности, двигаться без пауз, пересекать области, граничащие с жизнью»… «пересекать области, граничащие с жизнью»… — Клянусь Богом, сэр, он невероятен! — «чьи звуки спящий вскоре услышит, все еще смутные, но уже слышимые, пусть и искаженными — и внезапно вернется на землю в миг пробуждения».
— Ответьте мне, Лантерн, — спросил он меня после долгой задумчивой паузы, — можно ли выразить это лучше? Я хочу сказать: если бы это было тем, что вы намеревались сказать, могло ли бы это быть сказано лучше? Сэр, я категорически утверждаю, что нет.
— Но, — рискнул я, — какая тут связь? Не вижу никакой связи.
Риети презрительно фыркнул:
— Мой дорогой Лантерн! А вы еще писатель!
— Боюсь, писатель не такого рода, — ответил я.
Но я только напрасно сотряс воздух. С глазами, полными слез, он продолжал:
— «В поисках утраченного времени» — это священное писание и должно читаться именно так — не как книга, но как мир. В эту минуту связь, возможно, ускользнула от вас, но настанет день, клянусь, и она поразит вас столь же внезапно, как… о, как удар молнии! (И вновь у меня возникло ощущение, что под его жилетом скрыто множество самых разнообразных предметов — сковороды, часы с брелоками, компасы, грелки для ног и только Богу известно, что еще, — и все они получают хорошую встряску, стоит ему заколыхаться от смеха.) И тогда вы поймете, что Пруст не минутен, а вечен и бесконечен.
Он замолчал. Откинувшись в глубине сиденья, он даже закрыл глаза. Наверное, решил я, чтобы с большими удобствами поразмыслить о необъятности мистической сущности Пруста. Томик «Содома и Гоморры» лежал открытый у него на коленях бумажной обложкой вверх, точно гигантская «крышечка» над гласной буквой. Вид на дорогу впереди заслоняли от меня остроконечные вихры Малыша. Я ощущал, как сквозь карман черного пальто к моему бедру прижимается пугающая весомость револьвера.
И вот тут я понял, что как-то вызволить нас я могу попытаться именно сейчас. Я средне храбрый и средне трусливый человек, и до сих пор мое соприкосновение с идеей, что чью-то судьбу может решить единственный импульсивный поступок, ограничивалось кинофильмами — причем подобные фильмы никогда меня не привлекали. И все же, поскольку данный момент моей жизни прямо напоминал какой-то эпизод из чьего-то (Хичкока?) фильма, я сказал себе, что инициатива за мной, если только у меня достанет мужества.
Осторожно высвободив левую руку — шевельнуть правой я не рискнул — из узкого пространства между моим бедром и дверцей «роллса», я провел ее поперек моих коленей. Медленно, очень медленно я нащупал широкий мохнатый клапан кармана у меня под боком. Ничего. Ни звука, ни движения со стороны Риети. Я выждал секунд двадцать, потом бережно приподнял клапан и ввел руку в карман. И вновь — ничего. Кончики моих пальцев коснулись ствола револьвера, и я как раз собрался схватить его за рукоятку, когда глаза Риети открылись.
В первое мгновение ничего не произошло. Я не шелохнулся, я даже не попытался отдернуть кисть. Недоуменно, словно нисколько не встревожившись, Риети смотрел вниз на клапан и руку, которая тянулась от него, как электрический кабель. Внезапно, прежде чем я успел как-то среагировать, он ухватил меня за запястье и стал вдавливать ноготь большого пальца в пульсирующий кровеносный сосуд, пока из-под ногтя не брызнула кровь. Я вскрикнул. На мгновение отведя глаза от моего мучителя, я встретился со взглядом Беа. И тут же моя голова взорвалась. Одинокий снеговик начал таять в ритме замедленной съемки, воспаряя вверх, вверх и снова вверх, рассыпая в воздухе снежные искры, прежде чем превратиться в огромный мыльно-белый пузырь беспамятства.
Не знаю, сколько времени я был без сознания. Когда я пришел в себя, то чуть не расплакался, такой острой была боль, разламывавшая затылок. Первое, что я услышал, был голос Риети, но далекий, неясный, словно он говорил в широкий конец рупора. То, что он говорил, было фрагментарным, осколочным — злые раздробленные фразы и полуфразы, не складывающиеся в структуру предложения. Я услышал:
— …величайшая глупость… отнюдь не внушает… чего мне не следовало бы… скажите мне честно, мадам…
Я слышал, как Беа отвечает ему, холодно, металлически, но я не разобрал ни единого слова. Потому что она все еще сидела спиной ко мне и говорила в ветровое стекло. Внутренность машины заполняла смешанная вонь сигарного и сигаретного дыма. Беа обернулась ко мне. Ее глаза были затуманены любовью и страхом. Кое-как я поднял голову к окну. На волнующейся поверхности океана две белопарусные яхточки поднимались и опускались, исчезая из виду, поднимались и снова опускались, с такой нещадностью сокрушаемые пенными валами, что чуть ли не все время они почти лежали боком на воде, будто два змея, которые упали прямо в Атлантический океан. Голоса в машине резали мне уши, и несколько секунд я следил за этими двумя яхточками. И тут я увидел на некотором расстоянии за ними черный скалистый протуберанец, не больше, чем десять на десять ярдов — не столько островок, сколько выступ дна, не поглощенный океаном. Как элемент пейзажа он не представлял ни малейшего интереса, и вполне вероятно, что с шоссе между Сен-Мало и Мон-Сен-Мишель можно увидеть еще много похожих, а то и точно таких же, но я их просто не заметил. Однако пока окно «роллса» было обращено к этому массивному, но сужающемуся кверху силуэту, я осознал, что меня грызет тревожное ощущение какой-то значимости, только в моем оглушенном состоянии я не мог уловить, в чем тут дело. Я смотрел и смотрел на него… но нет, «роллс» уже устремился дальше, увозя с собой таинственную значимость. Когда мы и островок проследовали в противоположные стороны — мы вперед, а он назад, и он исчез из пространства за окном, еще долго сетчатка моих глаз сохраняла его выбеленный силуэт.
Он рассеялся, только когда я услышал, как Риети спросил меня:
— Ну-с, сэр, вы довольны собой?
— Доволен собой? — сказал я, вздрогнув, и тут же был вынужден насупить брови над глазами, в которых потемнело от боли.
— Ваша нелепая храбрость не принесла вам ничего, кроме жутчайшей головной боли, и, следует добавить, слегка затруднила — хотя, заметьте, легким это никогда не было — возможность поверить в то, что вы и мадам рассказывали мне. Пожалуйста, в дальнейшем обходитесь без таких выходок.
Говоря, он поигрывал револьвером, и я понял, что револьвером он меня и оглушил. Потом, спрятав его, он придирчиво подергал пуговицы пальто и смахнул с плеч воображаемую перхоть. После чего выудил «Содом и Гоморру», похоронил себя в лабиринте змеящихся фраз романа, его придаточных предложений, будто пришпиленных к главному булавками, и не произнес более ни единого слова.
Прошло пятнадцать минут. Перед нами разматывалось береговое шоссе. Мы с Беа обменивались взглядами, но молчали. Малыш вел машину, как прежде, но больше уже не испускал никаких «вей-вей-вей-вуум!».
Неожиданно Беа повернулась к нему и почти шепотом спросила, не найдется ли у него лишней сигареты. Я увидел, как покраснела его шея, пока он вытаскивал из кармана черной кожаной куртки расплющенную пачку «Мальборо». Риети поднял было на них любопытствующие глаза, но тут же снова вернулся к чтению. Беа закурила сигарету, выпустила дым и опять более или менее шепотом спросила, сколько ему лет.
— Двадцать два, — сказал он в манере, придавшей ему сходство не столько с американцем, сколько с английским диск-жокеем, который тщится выдать себя за американца. Сняв руку с рулевого колеса, он подергал самый острый из стеблей, торчавших над его черепом.
— Просто Гарбо, — сказала Беа.
— Угу, — пробурчал он с лисьей усмешкой.
— Знаете, — сказала она, — очень жаль, что вы портите себя, изображая панка. Вы красивый мальчик. У вас прекрасные зубы, милая симпатичная улыбка, чудесные — какого они цвета? (она наклонилась вбок, заглядывая в его пылающее лицо) — чудесные карие глаза. Мне бы хотелось увидеть вас таким, какой вы есть под вашим камуфляжем.
Малыш стал совсем багровым. Риети оторвал один глаз от своего Пруста. Наклонив голову, он посмотрел на Беа с некоторым недоумением.
— Как мило, что вы так говорите, мадам Шере, — сказал он в конце концов. — Во всяком случае, в этом вопросе я с вами полностью солидарен. Уже давно моим желанием было облечь мальчика во что-нибудь более приемлемое. Ничего слишком официального, вы понимаете, — никаких блейзеров, теннисных костюмов, ничего с серебряными пуговицами и пряжками. Что-нибудь элегантно-небрежное, вот как я себе это представляю. Он будет восхитителен в спортивной рубашке и джинсах от какого-нибудь кутюрье.
Малыш буркнул достаточно дружелюбно:
— Может, хватит, а?
Позволив своим глазам возвестись к небу, Риети вздохнул.
— Не Эмерсон ли сказал, что никакое духовное блаженство не может сравниться с физическим наслаждением от идеально сидящего костюма?
На это Малыш искоса взглянул на Беа и продемонстрировал нежданное умение подковыривать напыщенность своего начальника, ответив:
— Похоже на него, это точно.
Риети перехватил взгляд искоса, и уголки его губ скривились.
— Мне не понравится, если вы вскружите ему голову, — сказал он Беа. — Ему привычнее получать комплименты только от меня.
— Вы говорите так, словно он хорошо выдрессированный Лабрадор.
— Фи, мадам, фи!
Беа снова обернулась к парню:
— А вы, Малыш? Неужели вам нечего сказать в свою пользу?
— Мне? — переспросил он недоверчиво, словно никто никогда не предлагал ему сказать что-то свое.
— Да, вам. Расскажите нам что-нибудь о себе.
Будь это возможно — но его прическа ничего подобного не допускала, — Малыш, по-моему, поскреб бы у себя в затылке, наподобие батрака в фарсе из крестьянской жизни.
— Я могу рассказать анекдот, — сказал он нерешительно.
— Да, пожалуйста. Давайте послушаем анекдот.
— Мадам Шере, — томно произнес Риети рядом со мной, — очень не рекомендую. Абсолютно. Анекдоты Малыша, как правило, не подходят для смешанного общества.
— К чему такая чопорность? Я наслышалась рискованных анекдотов. Рассказывайте ваш анекдот, Малыш, — сказала она, наклоняясь к нему почти нежно.
— Ну, этот не такой чтоб неприличный.
— Не надо извиняться, — сказала Беа. — Мне нравятся всякие.
— Ну тогда ладно, — сказал Малыш и прокашлялся. — Вот, значит, два лимузина встречаются посреди моста, а он, понимаете, узкий, и не разъехаться. Ну, они останавливаются друг против друга, и оба… оба водителя — как вы там их называете? Шоферы… так оба шофера вылазят из своих лимузинов и идут к середке моста. И первый шофер говорит второму шоферу: «Знаете, старина»… это же в Англии, так? Я сказал, что это в Англии?
— Бога ради, не тяни! — прикрикнул Риети.
— Нет-нет, — сказала Беа. — Вы его так собьете. Продолжайте, Малыш. И не торопитесь.
— Угу, ну, значит, происходит это в Англии. Ладно, значит, первый шофер говорит второму: «Знаешь, старина, извиняюсь, но придется тебе дать задний ход». А второй шофер, значит, поглядел на него и говорит: «Так, значит? А почему же это я должен давать задний ход?» А первый шофер говорит: «А ты знаешь, кто у меня в лимузине?» — «Нет. А кто?» И первый шофер говорит: «Леди Диана, вот кто». Тут, значит, первый шофер… да нет, второй шофер говорит: «Это верно? Леди Диана, да неужели…»
Тут кое-что внезапно помешало продолжению анекдота — огромный автопоезд, который незаметно подобрался к нам, скрытый выступом обрыва, почти вторгнувшегося на шоссе. От Малыша требовалось только взять чуть правее, чтобы избежать столкновения, — маневр, который любой компетентный водитель проделал бы почти машинально, но я услышал, как Риети скрипнул зубами. Однако Малыш не обратил никакого внимания на нарастающее недовольное бурчание у себя за спиной.
— Так вот, — продолжал он, — значит, он говорит: «Так ты просто пойди со мной, любезный», и он ведет этого… ну… первого шофера назад к своему лимузину, и он открывает дверцу, а там внутри сидит королева, ну, королева Англии, ясно? И ну… этот… ну, второй шофер показывает на королеву… которая просто сидит там, понятно, никого не трогает — и он говорит первому шоферу: «А это что, по-твоему? Кусок дерьма?»
Наступила долгая пауза. Хотя глаза малыша по-собачьи умоляли Беа понять соль, секунды две она никак не реагировала. Затем внезапно громко засмеялась, рассыпавшись, на мой слух, довольно вымученными и довольно жестяными «ха-ха-ха», и каждое «ха», казалось, прыгало через ручей по озаренным солнцем камушкам.
Риети смерил ее холодным взглядом:
— Вы меня поражаете, мадам. Я никак не ждал от вас такого отклика на столь низкий, вульгарный, варварский юмор.
— Послушайте, мсье Риети, — сказала Беа со злокозненной улыбкой, — не хотите же вы сказать, будто никогда в свое время не смеялись над каким-нибудь идиотизмом, над чем-то, что рассмешило вас именно своей идиотичностью?
— Нет, никогда. И позвольте заметить вам, мадам, что мое время — теперешнее время.
— Ну а мне это показалось очень смешным, — сказала Беа. — И Малыш прекрасно знал, когда рассказывал, что это полный идиотизм. Ведь верно?
— Э… угу, само собой, — буркнул Малыш с сомнением.
— Ну вот видите, — сказала Беа, обернувшись к Риети. — Вы держите его на слишком коротком поводке. Возможно, у него есть таланты, о которых вы даже не подозреваете.
— Не думаю, мадам. Малыш — милый, бесхитростный мальчик. Когда я с ним, у меня возникает ощущение, будто вся кровь во мне обновилась. И я не желаю, чтобы вы или кто-нибудь еще внушали ему всякие глупости. Вам ясно?
— Уверяю вас, у меня и в мыслях ничего подобного не было. И обещаю больше не внушать ему всякие глупости. Как у вас говорится: умереть мне на этом самом месте?
— Будем надеяться, что без этого обойдется, — сказал Риети, а затем, как и следовало ожидать, добавил: — Пруст, я знаю, как всегда, окажется уместным и безошибочным. — Он полистал томик, прежде чем открыть его окончательно на одной странице и прочесть: — «Ну а что до скульптора Ски, — именуемого так, поскольку им трудно было произносить его польскую фамилию, а к тому же он и сам, начав вращаться в неких сферах, изображал нежелание, чтобы его ассоциировали со вполне респектабельными, но довольно заурядными и многочисленными родственниками, — то он в сорок пять лет и при откровенной безобразности обладал каким-то мальчишеством, взыскующей мечтательностью, плодами того, что до десяти лет он был на редкость обворожительным вундеркиндом, баловнем всех дам».
Риети откинулся на спинку.
— О да! Без прямолинейности, без нарочитости, но тем не менее выражает именно то, что должно выражать. Поразительно, не правда ли?
Беа ничего не сказала. А наоборот, будто не услышав его, продолжала сосредоточиваться исключительно на Малыше.
— Как вы ко всему этому относитесь? — спросила она его. — Как вам нравится, что люди считают вас его маленькой… его маленькой… женушкой?
Прежде чем Малыш успел ответить, вмешался Риети:
— Ну будьте же благоразумны, мадам Шере. Настоятельно рекомендую вам не делать и не говорить ничего такого, о чем вы будете всю жизнь сожалеть… о чем у вас не будет жизни, чтобы сожалеть. — Он наклонился вперед и положил руку на плечо парня. — Малыш, дорогой мой, надеюсь, тебе столь же ясно, как и мне, чего эта язва в женском обличье, эта бесподобная колючка в заднице старается добиться? Самая древняя уловка в самой древней и трухлявейшей из книг. Прошу, будь добр, оправдай мою веру в тебя, не клюнув на эту крайне червивую приманку.
Было что-то трогательное в искренности его мольбы. Малыш, однако, никак на нее не откликнулся, и Риети, предпочитая не усугублять и без того, как он, несомненно, должен был понимать, крайне взрывоопасную ситуацию, снова погрузился в настороженное молчание. Я, тоже молча, сидел рядом с ним, отвернувшись к окну. Моя голова все еще болезненно отзывалась на самое легкое движение.
На продуваемом ветром пляже я увидел пожилого мужчину в куртке на овчине, который, подсучив брюки до колен, шлепал босыми ногами по ледяной отмели. В нескольких шагах от него подросток в джинсах и резиновых сапогах, стоя на песке, развлекался тем, что один за другим пускал рикошетом плоские камешки играть в чехарду с океаном, и каждый, обессилев, погружался в прохладную безмятежность его глубин. А за этой парой — бескрайняя водная даль, и туманные синие узлы, которые она непрерывно завязывала и развязывала, и белесые кряжи пены, которые скручивались и раскручивались на гребнях нескончаемой череды волн, будто бриз перелистывал страницы необъятного корабельного журнала. Это было воплощение чистой природы и нормальности, и оно с сокрушающей силой заставило меня осознать — как будто меня требовалось заставлять! — как далеко я уже оставил позади себя и то, и другое.
Это мгновение миновало, и я вновь стал самим собой. И тут Малыш, держа левую руку на рулевом колесе, повернулся к Беа с обведенной языком ухмылкой:
— Я ничья не маленькая женушка, но буду рад быть вашим маленьким муженечком, если вы, по-вашему, выдержите настоящего мужчину.
Она растерялась, но все-таки улыбнулась. Потом, закурив одну из своих вечных «данхиллок», выпустила тоненькую струйку дыма прямо в ветровое стекло, и дым беззвучно распластался по нему.
— Ну-ну, — сказала она. — Если я в этом судья, а я судья, то вы не из тех, кто тянет время.
Риети побелел. Он наклонился вперед, шаря в кармане. Резким рывком, больно стукнув меня локтем в бок, он нашел то, что искал, и тут же револьвер снова лег к нему на колени.
Малыш тем временем одарил Беа взглядом, который, видимо, считал полным всепобеждающего задора, — взглядом, в котором так или иначе выразилась вся петушиная наглость юной мужской похоти.
— А если я в этом судья, — сказал он, — а я в этом судья, так вы тоже не из тех.
Взгляд Беа, полусмеющийся, полуужаснувшийся, опустился к его коленям, и хотя мне ничего видно не было, я мгновенно понял, что свободной рукой он непристойно поглаживает себя в паху, словно взбивая подушку.
— Значит… значит, у нас с вами есть что-то общее, — сказала она. И прибавила: — Но, знаете, Малыш, интересует меня то, что у нас с вами не общее.
И, дав своему телу наклониться, вторгаясь на его половину переднего сиденья «роллса», она загребла в правую руку весь аппарат его паха и изо всей силы вонзила длинные наманикюренные ногти в нежную мясистость.
Даже прежде, чем он испустил вопль, голая шея Малыша вспыхнула так, будто ее пожирало пламя, напомнив мне в самый первый раз за долгое время пораженный молнией платан. Оторвав и вторую руку от рулевого колеса, чтобы прижать обе к своим агонизирующим принадлежностям, он откинулся назад затылком. Глаза у него были зажмурены, но из-под ресниц брызгали слезы.
Столько всего произошло одновременно! Когда Малыш откинулся, его ноги плотно сжались. Мгновение спустя, с дрожью, от которой напряглось все его тело, они непристойно раздвинулись, и правая нога ударила по рулевому колесу, закрутив его влево. К счастью, встречных машин не оказалось, однако «роллс» вылетел из своего законного ряда на трехрядной полосе и повернул прямо на колючую изгородь и кювет, которые сопровождали нас от Сен-Мало.
С неожиданным присутствием духа Беа молниеносно перегнулась над распростертым Малышом, который баюкал свой истерзанный пах под горестную колыбельную стонов, полуоткрыв глаза, теперь налитые кровью, и повернула брошенное рулевое колесо вправо с такой силой, что нас всех расшвыряло, а «роллс» опять пересек шоссе в сторону обрыва, круто уходившего к океану. Мы с Риети хором вскрикнули. И через пару секунд Беа, было сбросившая руку, вновь ухватила рулевое колесо и принялась крутить его в противоположную сторону, без конца вращая его, и вращая, и вращая, будто пыталась не то открыть, не то закрыть затвор в заржавевшей плотине. Позеленев, Риети сделал худшее из того, что мог сделать. Он поглядел наружу на провал в пространстве и слизисто поблескивающие камни, которые слагались в чешуйчатую черную корку на пляже в сотнях футах под нами, и от шока выпустил револьвер, который скользнул по полу и завертелся у моих ног на своей пьяной оси, будто монета, пущенная кубарем по стойке.
Казалось, Риети сейчас вырвет, и, думаю, так и случилось бы, но тут борьба Беа с рулевым колесом принесла запоздалые плоды.
Будто вагонетка американских горок, которая, к веселому ужасу своих пассажиров, грозит унести их в небо, меняя свое намерение лишь в самый последний момент, так «роллс» дернулся еще раз и начал пьяно петлять назад поперек шоссе. Уже ничто не могло его остановить. Он прорвался сквозь колючую проволоку и с вышибающим дух толчком резко встал на самом краю кювета.
Может быть, потому, что мой организм уже был один раз оглушен и еще не вполне оправился от этого удара, новую встряску я перенес лучше остальных. Риети бросило вперед, и теперь он замер, пергаментно желтый, упершись лбом в спинку сиденья перед собой, а из ноздри у него сочилась струйка крови. Малыша в момент толчка швырнуло назад, а не вперед, хотя, вероятнее, он сообразил вовремя откинуться. Жадно глотая воздух, он вцепился в рулевое колесо обеими руками, но окостенело вытягивал их перед собой. Беа сидела выпрямившись. С ужасом я заметил на ее коленях красное пятно, которое счел кровавым, но оно оказалось пачкой «Данхилла». Вместе с набором неведомых ключей она вылетела из перчаточника.
Я потрогал Беа за плечо. Она вся дрожала.
— Беа, ты ранена?
Она покачала головой, покосилась на Риети, затем на беднягу Малыша, чей день решительно не задался, и сказала:
— Нет… ничего серьезного.
— Ты уверена?
— Да-да. Со мной все хорошо. Поскорее выберемся отсюда, черт дери!
— Куда… куда мы потом? И что нам делать с ними?
— На… их! Это наш единственный шанс. Ты сумеешь открыть свою дверцу?
После десятка тщетных усилий — ручка, как я на нее ни нажимал, только дергалась под моей мокрой ладонью, будто спуск унитаза в чужом доме, который, к вашему вящему смущению, отказывается что-либо смыть, — я все-таки открыл дверцу. Когда я протискивался наружу, мой ботинок зацепил что-то твердое. Револьвер Риети, сообразил я. Правда, в спешке я случайно затолкнул его под сиденье, так что извлечь его было бы непросто и отняло бы время. Однако я вполне мог бы его достать оттуда, и я знал, что стоит мне упомянуть про это Беа, и она потребует, чтобы мы забрали его, сразу обеспечив себе решающее преимущество над Риети. Так почему же я оставил его там? Теперь я понимаю, что финал наших приключений мог бы оказаться… нет, оказался бы совсем иным, если бы я забрал револьвер для Беа и себя. Но (возможно, говорю я себе, меня больше пугала мысль об этом оружии в руках Беа, чем в руках Риети)… но я его не забрал. Оставил лежать под сиденьем.
Мы с ней выбрались из автомобиля одновременно. Ее юбка, заметил я, была в крапинах крови, а подкладка моего внутреннего кармана лопнула, когда мы спикировали, и его содержимое — авторучка, гребешок, записная книжка, под кожаным корешком которой уютно угнездился золотой карандашик, — теперь валялись на полу. Оба мы благополучно спрыгнули в кювет более или менее целые и невредимые. В «роллсе» у нас за спиной Риети и Малыш не шелохнулись. И даже стоны второго затихли.
Я взял Беа за руку, и мы начали взбираться по мшистому, каменистому, удивительно крутому склону, который, как я надеялся, завершался вверху высоко над береговым шоссе зеленым ровным плато. Все еще не оправившись после встряски, мы ушибали пальцы ног о скрытые под растениями камни, загребали промокшими ботинками песок на маленьких обрывчиках и выворачивали гнезда камешков, которые каскадом скатывались вниз. Склон становился все круче: по мере нашего продвижения вверх за уступами возникали другие уступы, а за этими — еще новые уступы, и мне стало ясно, что, наспех оценивая высоту склона с шоссе, я был излишне оптимистичен. Где мы ни оказывались, на сколько ни взбирались, склон впереди выглядел не короче оставшегося позади. И в ту минуту, когда я уже усомнился, что нам вообще удастся достигнуть верхнего края, из куста вдруг, словно выпущенная из клетки, с оглушительным квохтаньем вылетела одинокая цесарка, над нами распахнулось небо, и я понял, что мы выбрались на ровное место.
Отогнув манжету, я взглянул на часы. Половина третьего без одной минуты. Далеко внизу под нами рядом с нелепо перекошенным «роллсом» виднелись Риети и Малыш, который все еще переминался с ноги на ногу и прижимал ладони к паху. Перед нами протянулась узкая рощица — рядов пять-шесть деревьев, — а в десятке ярдов за ними простирался словно бы бесконечный луг, по которому мы могли добраться только Богу известно куда, но, во всяком случае, подальше от наших преследователей. Я молча указал Беа в ту сторону.
Рука об руку, то бегом, то быстрым шагом, мы миновали рощицу. Под ногами у нас хрустели ветки — упругие, и сухие, и ломкие, как косточки. Ветка, которую Беа отогнула и тут же, не подумав, отпустила, хлестнула меня поперек груди. В решетке света и теней древесных вершин у нас над головой первенство оставалось то за светом, то за тенями, и в этой двойной игре невозможно было определить, что служит фоном и чему. В течение нескольких десятков секунд, пока мы пересекали рощу, меня не оставляло ощущение, что множество вездесущих крохотных существ бдительно выжидают в своих убежищах, чтобы тяжеловесные двуногие убрались с их территории.
По ту сторону рощи ограниченная еще одной изгородью из колючей проволоки трава оказалась не только зеленее, но, против всех наших ожиданий, такой же сочной и ровной, как на ухоженном английском газоне. Примерно в ста ярдах серебрилась рябь небольшого пруда, перед которым могучий дуб развертывал в небе свой гигантский зеленый хвост, точно павлин. Сжимая руку Беа, я побежал к его зеленому шатру, где мы могли бы перевести дух, прежде чем продолжить путь.
Мы просидели несколько минут, прислоняясь к стволу, бок о бок, тяжело дыша. Потом я повернулся к ней:
— Беа, я чего-то не понимаю.
— Чего же?
— Почему… ну… почему мы вообще оказались здесь?
Она недоуменно уставилась на меня.
— Почему мы оказались здесь? — Она жестко усмехнулась. — Ну и вопрос!
— Послушай, Риети — сволочь, согласен. Но в конце-то концов он агент… как его там?.. Насра? Он же именно тот, кому ты должна была продать картину, верно?
— Ты знаешь, что да.
— Так почему же мы спасаемся от него бегством?
Беа не ответила.
— Непонятно.
Она молчала.
— Я хочу сказать, было ли необходимо разбивать машину и рисковать нашими жизнями? Могло ведь случиться всякое.
Молчание.
— Ради Христа, скажи хоть что-нибудь!
Она взяла мою руку и аккуратно сжала в своей. Сверху и снизу.
— Гай, или ты уже забыл Риети? Забыл его пистолет? Как он им почти изнасиловал меня? Ударил тебя? А его голос! Если бы я услышала еще хоть слово от этого напыщенного краснобая, я бы… — Ее голос становился все выше, и я ждал, что он вот-вот сорвется.
— Да нет, Беа, конечно, я не забыл, — сказал я. — И все-таки не понимаю, каким образом мы очутились в таком немыслимом положении. Ты хочешь продать Ла Тура, Риети хочет его купить. В чем проблема?
— Проблема? Проблема — Саша. Я не могла допустить, чтобы эти двое бандюг проследили нас до Мон-Сен-Мишель. Ты же видел, что способен вытворять Саша. Так что, по-твоему, он устроил бы, если бы они ворвались к нему в студию?
— Да-да, я знаю, и все-таки для меня тайна…
Фраза зависла недоконченной. Что-то невидимое, но слышимое просвистело мимо нас. Бездумно я повалился на землю, увлекая Беа за собой.
Несколько секунд мы лежали рядом ничком, задыхаясь хором. Затем Беа шепнула мне:
— Гай, что произошло?
— Но ты же не могла не заметить! — сказал я.
— Чего не заметить?
— Да пули же. Ты не могла не заметить. Она пролетела совсем рядом.
— Нет же, нет! Я ничего не заметила.
Несколько секунд мы оставались в полной неподвижности. Затем, укрываясь за стволом дуба, Беа поглядела из-за него в сторону рощицы, обрыва и теперь незримой береговой каймы океана.
— Ни Риети, ни Малыша я не вижу.
— Они прячутся где-то там.
Она вновь села рядом со мной, подтянула колени к подбородку, будто подъемный мост через замковый ров.
— Полагаю, — шепнула она, — этой маленькой демонстрацией они хотят нас запугать. Но поскольку Риети нужен Ла Тур, убить нас они не могут, и он это знает.
Я мысленно выругал себя за то, что так и не забрал револьвер Риети — когда с тем же зловещим приглушенным шелестом еще одна пуля просвистела мимо нас и на этот раз рикошетом отлетела от ствола. Мы оба опять пригнулись. Но когда вновь подняли глаза, то увидели, что эта вторая пуля мирно откатилась и замерла примерно в двадцати футах за круговой тенью дубовой кроны. Да только это была не пуля. Сферическая, белая в ямочках, она больше всего походила на то, чем явно и абсолютно была, — на мяч для гольфа.
Тут нас одновременно осенило. Поле для гольфа. И тут же все расставилось по своим логическим местам: красивый пруд, бархатность травы у нас под ногами и в заключение, именно в эту секунду, словно чтобы рассеять последние сомнения — мои или ее, — безупречно своевременное появление на горизонте трех игроков, катящих сумки с клюшками, вертикальные, будто пылесосы.
Я поднялся на ноги.
— Хорошо, — сказал я Беа. — Если хочешь идти, идем. Но теперь же. Если Риети и не стрелял в нас, это еще не значит, что нам удалось ускользнуть от него.
— А куда мы пойдем?
— Если это поле для гольфа, тут должен быть клуб.
Мы решили поторопиться туда — решение, приобретшее еще большую неотложность из-за внезапного появления Риети и Малыша над верхним краем склона, который мы с Беа одолели несколько минут назад. В убеждении, что в нас стреляют, я глупо потерял единственное наше преимущество перед ними — выигрыш во времени. Вот теперь нам в буквальном смысле слова предстояло бежать, спасая жизнь. И когда мы побежали — рука Беа цеплялась за мою, — то, что прежде представлялось нам сочным девственным лугом, теперь, казалось, было усеяно коварными песчаными пролысинами в дерне и лунками с воткнутыми рядом флажками — на бегу я заметил номер 13 — и даже одетыми в твид игроками, все больше группками из двух-трех человек. Один из них обложил нас каким-то допотопным французским матом за то, что мы промелькнули перед ним как раз тогда, когда, виляя задом, будто кобель, готовящийся влезть на суку, он изготовился для удара. Но то, что услышали мы, не шло ни в какое сравнение с тем, что были вынуждены выслушать наши преследователи, когда тот же игрок, едва мы с Беа скрылись из виду, снова с нетерпением попытался продолжить игру, но был вновь отвлечен Риети с Малышом — весь фарс повторился.
Поле для гольфа, казалось, было удобно пронумеровано для продвижения по нему, поскольку чуть дальше за тринадцатой лункой мы миновали двенадцатую, а затем одиннадцатую, которой завладел квартет из дам в спортивных брючках, — ту, которая собиралась ударить по мячу, так ошеломило наше внезапное появление, что она свирепо опустила клюшку точно на северный полюс мяча, и он упокоился в лунке с безмятежностью яйца всмятку в рюмочке для яиц. Однако затем мы оказались перед пятнадцатой лункой, за которой последовала шестнадцатая. Сменив направление, я потащил Беа к ближайшему пригорку справа от нас, над волнующимся гребнем которого уже заметил голову и плечи одинокого пожилого игрока в песчано-коричневом охотничьем костюме, который, прижав руку козырьком перед глазами, невозмутимо наблюдал за погоней, развертывавшейся внизу. Пока мы вбегали на пригорок, прямо за спиной наблюдателя мало-помалу возникал одноэтажный павильон, построенный в стиле шале, на веранде которого стояли люди обоего пола с бокалами и рюмками в руках, поглядывая на небо, не собирается ли дождь. Безусловно, клуб, о котором я говорил.
Крытая веранда, украшенная в завитушном смутно-швейцарском стиле, тянулась вдоль всего голубого фасада, и на ней из конца в конец по колониальной моде были расставлены десятка полтора плетеных кресел. Ими воспользовались только два члена клуба уже в годах — оба в кашемировых пуловерах, пестрых кашне, чистейших джинсах с острыми складками и замшевых туфлях.
Хотя оба смотрели мимо друг друга, они то и дело перешептывались basso profundo[73], обменивались скорбными покачиваниями головы. Когда мы с Беа приблизились, жадно глотая воздух и в то же время усердно делая вид, будто только что весело покинули автостоянку, которая должна же была находиться при гольф-клубе, тот, у кого кашне было попестрее, посмотрел в нашу сторону. Не трудясь скрыть очевидный — для меня — факт, что он мысленно раздевает Беа, старичок бросил на меня взгляд мягкого, но не укоризненного удивления, и вновь начал слушать своего собеседника, который не переставал шептать ему на ухо.
В павильоне имелся небольшой вестибюль с низким потолком, несколько напоминающий вестибюли джентльменских клубов, с полосатым линолеумом на полу, и сразу же справа от входа — гардероб (он же регистрационная с конторкой). Медная дощечка на конторке извещала: Réception: Mme Ginette Beauvois[74]. Мадам Бовуа сидела за конторкой, но, поскольку ее голова в этот момент была низко склонена, то Беа, миновав конторку, со мной на буксире, бодро поздоровалась с ее аккуратно уложенной мышиного оттенка прической из туго заплетенных кос:
— Привет, Жинетта!
Мы продолжили наш путь, но я не удержался и посмотрел через плечо узнать, как Жинетта восприняла такое приветствие, и успел увидеть, что она, мигая поверх своих бифокальных очков, с недоуменным неодобрением берет, как я предположил, регистрационную книгу клуба и начинает нервно ее листать.
Когда мы вошли в переполненный зал, нам стало ясно, что мы понятия не имеем, каким должен быть наш следующий ход.
— Я возьму нам выпить, — быстро сказал я Беа, — а ты обдумай, что делать дальше.
Беа кивнула и закурила сигарету. Она все еще тяжело дышала после нашей пробежки, и я почти слышал, как колотится ее сердце. Мне хотелось остаться с ней, пока она не придет в себя, но она молча качнула головой, показывая, что с ней все в порядке. И я как раз направился к стойке, когда из благопристойного гула разговоров вокруг вырвался пронзительный английский фальцет:
— Беа? Беа? Да это же Беа Шере! Беа, это я, Верити.
Бодро расталкивая локтями тех, кто не успевал посторониться, и волоча за собой краснолицего мужчину (левой ладонью он старался оградить джин с тоником, который держал в правой руке, позвякивая кубиками льда за запотевшим стеклом бокала), к нам приблизилась какая-то дама. А вернее сказать, приблизилась колоссальная всеобъемлющая улыбка. Улыбка до того колоссальная, что она выглядела шире женского лица, на котором возникла.
Дама обволокла Беа липким объятием. Ее спутник и я стояли, оглядывая друг друга с вежливыми, ничего не говорящими улыбками, пока женщины обнимались с той чертовой неуверенностью, которая знакома всякому, кто должен был поцеловать француза или француженку: кто целует кого, и какая щека будет первой, и сколько раз: один, два, три, а то даже — левая щека, правая щека, левая щека, правая щека — все четыре? Затем Беа и краснолицый мужчина поцеловались в свою очередь — всего раз — чмок по касательной.
При взгляде через полный людьми зал я дал этой даме, этой Верити, чуть меньше сорока или чуть больше. Ее бойкость и грудастость вызывали из подсознания эпитет «вульгарная», хотя я тут же его отверг как слишком безжалостный. Однако, по мере того как она пролагала путь к нам, каждый шаг словно старил ее на три-четыре года. А когда она остановилась прямо перед нами (оказавшись из тех, кто старается встать как можно ближе к собеседнику, вынуждая его пятиться) и ее лицо превратилось в маску абсолютной косметической привлекательности, а также обращенного на меня любопытства, стало ясно, что ей никак не меньше пятидесяти и что она таки вульгарна, хотя и обладает некоторой привлекательностью. Под ее лбом гнездились два маленьких бегающих глаза, точно две пуговицы в бархате, и в их уголках поверх белоснежности цвета ее лица проглядывали предательские следы птичьих лапок. Впрочем, она сохранила фигуру и вполне красивые ноги, а свой щегольской костюм цвета лососины носила очень и очень элегантно.
Мужчина (ее муж, решил я) был одет в синюю куртку с меховым воротником. Молния была задернута только до половины, открывая полосатый галстук, несомненно, провозглашавший, что его владелец окончил какую-то старинную школу, хотя я не мог определить, какую именно. Подбородок под пышными усами остро благоухал кремом после бритья. И он принудил для героической службы, далеко превосходившей их нормальные обязанности, малочисленные, слишком малочисленные горизонтальные прядки седых волос, прикрыть то, что иначе было бы широкой плешью на его темени.
— Моя дорогая, — сказала Верити, обращаясь к Беа, но продолжая есть глазами меня, — кто бы подумал, что мы встретимся здесь! Разве вы не говорили мне, что от гольфа у вас сводит скулы?
— Да, сводит, — сказала Беа, негромко добавив: — Это длинная история, Верити.
— Еще бы! — со смаком подхватила Верити. — Как все самые интересные.
Она принялась подчеркнуто оглядываться по сторонам.
— А Жан-Марк с вами? Я что-то его не вижу.
— Да, он в Англии. Деловая поездка, как обычно.
— Так-так… — Это было сказано почти оскорбительно, но при данных обстоятельствах у нас не было ни времени, ни сил возмутиться.
— Ну? — продолжала Верити, не моргнув и глазом.
— Что — ну?
— Вы не собираетесь нас познакомить?
— Ах да, конечно, извините меня, — сказала Беа. — Гай, я хочу познакомить вас с двумя моими дорогими друзьями, Верити и Оливером Нетт. Оливер — Гай Лантерн.
Наши непрошеные друзья оказались ушедшей на покой английской супружеской парой, которая, проживая в Борнемуте, каждый второй месяц отправлялась в автомобильную экскурсию по Нормандии и Бретани, чтобы проматывать солидную пенсию Оливера на гольфе, рулетке и гурметской еде. Беа была знакома с ними потому, что Оливер, который, как мне дали понять, был немалой величиной в Сити, не то брокером, не то консультантом, однажды купил у Жан-Марка картину — пейзаж школы Коро кисти художника, чью фамилию я не разобрал. Затем выяснилось — подозреваю, отнюдь не к обоюдному удовольствию, — что у Шере есть вилла в Сен-Мало, городе, который Нетты навещают с «энного года», как выразилась Верити, а потому возникла близкая дружба, рожденная из случайных совпадений, как многие и многие другие.
Когда Беа представила нас друг другу, Верити разразилась визгливым громким смехом, который звучал притворно, хотя, вполне возможно, был искренним.
— Лантерн[75]! Какая восхитительно оригинальная фамилия! Полагаю, настоящая? Но что она значит? Что вы происходите из старинного рода фонарщиков? Возможно, хотя, признаюсь, я никогда не слышала о таком ремесле. Хотя кому-кому говорить, как не мне!
Поскольку до меня не дошло, что она подразумевала, я ограничился невнятным бурканьем.
— Учитывая мое собственное имя, — подсказала она с ободрительным кивком.
— Извините?
— Верити Нэтт!
На секунду мне показалось, что она говорит загадками, но затем я уловил соль и послушно засмеялся:
— Ну конечно же — «верите, нет?»! Какой источник затруднений для вас!
Она засмеялась в свою очередь.
— Но, с другой стороны, вы видите, какой это удобный ледоруб. — И опять, заметив мое недоумение, пояснила: — Чтобы разбивать лед неловкости? Для завязывания разговора? — Я улыбнулся, а она добавила с грустью: — Как ни странно, казалось бы, здесь должен быть источник всяких смешных недоразумений, но почему-то никогда и ничего!
Мы, остальные, выбрали этот момент, чтобы рассматривать свою обувь, пока, снова повеселев, Верити не осведомилась:
— Как давно вы знакомы с Беа? — И прежде чем я успел ответить, она обернулась к Беа, лукаво грозя пальцем. — И долго ли вы намерены прятать этого молодого человека для себя?
— Мы с Гаем познакомились недавно. Собственно, это удивительная история. Жан-Марк ехал…
— О, так Жан-Марк знаком с Гаем?
— Ну, разумеется, знаком, — сухо ответила Беа. — Что творится у вас в голове, Верити?
— У меня в голове? — повторила Верити, раскрывая глаза настолько широко, насколько были способны эти два замухрышки. — Да ровно ничего, Беа. Ровнехонько ничего, вы же меня знаете.
— Ну я вам скажу! — сказал Оливер.
Это было так на него не похоже — до этого момента ему настолько очевидно сказать было нечего, — что Верити, Беа и я сразу обернулись к нему.
— Ну, я вам скажу! — повторил он ворчливо. — Нет, вы только посмотрите. Что, во имя всего святого, это такое? И что за черт там происходит, хотел бы я знать!
Пальцами, все еще сомкнутыми на бокале с джином, он указал на вход, где разгоралась громовая словесная перепалка. Поскольку узкий просвет, который на миг показал ему кого-то или что-то — кого-то или что-то, причину скандала — уже замкнулся, нам, остальным, не удалось сразу понять, кем или чем объяснялось происходившее, так как лишь те, кто находился совсем рядом, теперь замолчавшие и переминающиеся от неловкости, могли следить за словесным состязанием на повышенных нотах. До нас же на периферии доносились только отзвуки. Однако в конце концов все мы одновременно увидели над подпрыгивающим заслоном голов многоцветные вихры в наборе. Со своим шефом или без него, но Малыш сюда явился.
Торопливо предложив всем выпить, Беа потащила Верити к стойке — нежно под ручку, — а нам с Оливером, хотели мы того или нет, досталась роль мужской половины ресторанной встречи двух пар. Я заметил, что бедняга Оливер не сумел скрыть тень уныния, набежавшую на его кирпично-красное лицо, хотя, увидев, что я ее увидел, он тут же заменил ее стандартным, пригодным на все случаи, сиянием клубного мужского добродушия.
— Как ни стыдно это признать, — сказал он, пока мы пролагали себе путь в дальний угол зала, — но, насколько мне удалось услышать, судя по его акценту, этот непотребный юный кусок мяса — англичанин. Каким образом он тут очутился, как по-вашему?
— Понятия не имею, — ответил я.
Истощив эту тему разговора, он затем спросил:
— Значит, вы играете в гольф?
Все еще стараясь понять, что происходит у двери, я ответил машинально:
— Да, конечно.
— Неужели? — Он словно бы искренне обрадовался, будто ожидал, что я отвечу «нет». — Какая удача! Где вы играете?
— На поле для гольфа.
Я сразу понял, что ответ был неверным.
— Ах вот как? — сказал он наконец. — А ваш гандикап?
— Мой гандикап? — Я притворился, будто взвешиваю его вопрос. Затем, думая совсем о другом, промямлил: — Два.
— Два? Я не ослышался? Два? — Он уставился на меня. — Боже великий, так это же… Ну-ну, только подумать! Два. — И он закрутил кончик уса с такой силой, что я испугался, как бы он не завязал его узлом.
(Между прочим, я действительно играл в гольф, хотя и много лет назад, подростком. Мой отец был чем-то вроде местного чемпиона — то есть Хаслмира и его окрестностей. И как-то раз, от нечего делать отправившись с ним на один из турниров и увидев, как он положил мяч в лунку с одного удара — естественно, случайно: мяч целую вечность покачивался на краю, прежде чем шлепнуться вниз, — я загорелся таким энтузиазмом при мысли о существовании спорта, в котором, я внушил себе, чудеса не только возможны, но и неизбежны, что вопреки всем моим антиатлетическим инстинктам, тут же решил немедленно заняться им. Однако в гольфе, как и в шахматах, не существует удачи новичка. Почти все мое время на поле я проводил, угрюмо размахивая клюшкой среди кустиков в надежде, что ее отполированная твердая головка наконец-то достанет хотя бы один из моих потерянных мячей. И всего через два месяца и после всего двух полных партий на восемнадцать лунок, гольф и я расстались навсегда без сожаления с обеих сторон. Если я упоминаю здесь об этом, то лишь в доказательство, что я достаточно разбираюсь в тонкостях гольфа, чтобы понимать, насколько на любом поле два — поразительно маленький гандикап для всего лишь скромного любителя, каким я выглядел. Но было уже поздно взять мое утверждение назад.)
Тем временем мы дошли до стойки и заказали ликер для Верити, виски для всех остальных. Мы стояли там, сжатые со всех сторон, оберегая наши стопки от акробатических вывертов соседних плеч и локтей, пытаясь расслышать друг друга сквозь общий шум. Хотя Верити продолжала монополизировать разговор, до меня доходили лишь обрывки: мои мысли были заняты тем, что Малыша еще не выставили из клуба. Пусть его вихры и исчезли из виду, но бурлящие звуки в другом конце зала все еще были много громче, чем при обычном положении вещей.
Когда минуты через две я обернулся к нашей маленькой компании, разговор перешел на фильм, который Нэтты недавно видели по телевизору — не то польская, не то чешская, не то русская драма о холокосте.
— Я уверена, это часть трилогии, — говорила Верити, — но как же она называется? — И было видно, насколько она напрягает свой мозг, чтобы вспомнить название — даже уперла палец в густо напудренный лоб жестом, традиционно выражающим напряженную мозговую деятельность. — «Дорога»… «Дорога»… Оливер, ну как называется этот фильм?
— Какой фильм, любовь моя? — сказал Оливер, пребывавший в сотне миль оттуда.
— Ну тот, который мы видели у Деборы. Ты же знаешь. Про библиотекаря в очках, которого отправили в концентрационный лагерь.
— А… э… «Дорога в никуда».
— Ну вот! — сказала Верити, повернувшись к Беа. — Я знала, что это «Дорога» куда-то там. Дорогая моя, невыразимая трагедия. Да еще в сочельник, — добавила она загадочно.
И она принялась пересказывать Беа словно бы весь сюжет фильма — слова «свиньи», и «вагоны для скота», и «дер коммандант или как он там назывался» кружили в воздухе вокруг нас, и вдруг она запнулась на полуслове.
Теперь к нашей маленькой компании королевской глиссадой, плавной, как зависание вертолета, приближался Риети. Он изящно проложил себе путь среди ближайших к нам людей и остановился перед нами с легчайшей улыбкой на губах. Красноватая припухлость у него под носом осталась единственным зримым напоминанием о встряске в «роллсе». Он благосклонно кивнул нам, улыбаясь, непрерывно улыбаясь.
— Мои дорогие милые люди, — сказал он, обращаясь к нам в своей обычной многословной манере, скользя глазами по нашим лицам. — Глубочайшие извинения за мое вторжение в вашу праздничную встречу, но мне необходимо обменяться парой словечек с мадам Шере. Я предпочел бы поговорить с ней с глазу на глаз и даже отправил моего Малыша, дабы известить ее об этом. К несчастью, надутые бюрократы этого заведения выдворили его прежде, чем он успел исполнить порученное ему.
Верити, которая явно не теряла времени, если появлялась возможность услышать что-либо пикантное, уже оправилась от секундного замешательства и, казалось, на этот раз не ощутила необходимости представляться друг другу.
— Малыш? — переспросила она лукаво. — Так, значит, мальчик, чьи… чьи волосы мы видели, ваш сын?
— Нет, мадам, — сказал он и добавил: — Мне кажется, я не имею чести быть вам знакомым. Мое имя Риети.
— Верити Нэтт.
— Должен признаться вам, миссис Нэтт, — сказал он (и, как предвидела Верити, сочетание ее имени и фамилии ни на секунду не ввели его в заблуждение), — должен признаться вам, я один из прирожденных холостяков. И все же, — добавил он, — и холостяку свойственен сильнейший отцовский инстинкт. Только, не имея собственных сыновей, я предпочитаю иметь сыновей других людей, если вы меня понимаете.
Если Риети подразумевал то, что он, по-моему, подразумевал, серьезно сомневаюсь, что Верити это уловила, так как она только подхватила с энтузиазмом:
— Ах да-да, разумеется. Я отлично понимаю, о чем вы говорите.
Тем временем Риети повернулся к бармену и сказал:
— Вы не будете так любезны? Виски, пожалуйста.
— Со льдом? — осведомился тот, выхватывая стопку откуда-то из-под себя.
— Если он у вас имеется, — сказал Риети тоном, который мог быть (или не быть) издевательским, но, во всяком случае, заставил бармена резко поднять голову.
— И чем вы занимаетесь, мистер Риенци? — спросила Верити.
— Риети, мадам, Риети.
— Ну, разумеется, Риети. Но чем вы занимаетесь? Как зарабатываете на жизнь, хочу я сказать? Или вы так богаты, что зарабатывать вам не требуется?
— Увы, нет. Хотя мой жребий лишь на ступень ниже — друг богатых. Некоего мистера Насра, чтобы поконкретнее. Разумеется, вы про него слышали? Нет? Ливанский джентльмен — индустриалист, как, полагаю, вы бы его назвали. Но он даже более известен как коллекционер предметов искусства.
— Ага! — сказала Верити, многозначительно глядя на Беа. — Начинаю улавливать связь. Он живет во Франции, ваш мистер Наср?
— Нет, нет, отнюдь нет. В Кенте. Очаровательный старинный дом.
— Полагаю, он очень богат?
— Так богат, мадам, — мечтательно сказал Риети, — что платит другим людям, чтобы они крутили пальцами за него.
— Платит другим людям, чтобы они крутили его пальцами! Как восхитительно! — вскричала Верити. — И вы говорите, он живет в Кенте? А где именно в Кенте его дом? У меня есть друзья в Ашфорде… французы, — добавила она исключительно ради Беа, словно этот факт должен был придать им большую цену в ее глазах, — Лансоннер, вы, конечно, их помните. (Беа покачала головой.) Ну, во всяком случае, они живут в Ашфорде… то есть под Ашфордом. А это Кент. Может быть (это уже адресовалось Риети), вы с ними встречались?
— Нет, мадам, — ответил он, — не встречался. В настоящее время я ни с кем не встречаюсь. Дом моего мистера Насра находится в нигде. За городом. Но вот и все, что можно сказать о нем. И в этом его очарование для Насра — и для меня тоже, могу я прибавить. Благодарю вас (последнее адресовалось бармену, который подал ему виски).
— Но разве вы не принимаете гостей? Избранное общество?
— Нет, мадам. Мое единственное общество — Пруст. И его более чем достаточно. Думаю, вы с этим согласитесь.
Верити неуверенно кивнула, а на обеих ее щеках вспыхнуло по красному пятнышку. Затем она поступила так, как, без сомнения, поступала всегда, если утрачивала нить разговора. Переменила тему.
— Полагаю, вы регулярно посещаете Лондон?
— Очень нерегулярно. Настолько нерегулярно, насколько это в человеческих силах. Но и тогда исключительно по делам. Вы видите перед собой отшельника, добровольного пустынника.
— Но неужели вы не скучаете по жизни в мире? Неужели вы не скучаете без ресторанов, театров, магазинов?
Я уловил в лице Риети не слишком тайное ликование и понял, что, подобно клоуну, в чью давно расставленную ловушку наконец чудом угодил настырный зритель, он уже держал про запас великолепный ответ в ожидании такой вот ниспосланной Богом replique[76].
— Для меня, миссис Нэтт, — сказал он, — мир подобен Нью-Йорку. Город, где приятно побывать, но жить там мне не хотелось бы.
— Нет, это сверхвосхитительно! — воскликнула Верити с жестяным визгом. — Беа, моя дорогая, он истинная находка! Ну, как, как вам это удается?
И тут, без сомнения, поздравляя себя с весомым вкладом в успех нашего маленького собрания — если не обронив сама (что не было ее сильной стороной), так вдохновив на перл, поставивший точку в разговоре, она, по-видимому, разрешила себе помолчать, предоставляя случай блеснуть кому-нибудь из нас.
Молчание в конце концов прервал Оливер.
— Вы же играете в гольф? — спросил он у Риети.
— Гольф? — повторил Риети, осторожно отхлебывая виски и пристально глядя на Беа над краем стопки. — Но, разумеется, нет.
— Мы могли бы сыграть вчетвером, — продолжал Оливер без осечки. — Клюшки, знаете ли, можно взять напрокат. За очень небольшую сумму.
— Я пришел сюда не играть в гольф, — сказал Риети, словно только дебил был способен предположить, что человек вроде него мог оказаться рядом с полем для гольфа ради игры. — Как я сказал, мне хотелось бы поговорить с мадам Шере, если бы она могла мне уделить немного времени. И такое совпадение! Беседа наша касается именно мистера Насра. N'est-ce pas, madame?[77]
Беа стояла спокойно, позвякивая двумя-тремя полурастаявшими ледяными кубиками, еще оставшимися в ее почти пустой стопке, — кубиками, написавшими в остатки виски, которое теперь приобрело неаппетитный оттенок мочи. Затем, взглянув на окно до потолка напротив нас, окно, впускающее рассеченный солнечный луч, который одевал ореолом затылки тех, кто стоял ближе к нему, Беа сказала:
— Но у нас же сколько угодно времени для разговора! По-моему, партия в гольф — это чудесная идея. Гай, вы и я против Верити и Оливера, а? Послушайте, Риети, почему бы вам не присоединиться? Немного свежего воздуха — вот в чем вы нуждаетесь.
— Я нуждаюсь, мадам Шере… — начал он, но, видимо, почувствовал, что при таком повороте разговора пока ничего добиться нельзя, и начал заново: — Я нуждаюсь в чашечке кофе. Освежившись, я буду счастлив присоединиться к вам в той прогулке, которую вы готовите для нас. При условии, конечно, что она завершится нашим tete-à-tete[78].
— Обещаю вам, Риети, наш tete-à-tete.
— Ну так, — спросил он у Верити, — можно в этом клубе получить чашечку кофе?
— Да, разумеется, конечно, как вы сами видите. — Она указала на длинный стол, установленный на козлах под окном, где председательствовала пожилая дама, к цветастому платью которой была пришпилена табличка с ее именем.
На туго накрахмаленной скатерти перед ней стоял высокий серебряный кофейник со свитой из трех рядов простых белых фарфоровых кружек.
— Но я должна предупредить вас, мсье Риети, — продолжала Верити, — что кофе тут чуточку безвкусный. Видите ли, он тут как бы на конвейере.
— Я пью кофе не ради его вкуса, милая дама. Это мой бензин, мой газолин.
— Ах да! — сказала Верити с блаженной улыбкой. — Так, так верно!
И поскольку к этому манифестику единомыслия прибавить было нечего, мы все направились к белому накрахмаленному столу.
Когда за кофе было уплачено — под нажимом жены Оливер взял на себя эту миссию, — мы тесной группой направились в контору клуба, где мы с Беа взяли напрокат пару сумок с довольно-таки подержанными клюшками.
У первой лунки и у второй игра шла совершенно предсказуемо. Оливер, игрок, далеко превосходивший всех нас, бил так прямо, словно мяч был стрелой, выпущенной из лука. Не смазав ни одного короткого удара и не восхитив нас непристойно длинным метким ударом, он прошел две лунки очень приличными девятью ударами. Верити была не столь методичной, но зато более склонной к риску, и компенсировала многочисленные грубые промахи по первой лунке тремя точными ударами у второй. Беа играла очень необычно. Она безмятежно устанавливала мяч на метке, вытаскивала из сумки клюшку, почти не глядя, не проверяя, та ли это, которая ей требуется, бросала небрежный взгляд вдаль, взмахивала клюшкой дуговым движением кисти и била по мячу так, словно хотела немедленно убрать с глаз долой какую-то дрянь. Мяч взлетал высоко вверх и исчезал в пустоте — а затем внезапно… да-да, вот же он! — вкатывался на пригорок, который полого уходил к лунке, хотя ни разу не достигнул вершины. Что до меня, то я и выглядел, и ощущал себя в каждом дюйме новичком, которым и предстал во всей наготе. В первую же минуту только по тому, как он посмотрел на мою руку, неуклюже и неправильно сжимавшую клюшку, я заключил, что Оливер не замедлил счесть мой необдуманно присвоенный гандикап в два просто глупой шуткой или пустым бахвальством.
Возможно, я показал бы себя несколько лучше, если бы не прикидывал мысленно, какой выход можно теперь же найти из нашего положения — и можно ли. Риети, диссонирующая фигура на поле в черном шелковом пальто, тенью следовал за мной и Беа, куда бы нам ни приходилось идти, по овражкам и косогорам, если требовалось. Или, точно овчарка, он направлялся к месту, равноудаленному от нее и от меня, едва прихоти игры вынуждали нас с ней расходиться в разные стороны. А когда в очередной раз я занимался извлечением мяча из зарослей крапивы и посмотрел вверх, то обнаружил абсолютно не заслоненного узловатым стволом Малыша, тешившего себя мыслью, что он следит за мной невидимкой.
Наконец, у третьей лунки дело сдвинулось с места. Когда мы только вышли на поле, Оливер щедро делился со мной своим опытом старожила. «Осторожнее с коварным подходом к двенадцатой…» — предостерегал он меня. Или: «Думаю, семнадцатая вас развлечет…» Затем, как я уже упомянул, двух моих дилетантских ударов в никуда оказалось достаточно, чтобы он перестал вежливо притворяться, будто играет с равным себе, с кем-то, кто понимает, о чем он говорит. И без всякой обиды, более или менее храня молчание, он примирился с тем, что будет соревноваться не с Беа и со мной, а с собственными наилучшими достижениями в прошлом. И у третьей лунки он без единого слова, будто был на поле в полном одиночестве, ударил чуть косо, мяч попал под ветер и был снесен влево. Однако, подчиняясь обычной средней удаче Оливера, приземлился в не слишком недоступном месте. Настала моя очередь. Я расставил ноги над мячом, трусливо жмущимся к метке, потом под взглядом Риети, пытающегося раскурить сигару на ветру, и обеих женщин — Беа думала о своем, а Верити обмахнула щеки пуховкой и убрала ее в пудреницу со щелчком, таким громким и резким, что он сбил бы мой прицел, будь что сбивать, — я размахнулся клюшкой во всю меру своих сил и возможностей, зная и не глядя, что треск, раздавшийся при их контакте, треск, который ощущаешь внутри, ломая руку или ногу, ничего хорошего полету мяча не сулит. И да, подхваченный игривыми пальцами ветра, он свернул вбок, ударился о землю, покатился, один раз высоко и стремительно подпрыгнул и исчез в рощице, там, где поле подходило всего ближе к обрыву.
Всего ближе к обрыву… а под обрывом, внезапно сообразил я, были береговое шоссе и океан. Оливер неторопливо направился к следующей лунке. Верити, чья была очередь бить, не смотрела ни на Беа, ни на меня, а стояла, расставив ноги над меткой, поглядывая то на перспективу перед собой, то вниз на мяч. Риети все еще боролся с упрямой сигарой, которая, не успев раскуриться, тут же гасла.
Теперь или никогда, сказал я себе. Такого случая может больше не представиться. Сердце у меня забилось с жуткой быстротой, и я приготовился воспользоваться случаем, тем, который сам Случай, казалось, даровал мне именно этим броском костей в человеческом обличье.
Я покосился на Беа и шепнул настолько громко, насколько посмел:
— Беа! Беа!
Она обернулась. Я энергично закивал в сторону рощицы.
— Беги, Беа, беги! — прошептал я в надежде, что она меня услышит, а Риети — нет.
Она меня услышала. Сначала естественным шагом, а потом все убыстряя его, мы с ней, держась раздельно, направились к рощице. Назад ни она, ни я не оглядывались, но позади нас не раздалось никаких звуков, которые указали бы, что Риети заметил, как мы на цыпочках удаляемся со сцены. Только через двадцать–тридцать секунд Верити, наконец ударившая по мячу, закричала:
— Беа! Беа, куда вы?
Зная, что при звуке ее голоса Риети, безусловно, тоже оторвал глаза от своей отсыревшей шутихи-сигары, мы, конечно, откровенно припустили бегом.
Уже не так ясно я услышал, как Верити произнесла тоном оскорбленной терпимости:
— Мистер Риети, я ни в коем случае не хочу показаться нетактичной, но совершенно очевидно, что между вами и…
Остальное унес ветер. Мы с Беа устремились к обрыву, чей край, точно конец света, манил нас в каких-то двухстах шагах впереди, и я все-таки оглянулся узнать, что происходит. Риети уже тоже бежал, а Малыш, перестав маскироваться, ринулся ему вдогонку с дальней стороны поля. Только Оливер, уже в одиночестве прошагавший половину пути по бархатной сочной траве, оставался обаятельно глух и слеп ко всему, что происходило вокруг него.
Нам потребовалась пара минут, чтобы добраться до изгороди из колючей проволоки, сквозь которую мы пролезли какой-то час назад. Теперь у нас не было времени для осторожничания, и мы сразу нырнули в нее. Я пропихнул Беа, даже не раздвинув проволоки. А когда протискивался сам, последний сильный рывок оставил лоскут моего пиджака на зловредном клубочке шипов, которые, казалось, вцепились в меня с особенной злостью. В десятке шагов от нас дикая коза следила за нами с легким благодушным интересом, мерно двигая жующими челюстями.
Не раз во время нашего спуска я готовился к тому, что мы с Беа сорвемся с кручи головой вниз, когда неожиданно под подошвами оказывался скользкий, размокший после последнего дождя коварный уступчик. Или когда наши ноги запутывались в цепком бурьяне. Или когда наши носки ударялись о скользкую выпуклость спрятавшегося подо мхом камня с тем же пугающим глухим звуком, который слышишь, когда ступаешь на призрачную сверхпоследнюю ступеньку неосвещенной лестницы. Мы спускались сломя голову, не разбирая дороги, то по песчаной тропке в анархическом буйстве зарослей репейника и одуванчиков, а то — уже ближе к подножию — по ровному откосу, который соблазнил нас на стремительный рывок, затормозить который мы уже не могли. И вот на этом последнем отрезке, практически совсем у цели, мы и упали, одновременно споткнувшись о черный восьмиугольный камень, покрытый лишайниками и глубоко ушедший в землю. И пусть это было просто падение мальчишки, завершающееся всего лишь исцарапанными коленками и ушибленными локтями, я на одну паническую долю секунды зажмурил глаза и перенесся в миг другой катастрофы, к другому падению, и опять увидел арку деревьев, снеговика на лугу и осколки лица Урсулы.
Поднявшись, мы одновременно оглянулись. Чуть ниже верха обрыва Риети и Малыш спускались по косому гребню, ведущему вниз. Риети держался за одну из цепей панковской сбруи Малыша, а Малыш бережно помогал ему шаг за шагом, двигаясь по уступу чуть ниже Риети, чтобы поймать его в объятия, точно отец маленького сыночка.
Затем внезапно они перестали двигаться. По какой-то причине Риети не упал в раздвинутые руки Малыша, но остался стоять на, как мне представилось, небольшой, заскорузлой от грязи площадке. Он смотрел на нас, глядящих вверх на него. Хотя на таком расстоянии я почти не различал его лица — как и он наши лица, — тем не менее наши глаза умудрились встретиться через всю протяженность обрыва. В секундном параличе — хотя «роллс» теперь был в нескольких шагах от нас — ни Беа, ни я не шелохнулись. Тут Риети вытянул правую руку под прямым углом к телу, и я с интересом заметил, что он прижимает пальцами к ладони какой-то объемистый черный предмет вроде радиотелефона. И пока я вглядывался, стараясь понять, что это может быть такое, последовала вспышка, и меня в плечо поразила молния.
Я лишился сознания — хотя не более чем на несколько секунд, так как, очнувшись, обнаружил, что все еще держусь на ногах, хотя и пошатываюсь, а Риети ни на йоту не изменил позиции. Но мое плечо успело стать омерзительно липким, а змеящийся ручеек того, что могло быть только моей кровью, заполнял чашу моей подмышки. Пепельно-бледная Беа вцепилась мне в локоть, и я услышал, как она повторяет что-то вроде: «Господи, Господи, Господи, ты ранен!»
И я услышал себя: «Пустяк, пустяк, кость не задета». Слова получались густыми и слипшимися, потому что моя верхняя губа не двигалась, точно ее заморозили. Хотя я знал, что лучше этого не делать, но не удержался и сунул палец в дырку, которую пуля пробила в моей куртке. Боль была такой жуткой, что у меня заслезились глаза, но при всей моей неопытности в подобных делах я сумел сразу определить, что вязкая мясная кашица, которую я ощутил под рубашкой, была не более чем неглубокой бороздкой.
— Гай, ты можешь идти? — с тревогой спросила Беа.
— Да… да, конечно, могу, — сказал я. — Боль чудовищная. Но я убежден, что рана поверхностная.
— Тогда обопрись на мою руку. Быстрее — нам надо выбраться отсюда.
С гигантским усилием, отчаянно припадая на ногу в наивной попытке увернуться от пуль, которые Риети еще мог прятать в рукаве своего револьвера (но, видимо, их не осталось ни одной), я кое-как сумел добрести до машины. И после нескольких хриплых прокашливаний и отхаркиваний — накрененный «роллс» судорожно прочищал глотку — мы уехали.
Теперь нам оставался последний участок шоссе — по моей прикидке, не больше двадцати минут до Мон-Сен-Мишель. Поскольку найти врача по дороге никаких шансов не было и поскольку Беа к тому же была против того, чтобы я отвечал на скользкие вопросы до тех пор, пока она не вернет картину, мы решили следовать прежнему плану. Тем временем она достала последнюю сигарету из пачки в перчаточнике, разгладила ее морщинки между большим и указательным пальцами и после долгой и глубокой затяжки отдала ее мне. Меня не оставляло ощущение, что она все время прибавляет скорость — во всяком случае, мы ехали много быстрее, чем раньше. Однако спидометр говорил другое.
Кровь как будто запеклась, но плечо сильно болело, а голова еще сильнее. И того хуже: головная боль уже не была разлитой, но мучительно сосредоточилась в одной точке прямо над правой бровью очагом нестерпимой мигрени.
И вот когда во мне проснулось подозрение, что у меня жар, я поглядел на берег, простирающийся вдаль впереди нас. В паре сотен ярдов пешеходная дорожка, сопровождавшая нас практически на всем протяжении нашего пути, отделяя береговое шоссе от гряды зубчатых черных камней, свернула на еще более узкую, а та через еще несколько сот ярдов внезапно протянулась поперек складчатой поверхности океана, наподобие мола. В дальнем конце этой дорожки виднелась странная, будто обрубленная, колонна или башня, очертаниями абсолютно схожая с эрецированным пенисом. На обращенной к нам стороне были два узких окна-амбразуры — одно почти под самой крышей, конической, как шляпа китайского кули, второе у самой земли. Оно находилось так низко, что я усомнился, окно ли это вообще, так как обитателям башни, кем бы они ни были, пришлось бы становиться на четвереньки, если бы им вздумалось выглянуть из него. И как со мной уже раза два случалось — хотя у меня не было ни времени, ни ясности мысли вспоминать, где или когда, — мной овладело ощущение, будто каким-то образом я уже видел все это прежде, что мне смутно знакома эта кладка из кубических камней, эта угрюмая фаллическая тутошность. Башня не была мне неизвестна, но не была и знакома. Впечатление слагалось такое, будто самая ее незнакомость и вызывала ощущение знакомости.
Потом она скрылась из виду. Я долго колебался, прежде чем поделиться с Беа этим моим ощущением, так как не хотел придавать лишней значимости тому, что вполне могло оказаться всего лишь бредовым порождением всех моих разнообразных и по-прежнему вибрирующе активных болей. Так что я промедлил, пока она совсем не исчезла из поля зрения, а тогда начал было:
— Беа, мне…
Но опоздал. Мы уже расстались с береговым шоссе и оставили океан позади. Его нигде не было видно. Мы проезжали одну из тех безжизненных деревень северной Франции, не отличимых друг от дружки в той же мере, что и бесчисленные городки, усеивающие глушь внутренних областей Соединенных Штатов. Пока мы катили по ее сонной сквозной улице, я заметил пустое кафе, которое могло быть открыто или закрыто равно при общем к этому безразличии, а затем магазин, чья душная устаревшая витрина предлагала ворох давно не модных детских платьиц, мотки цветной шерсти, фарфоровые безделушки, дешевые пластмассовые игрушки, не способные прельстить ни единого ребенка, а затем наспех сварганенный супермаркет, чье само по себе варварское название Franglais[79] усугублялось совершенно излишним «s» после апострофа, которое терзало мое периферическое зрение, будто соринка в уголке глаза. Не считая трех припаркованных автомобилей, шоссе в деревне и за ней было свободно от машин. А когда мы проехали еще около мили, Беа внезапно сказала мне:
— Смотри, Гай! Смотри!
Впереди на горизонте появился Мон-Сен-Мишель, вставая из моря, как лирично выразился мой путеводитель — «подобно ответу на молитву». Я видел десятки снимков Мон-Сен-Мишель. Я знал его контуры не хуже, чем контуры баптистской церкви в конце моей улицы. И все же это одна из тех достопримечательностей, которые, сколь безнадежно ни были бы они заезжены, тем не менее, когда ты оказываешься там, перед ними, разделяя, как говорится, их пространство, все равно способны изумить и поразить. Самый факт, что ты там, что ты видишь их собственными глазами, — вот источник этого изумления. Не то, что они там находятся, но что там находишься ты.
За Мон-Сен-Мишель не было ничего — ничего, кроме пустоты, ничем не расписанного задника, мерцающего безгоризонтного зияния, которое выдавало закулисное присутствие океана, неслышимого и невидимого. Вот почему, пока мы приближались к ней, Гора Святого Михаила, казалось, поднималась не из моря, а из земли, из самой почвы Франции. И ее вид, пока мы ехали через сельские пейзажи, такие приглаженные, и зеленые, и геометричные, что они больше походили на топографическую карту местности, чем на саму местность, напомнил подаренную мне в детстве открытку с танкером, скользящим по Суэцкому каналу и искусно снятым под таким углом, что возникала полная иллюзия, будто танкер пролагает себе дорогу через пыльные желтые поля ржи. Шоссе перед нами было относительно прямым с плоскими протяжениями равнины по сторонам, и пока мы приближались к дамбе, ведущей туда, и колоссальное сооружение все больше нависало над нами — от парящих шаров на его шпилях до архангела с крыльями летучей мыши, венчающего самый высокий шпиль, — мы утратили всякое внутреннее понятие о расстояниях и пространстве.
И только когда мы уже ехали по дамбе, я обнаружил менее монолитный Мон-Сен-Мишель. С близкого расстояния он превратился просто в памятник старины, туристическую приманку, подобную любой другой на нашей планете, с той лишь разницей, что туристы тут — возможно, те же самые, с кем я уже встречался два дня назад в Сен-Мало, — казалось, были пойманы в нескончаемую петлю регрессии. Сквозь ветровое стекло «роллса» я видел, как они поднимаются по крутым улочкам и лестницам острова вверх, вверх, вверх к аббатству, и тем не менее неизменно, таинственно они оказывались на том же самом ярусе, с которого начинали подъем, описав полный круг или полную спираль, точно смешные человечки в одной из фантазий Эшера, в его круговертях, опровергающих законы логики.
Я обернулся к Беа:
— Ты сказала, что у Саши тут есть студия. Но неужели на Мон-Сен-Мишель кто-то живет?
— Ну да. Правда, жителей тут не так уж много: кажется, полтораста. Их называют не то микелотами, не то монтуазцами — как-то так. Саша унаследовал студию от отца, который прожил в ней отшельником всю свою жизнь.
— Странное место для отшельнической жизни, ты не находишь? Один из самых знаменитых архитектурных памятников в мире?
— Ты не знаешь Мон-Сен-Мишель. Не могу объяснить, Гай, как и почему, но это место каким-то образом и открытое, и очень, очень потаенное. Сам увидишь.
Минуту спустя дамба осталась позади, и мы прибыли на автостоянку, где симметричными рядами стояли десятки машин. Наступил тот двуликий и квазиосенний момент, когда одинокий красный диск в нечетком небе мог быть либо поздно заходящим солнцем, либо преждевременно восходящей луной, и большинство посетителей Горы уже потоком возвращались на стоянку через высокие гранитные ворота в ее наружной стене — единственному входу и выходу. Туда мы с Беа и направились уже пешком.
Мы оказались в мощенном булыжником дворике, через вторые ворота прошли во второй дворик, а затем третьи ворота вывели нас на крутую извилистую главную улицу Горы. Беа быстро зашагала вверх по этой улице между домами, которые так покривились от времени и обветшания, что казалось, высовывались из собственных окон. Сувенирные лавочки и пиццерии, и опять сувенирные лавочки, но кроме того, пока мы поднимались, я увидел слева «La Mère Poularde» и вспомнил про Риети и Малыша. Мы шли вверх, и аббатство, на мгновение исчезнув из виду, внезапно возникало вновь, выпрямляясь в свой полный рост, и графитно-серая черепица самого верхнего его шпиля была выбелена угасающим сиянием солнца.
Вместо того чтобы свернуть на теперь освещенную фонарями лестницу, ведущую к базилике, вместо того чтобы присоединиться к запоздавшим посетителям, еще устремляющимся вверх, и пересекать дорогу куда более многочисленным туристам, поспешающим вниз — которым, сказал бы я, их паломничество не дало ровным счетом ничего, — Беа свернула мимо прямоугольника чахлой травы в вонючий проулок, до того тесный, до того клаустрофобный, что наши плечи терлись о стены в буквальном смысле слова. Из него, уже в полном одиночестве, мы вышли на крохотную средневековую площадь, где господствовало изящно обветшалое здание, над входом в которое с равномерным тихим поскрипыванием покачивался уличный фонарь восемнадцатого века. Тут Беа остановилась.
— Студия Саши на верхнем этаже этого дома, — сказала она мне спокойным голосом. — И вот что, Гай. Я, конечно, знаю, что ты будешь против, но мне надо поговорить с ним наедине.
— Ничего не выйдет, — ответил я. — Мы добрались сюда вместе, а теперь ты говоришь мне, что намерена одна разобраться с самым опасным, с кульминацией. Об этом не может быть и речи. Мы пойдем туда вместе или вообще не пойдем.
— Будь же разумен! Наедине я сумею с ним поладить. Ты забыл, что вся проблема — в тебе. Если ты настоишь на том, чтобы пойти со мной, только Богу известно, что произойдет. И с нами, и с картиной.
— Тогда объясни, для чего я вообще здесь?
— Это было твое решение, Гай, не мое. Да, ты мне будешь нужен, но не сию минуту, не сразу. Мне нужно войти в его студию, но это получится, только если ты останешься тут, внизу.
Я пробормотал несколько стандартных возражений, но я уже достаточно хорошо ее узнал и понимал, что, раз она приняла решение, отговорить ее невозможно.
Она нажала кнопку в стене, и входная дверь распахнулась. Из темного коридора, в который я заглянул, когда она проскользнула внутрь, на меня пахнуло неопределенным, хотя, вероятно, кошачьим, но в любом случае трущобным ароматом. Беа прошла по коридору, свернула вправо и исчезла. Я напряженно слушал, как она поднимается по короткому маршу деревянной лестницы. Поскрипывающее крещендо ее шагов на первой площадке сменилось глухим постукиванием по каменным плитам — ровно четыре шага. Потом она снова начала подниматься, но глуше, а когда она поднялась на второй этаж, все звуки замерли. Наступила абсолютная тишина. Примерно минуту я пытался заставить себя ждать на улице, поставив ступню так, чтобы дверь не закрылась. Потом, не в силах ни секунды дольше выдерживать напряжение, я вошел, и дверь за мной захлопнулась. Коридор был сырым от кошачьей мочи, а его стены могли похвастать всеми пятнами и разводами заброшенности. Посмотрев вверх со дна первого этажа, я заметил в самом верху лестничного колодца нервно дрожащую тень, почти достигшую третьей площадки. Я сумел различить один — последний — шаг, а потом шуршание, будто кто-то набирал полные легкие воздуха перед необратимым поступком. И снова тишина. Потом шепотный стук.
Ничего. Стук стал громче. Скрипнула дверная ручка, за которую дернули. Я услышал, как она поворачивалась в одну сторону, потом — хотя Беа должна была понимать, насколько это бесполезно, — в другую. Но нигде, открываясь, не скрипнула ни одна дверь.
Я услышал голос Беа:
— Саша? Саша?
Тишина.
— Саша!
Снова тишина, если не считать негромкого непрерывного стука.
— Sacha, c'est moi. C'est Béatrice. Laisse-moi rentrer, s'il te plait. S'il te plait.[80]
Мне приходилось все больше и больше напрягать слух, чтобы расслышать слова.
— S'il te plait, chéri. Je sais bien que tu es la. Alors, ouvre-moi. Il faut qu'on se parle.[81]
Внезапно я услышал, как из-за запертой двери студии — и с таким бешенством, что я ощутил силу его ярости даже снизу, — Саша закричал:
— Aaaaah, fous-moi le camps! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes, je te dis![82]
Я почти увидел щеку Беа, прижатую к двери.
— Veux-tu ouvrir la porte? Rien n'a changé, rien. C'est toujours nous deux, toi et moi, ensemble, comme je t'ai promis — pour toujours. Tout ce que je t'ai toujours promis. S'il te plait.[83]
Защелкали опасливо отпирающиеся замки. Я представил себе узенькую щелку приоткрывшейся двери, позволяющую Саше убедиться, что Беа на площадке одна. Я представил себе, как их взгляды встретились. А затем, когда я услышал громкую возню, я представил себе, как Беа, не желая рисковать, толкает дверь вперед, чтобы войти, а Саша пытается закрыть дверь, и они оба то сваливаются в студию, то вываливаются из нее на площадку.
Настал момент вмешаться мне. Не ожидая, чтобы Беа позвала на помощь, я взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки — беспорядочный скрип гнилого дерева у меня под ногами выдавал мое приближение вернее всяких выкриков, что я, нуждается ли она в помощи или нет, сейчас ее выручу. На грязной площадке четвертого этажа Беа и Саша кричали друг на друга. На нем был длинный пуловер, весь в мазках красок, и изношенные теннисные брюки, отвороты которых были дважды, трижды закатаны кверху, открывая ноги, волосатые, как у шимпанзе. Увидев меня через плечо Беа, он крикнул:
— Vous! Bien sur. J'aurai du deviner. Eh bien, non! Je dis non, non et non! Vous ne l'aurez jamais, vous deux — jamais! Je préfère le bruler![84]
Вне себя от бешенства, он швырнул Беа на перила, такие ветхие, что я уже почти увидел, как она падает вниз головой в лестничный колодец. Тут он рванулся ко мне, скрипя зубами, размахивая кулаками во всех направлениях, обрушивая на мою голову дробь непонятно бессильных ударов. Захваченный врасплох, я сначала принял оборонительную позу, защищая раненое плечо от этих двух его кулаков, которые бредовым крупным планом замахивались на меня волосатыми костяшками пальцев всякий раз, стоило мне приоткрыть глаза. Я обнаружил, что ослепляю себя собственными ладонями. Однако мало-помалу я совладал со своими рефлексами. И даже начал брать верх, не просто отбивая его тычки, но и отвечая на них. Я наносил пробные удары по его животу, потом по впалой груди, потом, уже увереннее, по его подбородку. Оттесняемый шаг за невольным шагом в студию, упираясь ногами, он ударился пяткой об узкую полосу металла, знаменующую порог, на несколько секунд завис под нелепо острым углом, но выпрямился. Потом со стремительностью и ловкостью безумца извернулся, подскочил к большому комоду красного дерева, придвинутому к стене возле штабеля пожелтелых журналов, со сверхчеловеческим усилием дернул на себя верхний ящик и вытащил черный пистолетик. Когда он прицелился в меня, я прыгнул вперед и без единой мысли боднул его в горло. И угодил прямо по торчащей шишке его кадыка, и услышал, как что-то щелкнуло о мой череп, словно вишневая косточка. С омерзительным булькающим стоном Саша уставился на меня, злоба сползла с его лица, ноги подкосились, и он начал падать. Инстинктивно я нагнулся поддержать его, но мое затекшее плечо мне не подчинилось, и я только беспомощно смотрел, как, зацепившись босым пальцем ноги за невидимую неровность в бесковерном полу, он повернулся вбок и, падая, сильно ударился головой о скошенный край комода. Все было кончено. Он сполз на пол и остался лежать без сознания. Его ноги вытянулись вперед, как у куклы в уборной чревовещателя; его голова (тоже как у куклы) упала на грудь грязного пуловера, пистолет заскользил по полу и уперся в журнальный штабель.
Я закрыл за собой дверь и оглядел комнату. Студия Саши была ни маленькой, ни большой, а квадратностью напоминала ящик. Мебель практически отсутствовала. Единственным источником света была свисавшая с потолка лампочка без абажура. Дверь в прихожую оставалась несколько минут открытой, и лампочка мерно покачивалась на своем шнуре, перемещая пятно холодного света с Беа на меня и назад через ничем не примечательный простенок, на мгновение оказывая ему краткое и незаслуженное внимание. Над комодом торчало бра с дешевым абажуром в виде полушария из пластмассы. Кроме комода, на котором стоял канделябр в форме четырехстебельчатого цветка (все четыре лепестка одной из розовых тюльпанных его чашечек были обломаны), имелись еще стул с плетеным сиденьем — того примитивного типа, который писал Ван Гог (под ним была аккуратно поставлена пара черных ботинок для города) — и мольберт на треноге. Стены в мазках красок заметно лупились, а щели между половицами, на которых распростерлось тело Саши, были в траурных полосках грязи, как и ногти на его босых ногах.
Я смотрел на все это, и у меня начало покалывать кожу на голове. Мой лоб был мокр от пота, а ладони казались выбеленными.
— Гай, ты знаешь, что ты бледен как смерть? — сказала Беа. — Плечо?
— Нет.
— Саша?
— Нет… не знаю…
— Не мучь себя, ты же защищался. Я все видела. Ты не собирался причинить ему вред.
— Нет, нет, нет. Это… это совсем другое.
— Тогда — что? Ну, что с тобой?
— Говорю же: не знаю. То есть это ведь невозможно… и все же…
— Все же — что?
— Ну, просто… Просто у меня такое ощущение, будто я уже бывал здесь раньше. Здесь, в этой комнате.
Наступило молчание. Беа впилась в меня глазами, но, казалось, не знала, что сказать.
Наконец, погасив лампочку над головой и включив бра, она негромко пробормотала:
— Да, ты прав.
— То есть как?
— Это действительно невозможно.
Я все еще стоял, как окаменелый, обыстуканенный. Беа снова заговорила:
— Нам нельзя терять времени. Надо найти картину и убраться отсюда до того, как он… — она посмотрела вниз на бедного Сашу, — до того, как он придет в себя.
— Ты знаешь, где она?
— Свернутая, в нижнем ящике комода. Он всегда прятал ее там. Ты не откроешь?
Я подергал ящик.
— Он заперт, — сказал я тупо.
Она покачала головой в притворном недоумении.
— Запереть ящик в квартире, где он живет один! — Она принялась хлопать по многочисленным карманам своего костюма, словно обыскивая себя. — Слава богу, я решила, что будет разумно заказать собственный ключ.
Беа стояла перед комодом сбоку от канделябра. Ни одна из тюльпанных чашечек не горела, но теперь горело бра над ним, отбрасывая свет куда более яркий, чем можно было бы ожидать от такого худосочного светильника, на нижнюю половину лица Беа. Я стоял рядом с ней, ожидая, когда она даст мне ключ от ящика комода. Между нами в стене за бра было единственное окно комнаты, не мытое уже много месяцев. Впрочем, за ним все равно было видно только темное, затянутое тучами небо с красной каемкой. За пределами рамы разбивались невидимые волны.
Беа вытащила из кармана жакета маленький кошелечек или футляр из какого-то коричневого меха.
— Вот он. Попробуй отпереть нижний ящик. Я убеждена, что холст там.
Она правой рукой протянула мне кошелечек или футляр.
По его форме, размерам и асимметричным выпуклостям и без слов Беа было ясно, что внутри лежит ключ.
Я замер.
Внезапно все стало понятно.
— «La Clé de Vair» — подделка!
Я не дал Беа возможности ответить мне, а вынул ключ из кошелечка — самый обыкновенный латунный ключ, — подошел к комоду, отпер нижний ящик, выдвинул его и увидел свернутый рулоном холст, как и предсказала Беа. Я вынул его (не могу сказать, что в эти минуты делала Беа, так как от ужаса не решался взглянуть в ее сторону), подошел к мольберту и закрепил на нем картину. И уставился на нее. Она была зеркальным отражением — только спроецированным в прошлое на триста лет, — точной нашей с Беа позы чуть раньше. Обернувшись к Беа, я нейтральным тоном, который только-только не позволял моему возбуждению вырваться наружу, изложил ей правду, которую узнал только сейчас.
— «La Clé de Vair» — подделка. Картина не была написана Жоржем де Ла Туром. Она не была написана в семнадцатом веке. Она была написана здесь и не так уж давно. Комната на картине — эта комната. Свет на картине… — Я указал на мягко выписанный луч света на полотне, такой типичный для произведений Ла Тура, — …это свет вот этой лампы… — и я указал на бра. — Остров, обрамленный окном… — я указал на единственную деталь, которую не сумел толком разглядеть на черно-белой репродукции тогда на вилле и которая на картине оказалась окном, — …это остров, который я видел, когда мы ехали по береговому шоссе. Башня… — я снова указал на полотно, — …это та башня, которую я заметил перед тем, как мы свернули с берегового шоссе. А женщина на картине… ты эта женщина, ты! Ты позировала художнику, ведь так?
Беа не ответила.
— А это, — я покачал перед ней невзрачной металлической трубочкой, — это ключ. La Clé de La Tour[85].
He было никаких признаков, что Беа воспринимает мои слова. Однако теперь это не имело значения, поскольку я был неколебимо убежден в их верности. Но я твердо решил, что первым не заговорю, и пока мы стояли лицом к лицу, мой взгляд обратился на закрытую дверь в глубине комнаты. Мы продолжали молчать, и я пошел открыть эту дверь. Она вела в студию Саши. Освещаемая широким полукруглым окном, охватывающим океан и небо, разделенные вдали лунно-пятнистым горизонтом, эта вторая комната вообще обходилась без мебели. В центре стоял еще один, тоже пустой, мольберт, но меня привлек штабель холстов у стены за ним. Даже с такого расстояния было понятно, что верхнее из них было явно рассчитано на то, чтобы сразу бросаться в глаза. Частично заслоненный тремя тонкими ножками мольберта (две задние вызывающе раздвинуты, как у Генриха VIII) гигантский синий кочан цветной капусты господствовал над ночным огородом под желтой, исполненной угрозы, луной. По-своему это был достаточно поражающий образ и одновременно жалкое пресное клише — с таким жутким старанием были выписаны извилины и выпуклости кочана в вязких аквамариновых тонах.
Я встал на колени рядом с холстами и под перестук толстых деревянных подрамников перебирал их, точно банковский кассир — пачку старых стофунтовых банкнот. Их оказалось шесть, и все были написаны кем-то одним, кем-то с очень приличной техникой, но, как мне сразу стало ясно, рабски безнадежно обязанным Дали безобразно-маслянистой текстурой своих картин, а Маргитту их содержанием — вернее, набором мишурных вычуров и избитостей изношенного до дыр сюрреализма, с помощью которых художник тщетно пытался замаскировать полное отсутствие истинного, личного содержания. Пять, скрытые под цветной капустой, включали поясной портрет пожилого мужчины в цилиндре, чье лицо было замаскировано куском яичницы; револьвер, палящий по горлицам; двугорбое животное с головами по обоим концам туловища с милым неологизмом «палиндромадер» внизу; картина распятия, собственный холст которой был пригвожден к кресту, и фальшиво выписанная кровь сочилась из трех дырок под тремя гвоздями; и потусторонний небесный пейзаж: пушистая гряда облаков, которые при ближайшем рассмотрении оказались профилями четырех президентов с Маунт-Рашмор.
Я вернул холсты на место и еще минуту-другую оставался на коленях. Затем мои глаза снова — и на этот раз уже более осознанно — скользнули по комнате в поисках дальнейших подтверждений, и я заметил десятка два набросков углем, которые вкривь и вкось были пришпилены к стене в другом углу.
Я пошел туда, чтобы рассмотреть их. Некоторые были портретами а-ля Модильяни, другие — искусными заимствованиями у Матисса, Сутина и Боннара. Еще имелось что-то вроде не слишком уверенного и преждевременно оставленного покушения на композицию «Трех граций» в манере Энгра — три модных, взявшихся за руки ню с едва набросанными, но явно одинаковыми лицами и фигурами. Ну а остальные рисунки, составлявшие больше половины общего числа, все были эскизами, вплоть до деталей одежды той эпохи, женской фигуры «La Clé de Vair». И не могло быть ни малейшего сомнения, что каждая женщина — Модильяни, Матисса, Сутина и Боннара, все три голые тройняшки Энгра, а также (что стало для меня до крика очевидным) и Ла Тура — была Беа.
Я вернулся в первую комнату. Беа стояла в той же позе. Она, казалось, ждала, чтобы я задал ей еще раз тот же вопрос. Но была ее очередь говорить, и в конце концов она нарушила свое молчание.
— Да, ты прав, — сказала она, не моргнув и глазом. — Это подделка.
— Так почему ты не расскажешь мне подробнее?
Она взглянула на меня, точно проверяя, действительно ли я хочу узнать правду, и что-то — или тень чего-то — быстро скользнуло по ее лицу, что-то грубое, и жестокое, и расчетливое, — никогда раньше я не видел у нее такого выражения.
— Ее написал — я знаю, ты и сам догадался — Саша. Саша художник… то есть он был художником, прежде чем стал партнером Жан-Марка. Ему ни разу не удалось добиться успеха, ни разу, никогда. Полагаю, ты посмотрел его работы, так что мне незачем объяснять почему. Он обладает редкими способностями, но то, что он пишет — а это все, что он может, — безнадежно устарело. Хуже того, его картины всегда напоминают чьи-то еще — Дали, или Макса Эрнста, или Магритта. — Она обвела взглядом грязную, нестерпимо гнетущую комнату, где мы стояли, — по сути, монашескую келью. — Боги сыграли с Сашей на редкость бессердечную штуку. Они дали ему руки гения, но словно чьи-то чужие, как в фильмах ужасов. В нем нет ни искры индивидуальности или оригинальности. Он умеет писать, но понятия не имеет, что писать или, точнее, зачем вообще писать. А самое ужасное, что он лучше кого бы то ни было знает, как тривиален и бесполезен его талант. Он словно слепорожденный, который внезапно обнаруживает, что способен вообразить, способен представить себе, что значит видеть.
Как бы то ни было, он начал писать меня в разных стилях, главным образом современной Ecole de Paris[86]. Приходится признать, — она сухо усмехнулась, — они наиболее просты. Началось это всего лишь как наша безобидная игра. А может быть, для него это служило средством дать выход желанию, которое он ко мне испытывал. Его способ ухаживать за мной. И, правду сказать, мне это льстило. Потом, примерно два года назад — причем, по-моему, он даже не понял, чего достиг, — он просто великолепно нарисовал меня в стиле Ла Тура. Я была потрясена. Я подбодряла его, и он продолжал работать и работать над этим рисунком до тех пор, пока, могу поклясться, никто бы не сумел отличить его от оригинала — только, разумеется, никакого оригинала вообще не было. От Жоржа де Ла Тура не осталось ни единого рисунка.
Я знала, что вряд ли сумею долго терпеть мою жизнь с Жан-Марком, но уйти от него, не обеспечив прежде свое будущее, я не собиралась. Вот так, сначала смеха ради, мы с Сашей сочинили план. Он напишет картину Жоржа де Ла Тура, и мы продадим ее какому-нибудь клиенту Жан-Марка. Причем нам долго и в голову не приходило, что кто-то из нас может думать об этом всерьез.
— Жан-Марк был посвящен в ваш план?
— Конечно, нет. Но хотя он и не имел к этому никакого отношения, его положение в мире искусства служило наилучшей гарантией подлинности картины.
— А почему именно Наср?
— Он полный невежда вообще, а в искусстве в частности, хотя денег у него больше, чем он способен их истратить. Годы и годы, должна сказать тебе, Жан-Марк всучивал Насру всякую дрянь по завышенной цене — либо второсортные произведения второстепенных художников, либо третьесортные произведения ведущих художников. Только Богу известно, сколько раз он его надувал. Мы просто намеревались сделать еще один логический шаг в этом направлении.
— Но кое-что мне непонятно, — сказал я. — Ведь именно эту картину, то есть ее репродукцию, я видел в книге на вилле. Эту комнату. Твое лицо.
— Книгу Саша написал только для того, чтобы придать достоверность существованию такой картины.
— Как?!
— Позволь сказать тебе, Гай, что написать книгу было пустяком в сравнении с тем, чтобы написать картину. Саша действительно знаток французской школы семнадцатого века. — Она опять усмехнулась. — Во всем этом деле подлинна только его репутация.
— Написать книгу…
— Почему тебя удивляет, что мы пошли на это? Подумай, что было поставлено на карту. На то, чтобы написать «La Clé de Vair», у Саши ушло почти два года. Нам требовалось подыскать краски, холст и прочие материалы, соответствующие эпохе Ла Тура. Я часами, днями просиживала в библиотеках, изучая истории костюмов. Одна-единственная ошибка в одежде погубила бы все. Поверь мне, книга в сравнении с остальным — ничто.
— И она была опубликована?
— Напечатана частным образом в Бельгии. Ну, хоть это было весело. Мы придумали фамилию издателя, написали аннотации, сочинили международный стандартный номер для книги. Никогда его не забуду! Ноль, дефис, четыреста тридцать шесть, двести четыре, двести девяносто.
— А Жан-Марк?
— Жан-Марк?
— Он знал о существовании книги?
— Он думал, что ее издали в Англии. В Кембридже. И был вне себя от ревности, когда я отвезла экземпляр к Насру в тот единственный раз, когда он взял меня в Кент. Видишь ли, книга должна была уже находиться в библиотеке Насра, когда мы начали бы зондировать его насчет покупки картины, и все прошло как по маслу… пока это дерево, мать его, не угодило под молнию.
— Так вот почему ты не могла допустить Риети в эту комнату!
— Если бы Риети увидел то, что сейчас увидел ты, если бы он встретился с Сашей…
— О Господи!
Я отчаянно старался понять, что именно чувствовал в эти минуты. Я знал, что по-прежнему хочу быть с ней, по-прежнему на ее стороне, рядом с ней, и не могу отрицать, что ее рассказ вызвал у меня пьянящее возбуждение, которое знает всякий, кому довелось услышать волнующе плохую новость. Но ведь это и была плохая новость, несомненно плохая новость, и обернуться она могла только кризисом, катастрофой, если не смертью. Было необходимо спасти Беа от нее самой, от Саши, от непредсказуемых последствий их folie a deux[87] — но прежде чем я успел выразить хотя бы часть того, что чувствовал, она уже подошла ко мне и обняла меня за шею.
— Не забывай, что ты сказал, Гай, — прошептала она, словно опасаясь, что Саша ее услышит. — Ты обещал, что никогда не будешь судить меня. Ну, я хочу, чтобы ты сдержал это обещание. Я не позволю судить себя. Я сделала то, что должна была сделать, а это, собственно, и есть жизнь.
— И чья же это теория жизни?
— Ничего не изменилось, — сказала она, и я вспомнил, как она употребила это же самое выражение — rien n'a changé, — когда улещивала Сашу открыть ей дверь. — Ну и что, если «La Clé de Vair» подделка? Это деталь. И уж конечно, не причина не продавать ее Насру. Для него никакой разницы нет. Говорю же тебе, люди вроде него не способны заметить разницу.
Да, ответил я быстро, обращая против нее ее собственный довод: действительно, ничего не изменилось, и это нас спасет. Ведь пока никакое реальное преступление еще не совершено. «La Clé de Vair» можно уничтожить, а деньги, уже переведенные на счет Беа, вернуть Насру. Крайне неприятная перспектива, сопряженная с риском физической расправы над нами обоими. Нам остается надеяться — но с достаточными на то основаниями, — что Наср предпочтет не компрометировать свое положение иностранца в Англии и готов будет удовлетвориться опытом, который почерпнет из этого мерзкого дела. И мы с Беа сможем быть вместе, избавившись от вечного страха расплаты.
— Что помешает нам быть счастливыми?
Беа медленно сняла руки с моей шеи и посмотрела вниз на длинное тощее тело Саши. Потом опустилась на колени рядом с ним и прижала ухо к его груди. Несколько секунд прислушивалась, а взгляд у нее был напряженным и смутным, потом подняла его правую руку, которую, падая, он откинул в сторону в жесте детской невинности и полноты жизни. Беа подержала эту руку, будто взвешивая, и уронила. Рука ударилась об пол с тошнотворным стуком. Я сглотнул. Я чувствовал, как внутри меня что-то, пенясь, поднимается из живота в горло, угрожая задушить. Беа подняла на меня глаза и без малейшего намека на какое бы то ни было чувство произнесла слова, которые я уже от нее ждал:
— Саша умер.
Мне почудилось, что я теряю сознание. Зажмурился, и адский фейерверк беззвучно вспыхнул под пещерными сводами моих век. Я открыл их. Беа все еще стояла на коленях рядом с трупом Саши.
— Ты лжешь, — сказал я.
— Он умер. Сердце не бьется, а его пульс… Пощупай сам. Наверное, он разбил череп, когда упал.
Она было приподняла его голову, поддерживая затылок, но тут же снова уронила. К ее ладони прилипла полузасохшая кровь цвета яблочной карамели. Беа показала мне ладонь.
— Вот теперь совершено реальное преступление. Нам нет хода назад, ни тебе, ни мне.
Я должен был что-то сделать, сказать что-то — сейчас же.
— Ты с ума сошла. Ты же видела, что произошло. Это была самозащита, несчастный случай.
— Вроде несчастного случая, который убил твою жену?
Я откинулся, словно получил пулю в сердце. Гнусная жидкость, поднимавшаяся из моих внутренностей, теперь вторглась в горло. Я старался сохранять ясность мысли. Поймал себя на том, что жду — жду, чтобы Беа сказала что-нибудь, что сразу стерло бы пятно, хотя и знал, что оно — нестираемо. Я поймал себя на мысли, что, быть может, в языке есть какой-то еще никогда не использованный резерв, конфигурация существительных, глаголов и прилагательных, которые в некой необходимой комбинации могли бы каким-то образом загладить роковой удар.
Если такая конфигурация и существовала, от Беа она ускользнула.
— Милый Гай, — сказала она прагматично спокойным голосом, будто мой ужас был всего лишь запоздалым сознанием опасного положения, в котором я очутился, — нравится не нравится, но кто-то должен это сказать вслух. Полиция рано или поздно начнет копаться в наших делах и разузнает о нас все, что сумеет, и случившееся с тобой и Урсулой не может не всплыть. Не берусь судить, к каким выводам они придут, какую связь попробуют установить, но могу вообразить. Даже если они примут версию событий, а она ведь включает и твою встречу с Жан-Марком, обмен машинами, удар молнии… удар молнии, Гай! Сам подумай, поверил бы ты этой истории на их месте? Для тебя это будет конец. Мы вынуждены продолжать. К тому же, — добавила она задумчиво, — смерть Саши — это, пожалуй, нежданная удача. Он ведь был единственным, кто мог бы нас выдать.
— Как ты можешь говорить о нем так? Он же был твоим любовником.
— Саша для меня никогда ничего не значил. Я же говорила тебе, что он был просто удобным средством.
— А такая его смерть просто небольшое неудобство?
— Бога ради, Гай, не поддавайся слабости теперь, когда мы уже почти у цели, теперь, когда нас всего трое.
— Нас трое?
От ее улыбки меня пробрала дрожь.
— Только ты, я и деньги. Мы сможем поехать, куда захотим, делать то, что захотим, — и так часто, как захотим. — Внезапно ее голос снова изменился. — Но, послушай, если мы не начнем действовать сейчас же, все это окажется напрасным.
— Ты сумасшедшая.
— Нет, я не сумасшедшая. Я просто стараюсь сохранять голову на плечах. До тех пор, пока никто не заподозрит, что мы были здесь, нам нечего опасаться. Саша вел жизнь затворника. На острове его никто не знает, и его труп обнаружат не через день и не через два. Ну, хорошо, когда полиция его найдет, будет задано много вопросов, они поразнюхивают, и не исключено, что положение вещей им не понравится. Но к тому времени мы с тобой будем уже так далеко, в какой-нибудь другой стране, и если нас все-таки когда-нибудь выследят, у них не будет никаких доказательств, что он умер не так, как будем утверждать мы. Он споткнулся, упал и разбил голову об острый угол комода. Просто еще один нелепый несчастный случай.
Мной овладело новое странное оцепенение, и я обнаружил, что могу смотреть на нее без малейшего волнения.
— Мое будущее меня больше не заботит, — сказал я наконец, — но я не могу позволить, чтобы ты поступила так. Все будет кончено сейчас и здесь.
Я в свою очередь встал на колени рядом с трупом Саши. Но вместо того, чтобы проверить для себя, действительно ли он мертв (хотя, кроме голословного утверждения Беа, никаких доказательств этому не было), я протянул руку туда, куда упал его пистолет — совсем чуть-чуть вне достижения его пальцев с заскорузлыми ногтями и все же — в поразительном покое внезапной смерти — таких детских, почти младенческих.
Я подобрал его и проверил, заряжен ли он. Затем, болезненно сознавая, как по-дурацки я выгляжу — но я не мог бы остановиться, даже если бы захотел, — прицелился в Беа.
Я увидел, как у нее оборвалось дыхание, будто от удара в солнечное сплетение. Неуверенная попытка засмеяться, в которой я различил и недоверчиво насмешливый изгиб губ, который постепенно сменился первыми намеками на неподдельный страх. Я продолжал целиться в нее, ожидая, что меня вдруг осенит, ожидая, как мне казалось, чтобы моя рука подсказала мне, как поступить. Потом медленно, будто совершенно против воли, я перевел пистолет с Беа на мольберт. Он замер в неподвижности, только когда холст, когда проклятый «Clé de Vair» оказался прямо на линии огня. Тогда я закрыл глаза и спустил курок. А когда снова взглянул на полотно, то увидел, что оно пробито ровно в полудюйме ниже кошелька, переходящего из руки в руку.
Беа понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что я делаю, и это дало мне время выпустить в картину еще одну пулю, которая подбила молодого дворянина и оставила дымную дырочку с рваными краями в его щегольском жилете с изображением королевской охоты. И тут Беа пронзительно закричала. Опять и опять она кричала, чтобы я перестал, и пыталась вырвать у меня пистолет, царапала мне пальцы ногтями, вцеплялась, как безумная, мне в волосы. Я был выше нее и размахивал пистолетом у нас над головами — а потому, когда я прижал спусковой крючок в третий раз, то не понял, попала пуля в цель или нет. Я видел только обезображенное страхом лицо Беа, ее глаза, мечущиеся между мной и картиной, и я слышал только ее крики — крики, которые теперь перешли в тонкое истомленное стенание:
— Non… Oh non… non, non, non, s'il te plait, s'il te plait… Oh non…[88]
Я снова поднял пистолет, и она отскочила от меня, кинулась к мольберту, раскинула руки в тщетном усилии сорвать с него картину, обернулась, чтобы в последний раз воззвать ко мне, — но было слишком поздно. Мой палец обрел собственную неодолимую инерцию, так мягко, что я почти не заметил его движения, согнулся на спусковом крючке, и новый грохот выстрела сотряс меня всего.
Я точно поразил мишень. Я поразил женскую фигуру, украдкой передававшую ключ своему сообщнику. Я знал, что поразил ее потому, что она кричала, и еще потому, что у меня на глазах ее лицо начало раскалываться на нестерпимую паутину разбегающихся трещинок, пока их все разом не смыла ее кровь. Правой рукой она продолжала вцепляться в холст, и когда соскользнула на пол, то опрокинула его вместе с мольбертом на себя.
Я положил пистолет Саши на комод рядом с канделябром, потом вышел из студии, затворив за собой дверь. Я спустился по лестнице и по благоухающему мочой коридору вышел на средневековую площадь, которую пересек в первый раз менее получаса назад. Над моей головой тот же уличный фонарь выскрипывал свою колыбельную, исполненную меланхолии раннего вечера. Нигде абсолютно никого. Я взглянул на темнеющее небо, на бледный безветренный туман, уже сползающий по черепичным крышам аббатства, головокружительно крутым.
Я пошел обратно через клаустрофобные проулки и вокруг угрюмого газона. Вниз по той же змеящейся улице, по которой поднимался рядом с Беа. Я подошел к третьим из трех ворот, вышел на тот же булыжный дворик, а потом прошел через вторые ворота, а потом через первые — высокий, узкий гранитный вход, вырубленный в стене, — в передний двор. Во дворе с той же симметричной размеченной автостоянкой теперь стоял только одинокий «роллс-ройс».
Его дверца была отперта, ключи свисали с приборной доски — второпях Беа оставила машину совсем беззащитной. Я быстро сел за руль и выехал на дамбу.
Выехал на дамбу… у другого конца которой, будто поджидая моего возвращения, была та же сонная деревушка, то же трио припаркованных машин, таких же унылых, как старые театральные декорации. Кроваво-красная пухлая луна двигалась наравне со мной по всей длине горизонта-каната. Я проехал те же две-три мили по плоской сельской равнине, прежде чем свернуть на береговое шоссе… и там, точно на том же месте, где я оставил ее час назад, была та же, будто обрубленная, фаллическая башня. И еще — неизменно на один шаг впереди меня, ярко подсвеченный снизу фарами «роллса», парил Дух Экстаза, нелепый и непобедимый.
Внезапно, примерно полчаса спустя, за ветровым стеклом возник мазок водянистого белого света, точно непонятное пятнышко на экране радара. Он все увеличивался, увеличивался. Машина, о приближении которой он оповещал меня, все приближалась, приближалась, пока наконец передо мной не вырисовался ее симпатично укороченный силуэт. Без всякого сомнения, это была моя собственная подержанная «мини». Хотя я еще толком не различал того, кто сидел за рулем, я твердо знал, кто это, кто это должен быть.
И еще я знал, что должен сделать я. Холодно и хладнокровно, перед тем как мы бы проехали мимо друг друга, я рванул рулевое колесо влево. И продолжал поворачивать его влево, влево, влево, пока оно поддавалось. С тошнотворным воем и визгом покрышек «роллс» стремительно пронесся наискось через середину берегового шоссе и устремился прямо на «мини».
На этот раз не было проливного дождя. Между нами не было платана. И не будет молнии.