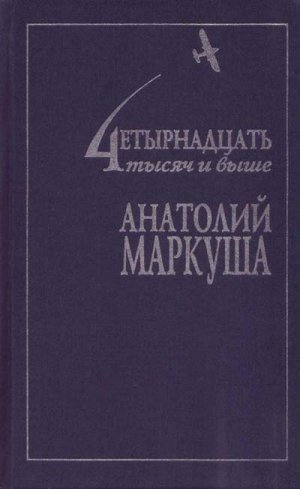
От автора
В авиацию я пришел еще в довоенное время, когда задача, обращенная к поколению, формулировалась так: летать выше всех, летать дальше всех, летать быстрее всех. И канонизированный Сталиным образ Валерия Чкалова, возведенный в ранг великого летчика нашего времени, способствовал принятию решения тысячами мальчишек — летать! А еще из Америки пришел подарок болгарского авиатора Асена Йорданова — его гениальная книга «ВАШИ КРЫЛЬЯ», адресованная юным романтикам Земли. Она стала нашим Евангелием.
И пусть никого не удивит название мною написанного — «14000 метров и выше». В ту пору это был потолок, к которому стремилось целое поколение, а достиг его первым Владимир Коккинаки.
Авиация — совершенно особенный мир. По мере сил и способностей я старался ввести в него читателя, строго соблюдая при этом лишь одно правило — ничего, кроме правды, и преследуя единственную цель: убедить — авиация лучший из миров, который дано прожить человеку.
Москва2002 г.
Приключения капитана Робино
Все человеческие судьбы складываются случайно в зависимости от судеб их окружающих.
И. Бунин.
АВТОР: Значит так: сядь и не дергайся, ты получишь именно то, что тебе, как я понимаю, надо. Но при одном условии — когда ты потащишь свое, не исключаю, вполне даже гениальное произведение в редакцию, на титульном листе — я правильно называю эту первую страничку? — должно быть указано: полуфантастическая история. Мою фамилию объявлять, пожалуй, вообще не обязательно. Не стоит дразнить гусей красным…
Давай, включай свою технику, эта штука японская? Так и думал. И сейчас поедем… Впрочем, подожди минуточку. Чего это я вдруг разволновался? Неужели старому Рабиновичу еще категорически не наплевать, кто и что может про него сказать иди подумать. Погляди в мои глаза. Видишь вокруг райка кольцо — мутноватое, серое. Видишь? Это знак оттуда… Так что пиши все, что считаешь нужным, лишь бы бумага вытерпела.
A.M.: Таким примерно монологом началась наша совместная деятельность на литературном фронте. Что из этой затеи получится, я даже приблизительно не мог себе представить. Но попытка — не пытка.
АВТОР: Чтобы тебе и всем было ясно, попробую сразу высказать свое мнение по деликатному национальному вопросу. Лично мне совершенно неважно, чеченец ты, китаец или, скажу для разнообразия, француз. Понял? Да, я не люблю, когда кто-то орет: все евреи — трусы, все грузины — жулики! Почему не люблю? Объясняю. Если уж делить жуликов, например, на французских, японских и, допустим, турецких, то делать это надо исключительно в процентах! Доходит? И можешь не сомневаться, если среди украинцев обнаружится, положим, пять процентов мошенников, так и среди румын или, я знаю, аргентинцев, финнов или бразильцев их будет примерно столько же. Но вообще мне такая арифметика и деление по национальностям не нравится.
Ты знаешь, однажды я такой эксперимент проделал. Прилетел в Ташкент, заполняю анкету в гостинице. Дошел до пятого пункта — национальность — и написал: негр. Думаю, интересно, какая будет реакция? Прожил неделю. Никто ничего. Перед отъездом, когда пришел забирать документы, спрашиваю у администратора: я тут написал в вашей анкете — национальность «негр»… Ничего? А он смотрит на меня и не понимает, чего я хочу? Потом говорит? — «Какараз…» Это он имел ввиду: а какая разница? Я тогда чуть не упал от смеха. Как звучит-то великолепно: какараз! Между прочим, с тех пор я иногда пишу в анкетах: национальность — какараз…
Странная у нас жизнь! Кое-кто считает меня антисемитом. С чего? Когда сын моего соседа Мееровича, бездельник и балбес Мотька, начинает объяснять, что у него фукнула стипендия, потому что он Меерович и за это преподаватель сопромата больше тройки ему никогда не ставит, то я говорю этому балбесу в лицо: «А что ты знаешь из сопромата? Не больше, чем я — из акушерства. И твой профессор только потому не ставит тебе двойки с минусом, чтобы его не посчитали юдофобом».
A.M. Тут я имел неосторожность заметить что-то о форме нашего дальнейшего труда и, признаюсь, неудачно сострил: де, мол, наша главная задача плавно вписаться в господствующий стиль эпохи…
Автор: А крыша у тебя не поехала? Ты на соцреализм намекаешь? Выдумали умники себе развлечение: ты написал, он написал… у тебя — правда, у него — правда. А теперь давайте выясним, какая правда социалистическая, а какая — наоборот? И поехало… и выясняют… и диссертации сочиняют. Целую науку изобрели. А мы не будем себе морочить головы, скажем совсем простенько: можно писать правду или брехню. Так вот, мы поведем наш разговор по чистой правде.
Все. Довольно умничать. Начинаем.
Глава первая
АВТОР: Валеруса я знал о-о-ой сколько лет! Может — сто, может — даже больше: мы жили в одном доме. Он на пятом, а я на втором. Он был постарше, конечно, но такое положение не сильно мешало, во всяком случае мне. Как-то раз встречаю Валеруса на улице, около парадного и он говорит, чтобы я зашел к нему на работу: есть, мол, серьезный разговор. Какая у него работа, я тогда понятия не имел. А он объясняет: контора его или не контора — кто тут разберет — находится там, где наш районный ЗАГС, но на втором этаже. Спрашивает, понял ли я, куда идти? Ну, я отвечаю, что понял и, мол, ладно, постараюсь забежать. Тут Валерус смеется каким-то глупым смехом и заявляет: не ладно, но постараюсь, а чтобы завтра в два, как из пушки! Он будет ждать.
Иду. А чего было не ходить? Тем более ЗАГС рядом. Поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь и оказываюсь в глухом, плохо освещенном тамбуре, толкаю вторую дверь и не пойму, куда меня занесло: слева солдат и справа — солдат. Тогда, правда, слово солдат употребления не имело, говорили — боец. Бойцы стоят при винтовках с прим-кнутыми штыками. Признаться, я решил, что не туда забу-ровился, но включить задний ход мне не позволили, объяснили — меня ждут, показали дверь с голым номером на стеклянном квадратике — 8. Велели ждать, вызовут. Время подползло к двум. Никакого шевеления. Думаю: или уйти? Только сомнительно, что те, с примкнутыми штыками, выпустят.
Позвали меня в три. Понял? Час меня продержали под дверью в порядке моральной подготовки: вспоминай, мальчик, думай, переживай… Только вспоминать-то мне было нечего, какие особые воспоминания в семнадцать лет? Сообразив, куда я попал, честно скажу: я не столько испугался, сколько разозлился. Дальше — больше! Серьезный разговор, обещанный Валерусом оказался как-то не всерьез. Но все-таки я догадался, куда он клонит — хочет приручить к своему заведению. Для чего, я не задумался. Полиция, милиция, тайные службы никогда не были хрустальной мечтой моего детства. Поговорили мы, так сказать, на общие темы, покрутились вокруг да около главного, и я уже решил: ну, вроде бы ничья получается — и ошибся. Оказалось, что к концу подошел только первый раунд.
— Пойдем, — говорит вдруг Валерус, — к начальству. На тебя хочет взглянуть Сам. И так это он многозначительно произнес — «Сам», что я заробел.
Но делать было нечего. Валерус охорашивается и ведет меня к Самому. Тот оказался на мой взгляд, довольно пожилым, аккуратным — от пробора до ногтей блестит, весьма обходительным. Для начала он стал мне объяснять, в какой сложной международной обстановке мы существуем и сколь важна в такое трудное время бдительность. Здесь ему пришлось сделать паузу: в кабинет вошли два здоровенных «лба». Оба в одинаковых темно-синих костюмах штатского покроя. Один поблескивал золотой фиксой на переднем зубе, другой никакими особыми приметами не отличался. Лбы четко, по-военному, доложили о своем прибытии и обменялись с Самим несколько малопонятными мне словами. После чего Сам махнул рукой в сторону шкафа — мол, берите, что нужно и уматывайте, не мешайте. Молодцы распахнули шкаф, а там… как книжки в библиотеке, плечом к плечу были натыканы на специальных стеллажах пистолеты или револьверы — я тогда не очень еще разбирался в оружии…
Дальнейшие события разворачиваются быстро. «Лбы» берут по два пистолета каждый. И я впервые вижу, как под пиджаком, у подмышки подвешивается кобура, а второй пистолет исчезает за брючным ремнем. Ну, чистое кино. А мне, не забывай, всего семнадцать лет!
Кто его знает, была то инсценировка, рассчитанная на охмурение мальчишки, или детективам так на самом деле полагается вести себя, судить не берусь, не авторитетен. Одно думаю. «Сам» почуял, как меня колыхнуло это представление, потому что вдруг сказал:
— Ладно ступай пока, сынок, — чувствуешь, какое обращение — не гражданин хороший, не молодой человек или еще как-нибудь, а — сынок, — ступай, подумай, вот тебе мой телефончик, — на бумажке был написан номер и его имя и отчество, — подумай и позвони. А это расписка о неразглашении. Не обижайся, таков порядок. Черкни внизу, что об ответственности предупрежден и болтать, где и зачем был не будешь.
Дальше оказываюсь на вольном воздухе, в скверике, что когда-то зеленел около нашего районного ЗАГСа, усаживаюсь на неопределенного цвета скамейку и начинаю соображать. Туго это у меня получается: в голове разухабистая музыка звучит и нижутся одно к одному слова: болтай — не болтай, шалтай, мордухай, ай-ай-ай-я-яй, не забывай… Что бы такая ерунда могла значить? Почему болтай не болтай вцепилось в меня бульдожьей хваткой?! Медленно доходит: он сказал «не болтай». Сам! А если я болтаю во сне и наяву, если я болтун от рождения? Это же диагноз! Нет, тогда, на обшарпанной лавочке, всего до конца я еще не додумал, но зарубочка на памяти получилась.
Бумажку с телефоном «Самого» я казнил самым безжалостным образом — сперва сжег, потом пепел спустил в сортир. Для чего? На всякий случай, чтобы вдруг не позвонить «Самому». И не надо улыбаться! Разве так не случается — не хочу, не хочу, не хочу, даже не помышляю, и нате вам, — бац, женился… или что-нибудь еще в таком роде выкинул — крупноубыточное? Примеров сколько угодно.
А жизнь хромала себе дальше.
В техникум ходить надо, в аэроклуб — охота, и гребную секцию бросать жалко. А тут еще Галька… Врать не в моих привычках, поэтому не буду напускать туману и делать вид, будто тот поход к Валерусу я начисто выкинул из головы и живу себе, как жил. Все помнил: и лисью морду Валеруса и как он меня заманил в свое заведение, и молодцов — один с фиксой, другой — без. И «Самого» тем более помнил, и где-то едва ли не печенкой ощущал тревогу. Не-е-ет, бяка еще не кончилась. Продолжение следует.
Прошло время, на меня навалились новые психнагруз-ки. В аэроклубе мы готовились к парашютным прыжкам. Это вовсе не сахар — прыгать, особенно в первый раз. С одной стороны охота себя испытать, а с другой — жим-жим где-то в кишках: никуда не деться — страшно… К тому времени я был свидетелем, как с плоскости учебного самолетика свалился темным комком человек и падал, и падал, и падал, а за ним трепался белым шлейфом нераскрывшийся толком купол… И был удар о зеленую землю, сопровождавшийся звуком, как мне показалось, гигантского мокрого шлепка.
Мало этих переживаний, так еще Галька добавляла. Нацелуешься с ней — губы, как вареники вздутые, намучаешься в первой готовности ее лапать и — полное атанде! «Запевай веселей, запевала эту песенку юных бойцов…» Она шепчет: «Ты, что не понимаешь, от этого же дети бывают?» Правильно, конечно, но разве мне легче такое слышать?
И как раз в это время получаю повестку: «настоящим предлагается вам… явиться в комнату номер восемь, к четырнадцати ноль-ноль… Вот, сбывается. Что? А то — складываю тренировочный парашют, пересчитываю стропы, а где-то в стороне от укладочного стола мерещится хитроватый профиль Валеруса и вроде слышится его голос: «Проверь пятую стропу». Или — тискаю Гальку, расстегиваю на ней пуговицы, вдруг чудится будто за спиной стоит и посмеивается лоб со сверкающей фиксой на переднем зубе…
Кто не жил в то окаянное время, когда люди исчезали, как привидения, тому трудно поверить — целое поколение было инфицировано страхом, мы все решительно испытали такое, чего и врагу не пожелаешь.
В назначенный день к 14.00 явился в комнату № 8.
Валерус был почему-то в форме. В его знаках различия я не разобрался, но понял или скорее почувствовал — чин у Валеруса, где-то на уровне коленок, если «Сам» свое ведомственное достоинство держит на высоте груди. Валерус сказал строго:
— Сейчас тебя примет «Сам». Имей в виду: у него десять минут зарезервированы на тебя, так что давай без манной каши…
— А с горчицей можно?
— Кончай шутить, Рабинович! Надо все-таки соображать, где мы находимся.
Как и в прошлый раз он собственноручно привел меня в начальственный кабинет. Интерьер сохранился в прежнем виде. Пистолетный шкаф, как я заметил, был опечатан. «Сам» вроде никуда не торопился, даже чаю с лимоном мне предложил. Расспрашивает про маму, папу, про успехи в аэроклубе, спрашивает, как дела в техникуме? Разговор звучит совершенно по-родственному, пока он не выговаривает внезапно:
— Ну?
— Сорок три. — Говорю я в ответ.
— Что — сорок три?
— А, что, извините, — ну?
Молчит. И я не спешу солировать, жду, что произойдет дальше. Кишки малость похолодели, во рту слегка пересохло. Вижу, «Сам» делает над собой усилие, чтобы не шваркнуть кулаком по столу, не рявкнуть на меня, и сдержанно так интересуется:
— Да или нет?
— Нет, — молча мотаю я головой из стороны в сторону.
— Почему?
— Мне стыдно…
— Что тебе стыдно?
— …Сказать.
— Не понимаю, — тихо говорит «Сам», — мы хотим оказать тебе доверие, большое доверие, сынок. А ты? Если говоришь нет, то, надо думать, у тебя должна быть серьезная причина. Правильно?
— Причина есть.
— Какая?
— Мне стыдно. — Ну, соображаю я, кажется, пора, а то недолго и перестараться. Делаю рожу, если не последнего дурачка на деревне, то — предпоследнего, хлопаю ресницами и, заикаясь, спрашиваю:
— А вы никому не расскажете?
— Что? — Изумляется «Сам».
— Ну-у-у, то, что я вам открою?
Сам в ответ улыбается, стукает себя кулаком в грудь:
— Могила, будь спокоен.
— Мне стыдно, — я показываю, чтобы он пригнулся, — я по секрету… на ушко…
Наверное со стороны это выглядело достаточно юмористически — перегнувшись через стол, «Сам» склоняется ко мне ухом, а я быстро-быстро нашептываю ему свою «тайну».
Спокойно, не ерзай от нетерпения, не пытайся угадать, что я мог шепнуть ему такого. Обещал — расскажу. Я популярно объяснил Самому, что болен, страдаю, извините, недержанием…
— Ссышься? — растерянно спросил он.
— Нет, у меня недержание речи. Треплюсь я, обязательно должен раззвонить все, что только узнаю. Меня к невропатологу уже водили, велели лечиться… но пока слабо помогает, вроде даже хуже делается… — Я вру и чувствую — меня охватывает вдохновение, жалею себя. Вот приходится отказываться от такого важного предложения… но я честный человек и не могу вас обманывать… У меня даже слезы на глаза наворачиваются.
— Ладно. — Хмуро говорит «Сам». — Пока иди, мы подумаем, как тебе помочь.
Прощаюсь и ухожу встревоженным. Они еще будут думать? А вдруг придумают, как мне «помочь»?
Это заведение я вспоминал долго, даже очень долго, и это не способствовало укреплению мужества. А теперь, мне кажется, можно и выдать кое-что из военных мемуаров.
A.M.: Больше с той организацией ты уже не встречался? Они действительно о тебе забыли?
АВТОР: Не гони лошадей! Все в свое время. Пока слушай про дела военные.
Аэроклуб мне закончить не удалось. Кто виноват? Исключительно немец виноват! Я уже заканчивал вывозную программу, инструктор собирался меня выпускать в самостоятельный полет, когда немцу приспичило начать войну, и меня моментально определили в авиационные механики: с техникумом я успел только-только расправиться.
Как началось, загремело и поперло по нашей земле, рассказывать не стану, все уже давно и без меня известно. А вот конкретную картину нарисую.
Вообрази: полевой аэродром пустой как биллиардный стол — кто смог, улетел еще накануне, кто не смог улететь, уехал. А я остался при подбитом самолете… мне велели сжечь машину и догонять полк подручными средствами, так сказать.
Сказано — сожги! А жалко, тем более, что натурального немца еще не было видно или хотя бы слышно. Короче, за ночь я «ероплан» кое-как наладил. Теперь вопрос: летчик где? Оказалось, нет летчика, и вообще никого уже нет. Что же получается — неисправную машину я не сжег, а подремонтированную — немцам в руки?.. И, когда утром от шоссе пошел еще отдаленный танковый грохот, я решил: и так плохо, и так нехорошо, трусы в карты не играют… Зря, что ли, меня в аэроклубе учили?! Надел парашют, запускаю движок от баллона и рулю. Если без брехни, должен признать — сперва он немного потанцевал, но ведь и лошадь, бываете, приплясывает даже не под таким мастером, как я. Потом он успокоился, покатил ровно: заволновался я — взлечу или не взлечу? Но выбирать не приходилось: приближающийся танковый грохот все еще стоял в ушах… Словом, я дал газ. Он побежал вроде с некоторым удивлением, а я начал поднимать хвост, не надо смеяться, я даже не заметил, как мы взлетели. Клянусь, мы полетели. Довольно скоро я понял — истребитель — это действительно самолет, а не какой-нибудь «кукурузник» на котором я ползал в аэроклубе.
Летел я на восток. О чем думал? Ну, конечно, чтобы меня не засек какой-нибудь шальной «мессер», не прищучил сходу. Потом думал, как сберечь машину. Приборы я читать умел и очень заботился, как бы не запороть движок. А еще успел принять решение: буду лететь до самого упора, пока палка крутится, а когда палка, то есть винт, встанет, выпрыгну с парашютом.
Но я от рождения нахал. И через час примерно сообразил: я же сумел взлететь, так почему бы не попытаться сесть? Может, у меня прирожденные летные способности? Серьезно! Лечу и не падаю. Кто его знает? Но, чтобы сесть, нужен аэродром или подходящая ровная площадка. Велел себе думать в этом направлении. Лечу, озираюсь… Правильно умные люди говорят: дуракам везет! Пока я соображал — эта площадка, вроде, годится, но та, пожалуй, лучше, аэродром сам нашел меня. Какие-то идиоты шарахнули в мою сторону, дай им бог здоровья, из зениток, приняли за немца скорей всего. Сбить не сбили, а я увидал, откуда идут трассы, и таким образом обнаружил плохо замаскированный аэродром. «Т», понятно, мне никто не выложил, но стрелять перестали, поняли — этот заходит на посадку. И вот тут в самый неподходящий момент горючее кончилось, винт встал, высоты было маловато… Размышлять не приходилось, я подвернулся вдоль полосы и плюхнулся на землю с убранными колесами. И получилось довольно удачно. Винт я, конечно, погнул, а все остальное было цело или чуть-чуть помято.
И вот я попадаю в чужой штаб, а там и без меня полнейшая суматоха: кругом идет отступление, всякие слухи тревожные бродят…
— Кто ты? Фамилия? — меня спрашивают.
— Рабинович, — из такого-то полка, называю номер открытым текстом, без этих глупых штучек — из почтового ящика я.
— Звание, должность?
— Старший сержант…
— Документы, — перебивает меня капитан, — есть документы?
— Документы я сжег.
— То есть?
— Танки уже вторгались на наш аэродром, что ж оставалось делать старшему сержанту Рабиновичу, как не сжечь…
— И комсомольский билет тоже?
— К сожалению, пришлось.
Меня выслушали и предложили отдохнуть в соседнем сарайчике до выяснения обстоятельств отступления моего полка и установления личности. Немножко я на самом деле там отдохнул, я же не спал всю предыдущую ночь, а потом оторвал доску от задней стенки и… ноги в руки. Почему? Пока я отдыхал, мне представилась комната номер восемь, что располагалась на втором этаже нашего районного ЗАГСа и молодцы, которые придут выяснять, кто я на самом деле, а, главное, почему приземлился на пузо и таким образом вывел машину из строя? Представив такой разговор, я сказал себе: если хочешь жить как человек, тикай, куда глаза глядят, а там, кто его знает, может еще повезет.
Пожалуй, я еще дурее, чем сам о себе думаю, на шоссе мне снова крупно повезло. Но по порядку: из сарая я выбрался и никто за мной не погнался, должно быть, не заметили, а возможно махнули рукой — баба с воза, кобыле легче. Это — раз. На дороге меня едва не сбила шальная полуторка, но я уцелел. Это — два. А в кабине той полуторки обнаружился начвещ из нашего разбежавшегося гарнизона. Дрожал он, как последний сукин сын: имущество было утрачено, актов нет. И когда я сказал, как и откуда смотался под натиском танковой колонны противника, он мне обрадовался, как родному, и первым делом откуда-то из-под спуда вытащил кожаный летный реглан с голубыми петличками, правда, без кубарей или шпал, велел быстро лезть в кузов и держаться за него — капитана. Это — три.
— Будешь свидетелем, — сказал начвещ, — подтвердишь, как на нашем аэродроме все рвалось и горело, когда немец снова и снова бомбил…
Возражать я не стал, хотя мог бы… Горело? Чего не было, того не было. Извиняюсь, но бомбить нас как раз не бомбили. А полуторка покатила дальше. Меня потряхивало, и, может быть, по этой причине мысли в голове несколько путались и переключались с одного на другое. Он хочет сделать из меня свидетеля? Перед кем? Где? В чем? Ему, понятно, свидетель нужен. А какая польза мне лезть… И вообще, кто я такой? Личность в подозрительно новом летном реглане, без документов. Ведь каждому ясно — без бумажки, ты подозрительная букашка, а если еще учесть — букашка оттуда, и я тот, кто приласкал на живот новенький истребитель… И я снова велел себе: ноги в руки — срывайся!
На железнодорожном переезде, когда шофер сбавил скорость, я аккуратно перевалился за борт. Получилось удачно — даже не споткнулся, не то чтоб упал.
Каюсь, реглан с небесно-голубыми петличками я прихватил с собой. Реглан не мог заменить документов, но был лётным и одним этим внушал какое-то доверие. А кроме того, он мне очень нравился. Война-войной, а прилично выглядеть все равно хотелось. Дело было молодое. Накануне у меня, между прочим, был день рождения, и я без особых угрызений совести порешил считать реглан интендантским подарком.
Полуторка уехала без меня. Оглядевшись, и обнаружив, что начинает темнеть, подумал: надо, пока суд да дело, выспаться. Когда еще будет такая, возможность! Залез в кусты. Завернулся в реглан, послушал ласковое стрекотание какой-то живности — городской человек, я понятия не имел, кто бы мог так старательно меня убаюкивать — и заснул. Теперь пропускаю двадцать четыре такта, все равно всю войну не рассказать, даже Симонов не смог.
На перекладных я добрался до окрестностей столицы и без особого намерения, чисто случайно, приперся на подвернувшийся по пути аэродром. Летную столовую нашел по запаху, нахально поглядел в ясные очи самой «сисястой» подавальщицы и сказал доверительно:
— Дай пожрать, ласточка, выручай, подруга. Три дня рвал когти оттуда, — здесь я неопределенно махнул рукой в направлении предполагаемого запада. — Талоны в ужин принесу.
Сработало. Накормила меня «сисястая» без звука, еще и посочувствовала, как, мол, тяжко нашим соколам приходится, кошмар…
Вышел из столовой и соображаю, куда бы податься, чтобы не угодить комендантской службе на глаза. Бдительных много, это я понимал четко, едва сам не оказался в числе бдящих. И тут окликает меня мужик, из себя видный, не второй и, пожалуй, даже не третьей молодости. Одет в обтрепанную летную куртку, кожа до белизны вытерта, особенно на рукавах. Знаков различия не вижу. Судя по белому шарфу на шее, может и не кадровый вовсе. Спрашивает:
— Летчик? — Видать положил глаз на мой реглан с голубыми петличками, я его небрежно так на плечи накинул.
— Мы, друзья — перелетные птицы… — сам удивляюсь, как я эту строчку из фильма предугадал, когда картины еще и не было, кажется. Это потом запели: «Небо наш, небо наш родимый дом…», ну, и так далее.
— У меня второго убили, — говорит мужик, — а ты вроде безлошадный, слыхал я твой треп в столовой, здорово ты официантке заливал: три дня не жравши, оттуда…
Короче, мне опять невероятно повезло. Привел меня мужик на «Дуглас» и мы полетели сначала в Саратов, оттуда через Пензу снова в Саратов. Возили какие-то железяки секретного назначения. Покуда я с ним туда-сюда мотался, выложил человеку всю правду: так, мол, и так вышло, что делать, чтобы каким-то образом легализоваться, с какого конца действовать, ума не приложу?
— Дело твое исключительно говенное. Рабинович без документов и летает? Кто допустил, кто утвердил, кто направил?.. Надо думать, надо очень сильно думать, как тебя выручить? — И он думал, а я тем временем тоже думал — как побыстрее насобачиться на «Дугласе» шуровать. Ночевали мы как-то в Челябинске, кажется, в пункте Ч., как тогда газеты писали. С устатку приняли по полкило на грудь и вышел у нас памятный разговор:
— Слушай, а почему тебя вообще в авиацию потянуло? Вот, в аэроклуб ты с какими мыслями пошел? — Примерно так командир меня спросил. Не придерешься — культурно вопрос поставлен. Но у меня нюх…
— А вы считаете, мне бы следовало идти по торговой части? — спросил я.
— Почему обязательно по торговой? — не смутился командир, — Мог бы свободно в науку двинуть, например — в медицину, там ваших полно, или за милую душу в музыкальное училище поступить.
Конечно, я мог бы вякнуть: родина предписала нам, молодым, покорять небесные просторы, сам товарищ Сталин поставил задачу — летать дальше всех, летать быстрее всех, летать выше всех, но я ничего такого выговаривать не подумал.
— Скорее всего я выбрал авиацию из духа протеста…
— Кому? — командир явно удивился и не стал этого скрывать.
— Всем! И не только тем, кто не любит Рабиновичей, так сказать, принципиально, а в еще большей степени той сволочной среде, в которой я вырос. Меня окружали густопсовые, самоуверенные мещане. Надо было слышать, с каким тупым апломбом они втолковывали мне: что такое летчик? Это — профессия? Ха! Это же воздушный извозчик! Нашел себе занятие.
А в техникуме я очутился, когда меня вышибли из десятилетки. Выдал по морде учителю рисования. У него была привычка дразнить тех, кто картавил. Сперва я попробовал ему объяснить, что Ленин тоже картавил. Но он не внял и довел, уже в какой раз, тихую Иду Рубь до слез. Тогда я прямо в классе и съездил ему по физиономии. Меня в тот же день из школы выперли. Я в техникум пошел авиационный, чтобы еще раз своему окружению поперек горла стать. Как я их всех, гораздых жрать, сплетничать, делать деньги, политиканствовать и жаловаться на свою тяжкую судьбу ненавидел, как впрочем и они меня ненавидели.
— Интересно, — задумчиво сказал командир, — первый, раз в жизни такое слышу.
— Не удивляйтесь, командир, я тоже первый раз в жизни произношу такое вслух.
А.М.: Мне было любопытно услышать от АВТОРА какие-нибудь подробности из его детства, понять, что же за люди стояли с ним рядом, вообразить, как они выглядели, «услышать», как говорили, чем интересовались. Ненависть на пустом месте не вырастает. Попытался спросить его, что он думает на этот счет.
АВТОР: Чешуя, не заслуживает твоей натуги. Пропускаем двадцать четыре такта и едем дальше. Как командир сумел, точно не знаю, но в конце концов он сделал мне наполовину липовый, но все-таки документ. С его подачи я заимел красноармейскую книжку с пометкой — «ДУБЛИКАТ», в ней была записана военная специальность — пилот. Кажется, для этого ему пришлось предъявить начальнику строевого отдела, своему давнему приятелю, кучу полетных листов, где я был, вписан, так сказать, де-факто, вторым пилотом, сочинить рапорт-сказку о пожаре в воздухе, который я геройски тушил собственной гимнастеркой с документами. Ну, а еще был использован универсальный ускоритель — добрый литр чистого, как слеза младенца, спирта.
Мы пролетали в любви и согласии чуть больше года. Он многому научил меня. И не только в технике пилотирования, но и по жизни. Только так не бывает, чтобы мед, мед и опять мед… Моего командира нашла глупая шальная пуля. Одна! Достала в полете, когда мы бреющим чесали с временного партизанского аэродрома в Москву. Шальная, так сказать, штучная пуля с земли угодила в голову… и наповал.
Долетел я самостоятельно, а так как время выдалось горячее, мне тут же подсадили на правое сиденье вторым пилотом гражданского летчика, тотальника, как тогда говорили, и — вперед! Мужик оказался — лучше не бывает. Раскусил меня на первом же маршруте, но в амбицию не ударился, а начал доводить своего «командира» до кондиции.
Он был много старше меня и, к сожалению, стал называть меня — «сынок». Конечно не на публике, но все равно это было весьма огорчительно, а куда деваться — терпел.
Заходим на посадку, он подсказывает:
— Кренчик поменьше, сынок, и раньше, раньше начинай откручивать штурвал в обратную сторону… Вот так, видишь как славно получается, точно в створе сидишь…
Он учил меня старательно, никогда не ругал, как обычно ругает инструктор по должности, считающий своих подопечных сплошь недоумками, вот только — «сынок»… это обращение действовало на меня отвлекающе.
Время шло, и постепенно я стал забывать, кто же я на самом деле — самозванец, проходимец, авантюрист. Но теперь, научившись ползать в облаках и ночью — спасибо за это Гальченко! — это он натаскал меня и довел до ума, я, наконец почувствовал — могу. Что именно могу? Работать летчиком. Да-да, я стал летчиком, как собирался еще до войны.
При подходящем случае спросил Гальченко, а на черта ему нужно было возиться со мной, почему он, настоящий, многоопытный командир корабля, не заявил свои права на левое кресло?
— Откуда я знаю, что мне нужно или не нужно, когда он, — я понял — немец, — гуляет по моей Полтаве? Мы с тобой вкалываем, стараемся помочь фронту, и это — главное. Второй фронт нужен! Это — серьезно, а славой потом делиться будем.
Так мы и летали в полном согласии и понимании, пока нас не перехватил шальной «мессер», забравшийся довольно далеко в наш тыл. Врезал он нам не смертельно, но очень внушительно. Приземлились мы на форменном «решете», можно сказать. Нас тут же списали. Машину — в утиль, экипаж — в резерв. А что такое резерв? Это бардак в бардаке, возведенный в квадрат. Иначе, как бы могли меня направить в научно-исследовательский институт, где рядовые испытатели хаживали в полковниках? Просто позарез им нужен был старший сержант, проходимец Рабинович, ты ж понимаешь!
Месяца два я там ошивался, ничего не делая, помалкивая и ожидая, чем все это может кончиться. Разоблачат или не разоблачат? Об этом старался не думать. Но ждать вечно — невозможно. Так просто не бывает — всякое ожидание чем-нибудь да заканчивается. На этот раз для меня ожидание завершилось Америкой. Про Америку немного позже. А сейчас надо сделать вставку про ленд-лиз. Только ты уж постарайся сделать это аккуратно. А то один мой знакомый мемуарист, очень приличный полковник танковых войск, когда редактор сказал ему, что в его воспоминаниях маловато природы, все больше стрельбы, брони и опять стрельбы, взял да и влупил страниц двадцать из Тургенева. Разбросал классика кусочками по своему тексту и думал — порядок! А рецензент на полях пометил: «описание природы совершенно неубедительное, красивость на красивости, а в чем смысл?» Понял? Так что вставку сделай деловую, чтобы читатель понимал, каким ветром меня могло во время войны занести аж в Америку.
A.M.: В ходе войны наша страна получала значительную помощь от США. В частности, американцы поставляли нам боевые самолеты, которых в первый период войны нам катастрофически не хватало. Чтобы пополнить потери, нужно было авиационные заводы эвакуировать в Сибирь и требовалось время, чтобы они там заработали.
Само понятие ленд-лиз в переводе с английского (цитирую по словарю иностранных слов) означает: «система передачи Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материальных ресурсов странам антигитлеровской коалиции в период мировой войны (1939–1945)».
АВТОР: Первым лицом в том институте, во всяком случае главным по части летания был генерал, которого я долгое время не видел, но однажды смог наблюдать, как он пилотировал на прототипе новейшего истребителя. На только-только испеченной машине генерал выдавал такое представление, просто с ума можно было сойти! Самолет-младенец только-только отрывается от бетона, тут же встает на дыбы, и пилот выдает форменный канкан, как будто ему завтра в Тушине перед самим Сталиным демонстрировать мощь советской авиации. Словом, генерала в лицо я не видел, но уже проникся к нему — тот, кто может подобным образом дразнить матушку-землю, по меньшей мере должен тянуть на нового Чкалова.
И вот получаю приказ явиться к нему в кабинет. Вхожу, пытаюсь, как положено доложиться, но он машет рукой, дескать — давай без формальностей, говорит:
— Хочу послать тебя в весьма ответственную командировку. Надо лететь в Штаты. Поработаешь там на приемке летающих лодок. Нужен наш человек для наблюдения и контроля. На лодках ты не летал, знаю. Ничего! Предварительно провезем здесь, благо есть на чем. Мне некого послать из основного состава, много людей ушло на фронт, потеряли мы тоже порядочно народа. Что думаешь?
— Мне, товарищ генерал, думать не положено, мне положено исполнять.
— Не ерничай! Летчик не умеющий или тем более не желающий думать — покойник. Так что не прикидывайся Швейком. И хочу тебе сделать одно деликатное предложение, только постарайся понять меня правильно. А суть моего предложения такая: мы укорачиваем твою фамилию и в первом слоге заменяем «а» на «о»…
— Простите, товарищ генерал, но кому нужно это дополнительное обрезание? Неужели американцам?
— Американцы тут не при чем, — он смотрит на меня без тени смущения и поясняет: — я ведь только представляю летчиков на выезд, надо мной — спецслужба. И они охотнее примут тебя в качестве, например, капитана Робино… А мне надо сохранить кадры. Пойми, не от хорошей жизни, парень, я вынужден маневрировать в опасной близости от земли.
— Спасибо за откровенность, товарищ генерал. Мне сразу показалось: в вас есть что-то такое отличительное.
— И тебе спасибо за согласие. И хоть мы практически не знакомы, хочу дать совет. Надеюсь, ты прислушаешься: отучись ты от этого разговорного стиля, а'ля — мы из Жмеринки. Ты же вырос в Москве. Чем бравируешь? Хочешь всему миру показать, что не стыдишься своих корней? Нечего тебе стыдиться! Никто родителей себе не выбирает. Договорились? — И он смешно выговорил: — Чтоб я так жил, если ты не сможешь.
Через две недели я получил документы, они были в готовом уже виде.
За это время я успел немного подлетнуть на летающей лодке. И «Каталина» мне, между прочим, понравилась. А еще я перечитал всю, какую только нашел литературу, так или иначе связанную с гидроавиацией. И был готов ехать. Последнее, что со мной сделали — переодели в штатский костюм и — гуд бай!
Считается, будто случай, везенье — это понятия не диалектические. Не знаю, не знаю… вся моя жизнь, теперь уже сильно изношенная, всегда держалась на фантастической везухе и катила именно от одного неожиданного случая к другому.
Вот недавний пример. Выхожу из метро, одет по погоде — брюки серые, голубая рубашка с короткими рукавами, кроссовки и никаких отличительных знаков на мне, конечно, нет. И вдруг подходит совершенно незнакомый мужик, помоложе меня намного. Не пьян, так, чуточку поддатый, и спрашивает:
— Извините, можно задать вопрос: вы — летчик?
Ну, я просто обалдел. Да как ты узнал, интересуюсь, а он посмеивается и говорит:
— Секрет фирмы! Свой свояка видит издалека. И у вас мне не стыдно попросить, может добавите? — тут он достает из кармана смятые бумажки и поясняет: — вот, вся наличность.
Естественно, я не отказал человеку, и он предложил:
— Может составишь компанию, отец? Кажется, пора уже сделать перерыв. А то из «Сони» скоро, боюсь, дым пойдет.
A.M.: Понятно, мне ничего другого не оставалось, как согласиться. Перерыв несколько затянулся. И на этом закончилась первая глава.
А мне представилась возможность в какой уже раз подумать, что за удивительный народ — летчики. Конечно, и среди них попадаются и кусочники и крохоборы, но только в порядке исключения. А, как правило этот рисковый народ имеет свою особую авиационную гордость, всегда рвется летать, будто только в небе и бывает счастье. Людей преданнее я просто не знаю, никогда не встречал. Стоит полистать историю и узнаешь, как одноместный истребитель приземлился в тылу врага, чтобы забрать своего подбитого командира, фантастика — а ведь втиснул человека в тесную кабину, и взлетел, и привез к своим! А сколько их было, командиров кораблей, что, приказав экипажу покинуть борт горящего самолета, оставались в кабине, чтобы отвернуть машину от жилого квартала, так некстати оказавшегося под крылом.
Летчики — народ особенный и мне бесконечно жаль людей, которые этого не могут понять.
Глава вторая
АВТОР: Первое, что я должен сказать — Америка оказалась вполне приличной страной. Может быть по незнанию языка никакого особенного звериного оскала капитализма я там не заметил. Люди, невзирая на военное время, улыбались друг другу, и каждый был готов помочь иностранцу, когда тот попадал в затруднительное положение. Первое время без языка мне приходилось, конечно, туго. Хорошо хоть на базе, куда меня прикомандировали, было довольно много наших. Публика собралась, понятно, разная, большинство ходили с прижатыми ушами, озирались опасливо и не очень торопились в объятия к новенькому, хоть и соотечественнику. Правда, один мужик мне сразу приглянулся. Инженер Жгентия занимался проверкой и отстрелом бортового оружия, контролировал прицелы и, в отличие от большинства, совершенно свободно говорил по-английски. Посмеиваясь, он уверял меня, будто местные девушки просто сами падают в руки, когда слышат его английский с налетом грузинского акцент.
Когда я начал летать на «Каталинах», американские парни показывали мне все на пальцах. Никто не пытался задавать лишних вопросов, вроде того, а какой у тебя налет на «гидрах» или что-нибудь в таком духе. Наше молчаливое сотрудничество очень, я скажу, способствовало моему быстрому вживанию в чужую среду. Когда командир лодки показал мне откляченный большой палец, что на международном языке всех летающих означает — о'кэй, когда он, махнув рукой, давая понять — лети самостоятельно, полез вон из кабины, я совсем приободрился и почувствовал себя почти дома.
Чего не хватало, чтобы избавиться от этого «почти»? Пожалуй, родного матерка, прочно оккупировавшего наши аэродромы. Трудно было привыкать к милям и футам, а сама лодка мне еще дома пришлась по душе. Площадки гонять показалось сперва сложновато из-за этих самых милей и футов… Выхожу на заданный режим, стрелочки замерли на положенных местах, и вдруг в голову стукает — а я ничего не перепутал? Правильно перевел мили в километры? Но постепенно втянулся, понял, как проверяют управляемость и устойчивость, привык выполнять «дачи рулей»; досталось и на «потолок» полазать, и замеры расходов топлива проводить, словом, потихоньку-полегоньку из меня начал складываться летчик-испытатель. Верно, это дело я осваивал главным образом вприглядку, но получалось.
Так прошло месяцев шесть, я уже начал понимать и кое-что выговаривать по-английски и однажды отважился — попросил: дайте слетать на «Кобре». Этот истребитель американцы рекламировали, как лучший в мире боевой самолет. В Россию «Кобру» поставляли крупными партиями. Между прочим, на «Кобре» летал сам Александр Иванович Покрышкин.
В первом же полете, когда мне разрешили испробовать истребитель, я сразу вспомнил ту машину, на которой тикал от немцев. Без брехни должен сказать — «Кобра» мне показалась посильнее, но… совсем не на так уж много.
Через некоторое время наш надзирающий, как между собой мы называли незаметного майора, кидает мне вроде бы между прочим, на ходу:
— Почему, не предупредив, не согласовав, полез на «Кобру»? Ты ж «лодочник», как мне известно?
— Мне там, — я энергично ткнул пальцем в американское небо, — в Москве еще велено было осваивать все, что только удастся освоить, чем больше, тем лучше.
Майор поглядел на меня подозрительно, ничего не запретил, ничего не отменил, только неопределенно нукнул:
— Ну-ну!
Как уж получилось не знаю, после «Кобры» меня стали то на том, а то на другом самолете планировать. Словом, за год я и на истребителях налетался и вторым пилотом к «летающей крепости» примерился.
Летал я на всю катушку и мне это очень нравилось. Какое обо мне у американцев впечатление сложилось, понятия не имею, а вот я себя, не скрою, — зауважал. От ничтожного аэроклубного налета ведь почти самостоятельно, можно сказать, эвон куда поднялся. А было в ту пору всего-то двадцать три года. Самое бурление.
Скажу прямо, как ни здорово — летать, только одними полетами не обойтись. Живой человек. Мужик… По моим понятиям самообслуживание — занятие унизительное, чтобы по этому поводу не вякали ученые сексологи. Как у нас со Жгентией разговор вокруг этой деликатной темы закрутился, не помню, но он дал мне понять: наши надзирающие интернациональных связей не одобряют, так что, если устанавливать контакты с местными дамами, надо это делать аккуратно, и не следует прилипать к одному объекту надолго. Засекут непременно! Ну, а сами по себе американки ничем особенно от наших девиц не отличаются. Пожалуй, только моются чаще. Разговаривать с ними много не требуется. Подарки принимают не жеманясь. И под конец своей информации, улыбнувшись на все тридцать два ослепительных зуба, Жгентия предложил:
— Желаешь, дам провозной полетик? — и он стал излагать свои основополагающие взгляды на «женский вопрос». — Баб принимаю, как явлэние природы, как неизбэж-ность. Но тэрпэть не могу, хотя наощупь эти стэрвы бывают очэн приятные… Мой закон — дэлай ей хорошо, получай свое удоволствие и ничего нэ обещай, никаких разговоров про любов нэ заводи… глупости это!
Тогда все это было очень интересно слушать, немного боязно узнавать, тем более — соглашаться со Жгентией. И когда дошло до конкретики, все я сделал наоборот, совсем не так, как рекомендовал старший коллега, ходок и мастер охмуряжа. Он, как и обещал, вывел меня на цель. Девушка оказалась такая белая-белая, будто ее кожу покрыли белилами, при том она была рыжеволосая, рыжей морковки. На нижней губе, изнутри у нее была очень впечатляющая припухлость. Короче говоря, я врезался в это чудо природы по самые, как говорят, уши и вовсе не испытывал никакого желания заметать следы, менять «цель», как советовал многопытный Жгентия. Днем я обычно летал, а освободившись от работы, чуть ли не ежедневно сматывался к Молли.
Разговаривали мы мало, хотя я уже кое-чему научился и с пилотами или механиками мог объясниться не только на служебные темы. А вот с Молли жалко было терять время на болтовню. Судя по ее поведению и она придерживалась примерно такого же мнения.
Жгентия, от острого взгляда которого ничего не укрывалось, месяца через два такой жизни сказал озабочено:
— Посмотри на себя в зеркало, ты жэ нэ человэк, ты — ободранный кот. У тэбя нос больше моего носа стал! Прекрати эти пэрэгрузки, пока тэбя не прекратили здэсь.
Он как в воду смотрел. Молча, тихо меня перенацелили. Из Америки не поперли, но назначили в перегонную группу. С точки зрения познавательной это было даже любопытно — мы пролетали своим ходом от Аляски до Мурманска. Не слабо? Часовые пояса так и отскакивали за спину. Такие сверхдальние перелеты на истребителях — великолепная шлифовка мастерства, тем более что погода на трассе — капризней не выдумать.
Поверь на слово, не однажды приходилось снижаться в такой неизвестно откуда наползавшей облачности, что идешь к земле и хоть молись — ну, боженька… покажи землю-матушку… на высотомере у меня ноль, боженька… сделай, чтобы не случилось по анекдоту: нет земли, нет земли, нет земли… полный рот земли!
«Кобра» была надежной машиной, ничего не скажешь, только в те годы оборудования для слепой посадки еще не существовало. И приходилось продираться сквозь глухую белую муть, когда и горючее уже на исходе, в буквальном смысле на честном слове…
Приказали, и я исправно гонял «Кобры», мне не хватало Молли, но больше всего думал в ту пору: когда же это все кончится? Не может война тянуться вечно. Думал и переживал, пока не завалился на вынужденную, не долетев до Тикси километров сорок. Учитывая, что я — не Джек Лондон, прошу прощения, и рассказывать, как тащился эти окаянные километры, как сам себя готов был похоронить, не стану. В итоге я сильно обморозился тогда, но выжил, хотя на какое-то время маленько, по-моему, трехнулся. Еще отлеживаясь в госпитале, случалось, мучался какими-то дикими бессвязными видениями, мне слышались голоса, чудилось, будто из снега поднимаются незнакомые лица, они пытаются разговаривать со мной, зовут куда-то, смеются и плачут…
Лежу, обрастаю новой кожей, обновление идет очень медленно, все чешется, хочется ободрать себя до самых костей, и тут вроде изменяется освещение, в голове возникает мерный шум, но не моторный, вроде бы — это море стонет. И из голубоватых сумерек появляется Молли. Или не она? Она! Не могу понять, где я — в Америке или дома? Мы ведь подлетали к Тикси, когда у меня разнесло винт… И снега кругом были наши, российские.
— Это ты? — спрашиваю я Молли.
— А кто же? Я…
— Как ты меня нашла?
— Очень просто. Ты же в своей палате.
— Скажи, мы разговариваем по-английски или по-русски, я что-то не могу уловить…
Слышу ее смех. Ласково, хорошо так смеется. И мне кажется, будто я становлюсь маленьким. Я живу на берегу моря. И кругом песок, песок, песок, мягкий, как мука и белый, как снег, только теплый… Потом я куда-то проваливаюсь. И ничего не помню больше.
На другой день меня утешает доктор: «В конце концов все будет хорошо, — уверяет он, — после таких травм и потрясения, что тебе достались, нервишки нормальным порядком отказывают. Временно! Скоро пойдешь на поправку».
А вечером все начинается сначала, только теперь не сестра и не доктор, не Молли видятся мне, а бравые ребята из ведомства «Самого».
— Здравствуй, капитан! Узнаешь? — Капитан он произносит с усмешкой и угрозой. Знает — перед ним самозванец и аферист.
— Скорость отрыва «Каталины»? Та-ак, а теперь быстренько — давай-ка крейсерский режим Р-39, та-ак, а если на «Кинг-кобре» летишь? Хорошо. Быстренько — скорость, обороты, давление масла, температура? Кто тебя свел с рыжей? Быстро. Она немка…
— Какая немка? — пытаюсь я возражать. — Чушь собачья — немка.
— Не очень шуми, капитан! Генерал, что забросил тебя в Америку, обрезав фамилию, прошел через нас по пятьдесят восьмой… так не стоит тебе возникать. Поправляйся пока. Привет от «Самого», он тебя ждет, вроде работку подобрал…
От бесконечного лежания у меня болели уже бока, раскалывалась башка от мыслей, я мучительно старался понять, где кончается явь и начинается сползание в бред. Меня напрочь замучило это «мишугирование», как говорила бабка, когда бывала особенно недовольна мной. И отец, если только слышал, непременно вмешивался:
— Вы могли бы, мама, сказать тоже самое по-французски или по-немецки… Вы же владеете, мама, разными языками, а не только еврейским.
— Куш мир ин тохес, француз паршивый, — оскорблялась бабка и требовала раздобыть ей подпольной мацы — скоро пасха!
— Мама, девятьсот тринадцатый год давно кончился, — недовольно ворчал отец, — пора менять привычки.
Но запрещенную мацу ей все-таки доставали. Бабка жирно мазала ее маслом, приклеивала ветчину и, перевернув свой кощунственный бутерброд ветчиной вниз, ела его с выражением торжествующей Бабы-Яги. И ничего, еврейский бог ее почему-то не наказывал.
Как же я не любил часы, когда ко мне возвращались картинки из моего насквозь фальшивого детства. То есть детство было, понятно, подлинное, а фальшь пропитывала все кругом. Раньше, чем я узнал, что означает слово «мимикрия», я познакомился с этим явлением во множестве его вариантов. Да-а, эти картинки были еще неприятнее, чем воспоминания о Гальке, о том, как я дрожащими руками расстегивал на ней пуговицы, как оттягивал тугие резинки и… капитулировал. Трусил.
Теперь уже почему-то не стыдно признаться, я много раз трусил. Перед отцом, перед школьным директором, перед дворником, перед инструктором в аэроклубе, перед Галькой, перед парашютными прыжками и, когда попал в кабинет «Самого», тоже трусил… И все-таки я не стал бы клеймить себя позорным клеймом — трус. Когда шестилетним я проснулся от странного шума на фоне освещенного уличным фонарем окна и разглядел мужскую фигуру на подоконнике, я не поднял крика, а сел в кровати и спросил: «Куда ты идешь, дядя?» Дядя удалился, не удостоив меня ответом. Позже мне объяснили — дядя был вором… В семь лет я запросто подходил к любой собаке. Мне говорили: укусит! Не лезь так близко! Но я лез и почему-то знал — меня собака кусать не будет. Подростком я съездил сволочи-учителю по морде, и хотя после этого мне пришлось покинуть школу-десятилетку и перейти в техникум, никогда не сомневался — поступил правильно. В конце концов я сам сделал себя летчиком, а на исходе войны превратился даже в летчика-испытателя.
Так важно ли: трусил я или не трусил? Важно совсем другое — что в конце концов из человека получилось. Бывало — штопорил, но всякий раз благополучно выходил из очередного штопора, хотя он вполне мог бы закрутить меня глубоко в землю… Страх — защитное чувство, способствующее самосохранению. И вся штука в том, чтобы не поддаваться панике, когда тебя прижимает, преодолевать страх силой разума, силой воли, предыдущим опытом.
A.M.: Здесь я снова попробовал напомнить Автору, что для цельности и занимательности повествования все-таки не хватает боевых эпизодов. Очень требуется красочка военного времени, а то люди стали уже забывать имена героев «пятого океана», что дрались в небе и по прежнему достойны восхищения и памяти.
АВТОР: Ты — просто «смола», ну, что пристал со своими эпизодами? Пойди в любую библиотеку и погляди, сколько километров книг про войну там выстроены в колонны. Погляди, потом поинтересуйся, а сильно ли эти книги читатель требует? Про войну людям давно надоело, больно уж много вранья развели вокруг этого времени… А ты опять свое: эпизодики давай, красочку добавь… Ладно, вот тебе эпизод и на нем — ша!
Когда я еще с первым моим командиром корабля летал на «Дугласе», был у нас один особо впечатляющий рейс. Везли мы за линию фронта деятеля международного масштаба! Понятно, ни фамилии, ни имени его нам тогда не открывали, операция проводилась в глубокой тайне, но по самому маршруту можно было кое-что предположить. В далекой от места вылета точке нам предстояло колыхнуть того деятеля с парашютом. Мужик был в приличных уже годах, к парашютному спорту явно не приобщенный, почему он на такое проникновение к своему народу согласился, сказать не берусь.
Летим час, другой, третий, ночь лунная, прозрачная, можно сказать хрустальная ночь. И вдруг мой командир говорит:
— Как считаешь, Максим, а что если присесть? Жалко мне старика выкидывать…
— Сесть, почему не сесть: видимость «колоссаль», только как потом взлетать будем?
— Нет в тебе куража, Максим! Трусы в карты не играют. Не взлетим, так накроемся. Война! И война без жертв не бывает…
Никак я такой выходки от моего командира не ожидал. Очень до этого момента он представлялся мне респектабельным, сверхдисциплинированным. Но, видать и впрямь, чужая душа — потемки.
И ведь сел командир! Старика выгрузил и тут же пошел на взлет. Чуть позже парашют выкинули. Еще в полете командир предупредил экипаж: кто протреплется, из-под земли достанет и на шашлык пустит, а потом как рявкнет:
— Благодарю за службу, орлы!
Такой военный эпизодик тебе подходит? И не приставай, не спрашивай, где садились? Никто не знает, сколько времени действуют подписки о неразглашении.
Или ты ожидал эпизода со стрельбой, а еще лучше — с тараном?! Про безногих героев писатели больно любят распускать слюни. Еще в цене у них бабы в роли командира корабля. Чего мне повторять кого-то? Все, перехожу на другую волну. Не надо всерьез относиться к самой говенной литературе о нашем благородном ремесле.
После войны я вернулся в институт, из которого был откомандирован в Америку. Начальник сменился. Меня, понятно, никто не помнил, я тоже едва кого-то узнавал. Проболтался я месяца два фактически без дела, жил в гостинице, порой меня назначали в наряды — то дежурным по гарнизону, то в офицерскую столовую дежурным. Для изучения нравов тоже, между прочим, не бесполезно. Чего, например, стоит мода на отдельные начальственные кабинеты в офицерских столовых?! Воевали вместе, командир — друг, товарищ и брат — сам погибай, а товарища и тем более, брата — выручай. Правильно? А по мирному времени начальнику рядом с подчиненным принимать пищу сделалось вдруг зазорно. С чего бы? Авиация вседа отличалась своим демократизмом, я на войне называл полковника «батей» (если он того стоил!) и ничего, считалось нормально. А тут что-то пошло вкось. И!
Ходил я ходил по нарядам, да и решил — будя! Проявив инициативу, пошел в кадры осведомиться, что же со мной дальше будет? Очкарик-кадровик спрашивает тоненьким таким, почти женским голоском:
— Как ваша фамилия, капитан? — и смотрит на меня, будто удав.
— Капитан Робино, фамилия.
— Француз? — то ли спрашивает, то ли констатирует подполковник. — Скажить, месье, а у вас случайно не осталось американских защелок для шинельных пуговиц?
Тут я вспоминаю: на военных плащах американцы пуговиц, действительно не пришивают, а сажают их на аккуратные, очень практичные металлические защелки.
— Откуда, — простодушно говорю я, — мы в Америке постоянно ходили в штатском.
— Раз нет, так нет, хотя жаль… Зайдите в понедельник, капитан, мне надо относительно вас посоветоваться кое с кем.
Мне, дураку, и в голову не пришло, что в понедельник следовало являться к нему не с пустыми руками, взяток по-нахальному тогда, правда, еще не брали, но «знаки внимания» — ценили. И ведь мог я приличную зажигалку захватить, были у меня в запасе атласные игральные карты с голыми бабами на рубашках, вполне бы подошли. Но я не допер.
В назначенное время снова появился в кадрах, ничего дурного не ждал, хотя с незапамятных времен в авиации понедельник считают не лучшим днем. Может предрассудок это, а может и нет. Не знаю.
— Есть мнение, направить вас на повышение квалификации в академию. Там формируют как раз специальные курсы. — Объявил мне подполковник. — Считайте, капитан, вам крупно повезло: берут вас без экзаменов.
Плохо понимая на что мне этот спецкурс, но чисто интуитивно я решил не возражать. Принял предписание, вовсе не предполагая, как здорово мне опять улыбнулась госпожа удача. При академии я пересидел самое бурное время борьбы с космополитизмом, шумное дело «врачей-убийц» и, возможно, только благодаря этому удержался на летной работе.
Учился без особого рвения, но с твердым намерением усовершенствовать мой самодеятельно освоенный английский язык.
Мысленно я еще пытался порой беседовать с рыжей Молли, нашептывал ей всякую чушь. И до того увлекался, что случалось порой заговаривал по-английски с моими случайными подругами. Чаще всего приводил их в полное недоумение, им и в голову не могло придти, кого я представлял себе в такие моменты на их месте. А одна дурочка даже настучала «куда следует» — не шпион ли (она Куприна читала!), а другая оказалась съездовской синхронной переводчицей и напротив оценила мое рвение весьма высоко. Около нее я долго барражировал и по части английского языка получил отличный тренаж. Про себя я называл эту переводчицу — «Рязань», такая курносая была у нее внешность. То, что «Рязань» замужем, да еще за адмиралом, я долго понятия не имел. А когда меня вызвали в политотдел по подозрению в прелюбодеянии, так сказать, меня это сильно задело. Адмиральша ты или не адмиральша, какая в конце концов разница, женщин надо ублажать, полагал я, тем, которые не склонны к блуду, следует помочь и отважиться. При этом следует блюсти заповедь военного времени: советские офицеры с женщин денег не берут. В политотделе мне грозили множеством неприятностей, и это решило дело — я ринулся в решительную атаку на «Рязань», твердо решив не отступать, чтобы все угрозы, черт возьми, не оказались напрасными.
Как раз в это время, еще до того, как «Рязань» пала, я получил выговор за аморалку. Выглядело такое вполне юмористически — я был беспартийным. Как тогда острили: я — ВКП(б) — вроде как партийный — в скобках — беспартийный. Куда они тот выговор записали, зарежьте — не представляю.
А «Рязань», спустя самое короткое время, шикарный номер отколола. Звонит мне и сообщает:
— Мой муж, подлец, собирается подложить под тебя свинью. Когда я ему сказала, что он не мужчина, а вареная морковка… Понимаешь? Он вскипел, как самовар, и потребовал, чтобы я ему показала мужчину, который удостоен моим вниманием, он хочет знать… — тут она замолчала.
— Что знать? — спросил я.
— На кого я его променяла.
— И?
— Естественно я обещала вас познакомить.
— Очень любезно с твоей стороны. Я просто мечтаю предстать перед твоим Нахимовым.
— Надо быть джентельменом, — переходя на английский, сказала «Рязань». — Тем более, что устроить тебе неприятности он вполне, я уверена, способен… с его связями и характером.
— Выходит, мне не мешает очаровать этого человека, ну, а как минимум — понравиться ему, втереться в приятели, да?
— Не знаю, не знаю, но встречу я обещала.
A.M.: Должен признаться, тут я повел себя бестактно, попытавшись ускорить повествование. Все мы, мужики, падки на подробности, когда речь заходит об адюльтере. Но Автор проявил завидную стойкость.
АВТОР: Не суетись. А то меня может хватить инфаркт от рецидива переживаний. Дай мне собраться с мыслями. Самое-самое еще впереди, ты должен меня беречь, мастер слова! Убери-ка форсаж, сбрось обороты и налей нам по пятьдесят граммов… Чтоб ты был здоров, летописец!
То, что я сейчас наговорю, наверное, следует считать отступлением. Но я же имею право на такой ход, правда? Так слушай сюда!
Иду по улице, вижу, около магазина привязан к витринному ограждению пес. Лохматый, крупный, непонятной породы, но весьма свирепого вида. Останавливаюсь, смотрю. Он тоже мне в глаза уставился. Даю слово, я понимаю собаку — она в тоске и тревоге. Спрашиваю:
— Плохо тебе, брат?
И она отвечает мне взглядом, ушами, всей шерстью — очень! Тут из магазина выходит мужик. Соображаю — как не спрашивай — мужик идет к собаке. Сейчас отвяжет ее и поведет. И точно. Отвязывает, да так хамски дергает поводок и тихо матерится, аж противно смотреть. Я — к нему:
— Продай собачку.
— Осторожно! Она и разорвать может: мой зверь таких не любит.
— Каких?
— Именно таких, как ты.
— Интересно рассказываешь, только меня твой зверь в жизни не тронет.
— Очень храбрый? Попробуй, прикоснись ко мне. Ну! Спорнем — не прикоснешься.
— А на что поспорим?
— Да хоть на бутылку «Столичной».
— Можно и на «Столичную», а на него не желаешь?
— На кого?
— Как собаку зовут?
— Зовут — Лорд. — Стоит мужику произнести ее кличку, собака поджимается и в ее желтых выразительных глазах, даю слово, светится мука.
— Значит так: я тебя трогаю и собаку тоже трогаю. Если он меня после этого жрать станет, к тебе никаких претензий, а с меня бутылка, если жрать не станет, ты отдаешь мне собаку. Годится?
Мужик смотрит на собаку и хрипловатым голосом командует:
— Сидеть, гад! Чужой! Голос, Лорд, голос!
Лорд лает густым устрашающим голосом. А я говорю:
— Славный ты парень, не сердись, не надо сердиться. Я тоже хороший. Спокойно, малыш, спокойно, мы обязательно поладим с тобой, — и тут я беру одной рукой мужика за пуговицу пиджака, а другой тихонечко глажу Лорда по холке. Собака дрожит мелкой дрожью и эта нервная дрожь входит в меня, проникает через кончики пальцев. В какой-то момент я слегка отталкиваю мужика от собаки и осторожно перебираю поводок.
— Видишь, не разорвал меня зверь? — Тут я присаживаюсь на корточки перед псом, прикасаюсь к его мохнатой голове щекой. — Теперь ты будешь у меня Тимой. Понял? Тима, Тимошенька…
Не поднимаясь с корточек, вытаскиваю из заднего кармана сотенную, чуть комкаю ее и бросаю к ногам мужика.
— Что швыряешь, сволочь, я по-твоему не человек?!
— Не ори! Скажи спасибо. Это тебе премия, нагнешься, не переломишься, я не хочу, чтобы Тима подумал, будто я его купил. Ясно? Нет, этого тебе не понять… Можешь выпить за его и мое здоровье, это будет исключительно справедливо.
Как он отошел от нас, не помню. Сохранилось ощущение — был, был, был… и, наконец, исчез.
Таким странным образом осуществилась голубая мечта моего миновавшего детства — иметь собаку. Мне не разрешали держать в доме пса. Говорили — от собак глисты заводятся, еще какую-то муру городили…
Вот теперь я могу, если интересно, рассказать про рандеву с «Рязанью» и ее опасным адмиралом.
Сначала мы договорились о месте этого дурацкого свидания. Ресторан я отклонил сразу. Не с руки мне гулять с адмиралом за одним столиком, тем более, что пить с ним на брудершафт я не собирался. И потом, кто бы стал расплачиваться? Он — за меня? Я — за него? «Рязань» — за нас? Любой вариант представлялся мне по меньшей мере смешным.
— На Страстном бульваре есть не худшая в Москве забегаловка на открытом воздухе. Знаешь? — спросил я «Рязань». — Правильно, это совсем близко от Петровских ворот. В шестнадцать ноль ноль я буду ждать тебя там.
В четырнадцать тридцать я зашел к дежурному по факультету, наврал, что заступаю в наряд и взял пистолет. Дома, вспомнив лбов из кабинета «Самого», я присобачил кобуру к подтяжкам. Убивать я никого, понятно, не собирался, но, знаешь, когда телом чувствуешь оружие, очень многое в человеке меняется, и на душе становится спокойнее, и голова начинает работать лучше, прибавляется решительности. Немного подумав, я надел на Тимошу выходной ошейник, и мы отправились на это идиотское рандеву. Пришли, как я и рассчитывал, за пятнадцать минут до назначенного срока. Взяв бутылку шампанского, три пирожных я поставил на столик соответственно три бокала и стал ждать.
Они опоздали минут на десять.
Что сказать о первом впечатлении? Постараюсь быть объективным и признаю — они смотрелись со стороны вполне нормальной, хорошо притертой парой. Он был, пожалуй, лет на десять старше «Рязани» из породы мелкокалиберных жилистых мужиков, о таких говорят: маленькая собачка — до старости щенок. На свиданку адмирал пришел в штатском и больше напоминал провинциального бухгалтера, чем бравого кадрового вояку. А она… сказать тут особенно нечего: «Рязань» и есть «Рязань».
Они приблизились. Я встал.
— Здравствуйте, — почему-то официально сказала она, — знакомьтесь, мой муж.
— Здравствуйте, — ответил я и поклонился. — Я так и догадался, что это твой муж.
— Догадливость украшает человека, — прокомментировал он, не подавая мне руки, спросил начальственно: — А для чего при вас собака?
— Тимоша вывел меня прогуляться, с вашего позволения…
— Он у тебя недавно? — поинтересовалась «Рязань».
— Недавно: я плохо переношу одиночество, а Тимоша отличный друг. Он никогда не возражает, всегда внимательно слушает, почти меня не перебивает и старается помочь… Кроме того, его тоже предали, так что получается — два сапога — пара. — Я открыл шампанское и разлил по бокалам. — Мне кажется, тост за тобой, — сказал я, обращаясь к «Рязани».
— Ну, что ж. За мужчин — бывших и будущих!
— Браво! — отреагировал адмирал и почему-то по-английски скомандовал: — Полный вперед!
Тут я допустил явную промашку, спросил у Тимоши:
— Ну, как тебе это нравится, паренек? — У него взъерошилась шерсть на загривке, он устрашающе обнажил клыки, и мне вдруг показалось, что пес готов кинуться на мужчину, объявленного «Рязанью» бывшим.
— Тихо, Тимоша, спокойно, мой хороший, — на всякий случай я перехватил его ошейник. Пиджак на мне распахнулся, и адмирал успел разглядеть пистолет, прикрепленный к подтяжкам.
— Вот вы по какому ведомству, значит! — И дальше, обращаясь исключительно к «Рязани», он сказал брезгливо: — Благодарю за доставленное развлечение, но сидеть за одним столом с собаководом, даже если он ученый кинолог, — слишком много чести! — Он встал и, косясь с опаской на Тимошу, направился к выходу. Пожилой военный в штатском, таким он мне запомнился.
— Догони! — Велел я «Рязани». И она затрусила вслед за ним. Мы остались вдвоем. Было тихо. В деревьях беззаботно чирикали птички. Жизнь продолжалась. Тимоша слопал пирожные, я допил шампанское — не пропадать же добру, и мы отправились восвояси. Тимоша шагал в ногу со мной и время от времени заглядывал мне в лицо, словно хотел понять, — так как у нас дела?
Задачу я выполнил, летописец: адмирала изобразил, чем закончилась оккупация чужой жены — тоже и собаку-умницу не забыл. Ты доволен, надеюсь? Чего хочешь еще услышать теперь? Как я летал после войны? Вопрос понят. По-разному летал, с переменным успехом, с большими или меньшими отклонениями от норм, так могу сказать, если коротко. Но сперва ты дорисуй главу по своему усмотрению, а я буду шевелить извилинами и соображать, из чего делать текст дальше, чтобы было нескучно!
A.M.: Исполняя волю Автора, дописываю конец второй главы. Вероятно, читатель, если дело дойдет до такого, захочет представить, как выглядит Автор. Он кряжист, широк в плечах, у него большие и беспокойные руки — все время что-нибудь теребят или перебирают. Автор совершенно седой, хотя выглядит весьма моложаво. Мы знакомы с ним очень давно, и я могу свидетельствовать: он совершенно не умеет сидеть без дела. При всякой возможности хлопочет по дому, не считает зазорным заниматься, как он любит говорить: «половым вопросом», и паркет в его доме блестит, словно зеркальный! Он охотно исполняет всякую починочную работу в квартире, вполне может также и борщ сварить и сациви приготовить. По его стойким убеждениям мужчина должен быть универсалом. И, если, допустим, академик оказывается не в состоянии толком забить гвоздь в стену, такого академика он просто не признает достойным уважения.
Понимаю — я не объективен к Автору, слишком долго мы дружим, слишком, что называется, спелись, поэтому не стану продолжать его развернутое описание, а попробую выразить формульно кратко, что же он собой представляет.
Автор еще очень живой и не очень занудный…
Глава третья
АВТОР: Так на чем мы остановились? Вспомнил: я должен рассказать о послевоенном летании. В том заведении, которое посылало меня в Америку, дай бог здоровья этому заведению, мне было совсем неплохо жить за океаном, но по возвращении меня из института турнули. За что? Шла всесоюзная чистка на фоне борьбы с космополитизмом. В документах я значился капитаном Робино, но, по понятиям спецслужб это была, конечно, наивная маскировка. Каких либо серьезных прегрешений за мной не числилось, но это и не имело в то время никакого значения. Приглашает меня для беседы местный представитель СМЕРШ — «смерть шпионам» называлась служба, призванная блюсти интересы страны. Иду и думаю: сейчас начнется ниткомотательство, что я делал в Америке, с кем общался, как встречался, почему… и тэдэ? А если точнее? Вспоминайте — это важно. Но я ошибся. Майор, с которым предстояло беседовать, мне сразу не приглянулся, решил не докладываться ему по форме, а спросил просто:
— Звали?
— А вы, собственно, кто? — поинтересовался с явным неудовольствием майор, но никакого замечания не сделал.
— Капитан Робино.
— Ясно. Еврейским языком владеете в какой степени? Чего угодно я мог ожидать, только не такого вопроса.
— Слов десять знаю, — говорю в ответ, — из них примерно семь — ругательных.
— Английским в какой степени?
— Слегка. Разрешение на посадку запросить могу.
— Как понимать — «на посадку»? — без улыбки интересуется майор.
— В буквальном! На подлете к аэродрому приземления полагается представиться и попросить разрешения на посадку.
— Ясно. Сколько вам лет, Рабинович?
— На вашем столе лежит мое личное дело. Чего вы тратите зря время, спросите, что вас интересует, и я вам честно отвечу: мне нечего скрывать. Давайте, майор, говорите?
— Во-первых, товарищ майор, во-вторых, не забывайте — вы у меня в кабинете, а не я у вас, так что потрудитесь соблюдать.
— Есть! — рявкаю я. — Учту и исправлюсь, товарищ майор, но все-таки вы бы мне сказали, чем могу служить?
— Имеется предложение направить вас в Израиль. У нас складываются сейчас новые, благоприятные отношения с этой страной. Израилю требуется помощь, не в последнюю очередь — военная. Страна создает свою армию, можно сказать, с нуля.
— И вы решили, будто именно я должен им помогать? Извините, и в каком качестве?
— Предположим, послужить командиром эскадрильи в системе создаваемых сил противовоздушной обороны…
— Комэской я вполне могу и дома служить. Честно говоря, я всю израильскую авиацию в гробу видел, товарищ майор. И никаких патриотических чувств к этой стране я не испытываю. Мне больше цыгане нравятся: тысячу лет назад вышли из Индии, за пятьсот лет растеклись по всему свету и никому не подчинились, ни с кем не смешались. Свободные люди без предрассудков…
— Не валяйте дурака, Рабинович…
— Извините, я же до вас не дотронулся! Если вам очень нужно от меня избавиться, ладно, поеду хоть в Израиль, но на должность не ниже, чем заместитель командующего ВВС. — С этими словами я повернулся через левое плечо и позволил себе выйти вон из кабинета, не испросив на то разрешения товарища майора.
Примерно, через неделю меня вывели за штат. Попытка выяснить — за что? — никаких результатов не дала, а еще спустя месяц, меня уволили в запас — по сокращению штатов (так было обозначено в приказе).
И вот я сижу в размышлениях дома. Думаю, думаю и ничего путного придумать не могу — куда бы кинуть кости? Что я могу, что я умею, чего стою? Ну, летчик я, летчик, маленько владеющий английским языком. А есть ли спрос на таких, кто его знает, и куда соваться?.. В самый разгар этого душевного разброда звонит «Рязань», воркует сизым голубочком и предлагает встретиться. Есть о чем серьезно поговорить.
— О чем говорить, подруга, когда меня из кадров высадили. Что значит — как? Обыкновенно, коленом под зад и никаких долгих разговоров.
— Тебя уволили? Совсем? — спрашивает «Рязань» и, к моему удивлению, голос ее звучит весьма оживленно, — Выходит, ты теперь свободный человек?
— До того, между нами девушками говоря, свободный, что жить стало категорически тошно.
— Подожди тошнить! Давай лучше махнем на недельку в Сочи. Там уже тепло и еще мало народу. Восстановим гемоглобин и, чего еще надо восстановим. Учти, я на данном этапе вполне при деньгах… Ну, перестань благородствовать! Ну, в конце концов, можешь взять у меня в долг, если ты такой щепетильный…
A.M.: Почти уверенный, что Автора потянуло на лирику, я уже готов был ввести поправку в курс повествования, но мое благое намерение оказалось совершенно напрасным.
АВТОР: Тут я пропускаю двадцать четыре такта. Сочи — рай для бездельников, и все, сюда попадающие, взаимодействуют примерно одинаково. Разница лишь в возможностях расходной части бюджета. Свои две недели мы отработали по полной программе, не экономили и уже наладились возвращаться в Москву.
Лететь предстояло на Ту-104.
Уже у трапа я совершенно случайно встретил знакомых перегонщиков с трассы Аляска — Мурманск, теперь они составляли аэрофлотовский экипаж и топали к своей машине, стоявшей рядом с нашим «Ту». Мы малость потрепались, пока смазливенькая стюардесса не поинтересовалась: или мы летим или мы остаемся? Не помню, что я ей ответил, очевидно, попытался сострить в ответ и поднялся в салон. Через несколько минут мы взлетели. Я приготовился задремать, когда ко мне подошла та самая со смазливенькой мордочкой стюардесса и сказала:
— Извините, я слышала ваш треп с нашим экипажем, вы случайно не летчик? — А видок у девочки непонятно с чего сделался, как через два часа после аборта.
— Случайно — нет… — говорю, — но летчик — да. И как только вы догадались?..
— Пожалуйста, пройдемте в пилотскую кабину… очень прошу… экипаж просит…
Поднимаюсь с места. «Рязань» смотрит на меня с подозрением, но я, понятно, иду — экипаж просит! Гадаю, что им может быть от меня нужно? Картина открывается устрашающая: первым рухнул командир корабля, следом — второй пилот, оба чуть живы, по их словам, видать, отравились, отведав в частном секторе шашлычка.
Самолет летит на автопилоте. Экипаж старается скрыть тревогу, только старого воробья на мякине не проведешь, вижу отчетливо — мужики психуют. Конечно, на автопилоте они еще долго могут держаться, но кто будет приземлять корабль? Автопилот посадке не обучен.
Сто четвертую мне в руках держать не приходилось, но машина она и есть машина, что, думаю, главное — не суетись, Максим! Люди летают, и ты — сможешь. Усаживаюсь в пилотское кресло, примериваюсь к моему неожиданному рабочему месту, бортач в это время проводит техминимум. Толковый мужик попался — никаких лишних слов, без беллетристики, что называется, поясняет, как мне следует действовать при заходе, снижении и самой посадке. Словом, мы с ним, можно сказать, весь полетик в четыре руки разыграли и благополучно, даже не нарушив расписания, тихо присели во Внуково. За это время штатные летчики успели капитально проблеваться, были еще бледные и осунувшиеся, но слава богу, оба живые.
Все получилось вроде как надо, но тут бортач совершает колоссальную ошибку. Еще не подали трап, когда он вышел в салон и объявил пассажирам, что они должны меня век благодарить, чуть не ноги целовать за спасение их драгоценных жизней и сохранение дорогостоящей материальной части. Тут такое началось, что я еле ноги унес, даже «Рязань» умудрился в толпе потерять. Правда, ненадолго. Вечером она позвонила и начала со страстью объяснять, какой я герой, молодец и образцово-показательный мужчина, хоть на ВДНХ меня можно выставлять. Я попросил ее зря не пылить словами, и она сразу изменила тон, сказала по-деловому, что завтра же с утра займется моим трудоустройством.
— До вчерашнего дня я знала, что ты летчик, — сказала «Рязань» — а вчера почувствовала! Летчик и еще какой! Ты меня понимаешь?
Как она действовала не знаю, только в итоге меня пригласил на беседу некто Александров, заместитель генерального конструктора по летной части. КБ он представлял знаменитое. Генеральный был отмечен Золотыми Звездами и едва ли не дюжиной орденов Ленина. Прижизненно зачислен в гении. И вдруг им потребовался именно я. Чудеса!
Позже узнал: у «Рязани» была школьная подруга, трудившаяся на знаменитой фирме, и, несмотря на свою не больно высокую должность, пользовавшаяся особым расположением Генерального. Долгое время «Рязань» держала свою старую подругу, если можно так сказать, в резерве, а тут позвонила. «Рязань» капнула — ей, она — Генеральному, Генеральный — Александрову. Но это я понял позже. А пока приезжаю по адресу. В проходной проверяют документы, никакого пропуска не выписывают, навешивают на грудь желтенький значок с номером и показывают, куда идти. Порядок впечатляющий: в желтые двери мне проход открыт, в синие — извините, не суйтесь, не для вас…
Александров оказался импозантным, седоватым, очень любезным и неторопливым. Сперва задал мне несколько вполне стандартных вопросов и пояснил:
— Наша фирма заинтересована в вас в связи с тем, что мы получили так сказать, сверхплановое задание. Предстоит испытание воздушного винта с принципиально новой системой регулирования шага лопастей в полете. Винт решено поставить на серийную машину, надежно облетанную и спокойную. Ориентировочно программа займет десять-двенадцать полетов. Если наше предложение может вас заинтересовать, мы продолжим разговор, чтобы уточнить все детали — юридические, технические, материальные. — Высказав все это, Александров смотрит на меня, не торопит, ждет.
— Позвольте задать вам вопрос? — говорю я. — Почему ваша фирма решила пригласить на эту работу «варяга»? Мне казалось, летчиков-испытателей у вас в штате не два и не три?
Александров взглядывает мельком на роскошные наручные часы и говорит:
— Нас ждет Генеральный. Он лично знакомится с каждым летчиком, приходящим к нам. Поднимемся к нему — время, на вопрос я непременно отвечу чуть позже. Мне этот дипломатический маневр не очень понравился, но делать было нечего — время! Генеральных ждать не заставляют.
Кабинет, в котором должна была решится моя судьба, оказался меньше, чем можно было ожидать, но интерьер смотрелся совершенно обалденно и, что особенно запомнилось, крутом было полно самых немыслимых зеленых насаждений — в горшках и горшочках, в кадочках и в кадках… Генеральный — маленький человечек в темно-синем двубортном костюме — на фоне этого зеленого великолепия не производил особого впечатления, во всяком случае никаких внешних признаков гениальности я в нем не обнаружил.
Когда меня запускали пред ясные очи, из кабинета Генерального выруливал полковник. По знакам отличия и эмблемам, плюс Звезде Героя, естественно было предположить — летчик-испытатель. Позже я узнал, это был шеф-пилот фирмы, он пытался выяснить, почему на испытание воздушных винтов приглашают постороннего человека, при том, что его ребята вовсе не перегружены работой? Что говорил ему Генеральный, мне, понятно, неизвестно, но выходил полковник от начальства с откровенно раздраженным видом.
Чтобы долго не тянуть, докладываю суть истории, которую я постиг спустя какое-то время. Заниматься новыми винтами Генеральный не желал, причин на то было несколько, но главная — он относился с недоверием к автору этих винтов, опасался возможных неприятностей, которые потом запишут на счет фирмы. Но тут на Генерального спустили самого министра и деваться было некуда, возражать министру невыгодно, пришлось сказать — да.
Вести испытания Александров, не задумываясь, предложил по собственной инициативе шеф-пилоту, тому самому полковнику, что столкнулся со мной в дверях высокого кабинета. Однако Генеральный воспротивился:
— Это неразумно рисковать таким ценным летчиком, — сказал он Александрову, — потрудитесь подобрать на стороне пилота подешевле. — И уточнил тут же: — Нет-нет, заплатим мы ему хорошо… Нам своих сохранить надо. Теперь, я думаю, вам все ясно? Кадры беречь надо…
Со мной Генеральным разговаривал не очень долго, и на вопрос о «варяге», который я успел ввернуть в эту беседу, ответил без заминки:
— У нас очень много работы, народ втянулся, нет смысла кого-то перенацеливать, отрывать от основных программ. Вы же сможете полностью сосредоточиться на предлагаемой программе и провести ее без излишней трепки нервов.
Про сами винты рассказывать не буду, это материя сугубо техническая и мало кому может быть интересной. Замечу только — Генеральный правильно не хотел с ними связываться. Новая автоматика оказалась изумительным дерьмом, отказ следовал за отказом. Первые десять полетов заняли два месяца. Думаю, Генеральный вполне обоснованно ожидал катастрофы, и решение нанять варяга подешевле вполне соответствовало интересам фирмы.
И все-таки эту программу я дотянул до конца, ни разу не убившись, хотя дважды падал на вынужденную и оба раза — вне аэродрома.
Не знаю почему, но отношения с летчиками фирмы долго не складывались. Внешне все выглядело вполне благопристойно, а взаимного притяжения не наблюдалось. Думаю, меня держали за незваного гостя, за чужака, пытающегося втереться в их дружную компанию. А потом все переменилось.
Не знаю, что тут и сказать — всю жизнь меня преследуют разные «вдруг», «внезапно», «неожиданно». Просто как в плохом кино случается что-то… и жизнь меняет направление.
Возвращаюсь домой с последним поездом метро. Выхожу на пустынную платформу и вижу: в центре зала на лавочке восседает наш шеф-пилот. Рядом милицейская дама и дежурная в красной шляпочке что-то ему втолковывают. Что-именно — еще не слышу, но догадываюсь — полковник пьян до упора, до того бедняга расслабился, что ничего уже не соображает. Зрелище, мало сказать грустное, — человек при погонах, при Золотой Звезде Героя, со знаками заслуженного летчика-испытателя, и «мама» выговорить не может.
Подхожу и, не повышая голоса, делаю предложение:
— Игорь Александрович, а давай проведем тренаж — «пеший по-летному». Ну-ка, иди сюда и будем выруливать в паре!
С трудом приподнимаю его с лавочки, мужчина он крупный, увесистый. Он что-то бормочет, тяжело виснет на мне, но «вырулить» все же пытается.
Сердобольные женщины вьются рядом и интересуются, куда я собираюсь его вести? Они явно сочувствуют упившемуся летуну, а на меня поглядывают с подозрением. Не ограбил бы хорошего человека? Объясняю бабам: живу в доме напротив станции метро, дотащу полковника до лифта, а потом будет легче: лифтом — до квартиры, два шага — и на диван. Мы работаем вместе с полковником. Думал все, ан нет — дама-милиционер спрашивает:
— А какие-нибудь документы у вас имеются? Можно взглянуть?
Предъявляю пилотское свидетельство. Она долго разглядывает его, очевидно, никогда раньше такого документа не видела. Вскинув бровь, спрашивает:
— Вы француз, что ли? Ро-би-но… Отлично понимаю — острить не время, надо тащить шефа домой, но не могу удержаться:
— Какараз, — говорю я, — дорогой старший сержант, я капитан запаса. Полковник — мой начальник, не беспокойтесь я его ни в коем случае не обижу.
Но добрая женщина не успокаивается, говорит, что через семь минут конец ее смены, и она охотно поможет мне в буксировке.
Намучившись, мы добрались до лифта. И тут я… замечаю — старший сержант колеблется — откозырять и удалиться или найти предлог, чтобы подняться в квартиру и оценить обстановку на месте.
Приглашаю даму наверх.
Она явно смущается, но в конце концов возносится на мой седьмой этаж и плавно притормаживает у входа в квартиру.
— Заходите, — говорю я, — раз уж так получилось, поможете мне еще чуть-чуть и, если пожелаете… места всем хватит. Третий час ночи, куда и на чем вы теперь потащитесь? Заходите.
Постелив на диване, мы разоблачаем Игоря Александровича до трусов и закатываем к стеночке.
— Ну, теперь убедились, я не жулик, не прохиндей, и наш полковник нормальненько у меня отоспится и завтра будет как огурчик! У меня есть еще одна комната, ванна и кухня. Вполне можете переночевать, а точнее доночевать под этой крышей. Кстати, как прикажете вас называть.
— Меня зовут Люба.
— Люба — это прекрасно, а я соответственно — Максим. Ваше решение, Любочка?
Опускаю ряд ночных подробностей этого происшествия, самое забавное происходит утром. Что подумал шеф, проснувшись, мне неизвестно. Может спросил себя: где это я? И тут обнаружил исчезновение всей амуниции, кроме ботинок, всех регалий и документов… Во всяком случае, стоило мне скрипнуть дверью, как полковник резко вскинулся на постели и молча уставился мне в лицо.
— Добрый день, Игорь Александрович, как самочувствие, если оценивать по пятибалльной системе?
— Тройка с минусом. Это предельно глупо спрашивать, но все-таки: где я?
— У меня в гостях, Игорь Александрович, и, пожалуйста, не смущайтесь, с кем не случается.
В этот момент, деликатно постучав в дверь, вошла Люба. Появление старшего сержанта милиции, хоть и женского пола, произвело на размундиренного полковника ошеломляющее впечатление.
— А это, извините, кто?
— Это — Люба, — сказал я, — она деятельно способствовала вашему перемещению со станции метро сюда. А я — ваш коллега. Впервые мы столкнулись с вами в дверях Генерального, когда вы следовали из кабинета, а я — в кабинет. Не помните? Я — тот «варяг», которого ваша почтенная фирма наняла на испытание подозрительных винтов с новой системой регулировки шага.
— Черт знает что происходит. Ничего не могу понять… а где мои шмотки?
— Любочка, — спрашиваю я тут, — а мы готовы вернуть полковнику его мундир?
— Конечно! Форма в полном порядке, отутюжена и пуговицы начищены, как полагается. Сейчас принесу…
— Слушай, — незаметно переходя на ты, спрашивает шеф, — а почему все-таки милиционерша эта в твоей квартире?
— Во-первых, для охраны и обороны объекта, а во-вторых, — для протокола…
— Какого протокола?
— Обыкновенного. По опохмельному делу тебе полагается принять душ, после чего опрокинуть рюмашечку, позавтракать. Вот такой протокол. Шмотки Люба отутюжила и сейчас наладит нам завтрак.
Вопросы есть? Возражения? Принято единогласно! Он впервые улыбнулся:
— Выходит сообразим на троих?! Ну-у, дела… В жизни со мной ничего подобного не случалось! А как тебя звать, неудобно получается: он меня ночует, а я не знаю, как его зовут.
— Робино, Максим, капитан запаса, товарищ полковник.
— Ну, спасибо тебе, француз. Представить себе такого не мог, чтобы до полного выключения… Веришь, как умер и — воскрес. Кошмар и восторг! Жив.
Стоит вникнуть в эти слова: главное — жив. Нет, я вовсе не собираюсь разводить сантиментальную мороку вокруг нашего испытательского ремесла: сегодня жив, «а завтра я чуть свет уйду от вас», но одно надо четко понимать — эта профессия из числа профессий повышенного риска и хотя бы поэтому заслуживает особого уважения. Каждый, кто не согласен с таким положением, пусть съездит в подмосковный город Жуковский, не на авиакосмический салон и не на празднование Дня Воздушного Флота, а на местное городское кладбище и неторопливо пройдется вдоль могил, внимательно вчитываясь в даты: родился — похоронен…
Поэтому ни я, ни кто другой не смеет судить шефа или упрекать его — и не стыдно в таких летах, в таких чинах. Сам я, между прочим, почти не пью, но не из этических или эстетических или каких-нибудь еще высоких соображений, просто вино не содействует моему расслаблению, не снимает стресс, ни на грамм не прибавляет радости. Приняв «норму», я становлюсь угрюмей, медленно сползаю в меланхолию, а перешагнув за «норму» и вовсе скисаю, могу даже слезу уронить.
Когда-то пришел к маме со своим добрым приятелем, старым летчиком-инструктором, мужиком, в авиационных порядках искушенным.
Мама захлопотала, собирая на стол, чтобы угостить нас, как могла лучше и порекомендовала моему приятелю прежде всего проглотить граммов тридцать сливочного масла.
— И тогда вы сможете спокойно принять столько спиртного, сколько душа потребует… Масло обволакивает, и человек не пьянеет.
Услышав это наставление, мой приятель спросил с неподдельным удивлением:
— Но для чего же тогда пить, если ничего не почувствуешь?
«Выпил рюмку, выпил — две…» — очень деликатная тема. И как ее не поворачивай, сколько не рассуждай, мне кажется, ничего более существенного, чем высказал шеф выдумать невозможно: главное — жив.
Об этом и многом другом главном у меня появилось время капитально подумать после очередной вынужденной посадки.
В тот день все вроде бы благоприятствовало выполнению задания. И погода лучше не бывает, и движок, можно сказать, шелестел и настроение соответствовало, пока на высоте в полторы тысячи метров, уже на подходе к аэродрому, машину дико не затрясло, и почти сразу в фонарь ударило черным и жидким. Первое, что я понял — фонарь забило горячим маслом, второе, что до меня дошло — винт разрушился и слетел. Выключив зажигание и перекрыв пожарный кран, подумал — может и не загорюсь… Но за пределами кабины я почти ничего не видел.
Самолет, внезапно превратившийся в планер, снижался. Если бы не забитое маслом лобовое стекло кабины, пожалуй, пилотирование и не представляло бы особых трудностей. Некоторое время я вел машину исключительно по приборам, не открывая сдвижную часть фонаря, так как боялся, чтобы горячее масло не залепило физиономию. Передав о случившемся земле, я выждал до высоты тысяча метров, и, крадучись потянул сдвижную часть фонаря назад. Бог миловал, масло больше не фонтанировало, но обзор был — хуже не придумаешь. На аэродром я попадал, не сомневался: зайти и нормально приземлиться поможет земля. Так и получилось…
Инженерная служба принялась за выяснение причин аварии, а мне, откровенно говоря, делать было решительно нечего и я просто не знал куда себя девать.
Каждое утро я исправно приезжал на работу, толкался в летной комнате, читал техническую литературу, иногда смотрел телевизор, случалось, гонял шары на бильярде или принимал участие в общем трепе — на аэродромах такой треп называется банком. «Травить банк» — святое дело! Наверняка я бы мог какое-то время вовсе не появляться на службе, едва ли кто-нибудь заметил мое отсутствие, но я исправно приезжал. Почему? Отчасти по велению совести, но еще больше потому, что меня не покидало ожидание чего-то важного. Нет-нет, телепатом я себя не считаю, но приближение очередного вдруг как-то бессознательно почти всегда ощущаю и жду.
Обычно в летной комнате народ подолгу не задерживается. Входили, выходили, возвращались, один я, забившись в угол, повышал свой профессиональный уровень, назовем это так, с вашего разрешения. Когда надоедало разбираться в чертежах и графиках, брался за книгу Г. Голубева, выдающегося и, увы, недооцененного современниками летчика и педагога, большого психолога. «Изучить характер человека — значит с точки зрения его психологических особенностей ответить на вопрос: что же в нем главное? Большой и значительный характер — это большая определенность в значительных делах». Мне эти мысли Голубева были не чужды, я готов был к попытке продолжить рассуждение, но меня окликнул шеф, незаметно появившийся в летной комнате.
— Загораешь, француз?! Мозги себе запудриваешь? А подсобить трудящимся не хочешь?
Не спрашивая, каким трудящимся требуется подмога, я спросил:
— Нет вопросов, кроме одного — чего делать? Оказалось надо втихаря слетать за второго пилота с Романцевым. Его штатный второй пилот почему-то на службу не явился, приболел или загулял, пока неизвестно, время не ждет — месяц кончается. Романцеву лететь не с кем. Почему лететь надо было втихаря, я признаться, не сразу понял. К работе на прототипе бомбера меня официально никто не допускал, это — раз; в приказе я не значился членом экипажа — это два; пилотского свидетельства летчика-испытателя установленного образца, я не имел, это — три. И еще можно добавить — допуск к секретной работе то ли не поступил в фирму, то ли был задержан по пути…
Машина, на которой предстояло лететь, была двухдвигательная, реактивная, скоростная. Из нее со временем должен был вырасти зверь-бомбардировщик. А сегодня предстояло замерить расходы горючего и уточнить скороподъемность на высоту в десять тысяч метров. Задание самое рядовое.
— Обязанность правого, — посмеиваясь, сказал шеф, имея в виду второго пилота, — не мешать левому. Так что я на тебя надеюсь, сиди себе спокойно и все будет о'кэй. Да-а, вспомнил! Ты знаешь, что записано в первом параграфе боевого устава пехоты израильской армии?. Нет… так запомни на всякий случай: во время боя запрещается давать советы командиру… Ну, все, и не попадайся на глаза Александрову! Сожрет с потрохами. Меня сожрет.
Романцев был старожилом фирмы, пролетавший общим счетом лет двадцать пять, если не больше. Он быстренько познакомил меня с кабиной, велел посидеть на месте второго пилота, попривыкнуть к расположению приборов и органов управления, а сам мотанул подписывать полетный лист, в котором вторым пилотом значился Юрченко.
Никто не обратил внимания, с чего бы это к диспетчеру явился сам командир корабля, хотя обычно эту формальность исполняли второй пилот или штурман. В запланированный час мы взлетели.
Теперь — стоп! Прежде, чем я расскажу, как прошел тот полет, для не авиационного читателя надо объяснить, что означает Мах.
A.M.: Эрнст Мах, пражский профессор (1838–1918), физик и философ-идеалист, подвергнутый в свое время уничтожающей критике Ленина в его знаменитой работе «Материализм и эмпириокритицизм») в авиации стал опасно известен лишь во второй половине прошлого века, известен числом Маха (число М), показывающим отношение скорости полета к скорости распространения звука. По мере того, как скорость летательного аппарата приближается к числу М=1, изменяется характер обтекания машины, соответственно и ее поведение становится совершенно неожиданным. Сегодня летать на двойной и тройной скорости звука, когда М=2, даже — М=3 — дело обычное, а в то время, когда разворачивались события, о которых здесь речь, «звуковой барьер» был областью достаточно темной и более чем опасной. К числу М=1 приближались крадучись, с опаской, далеко не каждый такой полет заканчивался благополучно.
АВТОР: Пока мы набирали заданные десять тысяч метров, все шло нормально. У меня даже была возможность поглядывать по сторонам, ощущать ослепительную синеву медленно темневшего с набором высоты неба, любоваться белыми-белыми, как мыльная пена, облаками, оставшимися много ниже нас. Истинная скорость полета в разреженном воздухе увеличивалась быстро, и число «М» приближалось к предельному, а вот скорость приборная, та, что определяется разностью между полным и статическим давлением воздуха, закономерно снижалась. В ту пору я очень приблизительно разбирался в аэродинамике больших скоростей, но все-таки соображал — перемещение самолета в пространстве совершается с истинной скоростью, а вот подъемная сила крылышек зависит от скорости приборной. Правда в полете эти соображения до поры до времени никак меня не занимали.
В полете на большой высоте есть свои неудобства, например, быстрее устаешь, надоедает кислородная маска-намордник, случается, пучит живот, но есть и своя особенная прелесть, прежде всего — удивительная чистота небесного свода, его меняющаяся окраска.
Так мы спокойно летели в этой красотище, и до десяти тысяч метров, что нам полагалось набрать оставалось уже совсем немного, когда машина безо всякого предупреждения, вроде бы ни с того ни с сего, стала беспорядочно падать.
Это невозможно описать, как только что послушный самолет впал в истерику, и штурвал внезапно вырвался у тебя из рук, мечется по кабине, больно бьет по коленям, а горизонт в это время кувыркается перед глазами. Все попытки поймать штурвал и утихомирить машину ни к чему не приводят. И тут я услыхал хриплый, придушенный голос командира корабля:
— Всем покинуть борт! Экипаж, прыгаем… прыгаем…
Рядом громыхнуло, кабину заволокло дымом — это сработало катапультное устройство, и командира вместе с креслом вынесло из самолета. Первая мысль: высоко еще… глянул на высотомер, стрелочка приближалась к отметке семь тысяч метров. Успею выпрыгнуть… очень уж не хотелось катапультироваться. Глянул на махметр — по мере того, как мы, снижаясь, входили в более плотные слои атмосферы, число «М» стало заметно уменьшаться. И тогда, как это ни удивительно, я сообразил, надо еще немного подождать, машина должна успокоиться. Не зря я читал ученые книжки, ах, не зря! Ну-у, без паники, — приказал я себе, — успеешь еще выпрыгнуть.
Где-то между пятью и четырьмя тысячами метров мне, наконец, удалось схватить за рога штурвал, и тут я совершил мой маленький «подвиг» — мне до писка хотелось потянуть штурвал на себя, приподнять нос машины, устремленный к земле, но я заставил себя отдать штурвал, действуя почти подсознательно, дал набраться скорости и тогда только принялся вытаскивать машину из пикирования и одновременно из правого крена.
Приборная скорость пришла к норме, крылышки заработали, самолет снова сделался послушным, хотя, как потом выяснилось, местами обшивка была заметно деформирована. Осторожно снизившись, я зашел на посадку и, что называется, перекрестившись, приземлился.
И здесь, на родной земле, началось.
Первое, о чем меня спросили: где командир? Катапультировался, ответил я совершенно честно. А почему он катапультировался? — спросили меня тут же. И я снова совершенно честно описал, как все происходило — корабль потерял управление, беспорядочно падал… А ты в таком случае почему не катапультировался? — прозвучал следующий вопрос. Как мне было отвечать, не представляя, что может сказать о случившемся Романцев? И я нахально соврал: хотел катапультироваться, но катапульта не сработала. И тут же получил убийственное — врешь! Контровка на спусковой скобе не сорвана, ты и не пытался прыгать. Пришлось раскалываться и докладывать все до конца по полной правде. Доложил. Но это был не конец, а начало второго раунда.
— Каким образом ты вообще оказался в кабине на законном месте Юрченко?
Мне вменили в вину, что я не сдавал зачетов по знанию материальной части корабля, на котором полетел, что у меня не было надлежащим образом оформленных документов — допуска и пилотского свидетельства… Этим дело не кончилось. Кажется, шаг за шагом рождалось «дело капитана Робино» и, надо думать, все бы добром не кончилось, когда б не вмешался Генеральный. Пожалуй, наше второе с ним знакомство заслуживает отдельной главы.
Глава четвертая
A.M.: Генеральный, под знаменем которого служить по воле случая досталось Автору, был вне всякого сомнения великолепным организатором, сильным конструктором и, как ни обидно констатировать, весьма сомнительного качества человеком. Именно в таком порядке будет справедливо перечислить его ведущие свойства. Кто-то его почитал, стараясь не замечать чисто человеческие слабости, но были и откровенно ненавидевшие Генерального, они считали его фигурой дутой, поднятой на пьедестал славы чужими руками. Но, как бы то ни было, этот человек возглавлял фирму, и самолеты, носившие его имя, пользовались заслуженной славой. Заслуженность машин признавали и доброжелатели и хулители Генерального.
В числе слабостей Генерального была и Юля, сперва его личный секретарь, потом, согласно новой моде, — референт, та самая Юля, одноклассница «Рязани», с помощью которой Робино попал на знаменитую фирму.
Большинство ведущих конструкторов относится к своим летчикам-испытателям с несколько преувеличенным респектом и старается подчеркивать их, летчиков, особые заслуги в успехах фирмы. Скорее всего, такое отношение связано с тем, что испытатель, по самой должности, оценивает результаты трудов инженеров, в их числе и самого Генерального. И когда дело доходит до летной оценки, ни почетные звания, ни высокие ученые степени, ни украшающие грудь ордена, ни тяжелое золото генеральских погон значения не имеют. Испытатель возвращается из полета, кладет на стол беспристрастные записи контрольных приборов, и сразу, по горячему следу пишет отчет, в котором никто и ни при каких условиях не имеет права исправить ни буковки, ни запятой.
Когда произошел незаконный полет капитана Робино, Генеральный находился в отъезде. Их встреча состоялась только через неделю. Романцева похоронили — катапультировался он неудачно, поток встречного воздуха бросил летчика на хвостовое оперение, возможно, он был убит и не сразу, но искалечило так, что раскрыть парашют Романцев не смог. Правда, автоматика сработала и парашют доставил на землю еще теплое тело мертвого летчика.
Обо всех подробностях катастрофы Генеральный узнал от Александрова. Не обошлось, как обычно, и без дополнительной информации от Юли. К ее сообщениям он прислушивался всегда с особым вниманием, полагая, что в них находит отзвук, так сказать, глас народа.
АВТОР. Понимая, что объяснение с Генеральным неизбежно, я старался заранее вообразить, о чем он пожелает узнать, и прикидывал, как стану отвечать на его вопросы. Перешагнув в назначенное время знакомый порог, первое, что я услыхал:
— Ну, что героический герой пятого океана, вы собой вполне довольны? Или червячок сомнений все-таки жует душу?
В тот день Генеральный был почему-то в генеральском мундире, и поэтому я обратился к нему по званию:
— У меня нет особых причин в чем-либо укорять себя. А червячок, естественно, точит: как-никак случилась катастрофа, хотя машина относительно цела.
— Понятно. Себя, значит, ни в чем не упрекаете, а Романцева?
— Мертвые сраму не имут, товарищ генерал.
— Скажите пожалуйста, какие мы благородные! А я вот нахожусь в удивлении — вы голый практик, летчик с образованием техникума, сумели четко разобраться в ситуации и вернули экспериментальный корабль земле, а образованный и многоопытный Романцев, — тут, к моему полнейшему изумлению, Генеральный грузно выругался, — сиганул с заоблачной высоты… Ожидая, что последует далее, я молчал.
— Откуда ты такой грамотный, француз Робино, как тебя называет Игорь Александрович? Тоже, между прочим, гусь хороший в вашей с Романцевым истории. Давай, француз, — карты на стол… как дело было? Это тебя американцы так лихо натаскали? Ну, чего молчишь?
— Мне кажется, товарищ генерал, в этом кабинете мне положено давать конкретные ответы на конкретные вопросы.
— Заладил — генерал, генерал… не прикидывайся служакой, я же знаю — это не твое амплуа! Меня зовут Михаил Ильич. Ты понимаешь, что за спасение такой машины и при таких обстоятельствах тебя следует немедленно представить к геройскому званию, но вот беда — полет контрабандный, иначе не назовешь, документы у тебя не в порядке, катастрофа, как ты сам отметил, случилась… Так что придется ограничиться денежной премией.
— Не надо и премии, Михаил Ильич, лучше помогите мне узакониться, если это в ваших возможностях. Сдать экстерном все экзамены, чтобы получить официальный статут летчика-испытателя, я готов.
— Вот ты какой оказывается. И орден тебе не нужен?
— Честно говоря, не нужен. — И забыв о его тщательно собираемой коллекции орденов Ленина, которой он наивно похвалялся, я неожиданно объявляю: — ну, какая стала цена всем орденам, когда самого Чкалова, какую-то Пашу Ангелину вместе с тысячами других доярок отоваривают одинаково?
Генеральный поднимается со своего места и сухо перечисляет:
— Понял. Пишите заявление с просьбой принять вас на постоянную работу в фирму. Это в моих возможностях. Готовьтесь к экстерну. Надеюсь, в течение месяца вы сумеете сдать зачеты и пройти комиссию министерства. Приказ о премии в размере трехмесячного оклада я подписал. Вы свободны, капитан.
— Благодарю, товарищ генерал. — Так, едва начавшись, Михаил Ильич навсегда для меня приказал долго жить — близости не получилось. Не могу не съерничать по этому поводу: я — начальник, ты — дурак, ты — начальник, я — дурак. Не ново.
Вечером мне учинила колоссальный допрос с пристрастием «Рязань».
Ей надо было все знать — что он сказал, что я сказал, а — он, а — ты?
— Подожди, но ему хоть толком доложили, как ты падал и как спасся? — Поинтересовалась «Рязань».
— Падал? Кто тебе это сказал, вовсе я не падал. Терял высоту, — тут выяснилось — лучшая подруга Юля успела порядочно чего награмофонить «Рязани», расписав наш полет в собственной интерпретации, и мою беседу с Генеральным в том виде, как она ее представляла. Попутно Юля навела «Рязань» на совершенно неожиданную для меня мысль, вроде бы я — высокоблагородный человек. Почему? И с чего только такое могло ей придти в голову? Юля не могла себе представить, чтобы кто-то из ее знакомых мог запросто отказаться ото всех наград, когда они сами, что называется, идут в руки. Из такого странного заключения «Рязань» сделала еще более удивительный, на мой взгляд, вывод:
— Кажется, теперь я начинаю понимать, почему ты всегда уходишь от разговора, когда я пытаюсь обсудить — а не пожениться ли нам? Ты, конечно, знаешь, чем должна закончиться твоя чертова работа, и благородно не можешь допустить мысли — нет, я не могу ее овдовить! Я угадала?
Надо же было такое словечко придумать — «овдовить»!
— Интересно ты, однако, проинтуичила, подруга, очень забавно. Давай больше об этом не будем. — Тут я прикрыл ладонью глаза, замолчал на время. Пусть думает, что хочет. Молодец Чехов! Когда еще отметил: сколько среди дам идиоток!
А сейчас я забегу месяца на три вперед, чтобы закруглить тему. На Красную горку, в первое воскресенье после пасхи, в роскошный весенний день, получаю приглашение быть свидетелем… не-ет, не в суде, в ЗАГСе, на бракосочетании «Рязани» с неким Мефодиевым Валентином Силычем. Слава богу, церемония должна состояться хоть не в том ЗАГСе, где когда-то на втором этаже стояли угрюмые часовые при винтовках с примкнутыми штыками.
Все было обставлено в самом лучшем виде. Цветы, шампанское и прочее — от людей не стыдно! «Рязань» едва выглядывала из нагромождения какой-то белой воздушности со сборчато-кружевной отделкой и мелкими блестящими цацками по всему подолу. Она просто светилась, изображая предел мыслимого блаженства, что, впрочем, не помешало ей найти момент уже после апогея церемонии и шепнуть мне:
— Не переживай и не расстраивайся, Максим, ты навсегда персона грата… Понял? — Признаться, я не очень сообразил, что за этим кроется: подошел улыбающийся Валентин Силыч и не без игривости поинтересовался:
— А не разрешите ли пригласить собственную и законную супругу на легкое теловращение? — Речь, как не трудно было догадаться, шла о затеплившихся танцах, и я, понятно, не стал возражать. Тем более законный супруг ничего не требовал, а лишь покорно просил.
Не смешно ли быть свидетелем этому, ей богу, цирку и не просто свидетелем, а официальным. Мне досталось расписываться в какой-то книге, на вид — амбарной, разумеется, дарить цветы, больше того — источать жалкое остроумие, облеченное в форму замысловатого тоста. Спрашивается, какого черта? А вот так принято, оказывается, «общественное мнение» того требует! Стыдно признаться — представление о Бальзаке у меня довольно приблизительное, но… «Человеческая комедия» — это старик здорово, я думаю, на века врубил.
Чем Валентин Мефодиев прельстил «Рязань», для меня — тайна, судить не берусь. Хотя, объективности ради, готов свидетельствовать — мужчина он был крупный, хорошо сложенный, с открытой улыбкой на чистом лице. Думаю, в этой вновь испеченной паре старшинствовала «Рязань». А что она держала в уме, сказать трудно, хотя что-то, уверен, наверняка притаила.
Возвращаюсь к прерванной истории. День сдачи главного экзамена на звание летчика-испытателя приближался, я получил уведомление об этом. Откровенно признаюсь — я беспокоился. И не столько потому, что сомневался в моей подготовленности, сколько из-за очень уж мрачных слухов, ходивших вокруг этой процедуры. Особенный ужас на абитуриентов наводил почтеннейший и заслуженнейший председатель комиссии, один из основоположников нашей профессии.
A.M.: Осторожную деликатность Автора нетрудно понять — глава квалификационной комиссии был и на самом деле из тех, кто при жизни попадает в разряд исторических личностей. Наверное, это высочайшее признание вполне заслуженно. Но, как известно, людей без недостатков не бывает, так уж распорядилась природа — все мы награждены, не только достоинствами, но и известными слабостями. Тот, в чьих руках должна была оказаться судьба капитана Робино, не составлял исключения. Летчик божьей милостью, он так долго вдыхал фимиам славы, был окружен волнами лести и показного преклонения, что поверил в собственную сверхисключительность. Постепенно он становился все высокомернее, нетерпимее к тем, кто стоял хоть на ступеньку ниже, он становился еще и мелочней. Пока летал и летал, повторяю, блестяще, коллеги мирились с его недостатками, но с тех пор, как он сошел с летной работы и стал, так сказать, начальником наземного базирования, почтение к нему стало заметно убывать. Человек, несомненно, умный, он не мог этого не замечать. Замечал, только, увы, не становился терпимее, а, напротив, цеплялся за мелочи, азартно «качал права» и сильно терял от этого в глазах окружения, особенно в глазах летающего народа.
АВТОР: Накануне экзамена, уже под вечер ко мне совершенно неожиданно прикатил Игорь Александрович. Как мне показалось, он был в прекрасном расположении духа и, что называется с порога, огорошил меня:
— Ты знаешь, чего я приехал? За мной — долг. Верно?
— Какой долг?
— Или ты с милицейским эскортом не оттранспортировал меня на этот диван? Или ты не прикрыл меня по всем правилам воздушного товарищества? Таких вещей, француз, я не забываю — долг платежом красен. Вот я и приехал для возвращения долга. — С этими словами Игорь Александрович вытащил бумажник, извлек из него несколько плотных карточек и пояснил: — Смотри сюда: на лицевой стороне выписаны вопросы, которые тебе зададут завтра члены комиссии. На оборотной стороне — правильные ответы. Выучи! — Распорядился шеф, — и спокойно ложись спать. Считай, что пилотское свидетельство летчика-испытателя у тебя в кармане. Все, я поехал!
Мне было до смерти интересно узнать, как он сумел организовать такую операцию, но Игорь Александрович отшутился: «Секрет фирмы!», и, главное — не имей сто рублей… имей верных друзей, займешь по десятке у каждого, глядишь — разбогател. А дальше безо всякой видимой связи спросил:
— Любовь где?
— Чья любовь? Какая?
— Полагаю, твоя… ну, старший сержант милиции..
— Так ты Любу имеешь в виду? Наконец, до меня дошло. Только ничего такого между нами нет.
— Темнишь?! Впрочем, не настаиваю. Вообще-то я не терплю мужиков, которые изображают себя этакими ходоками и неотразимыми «угонщиками» чужих жен.
Говорить Игорю Александровичу, что в настоящий момент я сам являюсь, пользуясь его терминологией, жертвой угона, — от меня не так давно ушла жена — не стал. Это дело личное, обсуждать тут, думаю нечего. Почему? Отчего? Как сохранить объективность, если отвечать, а отвечать субъективно и вовсе нет смысла. И тут я почему-то подумал: интересно, а Люба замужем или нет?
Игорь Александрович уехал, а я принялся изучать его карточки. Врать не стану — моральная сторона этой аферы меня как-то не затронула, если я о чем и беспокоился, то лишь об одном, как бы не получилось накладки. Но на следующий день все пошло как по маслу. Уважаемые профессора и им, так сказать, равные члены комиссии задавали мне именно те вопросы, что значились в карточках. Отвечал я, если не текстуально, то достаточно близко по смыслу к готовым ответам. И члены комиссии удовлетворенно кивали головами и милостиво мне улыбались.
Заподозрил ли что-то неладное глава почтенного собрания, только в какой-то момент он подал голос:
— Превосходно, а теперь позвольте задать вам дополнительный вопрос. Прошу внимательно вслушаться в мои слова. Итак вопрос: ка-ак летает реактивный самолет?
Вопрос показался мне подозрительным легким, просто-таки детским по наивности, но деваться было некуда и я начал: «Масса газа, то есть воздуха, входящая в двигатель…» Глава комиссии тут же перебил меня:
— Я просил вас ответить не почему, а как, слышите, к а к летает реактивный самолет. Вслушайтесь в вопрос внимательно.
Недоумевая, чего он от меня хочет, начинаю заново, захожу с другого конца:
— Из закона Ньютона мы знаем… Но он снова тормозит:
— Вы невнимательно отнеслись к моему вопросу. Повторяю: не почему, а как, как летает реактивный самолет? — не унимается экзаменатор.
И тут, что-то внутри меня, будто лопается, я прихватываю полы пиджака, раскидываю руки в стороны и с диким воем — у-у-у-у — семеню в вираже перед почтенной комиссией.
Глава собрания смотрит на меня с недоумением и, кажется, с состраданием. А первый из профессоров принимается заразительно хохотать, при этом он выкрикивает:
— За находчивость — пять! Пять ему за остроумие! И все члены комиссии единогласно голосуют за это предложение. Мне так и не удалось узнать, чего хотел уважаемый старший товарищ, чего он так настойчиво от меня добивался? И сегодня не ведаю в чем разница между почему и как летает реактивный самолет. Впрочем, куда важнее другое — после того дня я получил законное пилотское свидетельство летчика-испытателя и, как многие меня предупреждали, нажил себе еще одного опасного противника: старик никому и ничего не прощал. Конечно, персонально на меня ему было решительно наплевать, но дружный профессорский смех требовал возмездия. Однако внешне все выглядело обычно: меня приказом ввели в штат летного состава фирмы, теперь шеф-пилот оказывал мне не только полное доверие, но и всячески подчеркивал свое особое расположение. Время от времени на меня выходила «Рязань». Без особых ухищрений, правда, и не вдаваясь в подробности, она дала понять: муж — мужем, но персоной грата остаюсь я. Спрашивается, чего можно было требовать от жизни при таком раскладе?
Только я давно заметил: слишком хорошо — тоже нехорошо. Отлетав очередное задание, не стащив еще комбинезона, едва успев отстегнуть наколенный планшет с записями, сделанными в воздухе, я уселся было писать отчет о полете, как меня позвали к городскому телефону. Подумал: ну, некстати — отчет о полете надо писать по горячему, дымящемуся, можно сказать, следу, не отвлекаясь, а тут…
На мое неприветливое «да» в телефонной трубке откликнулся незнакомый густой баритон и выдал примерно такой текст:
— Товарищ Робино? Вас беспокоит майор Завадский, нам нужно встретиться, желательно завтра между семнадцатью и восемнадцатью часами в гостинице «Центральная», на третьем этаже в комнате триста семнадцать. Вы меня поняли?
— Я не гулящая девка, майор, и в гостиничные номера по вызову не являюсь. Если это не розыгрыш и вы на самом деле майор, потрудитесь прислать официальную повестку. — С этими словами я повесил трубку, не дожидаясь ответа неизвестного мне майора или «майора».
Если спокойно разобраться, ничего не случилось, но настроение капитально испортилось. Преодолевая раздражение, усилием воли не позволяя себе отвлекаться, я вернулся к отчету. Когда закончил, направился в столовую. По дороге встретил Юлю. К тому времени мы были уже довольно тесно знакомы, и я знал, какую роль в моей судьбе сыграла эта близкая и давняя подруга «Рязани», понятно, я был ей благодарен. Не скажу, будто мы всерьез приятельствовали, но, как мне кажется, испытывали вполне взаимное расположение друг к другу.
— Привет, — улыбнулась Юля, — что случилось? — улыбка немедленно исчезла с ее лица. — Ты же отлетал вроде нормально, я слышала, как Игорь Александрович Генеральному докладывал, нахваливая исполнителя, а теперь видок у этого самого исполнителя… того гляди, не укусил бы.
— Не кусачий я, Юлечка, я самый мирный на свете человек, а если у меня злющий вид, то как тут не разозлиться, — и я рассказал Юле об имевшем место звонке из органов, отнюдь не тех, что приносят радость.
— Хулиган! Вот уж не ожидала такого остроумия…
— Кто хулиган? Я — хулиган? Осторожней, подруга, каждый понимает сказанное в меру своей испорченности.
— Странно… — как бы и не слыша меня выговорила Юля и предожила: — Может пойдем и покурим?
— Не курящий я, но с такой девочкой готов хоть в курилку, а могу и на край света, подруга.
— Оказывается ты не только хулиган, но еще и бабник? Юля курила какие-то сильно пахучие сигареты. Времени это отняло не больше минут десяти, и я узнал, что на днях был звонок из управления Военно-Морского Флота к нашему кадровику. В точности Юля не знала, чего именно они хотели, но можно предположить — интересовались капитаном Робино вроде бы для уточнения анкетных данных.
— Эта информация строго конфиденциальная, только — между нами! — не приминула предупредить меня Юля.
К военным морякам я никогда никакого отношения не имел. С чего бы мог кто-то интересоваться моей анкетой? И тут, будто на киноэкране мне увиделась не худшая забегаловка на бульварчике близ Петровских ворот, оскаливший клыки Тимоша, готовый, как показалось, кинуться на адмирала, и удаляющаяся спина оскорбленного мужа «Рязани». Она ведь потом говорила что-то такое… вроде бы он собирается подложить под меня свинью. Чего ждать и откуда?
— А-а, бог не выдаст, свинья не съест, сказала Юля — не бери в голову и не расстраивайся раньше времени. Придумаем что-нибудь.
Наверное в моем возрасте не фасон декламировать перед дамами чужие стихи, впрочем, и свои — тоже. Но тут как-то совершенно непроизвольно получилось, как всплеск из подкорки: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, так что ж, пройду над родной страной стороной, как проходит косой дождь».
— Скажите пожалуйста, какая разносторонность! Этот хулиган и бабник, оказывается, еще и лирик, — с усмешкой заметила Юля.
Надо было как-то подзажаться, чтоб не расползтись в переживаниях, предчувствиях и прочей чертовщине. Вот я и пошел к Игорю Александровичу и попросился слетать на учебно-тренировочной пилотажной машине, что стояла около нашего ангара, вроде бы безо всякого дела.
Шефа я перехватил на стоянке и попросил:
— Игорь Александрович, разреши слетать на «малыше», — тут я махнул рукой в сторону ангара, — есть потребность поразмяться.
— Чего? Потребность есть… Пошли. — И он молча зашагал к административному корпусу, ничего более мне не говоря и ни о чем не спрашивая.
Только перед самой дверью Александрова сказал:
— Ладно, слетаешь. А задание получишь от Александрова. Кроме хозяина кабинета там оказалась молодая женщина. Откровенно говоря, я ее толком и не разглядел сначала.
— Вот вам, Мирон Иванович, — говорит Игорь Александрович, — летчик-инструктор, — тут он показал на меня, — а я, с вашего разрешения, пойду готовиться к вылету по своей работе.
Не очень понимая, что происходит, какая кошка пробежала между моими начальниками — держались оба вполне корректно, старались не показать вида, я ждал что же произойдет дальше. Александров отпустил Игоря Александровича готовиться к его полету и, когда мы остались одни, то есть — втроем, сказал:
— Познакомьтесь, — он назвал меня, а потом объяснил: — это Валентина Пономарева, пилот Центрального аэроклуба. У нас есть идея подготовить Валю, я уж, с вашего разрешения, не стану величать такую молоденькую девушку по отчеству, подготовить Валю к вылету на нашей машине. Если все пойдет удачно, а я полагаю, так оно и должно быть, мы ее выпустим на побитие рекорда скорости. Но сперва надо соблюсти формальность. Вас, Робино, попрошу проверить технику пилотирования у Вали. Машина подготовлена, ждет около ангара. Вот и весь разговор пока.
Пока мы шли к самолету у меня хватало времени рассмотреть пилотессу повнимательнее. Она была среднего роста, вполне плотного сложения, внешне — не из красавиц, но и не мордоворот, довольно заурядная особь женского пола. На ней были суконные брюки, затянутые широким армейским ремнем, поверх бежевого свитера — сильно потертая пилотская кожаная куртка. Перед самолетом я спросил:
— На такой машине раньше вылетали?
— Летала.
— Когда в последний раз?
— Вчера, ближе к вечеру.
— Вот и отлично, значит все должно быть ясно. Взлетим, наберете тысячу пятьсот метров, старайтесь выдерживать режим набора возможно строже. На заданной высоте развернетесь на сто восемьдесят градусов и у границы аэродрома, над пересечением шоссе и реки, пилотируйте. Покажете, что умеете, что вам самой захочется. Особенно усердствовать не надо. Вопросы есть?
Вопросов у Пономаревой не оказалось.
Прежде чем надеть парашют, пилотесса туго затянула свой армейский ремень, и я сообразил — будет поражать меня перегрузками. Ну что ж. Посмотрим, посмотрим.
Кто выбирал Пономареву в претендентки на мировую рекордсменку и по каким параметрам, я не знал, да и не очень это меня интересовало. Слетав с ней, я понял — летает она сверхотлично, так могу сказать. Что особенно понравилось — не суетится. Каждую фигуру она исполняла чисто, в хорошем темпе, фиксировала начало и конец, будь то «бочка» или «ранверсман». Отпилотировав, доложила по переговорному устройству:
— Все. Разрешите снижение?
Сначала я хотел было взять управление на себя и отвести душу, но тут передумал: лучше Пономаревой на этом игрушечном самолетике мне не отпилотировать, так не стоит и соваться.
— Давай на посадку, — сказал я, — связь с КП держу я. На земле положено давать проверенному летчику замечания. За всю мою летную жизнь не было случая, чтобы хоть один контрольный полет обошелся без замечаний на земле. Наверное поэтому, когда Пономарева, скинув парашют и ослабив поясной ремень, доложила по всей форме:
— Товарищ инструктор, разрешите получить замечания? — я сказал:
— Нет у меня, Валя, никаких замечаний. Нормально ты летаешь. И тут она впервые улыбнулась, правда очень сдержанно. Видать знала себе цену, девка, видать привыкла отстаивать свои права. Именно отстаивать. Женщины летают давно, чуть не с первых дней авиации, но мало кто из мужчин, распоряжающихся небом, способствует женскому летанию. Между прочим, я бы не брал девушек на летную работу. Девушек беречь надо, ласкать и нежить. Я это серьезно говорю.
Глава пятая
A.M.: Общаясь с автором, я постоянно старался не отвлекать его от нашего главного дела. Казалось, он рассказывает далеко не все, что мог бы рассказать. Почему? То ли в нем сидит внутренний, так сказать, персональный цензор, то ли заставляет притормаживать скромность, опасение показаться болтуном? Я помнил — человек рос, угнетенный сознанием, — болтать, особенно если рядом не один, а хотя бы два слушателя, — опасно. Есть свидетель! И не стукач ли, кто его знает…
Но иногда Автор все-таки выходил за рамки главной темы, и мне эти отступления представляются не менее любопытными, чем упоминания о штопорах в смертельной близости, от земли или — о рискованных посадках на горящих машинах, или — о вынужденных покиданиях пилотской кабины с помощью катапульты. Ведь нельзя не принимать во внимание — летчик празднует в нормальном, благополучном полете, а вовсе не в аварийной ситуации.
Впрочем, о будничном восприятии действительности у читателя есть возможность узнать от самого Автора.
АВТОР: Очень давно, еще в мальчишеские годы, я вычитал в какой-то мудрой книжке, будто древние, правда, кто именно из великих, запамятовал, высчитали — человеку положено прожить двадцать пять с половиной тысяч дней. Это, так сказать, — норма. Я прикинул и вышло — семьдесят два года примерно. Тогда, по мальчишеским понятиям, семьдесят два года представлялись почти вечностью, но со временем, отработав, примерно, половину «нормы», я стал задумываться, да так ли оно на самом деле много? И пришел к выводу — надо торопиться! Черт его знает, сколько осталось. Ни в какого бога я не верю. К счастью оно или к несчастью не могу сказать, я родился при Ленине, летать начал при Сталине, формировался, когда антирелигиозная деятельность велась с государственным размахом, так что удивляться не приходиться. Хорошо или плохо нас воспитывали — можно спорить, но то, что прочно вколачивали «руководящие идеи», — это уж будьте уверены. Ты мог быть летчиком по всем объективным данным не слабее самого Валерия Чкалова, но если при этом заплывал на собеседовании, когда речь заходила о четвертой главе «Краткого курса истории партии», будь уверен, выше командира звена тебе было не подняться.
Мне сильно облегчила существование Америка. Там о кратком курсе не вспоминали. Правда потом, по возвращении домой, пришлось наверстывать упущенное. И вот, наверстывая, я едва не загремел. А все из-за одного только легкомысленного вопроса, который дернул меня черт задать, задать замполиту, руководившему семинаром. Я спросил: «При социализме — от каждого по способностям и каждому по труду, а при коммунизме — от каждого тоже по способностям, но каждому — по потребностям? Я правильно понимаю? Тогда скажите, не может ли получиться так, что потребности бездельника и паразита окажутся в десять раз выше, чем у честного труженика».
Что тут началось! Меня едва не съели — как посмел сомневаться?! Всем, мол, ясно, ему одному не ясно… почему?
Ладно, надо, наверное, все-таки про дело рассказывать. На чем мы остановились в последний раз? Ну, да — проверка техники пилотирования у Пономаревой.
Прошло сколько-то времени, зовет Александров. Как успехи? Докладываю — летает Пономарева нормально, если есть решение выпустить ее на большой машине, уверен, особого труда это не составит. Тут Александров глубоко вздыхает и поворачивает разговор в самом неожиданном для меня направлении.
— Знаете, Робино, я в институте вместе с Генеральным одновременно учился. Особой дружбы между нами не было, но, можно сказать, приятельствовали. По характеру он — лидер, таким, думаю, уродился, а я — ведомый. И, когда спустя годы, Михаил Ильич пригласил меня под свое крыло, я ни одной минуты не колебался. Работали мы дружно и долгое время вполне успешно, а потом началось охлаждение. И с чего? После первого знаменитого, широко разрекламированного перелета Чкалова, закончившегося посадкой на острове Удд, переименованном позже в остров Чкалов, я в присутствии Генерального, высказался в таком духе — меня несколько удивляет шумиха, поднятая вокруг этого перелета. Верно, маршрут был длиннейший и сложнейший, но закончился он, если называть вещи своими именами, все-таки вынужденной посадкой вне аэродрома…
Пока Александров в подробностях излагал свои давние огорчения, последовавшие за проявлением вольнодумства, я впервые в жизни стал соображать — а как прошла первая попытка Леваневского перескочить через Северный полюс в Америку? Он вернулся в район Ленинграда, объявив рекордный самолет для такого перелета непригодным… Позже, сменив одномоторную машину на четырехмоторную, он улетел и не вернулся, затерялся во льдах… И не так уж гладко, что называется, как по нотам, прошел перелет Чкалова из Москвы в Соединенные Штаты — рекорда дальности не получилось, присели наши там, где их никто не ждал. И Коккинаки завершил свой беспосадочный перелет через Атлантику не лучшим образом — упал на острове Мискоу, малость не дотянул до Нью-Йорка. А о перелете женского экипажа из столицы на Дальний Восток и говорить нечего. Дамы завалились в тайге, еда не потеряв штурмана, выпрыгнувшую с парашютом по команде командира корабля… Нет-нет, я вовсе не осуждаю летчиков, они-то как раз делали все, что было возможно при той технической оснащенности, чтобы прославить отечество. Думал я в кабинете Александрова не столько о коллегах, я хотел понять, откуда у нас такое пристрастие к самовосхвалению, к фанфаронству: мы первые, мы самые… мы единственные… и единственные ли? Даже стыдно.
К действительности меня вернул Александров. — Значит летные возможности Пономаревой вы оцениваете положительно?
— Вы считаете разумным готовить ее к рекордному полету на большой машине, ориентируя сперва на побитие рекорда скорости, а потом — на подъемы с контрольным грузом на высоту?
— Возможным — считаю, а что касается разумным или нет — извините, об этом мне судить не по рангу.
— Как так — не по рангу? Не прибедняйтесь, Робино, не разводите дипломатию. Я бы сам рад отбрехаться от этой мороки, но Михаил Ильич не отступит, никаких доводов слушать не станет. Ему подавай бабу-рекордсменку. Он лучше всех ведь понимает — мужской рекорд сегодня нам при всем старании не вытянуть, а вот женский мы побить можем. Наша фирма уже давненько не красовалась в газетах, мы свой народ уже порядочно не представляли к правительственным наградам, все это Михаил Ильич прикинул и решительно требует — давай!
Что я мог сказать Александрову, так неожиданно разоткровенничавшемуся со мной?
Рекорд рекорду — рознь. Когда есть возможность подняться пусть даже на малую ступеньку авиационных достижений, регистрируемых ФАИ, благодаря новой технике, наверное, стоит показывать товар лицом. Вот, мол, тот уровень, на который пора равняться всем, еще не таким большим молодцам, как мы. Но если рекордные показатели достигаются, так сказать, искусственно — рисково форсированными двигателями, или сверхразумным снижением веса конструкции, хоть результат и будет, возможно, засчитан рекордным, по существу, я думаю, это все-таки туфта и дорогостоящая липа, это пыль в глаза доверчивым людям. А сказал я коротко:
— Если партия прикажет, комсомол ответит: «Есть!»
Повторяю, был я беспартийным, из комсомольского возраста давно вышел, но строчка из популярной песни вполне отвечала на вопрос, который закрывать от своего имени не хотелось.
Александров отпустил меня с напутствием подработать вместе с Игорем Александровичем теоретическую и летную программу Пономаревой. Последнее, что он сказал тогда:
— Вести Пономареву непосредственно придется вам, Робино. Игорь Александрович перегружен и в ближайшее время ему предстоит еще загрузиться.
Причин возражать у меня не было. Хотя я никогда никого не учил, нигде в серьезных инструкторах не числился, это меня, самозванца, не смущало. Из общения с теми, кто на разных этапах учил меня, я сделал несколько, думаю, важных выводов: учишь — не ругай, будь терпелив; покажи, как надо, раз и два, если мало — еще, хоть пять раз… И похвали, и сумей снять напряжение с обучаемого… помоги ему расслабиться. Впрочем, к Пономаревой все это не могло иметь отношения: она была сама инструктором и летала вполне надежно.
И действительно, с Пономаревой никаких проблем у меня не возникло. К новой машине она привыкла быстро. Строго говоря, я не столько учил ее, сколько следил за соблюдением последовательности отработки программы, не позволял никаких упрощений. Если, например, полагалось выполнить заход на посадку и приземление с одним работающим двигателем, то я не просто переводил движок на холостой ход, а на самом деле выключал его. Храбрость воспитывается разумным риском. Кто это сказал не знаю. Конечно, тренируясь мы в какой-то мере рисковали, но так достигалась уверенность, без которой никакого рекорда не поставишь. Помню я спросил у Пономаревой:
— Скажи, Валя, а чем тебе было плохо летать в аэроклубе, учить пацанов, показывать пилотаж на праздниках, тренироваться в сборной, словом, понимаешь о чем я?
— Кто говорит плохо? В аэроклубе мне как раз было очень хорошо. Только больно однообразно уж так жить — вчера, сегодня и завтра, и послезавтра не ожидаешь ничего нового. А здесь, рядом с вами, среди вас мне интересно… И появилась надежда… шагнуть…
— Куда шагнуть? Что-то я не совсем понимаю?
— Смеяться не будете, тогда скажу?
— Не буду.
— В испытатели.
Она посмотрела на меня и смущенно, и застенчиво, и упрямо одновременно.
Едва ли каждый, кто поет в хоре, мечтает выбиться в солисты, понимают люди, чтобы быть в роли солиста, нужны особые данные, одного, даже самого горячего желания тут мало, а вот такого летчика, особенно прилично летающего, я еще не встречал, чтобы он не стремился в испытатели. В нашем ремесле есть наверное какая-то тайная сила, она привлекает и удерживает тебя на этой далеко не сахарной работе. Не понять Пономареву я, естественно, не мог, но и одобрить затруднялся. Женщина!
Буквально через день мне пришлось отстранить Пономареву от полетов на высоту. Она было раскипятилась, на каком, дескать, основании… кто вам дал право?
— У женщин есть дни, — сказал я, — когда вам летать не рекомендуется, Валя. На высоту особенно не рекомендуется. Так? И — не ершись, пожалуйста. Я же хочу сберечь тебя для испытательной работы. — Она ужасно растерялась, и я впервые увидел, как Валя краснеет.
— Откуда вы узнали?
— Узнал. А в дальнейшем будешь сама меня извещать. Американки в таких случаях говорят: «флаг». А теперь вопрос для размышления: с чего, по-твоему, Валя, начинается летчик-испытатель?
A.M.: Действительно — с чего? Можно не сомневаться, кто-то скажет — с храбрости. Храбрость — качество, конечно, необходимое, но не решающее, не номер один. С безукоризненной техники пилотирования. Само собой, но не только. С детального знания машины, ее оборудования, словом, материальной части. Понятно, но тоже — не только. Первейший показатель профессиональной пригодности человека к нашему ремеслу — честность, его абсолютная неспособность наводить тень на плетень. Мы ведь только для того и летаем, чтобы узнавать о машине все-все до самых сокровенных ее секретов.
АВТОР: Если наши потуги закончатся тем, что книжка и на самом деле выйдет в свет, то, наверное не мешает подумать: а что публике может быть интересно в моей, откровенно говоря, не слишком типичной и довольно чумовой жизни? Не думаю, будто кому-то важно услышать, почему от меня ушла сперва вторая, а потом и третья жена. Бывшим женам я не судья. И готов принять все упреки на свой счет. Одна говорила — ее не устраивает мой «духовный уровень». Понимай, наверное: примитивен ты, брат Максим, мало того — и не хочешь, как говорится, расти над собой. Может быть, она и была права, со стороны — виднее. Так, во всяком случае, принято считать. Потом, года через четыре, эта бывшая жена познакомила меня со своим новым мужем. Был он законным ее супругом или и.о. — не спрашивал, не считал это важным. Интересно мне было понять совсем другое — какими выдающимися духовными качествами обладает этот человек. Извините, старался понять, но не понял. Или я на самом деле слишком сер, или ее ювелир — он был ювелиром, но не из тех, кто изготавливает художественные ценности, а торгует ими — держал свои особые достоинства в непроницаемо глубокой тайне.
А третья жена довольно неожиданно призналась, что жить в России она больше не в силах. Оказывается, ее давно уже и неудержимо тянуло в Израиль. Это государство представлялось ей сущим раем на земле. Самое забавное, она не только не знала еврейского языка, но даже не была еврейкой. Чтобы уехать, предстояло еще найти «паровозик» — еврея, который согласится взять ее хотя бы на время в жены и отбуксировать в Тель-Авив. На меня она рассчитывать не могла, знала мое отношение к Израилю и не надеялась, будто что-то может меня заставить расстаться с Россией. Пусть тут и не мед, но это моя земля, моя по рождению, по судьбе. Мне было жаль отпускать жену, но другого выхода я не видел. Мила уехала, и я больше никогда и ничего о ней не слыхал.
Это может быть кому-нибудь интересно? Если да, пожалуйста! Вся моя жизнь — работа. Пусть в какие-то дни я не летаю, но все равно и тогда думаю о завтрашних или послезавтрашних полетах. Наверное, это плохо, может быть это свидетельство моей ограниченности. Человек должен жить шире, только так уж у меня сложилась судьба — «первым делом, первым делом — самолеты»… а все остальное потом. Книги я читаю, даже люблю читать, особенно о путешествиях; очень увлекают меня экспедиционные отчеты, воспоминания бывалых людей. А вот по части стихов, наверное, мне на самом деле духовности не хватает. Как мне кажется, за последние сто лет в России настоящих поэтов было не больше пяти… Детективное чтиво я на корню не признаю.
Чтобы соответствовать месту, на которое меня вынесло, пришлось и сегодня еще приходится постоянно утруждать мозги. Учиться. Ведь я даже настоящей десятилетки не закончил. Техникум, курсы при академии — это эрзац, а не образование. А жизнь так шагает — и вообразить трудно. Самолеты, которые мы испытываем, войдут в серию года через три, а может быть и через пять лет, вот и получается — хочешь не хочешь, живи на колоссальное опережение. Это трудно и интересно. Я — человек докомпьютерной эпохи, а вся современная техника компьютеризирована и кого попало к себе не подпускает. Но сейчас у нас разговор не о технике, то время, так сказать, перестроечное, мне еще предстояло пережить. Пока двоичный счет выглядел еще занимательной, теоретической возможностью, почти курьезом…
Продолжу о буднях. Обычно мой день начинается рано. Первым делом полагается отмучить тело сорокапятиминутной разминкой, потом — душ, дальше — завтрак. Поглядываю на часы — не опоздать на аэродром. Лучшие дни — когда прямо с утра начинаются полеты. Худшие, когда приходится отсиживать часами на совещаниях, заседаниях, словом, говорениях.
Именно в такой разговорный день меня заманил Александров. На этот раз беседа наша началась несколько необычно. Первым делом он поинтересовался, что мне известно о воздействии на облака? Я сказал, что кажется в «Огоньке», а может и в другом популярном журнале, читал, как по облакам стреляют специальными снарядами, разлетаясь внутри облака, они распыляют реагент, который не дает выпадать граду, само облако при этом распадается и на землю проливается тихий дождик… Что в этой заметке была правда, что художественный вымысел, не знаю.
Александров выслушал меня со снисходительной улыбкой и заметил: «А напрасно вы с такой иронией отзываетесь об этих опытах. Перспектива тут необозримая, мой дорогой. Сегодня и сам реагент, как вы правильно назвали заряд градобойного снаряда, подлежит детальному исследованию и, что не менее важно, надо разрабатывать методы его распыления. Ядра конденсации, вводимые в облако, могут, по предположению ученых, вызывать эффект весьма различной активности. А вот сколь велика эта разница — вопрос. Кроме того, есть еще целый ряд неизвестных, требующих натурного изучения».
— Очень интересно, — сказал я, чтобы не молчать, хотя совершенно не понимал, с чего бы Мирон Иванович ударился в чужую науку. — И, главное, какое это может иметь отношение к нашей фирме?
— Представьте — самое прямое. Но сначала, пожалуй, я покажу вам маленькое кино.
Первым делом на черно-белом кабинетном экране появились кучевые мощные облака. И вели они себя очень странно — медленно-медленно клубились, вроде тяжело ворочались, прирастали. Много позже я узнал, что те облака были сняты покадрово и, благодаря операторской хитрости, был достигнут столь впечатляющий эффект — живых облаков. В настоящем небе настоящие облака так себя не ведут.
В кадре появился двухмоторный самолет, если я не ошибся — американский, из знаменитого семейства «Си». Самолет облетел вокруг облака, исчезая и вновь появляясь на виду, при этом создавалось впечатление, будто пилот ищет место, сквозь которое ему было бы сподручнее влезть внутрь этого опасного облака. И действительно, после двух или трех виражей американец отважно воткнулся в облачное тело. Машину сразу поглотила сплошная бело-серая масса. В кадрах, снятых с борта, было видно, как о крылья машины рвется бело-серая облачная субстанция. Потом посветлело.
Кажется, я понял в чем дело: летчик примеривался к облаку, пролетая сквозь его нижний край. Правильно! Если сунуться в такую дуру через центр, недолго и без крылышек остаться. Грозовые облака, как учит метеорология, самые опасные изо всех облаков. В наставлении по производству полетов есть даже специальное указание — в грозу не лезь! Обойди стороной или верхом, если уж напоролся.
Когда неугомонный американец в третий или может быть четвертый раз сунулся в облако, совершенно неожиданно произошло нечто странное — облако вдруг развалилось на две гигантские, примерно равные части и стало проворно спускаться к земле, изливаясь при этом спорым дождиком. На том фильм и закончился.
— Вот такое кино мы имеем. — Сказал Мирон Иванович. — Но это не все. Нам предложено незамедлительно переоборудовать одну из серийных машин — для начала! — в летающую лабораторию. Вероятно, позже поручат спроектировать специальный аппарат, мы должны также составить свои предложения по программе предстоящих исследований. Исследования наша фирма будет вести совместно с метеорологами из их НИИ. Ну, наконец, нам предложено собрать экипаж, в который должны войти, кроме, так сказать, штатных персон летного состава — это с нашей стороны — еще пять или шесть экспериментаторов-синоптиков. Ваше мнение, Робино?
— Мое мнение? Очень увлекательная афера, особенно для тех, кто никогда не впарывался в грозу, например, ночью в гористой местности…
— Подождите, Робино, ведь я не просто так вам все это рассказывал. Есть мнение — поручить эту программу вам. Понятно, я не настаиваю на немедленном согласии, до понедельника можете спокойно все обдумать, посоветуйтесь с Игорем Александровичем. Но в понедельник я должен знать — да или нет.
Подумалось — а почему эту программу предлагают именно мне? Может Генеральный снова решил поставить на такое гробовитое дело, кого «подешевле», как он нанял меня на испытание тех чертовых винтов?..
Когда я был еще совсем молодым, светло-зеленым пилотом, на любое предложение лететь, хоть на воротах, лишь бы на них поставили подходящий мотор, я не задумываясь отвечал: Готов! Но время и опыт не только положительного знака учат: хоть говорить — нет! куда труднее, чем бездумно объявлять — да! — это надо уметь делать. И Александров не случайно дал мне время подумать, спокойно принять решение.
Предположим, я откажусь, кого тогда поставят на эту работенку? Шефа? Едва ли. Юрченко? Возможно… Не стану сравнивать, кто из нас двоих опытнее или лучше, отчаяннее или расчетливее. Суть не в этом. Допустим, тот же Юрченко полезет в чертово облако и… не вылезет из него. Возможно? Вполне! Что будет написано в некрологе многотиражки, представить нетрудно, но какая пытка достанется мне? Не откажись от этой работы я, Юрченко бы не полетел и, ясное дело, остался в живых. Кто подставил человека?.. Конечно, я — не камикадзе, и накрываться на таком дурном испытании не имею ни малейшего желания. Но каким все-таки надо быть дерьмом, чтобы радоваться спасению своей шкуры за чужой счет… Скорее всего, я не совсем так размышлял в тот вечер, когда в дверь позвонили, отвлекая меня от невеселых мыслей. Никого я не ждал в то воскресенье и был крайне удивлен, когда обнаружил на лестничной площадке молоденького лейтенанта милиции. Он был не только молодой, но и весь-весь такой новый, что я подумал: вчера из училища, надо думать, выпущен.
— Извините, я не ошибся, вы — гражданин Робино? Странно, почему он обращается ко мне так — гражданин? Это была первая реакция на появление милицейского чина.
— Вы не ошиблись. Робино — это действительно я. Он помялся и спросил:
— Может позволите войти?
— У вас есть полномочия? Ордер или какая-нибудь другая бумажка, что полагается в подобных случаях?
— Что вы! Какой ордер, я пришел сам по себе… правда, с неприятным известием. Дело в том, что третьего дня подстрелили Агафонову. Она сейчас в больнице, я у нее был…
— Погодите, а кто такая Агафонова? Какое я могу иметь отношение к ней?
— Вы не знаете Агафонову? Любу Агафонову, старшего сержанта? Не может быть.
И тут только до меня пошло, о ком шла речь. Лейтенант явился ко мне, потому что в не очень связном лепете Любы разобрал мою фамилию и упоминание о доме напротив станции метро… А дальше, как шикарно выразился юный сыщик, все было делом техники.
Рассказать толком о состоянии Любы он, к сожалению, не мог. Сказал только, что ранение досталось ей тяжелое — в брюшную полость. Стреляли какие-то гады, когда Люба пыталась угомонить разбушевавшихся на платформе юнцов, опасаясь за их жизнь — могли свалиться на рельсы. Лейтенант назвал номер больницы и долго извинялся за проявленную им инициативу.
— Вообще-то сама Агафонова ничего такого мне не велела — ехать, искать вас. Не подумайте. Просто я решил, наверное, Любе будет приятно, если вы ее навестите, а если не пожелаете, так она об этом и не узнает.
— Ты служишь вместе с Любой?
— Так точно, вместе.
— Скажи, Агафонова замужем?
Тут я обнаружил — моя принадлежность к армии испарилась еще не полностью. В тоне вопроса лейтенант «услыхал» недавнего капитана.
— Не могу знать.
— Выясни! Завтра в тринадцать доложишь, вот телефон. — И я продиктовал ему телефон летной комнаты, после чего отпустил моего неожиданного посетителя.
Он козырнул, попросил разрешения идти и удалился.
А я?
Подумал: что ж день грядущий мне готовит? С самого утра летаю. По штурманскому расчету приземлиться предстоит в двенадцать пятнадцать; где-то в районе четырнадцати следовало явится к Александрову с моим да, или с моим — нет, а потом, если ничего непредвиденного не произойдет, я мог быть свободен.
Пока же следовало не отвлекаясь еще раз обдумать, какие вводные я дам Пономаревой, когда мы пойдем на высоту. Я колебался имитировать ли отказ герметизации или не рисковать? С герметизацией надо обращаться ох как осторожно. Когда я в свое время услыхал непонятный хлопок в кабине, тут же испытал резкую боль в ушах и… едва не месяц вынужден был провести в госпитале, где меня не столько лечили, сколько проверяли и перепроверяли на предмет «годен к летной работе без ограничения» или же годен — с ограничением. Отпуская из госпиталя, отоларинголог, милый старичок сказал: «Повезло вам, молодой человек, очень крупно повезло. Допускаю вас к полетам без ограничений, но смотрите, чтобы без фокусов!», — будто это от меня зависело.
Глава шестая
A.M.: Некоторые сведения о Любе Агафоновой удалось получить значительно позже, но думаю, поделиться ими с читателями сейчас самое время. Любе шел двадцать четвертый год, когда она волею случая познакомилась с Автором. Она успела закончить среднюю школу, пыталась поступить в институт, но не одолела конкурса, ни в первый, ни во второй заход. Обстановка в семье была не из простых — неродной, активно пьющий отец, замученная мужем и детьми (кроме Любы у нее были еще трое) мать, словом, самоутверждаясь, Люба поступила в милицию. Служила старательно, все обдумывала — стоит ли приобщаться к высшему образованию после первых неудач? Наконец, решилась, и была принята на вечернее отделение юридического.
Пробовала выйти замуж. Неудачно. Прожив в законном браке чуть меньше года, развелась. Сослуживцы отзывались о Любе хорошо — старательная, спокойная, болезненно справедливая. «Звезд с неба не хватает», — сказал о ней начальник отделения.
АВТОР: Штурманский расчет оказался, как в аптеке: в двенадцать пятнадцать, завершив полет, я покатил по бетонке ставшего мне родным аэродрома. Неспеша зарулил на стоянку и доложил:
«Задание выполнил, все в порядке». Успел написать отчет о полете, оформить полетный лист, и тут меня позвали к телефону. Глянул на часы — тринадцать ноль одна. Молодец, лейтенант, — подумал, — службу знает.
Любин коллега доложил четко: Агафонова была замужем, развелась. В настоящее время проживает в общежитии. Имеет мать, двух сестер и брата. Все — младшие, живут при матери.
А с Александровым в назначенное время большого разговора не получилось, неожиданно Мирона Ивановича затребовали в министерство, он спешил.
— Ну? — только и спросил Александров, когда я предстал перед его глазами.
— Если будет выполнен ряд требований… — начал было я.
— Да или нет? — перебил меня Александров.
— …Тогда — да.
— Не понял, что значит — тогда?
Пришлось повторить: если будет выполнен ряд требований.
— Кому вы собираетесь предъявлять ряд требований? Впрочем, ладно, валяйте. Я несусь сейчас в министерство, напишите ваши требования, по возможности, не слишком длинно, и положите бумагу на мой стол. Требования будут рассмотрены.
Александров уехал, а я, как человек законопослушный, сел сочинять бумагу. Откровенно говоря, бумаготворчество — не моя стихия, но в нашей жизни достаточно много обстоятельств, когда без писанины ничего сделать невозможно. Преамбулы я не стал выдумывать, а начал с дела:
«Полет в грозовых облаках опасен, поэтому считаю необходимым:
во-первых, получить заключение прочнистов о пределах допустимого риска при знакопеременных перегрузках. Предполагаю — конструкцию придется усиливать;
во-вторых, на летающей лаборатории надо установить дополнительные надежно выверенные акселерометры». Отвлекусь. В моей практике был случай, когда я едва не развалил машину из-за неисправного акселерометра, никак не получал заданной семикратной перегрузки, как ни рвал ручку на пикировании, стрелка не шла дальше шестерки. Потом, на земле выяснилось — акселерометр был неисправный, судя по вспучившейся обшивке крыльев, на самом деле я выскочил за все девять «же».
«… в-третьих, меня должны заранее ознакомить со способами и приспособлениями распыления реагента;
в-четвертых, во всех полетах на воздействие экипаж обязан не снимать (!) парашютов;
в-пятых, лиц, прикомандированных от метеорологической службы, следует провести через ВЛК;
в-шестых, упомянутые лица должны выполнить по 1–2 прыжкам с парашютом непосредственно с борта летающей лаборатории;
в-седьмых, в процессе выполнения программы не допускать замены лиц, предварительно подготовленных и проверенных. Особо строго это требование надлежит исполнять в отношении прикомандированных метеорологов».
Кажется, я ничего не упустил. Художественного произведения, я сознавал, не получилось, но с точки зрения обеспечения безопасности, полагаю, я написал все толком.
Перепечатав это сочинение на раздолбанной пишущей машинке, числившейся за летной комнатой, расписался, указал дату и с чувством исполненного долга положил листок на пустой стол Александрова. Теперь я мог со спокойной совестью покинуть аэродром.
По пути в больницу были сделаны две остановки. Первая — у магазина «Фрукты, овощи». Точно не зная, что Любе можно, а чего нельзя, я взял и винограда, и мандаринов, и апельсиновый сок, и, на всякий случай, еще очень красивый изюм без косточек. Вторая остановка была у цветочного киоска.
— Девушка, — сказал я строго, — мне нужны не лапаные розы. Такие есть?
— Не поняла, какие вам нужны розы? Вот, выбирайте, пожалуйста.
— Каждое утро я наблюдаю, как вы вручную обрабатываете полураспустившиеся цветы. Такие мне не подойдут.
— Возьмите бутоны, — девица окинула меня полным презрения взглядом, — они вполне неприкосновенные и стоят, между прочим, дешевле.
Не странно ли — те, кто торгуют, почему-то покупателя презирают, хотя, казалось бы, должны стараться угождать нам. Это типичная российская особенность, нигде в мире такого не увидишь. Но я не стал заводиться и учить девицу хорошим манерам, а велел отсчитать десять бутонов, завернуть, не добавляя никакой декоративной зелени.
— А зелень бесплатно. — Пояснила девица.
— Прекрасно! И оставьте ее для внутреннего употребления. В больнице воняло дезинфекцией. По вестибюлю гуляли сквозняки. Узнать, где помещается Агафонова, как пройти к ней, оказалось не так просто. В регистратуре со мной объясняться почему-то вообще не стали. Наконец, я предстал пред ясны очи дежурного врача. И тут меня осенило, я обратился к нему по-английски, памятуя, что к иностранцам у нас еще с петровских времен отношение особое — вскидываемся на задние лапы, стараемся не просто угодить, а еще и понравиться. Но тут случай оказался особый. С великолепной все понимающей улыбкой молодой врач ответил мне на беглом английском и даже проводил до Любиной палаты.
Понятно, Люба меня никак не ждала. Обрадовалась? Трудно сказать. Скорее растерялась, никак не могла взять в толк, откуда я узнал о ее ранении, о больнице. Для чего приехал — не спрашивала. О юном лейтенанте, ее коллеге, разыскавшем гражданина Робино, я, понятно, ей доложил.
— А-а, значит это Тихонов вас нашел. Ему приказали провести дознание… Он все расспрашивал, какие контакты случались на моих дежурствах раньше, что-нибудь подозрительное… Еще до стрельбы. Он такой дотошный этот Тихонов…
— Молодец, бдительный, — сказал я, — решил проверить, что за ночная птица свила себе гнездо в доме напротив станции метрополитена. — И тут я не удержался, вспомнив выражение лица юного лейтенанта, когда он появился у меня, — И ведь запомнил такую подозрительную фамилию — не шпион ли? Господи, отравленный мы народ…
Посидев у Любы минут двадцать, поговорив о чем обычно говорят в таких случаях, я собрался уходить, когда в палату заглянула медсестра.
— Мама к тебе пришла. Дожидается, не заходит, наверное потому что я сказала: «А Люба кавалера с цветами принимает!»
— Это вы меня в кавалеры произвели? — поинтересовался я. — Неужели вам, деточка, не кажется, что для такой роли я немного староват?
Тут обе, и медсестра и. Люба, принялись в один голос уверять меня: да вы что?! Староват?! Самое то, что надо — самостоятельный мужчина, а не какой-нибудь свистун…
С Любиной мамой мы разошлись на встречно-параллельных курсах левыми бортами, мельком глянув друг на друга. Мама была как мама.
Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике повестку. Мне предлагалось прибыть по адресу… в такое-то время, такого-то числа текущего месяца, имея при себе паспорт и военный билет. Повестку подписал майор Завадский. В нижнем левом углу была пришлепнута лиловая печать.
Ну вот, — сказал я себе, — за что боролись, на то и напоролись. И подумал еще: двадцать лет назад к подобному приглашению я отнесся куда беспечнее, чем теперь. За мной не было никаких грехов, предусмотренных законом, но я твердо знал — был бы человек, а дело, если надо, найдется. Меня не беспокоила совесть. Но опыт прожитых лет, боюсь, изменил состав моей крови.
Не каждому современному читателю понять минувшее время, и не в том задача, чтобы оценить, было оно хуже или лучше… То время было во много раз страшнее. Как всякий человек, я был приравнен к винтику большой государственной машины. Это была мысль всемогущего вождя. А что такое винтик в громадном сооружении? Мелочь. Ничтожность.
По указанному в повестке адресу я приехал во-время. Двухэтажный, явно дореволюционной постройки дом выглядел достаточно жалко, дом требовал ремонта. Никаких вывесок на фасаде обнаружить не удалось. Подъезд номер четыре нашел без труда. Открываю одну, открываю другую дверь и… слева — солдат, справа — солдат, только теперь без винтовок с примкнутыми штыками, а при пистолетах. Из дальнего угла вестибюля явно ко мне направляется человек в штатском. Успеваю разглядеть — сравнительно молодой, в хорошем костюме — сером с искоркой, в модном галстуке. Протягивая руку, представляется:
— Майор Завадский, прошу вас.
Занятно, не спросил, а Робино ли я? Видать, это новый вариант той давней «пистолетной игры». Мы тебя ждем, мы тебя знаем в лицо. Наша служба действует без осечек, и не дает промахов — верняк!
Кабинет Завадского оказался просторным, почти пустым, стены окрашены яркой зеленой краской, маляры называют такой колер — «салат». За одно и старый сейф вызеленили под тот же салат. На столе майора полнейший простор, ничегошеньки нет, кроме единственной потрепанной папки. Узнаю — это мое личное дело.
Завадский отменно вежлив. Объясняет, что у него всего несколько вопросов ко мне. Кое-что требуется уточнить.
— Попрошу вас уточнить, — говорит майор, — каким образом вы утратили отчество?
— Когда меня сделали капитаном Робино, перед отправкой в Америку, во врученных документах отчества не было. Максим и — точка.
Американцы меня на этот счет не спрашивали… Вот, собственно, и все, что я могу вам сказать.
— Позвольте, но когда вы вернулись?
— Долгое время тоже никто ни о чем не спрашивал, я привык. Без отчества вроде даже удобнее, во всяком случае короче.
— И никто, никогда не интересовался?
— Кто-то из ваших коллег, помнится, спросил однажды, но так — между прочим.
— И что вы ему сказали?
— Я сказал — какараз…
— Что? Не понял.
— Какараз — какая разница.
И тут майор расплылся в улыбке. Он смеется, мягким заразительным смехом:
— Насмешили! Вы, я вижу, забавник, Робино, — веселый человек. Кажется самое время, — думаю я, — задать ему вопрос, который мне всегда хочется предложить офицерам этой службы.
— На вашем столе лежит мое личное дело. Эту папку я знаю, так сказать в лицо — в анфас и в профиль: когда увольнялся, дали впервые в руки и велели: прочти насквозь, на последней странице распишись — «Ознакомлен, капитан Робино». Можете проверить. Так чего вы тратите время на пустые вопросы, я же в этой папке, убей бог, — весь-весь как облупленный представлен. Спрашивали бы прямо, товарищ майор, что вас действительно интересует. Не сомневайтесь, я вам отвечу, мне нечего скрывать, во-первых, а, во-вторых, я не отважусь обманывать вашу всевидящую организацию…
— Видите ли, я майор свежеиспеченный, из гражданских прокурорских работников мобилизован, к новой службе еще не вполне привык, осваиваюсь и, наверное, не во всем разумно пытаюсь подражать предшественникам. — С этими словами майор достает из ящика стола фотографию, протягивает мне и спрашивает: — Узнаете?
На снимке, прямо сказать, ниже среднего качества вижу мой родной «Москвич», с моим родным номером ЗВ-89-30. Вид сзади.
— А это? — и он протягивает мне новую фотографию. Теперь вижу «Рязань», рядом с ней двое незнакомых мужчин, они стоят около, «Москвича» и, похоже, — беседуют. Припоминаю: однажды на трассе Москва-Симферополь у меня полетел подшипник ступицы переднего колеса. На придорожной станции техпомощи нужного подшипника не оказалось, мне пришлось рвануть в ближайший городок. Когда я вернулся, «Рязань» что-то лопотала про немцев, вроде бы припарковавшихся рядом, они плохо говорили по-английски и еще хуже по-русски. «Рязань» еле поняла — они хотят уточнить, где надо сворачивать на Запорожье. Так вот, кажется, было, но я могу и ошибиться. Не до немцев мне было тогда, да и времени сколько прошло…
Завадский меня благодарит за информацию и мимоходом спрашивает:
— Дама — ваша приятельница?
— Можно считать и так.
— Она жена адмирала Тверского?
— Адмиральша — точно, а относительно фамилии ее мужа, извините, не осведомлен. Она живет под своей фамилией.
Странное все-таки дело, ничего решительно не случилось, ответил на несколько обыденных вопросов и пошел… а чувство такое, будто руки извозил в чем-то липком, очень хочется их помыть. Глупо. С детства помню: моя милиция меня бережет… Но что-то здесь не так. Впрочем, не один Маяковский выдавал желаемое за явное. Ладно, к чертям, не о том думай, о чем надо.
Любопытно, а о чем надо? Предположим все мои требования Александровым уже приняты.
Допустим, усиление консолей и хвостового оперения выполнены самым лучшим образом. И ребята-метеорологи подобраны самые-самые, и тренировку они прошли, и с парашютом отпрыгали нормально. Что дальше?
В этой программе есть один подводный камень: никто мне погоду нужную для опробования реагента по заказу не выдаст. Грозу можно дожидаться и неделю, и две недели, и месяц. К тому же разумно погодные условия подбирать таким образом, чтобы не сразу, как в омут бросаться, а постепенно шаг за шагом подползать к более тяжелым облакам, если только так можно сказать. Выходит, просто ждать — может всей жизни не хватить, чтобы все по уму получилось.
Вероятно, лучшее, что тут можно предложить — нам надо летать за погодой, ловить ее по подсказке синоптиков…
Дальше — больше. Думая о предстоящей работе, я стал мысленно рисовать себе полет за полетом и постепенно мне стало казаться, что я уже вошел в дело, хотя ни единого полета по программе еще не выполнил.
Но все началось не совсем так, как мне представлялось.
Не успел я отлетать с Пономаревой, как меня затребовал Александров к себе. Немедленно!
Являюсь. В кабинете трое. Александров на своем обычном месте за столом, в креслах, судя по внешнему виду, двое начальников. Один — толстый, другой — упитанный. Интересно, кто из них главнее?
Александров говорит:
— Знакомьтесь, это наш ведущий летчик-испытатель Максим Робино, — Александров обращается явно к толстому, — ему поручено отработать программу воздействия на облака.
И тот, который толще, спрашивает:
— Интересно, где ты научился такие требования сочинять? — тут я замечаю в руках у него мой перечень, от, во-первых, до, в-седьмых.
— Простите, что-то не могу припомнить, где мы пили на брудершафт? Как, извините, ваше имя-отчество?
— Ты смотри, какой шустрый. Он и летает так? — этот вопрос «Толстый» обращает к Александрову. Александров спешит подтвердить, что Робино один наших лучших летчиков, ну, и так далее.
В тот день разговор с «Толстым» получился не из приятных, но какараз… Кто он мне? Хуже, что после отъезда высоких гостей Александров устроил мне препротивную выволочку — дескать, как я посмел столь непочтительно… и далее везде, как пишут в расписании пригородных электричек.
— Послушайте, Мирон Иванович, что толковать о моей невоспитанности, когда вы сами не представили, никак не назвали этих толстых начальников? Что я сказал ему, а кто он? Я и сейчас не знаю.
— А вам пока и не положено, — огорошил меня Александров, — до времени он для вас Руководитель проекта.
Секретно жить не запретишь. Да-а!
Через неделю меня повезли на деловую встречу с «Толстым», как я мысленно именовал этого человека. Заведение, где он главенствовал, располагалось в симпатичном лесочке, было оно огорожено и тщательно охранялось. Такой типичный «почтовый ящик» с номером.
— Здравствуйте, Робино, — сказал он, грузно приподнимаясь со своего кресла. Его кабинет напоминал скорее художественную студию, нежели рабочее место человека науки: три стены были сплошь увешаны изображениями неба в самых разнообразных облаках. Четвертая стена, сплошь стеклянная, за ней красовался лес. — У меня очень немного времени сегодня, поэтому буду конспективен.
Решено — некоторое время вы будете работать на нас. Предстоит решить несколько задач. Первая задача — непосредственное воздействие на облака с целью изменения их структуры, состояния для предотвращения градобития. Вторая задача — детальное исследование реагентов, их свойств, их активности, а также возможности перемещения реагентов силой облаков. Задача — сверхважная. Правда, не столько в интересах сельского хозяйства, сколько в целях военных. Пока тут еще не все очевидно, но… надо думать облако, заправленное соответствующим «реагентом», может нанести противнику ущерб в тысячу раз больший, чем любое другое оружие. И, наконец, побочная задача — раз уж летательный аппарат будет проходить сквозь фронтальные скопления облаков, это даст много полезной информации для вас — авиаторов.
Тут я невольно хмыкнул.
— Есть вопросы? — спросил «Толстый».
— Мне все-таки хотелось бы знать, как я должен к вам обращаться?
— Дмитрий Васильевич, а что?
— Да, собственно, ничего, просто вас так засекречивают…
— Привыкните. Наше дело думать и придумывать, проверять и выдавать готовое, а у них задача другая — темнить, прятать, сохранять от чужих глаз. Каждому — свое.
В этот день меня познакомили с группой, которая должна была работать на борту летающей лаборатории. Четверо молодых плечистых мужиков и одна молодая и некрасивая дама составили коллектив. С парашютом никто прежде не прыгал и, как мне показалось, именно будущие прыжки занимали их воображение больше всего остального. Впрочем, я мог понять ребят. Тому, кто не летчик, очень трудно себе представить, какие переживания таятся в облачной гуще. Если ты пассажир, о тебе печется командир корабля, он обойдет грозу стороной, возможно проскочит над фронтом, во всяком случае сделает все, чтобы пассажира лишний раз не колыхнуло.
О Дмитрии Васильевиче я старался не думать. Трудно объяснить, чем именно этот человек не вызывал во мне особого почтения. Наверняка он был ученым мужем, вероятно, пользовался уважением верхов, но все равно, моя душа не желала идти с ним на сближение. Вообще я давно за собой замечаю — начальник, как таковой, вне зависимости от его личных достоинств, мне противопоказан.
A.M.: Попытка как-то расширить сведения о работе по воздействию на облака, потерпела полное поражение. Все и вся было наглухо закрыто. Нетрудно понять, что беспокоило Робино, конечно, он хотел бы знать определеннее: военный аспект — всего лишь придаток или, напротив, из-за него-то все и городится? Но ничего не дознавшись, Робино смирился. Формула была стандартная, хорошо известная — наше дело солдатское…
АВТОР: Не вдруг, но в конце концов летающая лаборатория была готова. Из фюзеляжа выбросили три четверти пассажирских кресел, смонтировали несколько столов, поставили стационарные приборы метеорологов, оборудовали корабль дополнительными топливными баками, усилили крылышки и хвостовое оперение. Все вроде было готово к работе. Вторым пилотом назначили Юрченко. Ответственным за облет ЛЛ был я.
Есть такая странная закономерность, когда требуется по заданию хорошая погода — безоблачная, с видимостью километров не меньше пяти, непременно натягивает облака, лупит обложной дождь. А вот когда нужно, скажем, вывезти молодого пилота в сложняке, чтобы дать ему понятие о слепом заходе на посадку, оттренировать пробивание облачности, тогда солнце не дает передышки и на всем небе не найти ни единого облачка.
Слава богу, для контрольного облета ЛЛ не требовалась какая-то специальная погода, так что я взлетел, набрал три тысячи метров и начал проверку всех систем и приборов, которые в условиях экспериментального полета могли оказаться более чем важными.
Ничего не скажу, наземники подготовили машину добросовестно, придраться было не к чему. Примерно через час я велел Юрченко закрыть шторку и потренироваться в пилотировании по приборам. Потом он свою шторку открыл, а я свою — закрыл. Шторка отнимает у пилота видимость горизонта, создает иллюзию слепого полета. Лично я предпочитаю пилить пять часов подряд в сплошной облачности, чем час — за шторкой. Но порядок есть порядок, и в интересах безопасности полетов такая тренировка имеет первостатейное значение.
Приборный полет требует терпения и должен быть доведен до полнейшего автоматизма, а это дается ценою известных усилий. Обычно человек ориентируется в пространстве с помощью вестибулярного аппарата, чтобы этот хитрый аппарат не давал сбоев, нам необходимо наблюдать горизонт. А коль горизонт исчезает, и ты испытываешь ощущение крена, например, знай: ощущение — ложное. Верить надо только приборам. Сказать — просто. Подчиниться показаниям приборов бывает, ох, как нелегко. Но надо. Иначе долго не пролетаешь. В тот день мы отлетали нормально, заходим на посадку, видим: впереди, выполнив уже последний разворот, снижается большая четырехдвигательная лайба. Поглядываю на полосу и соображаю: сейчас тот корабль коснется бетона, начнет пробегай тогда я могу спокойно уточнять свой расчет на посадку, благо мне, чтобы приземлиться, нужно меньше половины полосы, а ему едва хватает всей.
Известно — человек предполагает…
Вот лайба касается посадочной полосы, как-то странно кренится, машину ведет вправо, видимо что-то с шасси происходит… Дым, дым и… пламя.
Ухожу на второй круг. Наблюдаю с высоты, как разгорается огромный костер, трудно поверить — только что это был живой самолет. К огню мчат пожарные машины, санитарная, «техпомощь».
Аэродром для посадки временно закрыт.
Мы уходим в зону ожидания. Чертим круг за кругом. Есть возможность подумать. Почему-то в голову приходят слова из некогда популярной, очень толстой и, на мой взгляд, предельно бездарной книги из жизни авиации: «Наша жизнь — бог в мешке со связанными ногами, когда упадешь не знаешь, а упадешь обязательно». Какой бог? Кто ему связал ноги? Ведь полная ерунда, а вот помнится с мальчишеских лет.
Садиться на горящей машине мне тоже случалось, два раза такое было. И тогда ни о боге, ни об этой книжке я не вспоминал. Может потому, что был слишком занят? А сегодня, оказавшись сторонним наблюдателем, я мог совсем другими глазами смотреть на происходившее. И еще: потерпевший бедствие корабль — чужой, не нашей фирмы, тлела такая гаденькая мыслишка — раз машина чужая, стало быть летчик тоже не наш… А как же рассуждения о воздушном братстве, вправе спросить меня читатель? Ох, грехи наши тяжкие.
Пожар потушили. Полосу освободили. Диспетчер разрешил посадку. Тут уж все мысли — в сторону. Самокопание отставить на потом…
Глава седьмая
АВТОР: Облетали мы нашу ЛЛ. Через день я вывез на прыжки ветродуев. Ничего оказались ребята, отпрыгали нормально, и дамочка их страшненькая от ребят не отстала. Потренировались мои ученые подопечные на своих рабочих местах в бывшем пассажирском салоне. Словом, можно было начинать программу. Но как начнешь, если облаков нет и по прогнозу в ближайшее время не предвидится? Точнее, облака были, но типичные не те, что надо — слабенькая кучевка, такие называют еще облаками хорошей погоды. Иду к Александрову.
— Если будем сидеть и ждать погоды, — говорю, — нам этой программы на все пять лет хватит.
— И что вы предлагаете, Робино? — невозмутимо спрашивает Мирон Иванович.
— Надо нам самим искать погоду, Россия велика, если гора не идет к Магомету, приходится Магомету идти к горе… Можно слетать в Грузию или в Азербайджан, например… С синоптиками проконсультироваться и рвануть, у них же есть долгосрочные прогнозы по регионам.
— Предложение, конечно, вполне… а деньги? — все так же невозмутимо спрашивает Александров.
— Какие деньги? — не понимаю я.
— Работу оплачивает не наша фирма, чтобы гонять ЛЛ в Тбилиси или еще куда-то, надо получить согласие арендаторов…
— Дмитрия Васильевича?
— Так, с барином, вижу, вы сконтактировались! Тогда вам, как говорится, и карты в руки. Звоните, договаривайтесь, получайте добро, и — желаю успеха, мой дорогой Робино.
Добро мы получили даже без особого труда.
И начали мотаться по всей стране в поисках подходящих облаков. Находили и лазали, лазали, лазали в них, так что порой чертям становилось тошно. Попробуйте себе представить — вот выбрал я синевато-сиреневую клубящуюся тучу, обнюхал ее осторожненько и, не дожидаясь, пока она прольется обвальным дождем, громыхнет раскатистым громом, сунулся внутрь облачной громадины. Машина вырывается из рук, удерживать ее в горизонтальном положении, ориентируясь исключительно по приборам, мука мученическая. Голову повернуть страшно: по мокрым плоскостям голубым пламенем стекает статическое электричество. Знаю: поджечь машину оно не может, но на психику, как не хорохорься, давит. И ко всему нас беспрерывно бросает то вверх, то вниз, пытается опрокинуть через крыло на спину. Вот приблизительно такую картину мы наблюдаем каждый день. Забавно — мои мальчики-ветродуи радовались и веселились, когда нас трепало особенно жестко. Хорошие ребята, они не представляли себе, какой реальной опасности подвергаются. Есть выражение: ходить по лезвию ножа… очень подходит к нашему случаю.
Не буду врать: в работу метеорологов я не очень вникал, во всяком случае в ее теоретическую часть, мне и своих забот хватало — отвечать за сохранность корабля и жизнь экипажа.
Большую часть программы мы уже одолели, страху я лично натерпелся, думал, на всю оставшуюся часть жизни хватит, вообразить не мог ситуации хуже, чем ползанье в буйных облаках, как тут… впрочем, все по порядку.
В поисках подходящих облаков нам пришлось забраться на север. Долетели, отработали то, что было запланировано, можно возвращаться на базу. Уже в полете запрашиваю погоду в районе посадки. На севере случается ожидать самые непредвиденные изменения метеообстановки. Вот и на этот раз слышу — над базой опускается туман, низкая облачность. Запрашиваю запасной аэродром. Там тоже погода портится, советуют мне поспешить, если хочу сесть у них. А как я могу поспешить, спрашивается? Никакого резерва скорости у меня нет, топаю на экономичном режиме, сберегаю топливо. Шесть часов я уже отболтался в воздухе, так что горючего мне надолго хватить не может. Каждые десять минут запрашиваю погоду, и ничего утешительного в ответ не слышу. Все кругом закрыто, нижняя кромка облаков меньше ста метров, кое-где облачность и вовсе до самой земли, и наползают глухие, непроглядные туманы… А это не с эстрады петь — ох, туманы, мои растуманы… Сунешься — костей не соберешь. Это я хорошо знаю, помню, как гонял «кобры» с Аляски в Мурманск…
Смотрю на Юрченко. Он без слов, можно сказать, понимает, о чем я думаю: а не выбросить ли пассажиров наших с парашютами? Но дама наша хоть и не на каблучках, однако, пропадет в своей экипировке. Кругом снега. Ветрище, так что и шестиградусный мороз при таком обдуве доканать может.
Решение принимать командиру.
Остаток топлива? Минут на двадцать. Передаю диспетчерам базы:
— Включите все приводные средства, что у вас есть. Знаю-знаю, — вы закрыты по погоде. Ответственность за приземление принимаю на себя. Можете записать в журнал. Больше мне делать нечего, буду садиться. Кругом в радиусе пятисот километров все точки закрыты наглухо.
Выполнив заход по радиосредствам, начинаю снижение. Иду по глиссаде. Точно? Точнее не может быть. Ничего, кроме приборов не вижу. Высота? Двести метров, сто пятьдесят… Земля? Нет земли…
Уменьшаю вертикальную скорость. Высота? Восемьдесят метров. Кругом сплошное молоко. До встречи с землей остается несколько секунд. Уходить на второй круг бессмысленно: на повторный заход может не хватить горючего, а потом — чем другой заход будет лучше этого?
Ну, Максим, ты же везучий, давай, Максим, — примерно так говорю себе и тихонечко выбираю штурвал на себя. Так… еще чуть… еще… Убираю обороты двигателей полностью…
— Почему-то мы не падаем, не проваливаемся… Высота? По прибору — ноль, даже капельку меньше ноля. Все, что я мог, сделал. И тут медленно, по-черепашьи вползает в сознание — ты же, сукин сын, сел, ты катишь по заснеженной полосе, вот почему мы не падаем… Мы живы и целы, черт возьми.
Никому, ни при каких обстоятельствах не порекомендую пытаться повторить такое приземление. И сам не рискну. Но тогда нечего мне было делать. Уже на земле, укрытой туманом, мы просидели в самолете без малого два часа. Нас искали, но ни одна автомашина сопровождения не смогла обнаружить «упавший» самолет. Все изрядно замерзли. Когда чуточку поредело, нас, наконец, выручили. Что будет еще в жизни, не могу угадать, но ни до, ни после того полета вплоть до сегодняшнего дня ничего подобного я больше не испытывал.
Пока мы летали по программе воздействия на облака, с «Толстым», то есть с Дмитрием Васильевичем, я практически не встречался. Видно у него ко мне не было вопросов, а у меня — к нему тем более, какие могли быть вопросы? Программа вроде бы близилась к завершению, мы не убились, хотя шансов было предостаточно, и я уже начал помышлять об отпуске, о Гагре, например, о курортных приключениях. На юге мне обычно везло на приятные неожиданности, и как раз тут меня вызывает Дмитрий Васильевич.
Не могу пожаловаться, на этот раз «Толстый» отменно вежлив, пожалуй, даже предупредителен сверх меры. Но, что я слышу!
— Рад вас снова видеть, Робино, и готов поздравить с успехом. Первую часть программы вы исполнили, нет слов, — великолепно. Летный экипаж я представляю к правительственным наградам…
Наверное, здесь мне следовало поблагодарить начальника, как минимум, произнести армейское: служу Советскому Союзу! но я ничего не говорю. Не ожидал такого поворота, и, что последует?
— Должен сказать, Робино, пока вы летали, мы тоже времени зря не теряли. Практически новая ЛЛ готова. Машина построена специально для нас, с учетом специфики полетов в облаках. Она чуть меньше той, на которой вы проделали первую часть программы, запас прочности новой ЛЛ значительно увеличен, он почти такой же, как у современного истребителя. Летательный аппарат поступает в собственность нашей фирмы. Улавливаете? У меня уже был разговор с вашим Генеральным. Михаил Ильич, хотя и неохотно, согласился уступить вас, высказавшись примерно так: если только ты, то есть я, сумею прельстить вас, Робино…
— Интересно однако получается, — говорю я, — без меня меня женили?!
— Ни в коем случае! Вас только посватали, мой дорогой. Слово за вами, скажите откровенно, чем конкретно я могу прельстить вас. Хотите, восстановлю в кадрах? Есть такая возможность. Генеральских погон не обещаю, а полковником будете. Окладом жалованья не обидим. Квартиру в ближайшее время не обещаю, да она вам пока и не потребуется. Так что скажете, Робино?
— Позвольте сначала узнать, а откуда взялось продолжение программы? Прежде, чем что-то решать, я хотел бы получить представление о ее второй части. Кстати, — второй или следующей? Как я понял, Михаил Ильич уже сдал меня вашей фирме, а что он решил относительно Юрченко? Если я приму ваше предложение, мне очевидно, потребуется второй пилот. И не какой попало, а внушающий доверие. И еще вопрос: почему вам пришло в голову делать из меня, как было сказано, полковника?
— Отвечаю по порядку. Вторая половина программы — исследование разных реагентов. С точки зрения пилотирования, эта часть работы будет мало чем отличаться от предыдущей, хотя сильно расширится район полетов. Ряд исследований намечено провести над океаном. Более подробно, если вы примите мое предложение, вас, хоть сегодня, ознакомит наш ведущий специалист по программе. Далее. Двух летчиков Михаил Ильич отдать нам категорически отказался. «Слишком жирно будет!» — вот его подлинные слова. Со своей стороны я готов предоставить вам право выбрать любого пилота, которого вы сочтете достойным. Об оформлении перевода к нам или об откомандировании из армии, если такое потребуется, можете не беспокоиться. Будет сделано! Что еще? Ах, да — для чего вам становиться полковником? Во-первых, красиво, Робино, вам очень пойдет папаха. А, во-вторых, если серьезно, — время никого не щадит, и наступит момент, когда вам придется оформлять пенсию. Все мы раньше или позже вынуждены услышать: позвольте-ка вам выйти вон! Условия пенсии у полковника предпочтительнее… Еще вопросы?
— Пожалуй, договоримся так, Дмитрий Васильевич: я знакомлюсь с программой, то есть с продолжением программы, хотелось бы осмотреть новую ЛЛ, еще лучше бы — слетать на ней, вот тогда я буду готов дать вам окончательный ответ, принимаю я ваши условия или, пардон, я — пас.
Почему-то здесь Толстый добродушно заулыбался, заметил:
— А правильно ваш Александров оценил капитана запаса Робино Максима без отчества, знаете, что он сказал? «Очень ндравный он мальчик, но дело знает». То, что вы дело знаете, я убедился вполне еще раньше, а теперь вижу — вы и правда, «ндравный» мальчик, даже — очень. Но против высказанных пожеланий ничего возразить не могу. Разумно. Сегодня — четверг… в понедельник, если не возражаете, мы встретимся для подведения окончательных итогов. Я надеюсь, вы не считаете понедельник за тяжелый день? — Он все еще улыбался.
— Наоборот, я даже люблю, когда приходится что-то начинать делать с понедельника. На том мы расстались.
В воскресенье появилось сообщение о рекордном полете Пономаревой. Сообщение было куцее, подано не очень-то броско, но тем не менее, люди могли узнать: есть еще женщины не только в русских селениях, но и в городах попадаются, для них не заросла тропа в авиацию. Вот и судите, господа присяжные заседатели, продолжается ли жизнь в наших пределах? Рекордный полет должен был, вероятно, войти в набор расхожих доводов наших политиков. Валя прокатила пробный шар, а может это ее катанули в качестве этого самого шара. Ближайшие дни должны были прояснить, что к чему. Повезло девочке? Хотелось бы, чтобы было так.
Звоню Вале. Поздравляю. Говорю все слова, какие полагается говорить в подобных случаях, а потом спрашиваю: не готова ли она заехать ко мне для серьезного разговора, откладывать который никак нельзя.
Пономарева приехала почему-то с тортом.
— Что за пижонство. Валя? Ты ко мне, к мужику, на серьезный разговор, а не на день рождения и вдруг с тортом?
— А чаем вы меня собирались поить? Так я и подумала, и решила — торт не помешает, тем более есть повод… все-таки рекорд сделан.
Стол мы укомплектовали в моем любимом помещении — на кухне. Кроме Валиного торта, извлекли из холодильника кое-что и более существенное. Выпили понемногу за рекорд. А еще Валя подхалимски предложила — за учителя, имея в виду меня. А я сказал тогда, что дай бог, не последнюю.
— Если за рекорд, согласна, чтоб он не последний был. А если еще выпить… увольте. Я же слабая женщина.
— Вот что, слабая женщина, в понедельник мне предстоит принимать решение: соглашаюсь или отказываюсь продолжать воздействие на облака по новой программе. Откровенно — работенка не сахар. Но насколько могу судить, ей придается государственное значение, даже специальную ЛЛ построили. Вчера я на ней слетал. Впечатление осталось хорошее. Машина напоминает твою рекордную, габаритами чуть поменьше, оборудование приспособлено так, что теперь реагент не придется высыпать из мешков через двери. Чего не хватает, — тут я сделал паузу и поглядел Вале в глаза. Она слушала внимательно и, готов биться об заклад, меньше всего ожидала того, что я собирался сказать: — Мне не хватает второго пилота…
— И что вы собираетесь предпринять?
— Пойдешь ко мне, вторым?
Никак я не ожидал воспоследовавшей реакции. Всегда такая спокойная, такая вроде бы флегматичная, Пономарева вдруг сорвалась с места, едва не опрокинув стул, схватила меня за уши, прижалась грудью, расцеловала и… заплакала:
— Вы… меня? берете?.. Испытывать, да?
— Будешь реветь и дергаться, не возьму, а если по нормальному, тогда считай, что тебе сделано официальное предложение, и, будем надеяться, оно окажется подходящим тем, кто решает, кого брать и куда ставить, кому доверять или не доверять.
Дальше я рассказал Вале в самых общих чертах о содержании предстоящей работы, кое-что, правда, утаив. Теперь могу сказать совершенно открыто: меня удивило, что в числе заданий программы значились и такие, в которых, по исполнении, контейнеры после использования реагента полагалось сбрасывать в строго определенных квадратах океана.
— Почему? — спросил я ведущего специалиста, когда он консультировал меня.
— Видите ли, реагент будет исследоваться очень разный. Понимаете? Контейнеры, надеюсь, хлопот вам не доставят, но в крайнем случае вы получите команду по радио, где можно садиться с несброшенными контейнерами.
Такой ответ мне не понравился, и я попытался уточнить, что означает его где?
— Ну-у-у, на каком именно аэродроме, — весьма неохотно ответил мой собеседник.
Тут я вспомнил — в машине имелся комплект противогазов, размещенных под рукой у каждого члена экипажа. Об этом я тоже до поры до времени умолчал.
Мы мирно пили чай с тортом и Пономарева радовалась как ребенок. Когда я спросил, а не жалко ли ей отказываться от новых рекордных полетов, от славы, что вполне вероятно ее могла бы догнать, а у меня на правом сидении ее ждет только ломовая работа и полная безвестность?
Валя ответила:
— Но мы будем делать, как я поняла, настоящее дело, испытывать то, что до нас никто еще не испытывал.
Уехала она, как нетрудно было определить по ее виду, вполне счастливой.
А я еще и еще раз перекладывал в голове — почему все-таки Генеральный так запросто спихнул меня в руки к «Толстому»? И тот, надо думать, неспроста демонстрировал свою заинтересованность во мне, просто, как родной папаша. Полковником предлагал сделать. Смешно, какой из меня полковник…
Совершенно непредвиденно от имени четы Мефодиевых пригласил меня Валентин Силыч, как он выразился, на рюмку чая. Признаться, я даже не сразу сообразил, что разговариваю с новым мужем «Рязани». Конечно, удивился, но постарался не подавать вида. Записал адрес, поблагодарил и обещал не опаздывать. Гости, как я понял, были не «событийные», то есть не по случаю дня рождения, именин или годовщины, а просто, как заметила сама «Рязань»: надо же иногда и для душевного общения сходиться, а то все дела, дела и дела…»
Мефодиевская квартира показалась мне вполне заурядной, с некоторыми претензиями на оригинальность. Например, все горизонтальные плоскости не слишком дорогой полированной мебели были густо заставлены разной гжельской чепухой. На стенах красовались фотографии без рамок вперемешку с живописными поделками в рамках из дешевого багета.
Гости собирались неспешно. И показались мне уныло однообразными. Вообще я не стал бы вспоминать об этой гулянке, не случись на ней одна совсем неожиданная встреча. С опозданием почти на час явился, кто бы мог подумать, тот самый знаменитый из знаменитейших испытателей, возглавлявший аттестационную комиссию, что я год назад прошел не совсем обычным образом. Он сделал общий поклон, извинился за свой «замундиренный» вид — приехал с какого-то высокого совещания, где по протоколу полагалось… и опоздал поэтому. В миру этот человек, вне службы, производил совсем другое впечатление. Блистал остроумием, не давил присутствующих своим авторитетом, умело поддерживал общий разговор. А вот чего я никак не мог уловить — каким образом он связан с этим домом? Вероятно, Валентин Силыч приятельствовал с ним, от «Рязани» в прежние времена я ничего о нем не слышал.
Разговоры за столом велись пустяшные. Каким-то образом упомянули о разводе видного киноактера с еще более известной женой. У каждого было, понятно, на сей счет свое мнение, большинство азартно обвиняло мужа… оставить такую женщину… ради чего?! И тут в разговор включился мой прославленный коллега.
— Лично я считаю, — сказал он, поигрывая красивыми длинными пальцами, — моногамный брак совершенно себя не оправдывает. Что греха таить, и жены мужьям и мужья женам — раньше или позже — приедаются… Кто-то заметил: от такой, мол, женщины ушел. Согласен, жена его была действительно из таких женщин! Но, согласитесь, это немыслимо, каждый день питаться даже самым высокосортным шоколадом.
Мужчины захмыкали, женщины пошли в контратаку, а я подумал: видать, это не сплетня, будто он женат в четвертый раз, и его последняя супруга на тридцать с лишним лет моложе своего благоверного.
Потом общество перегруппировалось. Воспользовавшись моментом, «Рязань» отозвала меня в другую комнату и быстрым шепотом сообщила:
— Валя много лет знаком с генералом, подробностей я не знаю, кажется они много лет жили в одном доме. Отец Вали был комкором. Его расстреляли в тридцать восьмом. Я подбила Валю позвать генерала, такое знакомство, наверное, тебе не повредит, так что, не теряйся!
Набиваться в приятельство к знаменитому генералу я, понятно, не стал, тем более, что был уверен — моя персона никакого интереса для него представлять не может. Но под конец вечер он вдруг обратился ко мне:
— А почему бы, Робино, вам не развлечь общество тем блистательным номером, что вы однажды исполнили в моем кабинете?
От неожиданности я на мгновение онемел. Но взял себя в руки и не стал ломаться, сказал только, если публике могут быть интересны наши сугубо профессиональные игры, — пожалуйста! И повторил все, как было, стараясь подавать генеральские реплики его голосом. Народ здорово смеялся. И он — вместе со всеми. Потом спросил, с машиной ли я и предложил подвезти. Поблагодарив за честь, отказываться не стал, тем более, что как выяснилось, нам было по дороге. Пока ехали, я попытался спросить, что же он имел ввиду, настойчиво требуя от меня не почему, а как летает реактивный самолет?
— Требовал? Убейте, не помню… не преувеличиваете. Тут он энергично повернул с Тверской на Садовое кольцо, и нас немедленно остановил притаившийся за углом гаишник: правого поворота тут не было. Словно фокусник, мгновенным движением генерал нахлобучил на меня свою парадную фуражку и опустил боковое стекло.
— Товарищи генералы, нарушили… Там знак: только прямо.
— Когда повешен? — поинтересовался водитель.
Мне, конечно, трудно представить ход мыслей старшего сержанта милиции. За рулем генерал-лейтенант, везет другого генерала… Почему спрашивает, когда повесили знак… а черт его знает, когда.
— Ну? Не можете ответить. Так я вам докладываю: трех месяцев еще не прошло. Ясно? За нарушение знака в первые три месяца водитель не подлежит штрафу или иному наказанию. Инспектор обязан сделать ему предупреждение. Правильно я трактую правила дорожного движения, сержант?
Имел место такой параграф в правилах или нет, признаться, я не знаю. Мне кажется, это была импровизация чистой воды. Однако, сработала! Инспектор козырнул, сказав только:
— Повнимательнее, товарищи генералы… неровен час. И мы поехали дальше. Высаживая меня у подъезда, генерал сказал:
— А здорово мы его облапошили?! — Понятно, он имел в виду инспектора ГАИ.
— Мы? Собственно я тут ни при чем, инициатива и исполнение целиком ваши.
— Позвольте, а генеральская фуражка на вашей голове? Это пустяк? Не скажите! У психологии свои законы. Никогда не пренебрегайте мелочами.
В тот вечер я не спешил к отбою. Думалось о разном. Опасно, выходит, делать поспешные выводы о человеке. Мог ли я вообразить генерала в том качестве, в каком узнал его сегодня? А совет — не пренебрегать мелочами, тоже дорогого стоит. Потом мысли вернулись к «Рязани» и ее непонятному супругу. Легко ли даже сегодня, пусть не быть уже, но помнить себя сыном врага народа? А дальше, по странной прихоти ассоциативной памяти, мне представился предвоенный Валерус, и как он пытался меня приспособить к своему ведомству. Что бы, интересно, со мной стало, согласись я тогда на сотрудничество? Все-таки я молодец: не испугался «Самого», сумел уйти из под удара. А почему это было так важно не поддаться, не дать согласия? На это вопрос я не умел найти толкового ответа, хотя очень старался. Что-то, видать, сидело у меня в крови, какой-то микроб самовольства. И об этом стоит, наверняка, еще подумать, только потом…
Почему люди видят сны, не знаю, тем более мне неизвестно, как складывается репертуар сновидений. Сам я от сновидений не страдаю и особого значения им не придаю. А уж коль такое случается — сон, то сюжет чаще всего выглядит невероятным при том, что «зрительный» ряд кажется вполне реалистическим.
В ту ночь мне приснилось, будто я лечу на ЛЛ. На морде у меня противогаз, дышать затруднительно, но снимать противогаз нельзя. Почему — неизвестно… Поворачиваю голову вправо и обнаруживаю — кресло второго пилота пустует. Запрашиваю экипаж:
— Где второй пилот? Куда вы ее подевали? Экипаж, отвечайте!
Экипаж молчит, но дверь открывается, и в пилотскую входит только не Валя, а — Люба.
— Товарищ командир корабля, — докладывает она — старший сержант Агафонова прибыла на стажировку.
Почему-то я не сильно удивляюсь, велю ей занять место второго пилота, присмотреться. Машина идет на автопилоте. Мы можем поговорить малость. Расспрашиваю Любу о здоровье, как прошла операция, что говорят врачи. Так продолжается некоторое время, пока в пилотскую не врывается разъяренная Пономарева.
— Это что такое? Кто пустил? Немедленно вон с моего места!
Но Люба не спешит уходить, копается в своем милицейском планшете, перебирает какие-то бумаги, наконец говорит:
— Вот ордер на арест, гражданка Пономарева. Распишитесь и…
Чем заканчивается это представление, узнать не пришлось: меня разбудил вполне реальный телефонный звонок. Звонила Пономарева, из винилась за раннее беспокойство — боялась упустить меня — спросила: очень ли обязательно ей сегодня приезжать на аэродром? До меня не сразу дошло, что Валя исполняет мое давнее распоряжение — докладывает о своих персональных нелетных днях. Улыбаясь про себя, говорю:
— Сиди дома. Сегодня мне предстоит канителиться с ветродуями, буду проверять, как они изучили машину. На земле работа. Отдыхай спокойно.
— А чего вы смеетесь?
— Смеюсь? Кто сказал? Совсем я не смеюсь…
— Ну, не смеетесь, так улыбаетесь.
— И жизнь хороша, и жить хорошо. Отдыхай!
Из летной комнаты меня извлекает Юля.
— Так что ты решил? — спрашивает она тоном жены, несогласной на развод.
— Ты о чем, подруга?
— Оставь! Я же знаю, что Михаил Ильич согласился передать тебя в эту кошмарную шарашку. Почему ты согласился? Мог бы посоветоваться сначала.
— Но откуда мне было знать, что у тебя возникнут вдруг возражения, подруга?
— Подруга, подруга! Перестань, что за привычка всех подряд называть подругами?
— Американцы говорят каждую минуту не подруга, а — дорогая! Это лучше по твоему? И что ты, дорогая, имеешь в виду, хотя менять решение уже поздно?
— Да-а, поздно… Но скажи мне, а для чего ты за собой эту бабу потащил? И как она, дура, согласилась? Здесь Михаил Ильич очень рассчитывал ее высоко поднять…
— Юрченко Михаил Ильич не отдал, сказал — слишком жирно будет двоих отдавать. А Пономарева нормальный пилотяга, как говорят, от бога. Вообще-то я не за летающих женщин, но Валентина — случай особый.
— Да? Особый? Или ты собираешься сколотить семейный экипаж? Красиво получится. Если второй пилот — мировая рекордсменка, то кто же при таком раскладе командир корабля?!
Тут я от души развеселился, и не Юля меня рассмешила. Вспомнил гаишника и как он козырнул «товарищам генералам»…
— Ты чего? — подозрительно сощурилась Юля.
— Вспомнил вдруг… — И я рассказал о вечере у «Рязани» и о том, как ехал после вечера домой.
— А мы опять поссорились, — мне показалось с огорчением заметила Юля, — эта курица устроила мне дурацкую сцену ревности. Она, видите ли, приревновала меня к своему Мефодиеву. Воображаешь?
— А что? Мефодиев мужик в теле, — сказал я, — на ощупь должен быть приятным.
— Перестань! Просто удивительно, как ты любишь все опошлить.
Так ни на чем наш разговор и пресекся.
Тем временем меня разыскал Александров. Пришлось идти, хотя очень не хотелось начинать день в разговорном жанре.
Но уж так получилось — с самого утра и до вечера я оказался зацикленным на всяких мелочах. Понимая, вся наша жизнь складывается именно из мелочей, я все равно злился. У Юли сомнения, у Александрова, как всегда, срочные вопросы, у синоптиков тоже — проблемы. У меня уже язык ломило от разговоров. И кругом всплески эмоций, почему-то замыкающиеся на моей персоне.
И чего ты хочешь? — спросил я сам себя. — Не в пустыне живешь — среди людей, значит надо взаимодействовать… Все нормально.
Говорят: от себя не уйдешь. Допустим. А от людей почему нельзя оторваться? Вот улететь бы куда-нибудь подальше…
Если бы я только знал, что меня ждет.
Глава восьмая
A.M.: В это трудно поверить, но вслед за поведанными событиями в жизни Автора произошел поворот головокружительной резкости. Завершив первый десяток полетов на новой ЛЛ, он получил приказ вылететь на остров К. в море Б. и… на годы исчез из столицы. Минули еще одиннадцать лет, в течение которых он опасался рассказывать, что с ним и как было на острове К. в море Б. За нарушение секретности у нас всегда карали с необычайной строгостью. Я не тормошил его, понимал — человеку надо не только переждать, но еще и пережить свое возвращение к нормальному образу жизни.
Но рассвет, кажется, наступил и Робино отважился заговорить, хотя о многом он по привычке, ставшей второй натурой, умалчивал, слегка темнил, избегал подробностей.
В связи с этим мне вспомнилось военное время, когда, играя в секретность, перепуганные комбаты орали в полевые телефоны: «Шлите огурцы, огурцы давайте… вашу мать… стрелять уже нечем. Как поняли?..» В старом письме той эпохи я нашел и такой перл: «В пункте П. мы получили свежих лошадей, новейших! Ждем погоды. Предполагается к весеннему наступлению успеем долететь. Лошади замечательные!»
АВТОР: Век живи, век удивляйся, так я скажу. Но сперва я просто ничего не понял. Приносят карту с проложенным маршрутом. Все, как будто чин чином, но… конечный пункт помечен на голубой морской глади. И куда же мы будем садиться? На воду? Тут, если верить карте, одна вода. Мне разъяснили — волноваться не надо, в указанной точке расположена база с нормальным аэродромом. Взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием, достаточно широкая и длинная. Нам дали все необходимые данные для установления радиосвязи, пеленгации, обнадежили — вас встретят и примут по высшему разряду.
Накануне вылета «Толстого» на обычном рабочем месте не оказалось. Зам пояснил — в командировке. Предупредил — о предстоящем перелете ни с кем никаких разговоров вести не следует… Коротко ли, долго, пробил час и мы полетели. Крошечный островок лежал в открытом море в строгом соответствии с географическими координатами, и на нем мы увидели вполне приличную взлетно-посадочную полосу. Встретили нас радушно. И буквально с первой минуты островной жизни в нашу судьбу вошел новый, как оказалось всевластный человек — Комендант. Именно так — Комендант и… точка. Ни имени, ни фамилии, ни воинского звания.
Комендант был больше чем царь, воинский начальник или даже Генеральный секретарь для обитателей этой затерянной земли. Подчинялся ли он богу? Не знаю, но сомневаюсь.
И сразу, со следующего дня, началась работа. Несколько очередных полетов мало чем отличались от прежних, но я обратил внимание на то, что контейнеры с реагентом имеют цветную маркировку. Спросил, а что означает, например, красный треугольник на крышке? Ответ прозвучал более чем странно: «Не беспокойтесь, за герметичность наша служба головой отвечает». И все.
День за днем мы выгружали теперь в облаках, тщательно подбираемых синоптиками, контейнеры с разноцветными пометками на крышках.
Случалось, нас предупреждали: облака должны быть не ниже трех или четырех тысяч метров по нижней кромке, а их характер и мощность это сегодня не так важно, но сфотографировать их следует до сброса реагента и после… Не скажу, что такое мне нравилось, но винить было некого, жаловаться — тоже.
С Пономаревой мы нормально слетались, материальная часть не подводила. Внешне задания выглядели даже проще, чем прежде. Подобных северному происшествию, когда приземляться пришлось на ощупь, не случалось. А беспокойство с каждым днем нарастало, и Валя, я чувствовал это тоже, ощущает себя не в своей тарелке, хотя и не ропщет. Летать на новой ЛЛ ей нравилось.
Не помню уже, что послужило поводом для обращения к Коменданту, но разговор состоялся.
— Мне бы хотелось понять, — никак не называя Коменданта, сказал я: — что мы возим в контейнерах? Почему некоторые мне не позволяют возвращать на базу, а приказывают сбрасывать в океан? Вообще, во что превратилась программа воздействия на облака? Вы можете ввести меня в курс дела?
— Программа воздействия на облака, — спокойно ответил Комендант, — ни во что не превратилась. Она несколько расширилась. Состав реагентов, вы же понимаете, строго секретный, и это не в моих полномочиях, да откровенно говоря, и выше моих возможностей, как-то комментировать. Да и на что вам лишняя осведомленность, вы же не химик…
Расквартированы мы были в подземных бункерах, дневной свет в них отсутствовал, а в остальном жилище было более чем комфортабельное. Хорошая мебель, ковры. Каждый получил по отдельной «норе» площадью метров в двадцать пять или даже чуть больше. Душ, горячая вода — все как полагается.
Почему-то запомнилось — в тот день, когда я пытался объясниться с Комендантом, вечерком ко мне постучалась Валя. Я, пожалуй, уже в третий раз перечитывал «Прощай оружие» и, как всегда, погружаясь в особенный мир Хемингуэя, испытывал щемящее чувство тоски. К тому времени, мы с Валей были на ты двусторонне, не слишком церемонились, как и полагается в слетанном экипаже.
— Ты ходил к коменданту? И что?
— Да ровным счетом ничего, одно блеяние…
— Как это понимать?
— Именно так и понимать, от прямого ответа на мои вопросы он уклонился, но я думаю, что этот разговор найдет свое отражение в отчетах, которые он посылает на большую землю.
— Что же получается, нас ни в чем не обвинили, не судили, а держат в тюрьме? За что? И какой срок нам предстоит мотать? Наверняка этот наш разговор прослушивается и фиксируется, поэтому я обращаюсь к тем, кто меня прослушивает: ответьте, имею ли я право слетать в Москву, например? Хотите знать для чего? Отвечаю: я — живой человек и испытываю естественное желание побыть с небезразличным мне человеком противоположного пола. Когда нас командировали сюда, никто не предупредил — в монастырь летите…
Валя говорила довольно долго, потом, обратись ко мне, выдохнула с ожесточением:
— Максим, я же на самом деле живая, со всеми естественными для живого человека желаниями!
— И я, Валюта, живой. Стоит ли так сильно расстраиваться, подруга, в мире нет таких крепостей, которые бы нельзя было взять штурмом, но лучше — уговорами! Перебью здесь мое повествование и забегу на сутки вперед. На другой день, возвратясь из очередного полета, мы обнаружили: и в моей и в Валиной комнате постели заменили на двуспальные, похоже, местного производства. Ясно: комендант не только, услышал, комендант еще и внял.
— Ну, спасибо доброму барину! — озорно объявила Валя и, повалившись на кровать, распорядилась, — иди сюда, Максим…
Выждав некоторое время, я снова направился к Коменданту.
— Каким образом я мог бы снестись с Руководителем, который нанял меня на работу и заслал сюда, я имею в виду Дмитрия Васильевича? Он говорил, что я могу в случае необходимости обращаться к нему в любое время?
— Понято, — Сказал Комендант, — подумаем.
— Подумаете или доложите? Учтите, я все-таки летаю…
— Не говорите глупостей, — оборвал меня Комендант, — вы, конечно летаете, но никуда улететь не можете. Вас непрерывно ведут локаторы, Робино, и, если цель выйдет за рамки назначенного маршрута, она будет немедленно уничтожена. Могу раскрыть вам один секрет — для этого нам не требуются ни зенитные установки, ни самонаводящиеся ракеты, наше специальное оружие достает любую цель, и поражает ее на любой высоте с вероятностью порядка девяносто восьми процентов. А что касается вашего желания, оно будет передано Дмитрию Васильевичу. Через мое непосредственное начальство, разумеется.
Что ж получается, похоже нас перепродали. Опять? Похоже, «Толстый» всего лишь поставщик персонала, приставленного к этой чертовой химии. Рассуждая таким образом, я сделал заключение: мы сбрасываем в облака что-то, воздушные потоки несут это что-то на какую-то достаточно большую область, где это что-то осаждается, выпадает на головы людей, животных, на водоемы, поля, словом, на все живое и неживое. И поди узнай, кто же тихой сапой без взрывов, ракетных ударов и прочих эффектов вывел из строя целую страну… Мне сделалось страшно. Не за себя, понятно: я с молодых лет заложник; страшно за людей, особенно за ребятишек. Неужели я не ошибаюсь, неужели дело зашло так далеко и борьба с градобитием оказалась всего лишь легкой разминкой; Не-е-ет, такая работа не для меня. Но придется подождать, посмотрим, куда вывезет нас судьба-злодейка.
Я очень ждал хоть какого-нибудь известия от «Толстого». Мне представлялось, что разговор с ним может как-то изменить наше положение. Хотя… хотя, если рассуждать беспристрастно, на что мы могли жаловаться? Если мы живем, что называется, как у Христа за пазухой, как толковать о бытовой стороне существования? Подобным комфортом в Америке я не пользовался. Совершенно невозможно было понять, откуда что берется. Чужие самолеты на нашу полосу не садились, судов у причала я ни разу не видел. Но кормили нас свежим, явно не мороженым мясом, подавали виноград, который на этой широте расти не мог… Если мне требовалась, допустим, новая рубашка или свитер — пожалуйста! Надо было сделать заявку, указать, чего я хочу, какого размера, цвета и прочая. В самый короткий срок заказ доставляли всегда в утроенном или даже учетверенном комплекте — для выбора.
А полеты? Так какие тут выдвигать претензии? Собственно и в Москве наша работа мало чем отличалась от теперешней. Здесь нам предоставлялась полная свобода действий. Никакой бумажной формалистики не было. Накануне летного дня Комендант вручал готовый полетный лист, в нем четко и всегда технически безукоризненно грамотно указывалось, что следует выполнить, какая погода желательна, какая — допустима. Выполнив задание, мы писали краткий отчет, наши мальчики-экспериментаторы прикладывали записи своих самопишущих приборов, и все это сдавалось Коменданту.
Так сказать для души я мог заказывать и получать любые книги. У нас раньше, чем на большой земле, появился телевизор. Правда избирательность этой новинки, как я понимаю, ограничивалась не столько дальностью приема, сколько какими-то высшими соображениями нашего политического начальства. Правда уже тогда я мог свободно «вызывать» на экран изображение свежих номеров «Правды», «Известий», «Красной звезды». Шрифт, благодаря увеличению, читался легко, любую статью можно было приблизить и остановить, как мне вздумается.
Помню Комендант, с некоторых пор старавшийся держаться с нами не слишком официально, спросил:
— Ну, как, Робино, культуры хватает?
— Смотря какой.
— Гастролей Большого театра или Мариинки обещать не могу, но скажите, чего бы все-таки вам хотелось?
— Вот полетать бы на спортивном самолетике, чтобы без гермошлема, без высотного костюма, вольно так полетать для собственного удовольствия, на пилотаж…
— И это вы относите к культурным развлечениям? Странно.
— Почему же странно, если для души?
И пусть на самом деле это никому не покажется удивительным. Налетавшись на реактивной технике, в герметических кабинах, упакованным в высотные доспехи, я постоянно скучал по старому, доброму аэроклубному самолетику с его открытой кабиной, когда в полете тебя со всех сторон обдувает ветром, доносящим на высоту запахи земли… Тогда я пилотировал вместе с машиной, а вот когда пришло время высоких скоростей, справедливо будет отметить — пилотировать мы стали скорее — в самолете. Улавливаете разницу? Летчики становятся скорее операторами, диспетчерами при технике, нежели пилотами и «руки-крылья» — только слова из забытой песни.
Но не буду отвлекаться. Недели через две Комендант молча повел меня куда-то в сторону от взлетно-посадочной полосы. Там внезапно обнаружился хорошо замаскированный ангар. Распахнув ворота радиосигналом и выдержав паузу, Комендант спросил:
— Ну как, подойдет?
В пустом гулком ангаре сиротливо одиночествовал красавец — самолетик спортивного класса. Кто-то позаботился окрасить его, как игрушку, и больше того — снабдил, выписанными на капоте нашими инициалами — Валиными и моими.
Правда, в бочку меда Комендант не приминул капнуть чуточку дегтя. Полагаю он сделал это не по своей воле, а во исполнение цеу свыше:
— Заправлять машину будем по вашей заявке, данной накануне. Заправка на один час полета.
Все ясно. Пролетав час, я имел единственную возможность к освобождению — упасть в море. И все-таки это было здорово — оторвать ся от взлетной полосы, набрать тысячу голубых-голубых метров — в безоблачную погоду в этих краях небо отличалось необыкновенно нежной голубизной и прозрачностью, и обернуться чередой замедленных пилотажной бочек — я всегда так здоровался с зоной — потом закрутить пару глубоких виражей и закружить петлями… Тот, кто летал, поймет, а тот кому такое счастье не подвалило, пусть не осудит — словами такое не передать.
Как игрушка-самолетик попал в свой ангар, осталось для меня загадкой. А чудеса, тем временем, продолжались.
Вечером, в десятом часу, ко мне постучали. Я крикнул:
— Открыто, чего там… входи! — думал это Валя деликатничает. Дверь распахнулась и на пороге возник «Толстый». Едва не онемев от неожиданности, я сорвался с места. Видит бог, я на самом деле обрадовался. Впрочем, серьезного разговора тем вечером не получилось. Только было я начал ораторствовать, как получил выразительный сигнал — потом! И понял. «Толстый» знает: тут и стены слышат. Удивило меня, правда, не это: он не желал, чтобы наш разговор дошел до кого-то еще. Это уже было весьма интересно!
На другой день вплоть до обеда мы с Валей летали. Сходили на высоту в семь тысяч метров, прошли по треугольному маршруту над океаном, дважды сбросили реагент в не слишком мощных кучевых облаках, снизились, получили команду освободиться от контейнеров и возвращаться на базу. Дальше предстояло готовить машину к следующему вылету.
А после обеда меня перехватил «Толстый», предложил прогуляться к морю. До берега надо было пройти, наверное, с километр. Этот путь мы проделали в полном молчании. Остановились на краю каменистой земли и тут «Толстый» достал из кармана непонятный предмет, напомнивший мне… электрическую бритву. Он вытянул из «бритвы» тоненький прутик-антенну, включил этот странный прибор и только тогда заговорил.
— Теперь мы можем спокойно побеседовать на любые темы, прослушивание исключено! — он вдруг подмигнул мне: — они ничего не знают об этой штуковине, вот метнут икру, когда ничего не перехватят! Давайте коротко о том, что наболело.
— Дмитрий Васильевич, вам известно содержимое контейнеров, помеченных цветными марками — красной, зеленой, коричневой?
— Приблизительно известно.
— У меня складывается впечатление, что реагент спецконтейнеров к воздействию на облака отношения не имеет. Так?
— Примерно. Моей работой давно заинтересовались те, кто стоит на страже военных интересов страны. Их люди напали на мысль использовать воздушные потоки для переноса активного реагента в определенные районы земли, так сказать силой природы. Со мной консультируются, но не больше…
— А меня и Пономареву вы как, запродали на корню или сдали в аренду?
— Дорогой, Робино, вероятно вы никогда не бывали там… и не представляете себе какие у них возможности подчинить человека против его воли.
Продолжать разговор не имело смысла. Я только позволил себе сказать этому человеку:
— С меня одной войны достаточно, я не желаю работать на новую.
Делиться опытом общения со спецорганами я не посчитал целесообразным. Единственное, что меня, если можно так выразиться, порадовало — они — так «Толстый» выговаривал с совершенно особенной интонацией, как ни старался, он не мог скрыть страха перед их силой, нет — их всесилием. Из этого я сделал вывод: сам «Толстый» из другого ведомства.
— На чем вы сюда прибыли, Дмитрий Васильевич?
— Сперва летел гидросамолетом, потом пересадили в катер.
— Но где вы приподнялись, я что-то не пойму?
— Любопытному Мартыну прищемили дверью нос. Слыхали? Это, так сказать назидательное воспоминание из детства.
— Понял, в позднем детстве у меня тоже взяли расписку о неразглашении! А хоть какая-нибудь надежда выбраться отсюда у меня и у Пономаревой есть? Только не крутите.
— В ближайшее время едва ли… Все зависит от… — и он написал на блокнотном листке: от медицины. Дал прочесть и сразу сжег бумажку.
Больше с Толстым мне встретиться не удалось. Он убыл, а мне запустил под череп колоссального ежа. Медицина, медицина, медицина. Что она делает? Лечит, калечит, спасает, может отравить, тихо-тихо убить. Что еще? Вылечить, залечить, навредить? С превеликим трудом мне удалось сообразить — зарегистрировать смерть… Неужели Толстый имел в виду, медики пытаются вылечить, но… наступает смерть и медики свидетельствуют — он умер. Кто, я не пытался произнести даже мысленно.
О зловещем прогнозе «Толстого», если только я правильно его расшифровал, старался не думать и Вале ничего не говорил, когда она спрашивала.
— Скажи, Максим, когда-нибудь будет конец этому вечному поселению?
— Всему приходит конец, подруга. Закон природы.
— А тебе не кажется, что нам что-то добавляют в еду? — почему-то спросила Валя. — У меня такое ощущение, будто нас регулируют, как-то обрабатывают. Вот погляди, только пристально, на мои глаза, на уголки рта. Видишь?
— Но что, собственно, я должен увидеть?
— Плохо я тебя интересую, если ничего не замечаешь… У меня пропали морщинки в самых уязвимых местах. Теперь видишь?
М-да! Морщины на Валином лице на самом деле не просматривались. Но тогда, если верно ее предположение, и на моем портрете должно быть что-то заметно. Я достал увеличивающее зеркало, перед которым привык бриться, включил сильный свет и обнаружил — а морда моя стала гладкой, как детская задница.
A.M.: В очередной раз мы встретились с Автором после некоторого перерыва. Такое случалось и раньше — периодически он вдруг исчезал. На неделю другую уходил вроде в подполье, потом звонил и назначал очередной «сеанс». На этот раз, прежде чем я включил магнитофон; он спросил: однообразие описать возможно? Ну, нарисовать словами что-то вроде черного квадрата Малевича? Он признался, что не очень понимает, в чем притягательная сила этого шедевра, если только черный квадрат и впрямь замечательная картина? Рассказывая о жизни на островной базе, он все время припоминал черный квадрат, но не столько по цвету, а скорее, как символ однообразия. Запомнились его слова: «Там бывали такие моменты, когда мне казалось — ну все, я уже переселился в вечность, и наваливались очень черные мысли. Впрочем, «мысли — частное дело каждого», и я не стану делать их достоянием посторонней публики».
Автор был явно в миноре. Когда же я его спросил, почему он не весел, хотя никаких серьезных оснований впадать в тоску у него вроде нет, он уже не в первый раз прикрылся Маяковским: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по моему, просто глуп». Тогда я предложил отложить сеанс, раз нет настроения, но он отказался.
АВТОР: Задолго до того, как я начал «воздействовать на облака», случился конфликт с Генеральным. Точнее сказать — даже не конфликт, а препирательство. Генеральный был недоволен шеф-пилотом. Не в глобальном, так сказать, масштабе, а из-за совершенно частного случая. Игорь Александрович вернулся из очередного полета, с неполностью выполненным заданием и доложил:
— С приближением волнового кризиса, — Генеральный его перебил, не дослушав:
— Чему конкретно равнялось число М?
— Перевалило за 0,8 и приближалось к 0,9, но дело даже не в этом. Появился странный зуд в ручке управления… и я решил не искушать судьбу.
Во время объяснения Игоря Александровича с Михаилом Ильичом я не присутствовал. Но ориентируясь на то, что они оба мне поведали, могу представить, почему обиделся шеф-пилот.
— Надо переходить на автоматику, — сказал Генеральный, — мы вполне можем обеспечить управление самолетом без участия человека и тогда раз и навсегда избавимся от эмоциональных накладок и болезненных всплесков интуиции испытателей. Автомату ничего… не может казаться, они всегда и полностью будут оставаться объективными.
Вскоре мы стали замечать, что наш Генеральный форменным образом зациклился на идее автоматической системы летных испытаний. Эта тема присутствовала едва ли не в каждом разговоре. Дошла очередь и до меня. Мало того, что Михаил Ильич доказывал — время летчиков-испытателей истекает, кибернетические системы будут точнее и надежнее пилотов, он еще по своей профессорской привычке поминутно вопрошал:
— Не так ли?
Сперва я отмалчивался, слушал его совершенно пассивно, но когда он, и не знаю в какой раз, «нетакнул», я не выдержал и сказал:
— Не так, Михаил Ильич. Прикиньте сами: идет испытание машины, предназначенной к эксплуатации человеком, то есть пилотом. Подобные машины будут еще создавать, думаю, долго. Не так ли? Кибернетическая система все зафиксировала и доложила вам некоторый итоговый результат, заметьте, количественный! Говоря условно — двенадцать килограммов или двадцать семь градусов. Кто скажет — это прекрасно! Или — ничего, терпимо! Может быть вы? Но для ответственного заключения надо не просто уметь летать, но еще и обязательно чувствовать машину. Не так ли?
Спора не получилось. Генеральному подошло время принимать какую-то делегацию. И Михаил Ильич, явно мной недовольный, сказал:
— Отложим.
К этому разговору со мной он больше никогда не возвращался. Уверен, я его не переубедил, скорее всего он не ощутил во мне должного почтения к старшему, к его безграничному, непререкаемому авторитету, а этого мой начальник не любил. И вот ведь странно — человек незаурядный, умница, талант которого признавали да же заклятые враги фирмы, а устоять перед самой грубой лестью не мог. Но мыслимо ли не видеть примитивных подхалимов, этих подлипал с резиновыми позвоночниками, что вились вокруг него как мухи? Видел, а не разгонял, бывало даже слушал их с умилением. Загадка!
Когда я очутился на островной базе, и нас с Валей захлестывало, грозясь утопить однообразие, я, случалось, вспоминал Генерального, вспоминал и Толстого, пытался мысленно поставить себя на их место. Для чего? Только не из честолюбия, а исключительно для тренировки мозгов. Это была игра — придумай решение за начальника, да такое, чтобы «побить» его решение, неодобренное мною.
В свое время Толстый дал мне карт-бланш в выборе второго пилота. Я назвал Пономареву. Дмитрий Васильевич, не скрывая удивления, спросил:
— Бабу? Вы это серьезно предлагаете?
— Эта, как вы изволили выразиться, баба — мировая рекордесменка и летает так, что не каждый мужик с ней сравнится.
— Это на ипподромах принято превозносить победивших наездников, а поносить проигравших лошадей. В авиации, я полагаю, рекорды ставят специально создаваемые машины… а пилотов, уж извините, случается, по-приятельскому расположению допускают до рекордных машин.
— Напрасно вы беретесь судить о том, в чем мало смыслите. Уж извините, Дмитрий Васильевич, за откровенность.
Некоторое время, признаюсь, я ждал неприятностей, по меньшей мере, косых взглядов со стороны Толстого, но он оказался умен и хитер. Сообразил, а на черта ему ссориться со мной? И «подарил» мне Пономареву. Думаю, именно так он рассудил: «На тебе эту бабу и радуйся!»
Уж так сложилась моя жизнь, что летать ведомым мне почти не пришлось. А если подумать, то истинное мое призвание было в том, чтобы оберегать хвост лидера, свято исполнять фронтовой закон: «Ведомый — щит героя». В начальники я не гожусь, чего-то недостает во мне для этой работы, какой-то маленькой пружинки что ли. Что надо делать — понимаю, как делать — большей частью тоже соображаю, а вот перевести понимание в действие, скомандовать и заставить других выполнить свою волю, не получается.
Медицинского заключения о состоянии здоровья отца всех народов мы дождались. Вот когда я окончательно понял смысл написанного Толстым слова на блокнотном листке. И официальное сообщение о смерти тоже дошло до нас без задержки.
Теперь однообразие нашей жизни приобрело новую подсветку. Мы отчетливо понимали — впереди не могут не случиться изменения решительные, возможно, огромные и ждали, ждали, ждали… Но не могло такого быть, чтобы все осталось по-старому.
Но… об этом не сейчас. Просто я не могу сейчас.
A.M.: Эта последняя фраза Автора была произнесена не без раздражения. И, откровенно говоря, по моей вине или, если не вине, то о моей подачи. Мне казалось, что о таком событии Автор должен был бы высказаться обстоятельнее. Ведь миллионы людей плакали и миллионы ликовали. Справедливо ли ограничиться упоминанием о событии такой важности, слова не сказать о чувствах, мыслях, переживаниях?
Понимание позиции Автора пришло ко мне много позднее, когда по совершенно другому поводу он заметил: «Не могу слушать воспоминаний фронтовиков. Как начнут, тут же глупеют, пыжатся, изображают себя черт знаете какими героями». Автор не хотел выглядеть глупее, чем ощущал себя. Что ж — очко в его пользу.
Глава девятая
АВТОР: Однажды Валя застала меня за непонятным ей занятием. Я обмерял поллитровку и записывал бутылочные габариты в тетрадочку. Наверное, она решила, что я не совсем в своем уме.
— Ты что делаешь? — не скрывая тревоги спросила она.
— Ты же видишь — обмеряю бутылку.
— Но для чего?
Не хотелось, но пришлось открыться. В популярном журнале, возможно в «Огоньке» я наткнулся на заметку о нашем брате-летчике, оказавшемся не у дел то ли по здоровью его списали, то ли по каким-то еще причинам, и он, чтобы не впасть в отчаяние, придумал себе занятие: сначала построил себе дом из… пустых бутылок, а потом соорудил самодельный самолет. На одной фотографии была изображена симпатичная избушка под затейливой крышей, а на другой — тоже симпатичный самолетик.
— Погоди, Максим, но тебя же никто пока не списывает.
— Именно — пока! Но раньше или позже обязательно спишут. Вот я и хочу, пользуясь свободным временем, подсчитать сколько же требуется бутылок на будущий домик. Разве это не здорово — поселиться в стеклянном дворце собственной конструкции? Ты бы стала?
— Честно? Сомневаюсь. И сколько же надо набрать пустых бутылок?
— Пока не знаю, вот это и хочу подсчитать. А потом займусь проектом и сметой…
Теперь я могу сказать о полной уверенностью: если тебе почему-нибудь плохо, так плохо, что еще чуть-чуть, завоешь волком, не впадай в панику, а придумай себе мечту, не праздное мечтание, а нечто вполне конкретное — самолет-самоделку, дом собственной постройки, невиданный радиокомбайн, коль соображаешь в радиотехнике. Такая вот предметная мечта загружает голову, не позволяет расслабляться, не дает и на самом деле свихнуться.
В тот день, возвращаясь из очередного полета, я обнаружил нечто казалось бы невероятное — на нашей взлетно-посадочной полосе впервые появился посторонний самолет! Кто-то откуда-то прилетел! Повторяю — впервые!
Мы выполнили стандартный заход на посадку и перед последним разворотом Валя спросила, кивнув в сторону чужой машины на земле:
— У тебя руки не дрожат?
Надо ли говорить, ее состояние я понял мгновенно — а вдруг? Вдруг эта машина привезла… не знаю как лучше сказать — новый виток… новый поворот судьбы? Понимаю, все возвышенные слова звучат фальшиво и не внушают доверия, но когда в голове поднимается форменный вихрь тревожных мыслей, как их выразить?
Впрочем, когда ты сам сажаешь свою машину, посторонние мысли в сторону. Контролируй скорость, держись на глиссаде.
Высота? Хорошо. Начинаю выравнивать… Та-а-ак, подпускаю чуть ниже… хорошо, обороты убрать полностью… Так… Сидишь.
Никаких новых людей на аэродроме мы не заметили. Вполне реальный самолет мог бы показаться призраком, если бы мы оба не обнаружили его почти одновременно.
После трех-четырехчасового полета, учитывая, что автопилот мы почти не включаем: бережем! И нас болтает так, что в страшном сне не приснится (облака показывают свой характер!) После такого полета на отсутствие аппетита обычно жаловаться не приходится, но тут мы обедали без радости и вдохновения, даже не обедали — принимали пищу. А пища была первоклассная — грибной салат из шампиньонов, рыбный суп из осетрины, котлеты по-киевски, вишневый компот. Жуем, глотаем, а мысли — далеко! Ну, не может такого быть, чтобы не позвали.
В конце концов я дождался. В динамике внутренней связи прозвучал голос Коменданта:
— Прошу зайти ко мне, Робино. Повторяю, Робино, пожалуйста, зайдите ко мне.
Мы переглянулись с Валей, и я пошел.
Старался шагать не торопясь, но давалось это совсем не легко: ноги готовы были сами собой сорваться на рысь. Постучал в комендантову дверь, получил разрешение, вошел и обнаружил — за просторным письменным столом нашего главноуправителя сидит седой мужчина, лица я толком разглядеть не мог — человека подсвечивало солнце, щедро проникавшее сквозь окно витринных размеров. Почему-то подумал: вот лучшая позиция для атаки истребителя — нападай со стороны солнца!
Хотел представиться, но не успел.
— Если не возражаете, приступим сразу к делу, Робино, — сказал седой. В голосе его я не услышал никакой агрессивности. — Работы по воздействию на облака временно сворачиваются. Теоретические изыскания никто отменять не намерен, но полеты, скорее всего на год-два откладываются. Сидеть вам на базе нет смысла. Согласны?
— У меня такое впечатление, что мое согласие вас не очень интересует, и потом — это очевидно — двух мнений тут быть не может, — сказал я.
— Рад, кажется, вы меня понимаете с полуслова. Возвращаться под знамена Дмитрия Васильевича, мне кажется, тоже нет смысла: его люди будут думать, считать, писать, словом, заниматься чем угодно, кроме полетов. Мы встречались с Генеральным, у него освободилась должность шеф-пилота, хотели предложить вас.
— Минутку, а что с Игорем Александровичем?
— Игорь Александрович — царство небесное… Есть такой психологический постулат — храбрость формирует разумный риск. Именно — разумный. А тут летчик загнал машину на такой Мах, что аппарат разрушился в воздухе. Так вот, мы беседовали с Михаилом Ильичом, он, конечно, скорбит, что касается вас… говорит, на место шеф-пилота не поставит, считает, вы сильно оторвались от той техники, пока воздействовали на облака, с которой работает его фирма.
— Скорее всего, мне не следовало бы перебивать вас. Извините. К Михаилу Ильичу возвращаться я не намерен, даже если он меня попросит. Желаете знать почему? Извольте. По-человечески он мне не нравится. И дальше, пожалуй, можно не продолжать. А коль вы так заинтересованы в моем трудоустройстве, что ведете переговоры за моей спиной и располагаете возможностями принуждать людей подчиняться своим пожеланиям, то не пойдете ли вы мне навстречу?
— В чем именно? — опросил седой.
— Запихните меня начлетом в аэроклуб, куда-нибудь в Кашин, во Владимир, в Кимры… не знаю, где сегодня есть еще действующие аэроклубы. Уберите меня с собственных глаз долой, а я дам расписку о неразглашении и буду молчать до конца моих дней. Аэроклуб, мне кажется подойдет и для вашей службы и для меня лично.
— Любопытно. Но почему все-таки столь резкий разворот именно на аэроклуб?
— Мне не так просто объяснить, что чувствует человек в полете, когда он укупорен в противоперегрузочный костюм, когда вынужден глядеть на небо сквозь щиток гермошлема и бронированное лобовое стекло фонаря. Привыкнуть к этому можно, человек — скотина высочайшей приспособляемости, но полюбить такое, извиняюсь, полюбить, на мой взгляд, невозможно. Вот тут мы время от времени отрывались и пилотировали на спортивной машинке, для души летали, только в эти вот дни я и чувствовал себя самим собой. Думаю, что работая в аэроклубе, живя вне столицы с ее соблазнами, я буду доступнее для вашего контроля.
— Подумаем, — сказал седой и неожиданно: — Считай официальную часть общения, Максим, законченной. Ты что, на самом деле меня не узнал?
Конечно, я на самом деле не узнал его. Против света, не видя толком лица, только седую резко очерченную голову, как я мог признать в человеке Валеруса? Да и лет прошло порядочно… Только теперь, когда он пересел на диван, я смог разглядеть его густо загорелое лицо, увидел морщины и шрам во всю щеку… Не-е-т, не только в освещении было дело, передо мной сидел другой человек.
— Знаю, ты не станешь меня ни о чем расспрашивать, — говорил он, — мы, старик, бдительные, на всю жизнь выученные! Но ведь ты просто умираешь от любопытства, кем все-таки стал твой бывший сосед Валерус, почему уцелел в предвоенной мясорубке и не исчез в войну, где я сейчас… Правильно я толкую или нет?!
— Отчасти правильно.
— Времена меняются, Максим, и мы меняемся вместе с ними — это не новое изречение, но весьма мудрое, оно не стареет. Докладываю: я — полковник, удержался на службе по чистой случайности. Когда убирали Самого, уверен ты должен его помнить, я оказался в длительной командировке, был в действующей армии, вернулся с крестами и, как было заведено в ту пору, резко пошел на повышение. Заставили поучиться, а потом служил своему народу и продолжаю служить. Как бы выспренно это не звучало: объективно так именно оно и есть.
Чувствуя, что надо о чем-нибудь спросить Валеруса, я поинтересовался:
— Ты женат? Детей много?
— Был пару раз женат. Сейчас временно свободен. Есть дочь, шестой годик девочке, понятно, живет при матери.
Обсуждать нам было особенно нечего, но оборвать разговор не удавалось, почему-то Валерус поинтересовался:
— Английский не забыл? В Америку не тянет?
— Это разведка боем или честное любопытство? — спросил я.
— Мы же все-таки были соседями, Максим, а сосед соседа чует издалека. Правильно я говорю?
— Путаешь! Рыбак рыбака…
И на этом наша встреча иссякла. Ничего определенного я не узнал. Пожалуй, кроме чувства тревоги, общение с Валерусом мне ничего не прибавило. Здесь, на базе нас не оставят — это ясно, но и на все четыре стороны, скорее всего, не отпустят… Выходит, дела не блеск.
Валю я застал в моей комнате. Она крепко спала. Скинула сапоги и уснула, так сказать, в полном параде — в брюках, в свитере и кожаной куртке. Поспать Валя любила, но чтобы в таком виде! Она всегда раздевалась, аккуратно складывала свою амуницию на стуле, залезала под одеяло и уже с закрытыми глазами произносила, как заклинание: «Эх, вздремнуть бы теперь минуточек шестьсот!» И откуда только к ней прилепилось это присловие старых пилотов-фронтовиков?! Будить Валю было жалко, но и не пришлось: она сама проснулась и сразу:
— Ну?
— Определенно ясно одно — наше летание здесь закончено, работы по воздействию на облака приостановлены на неопределенный срок.
— И., не тяни же, что дальше будет?
— А вот дальше никакой ясности и нет. Сам я выразил желание осесть в аэроклубе, объяснил, как сумел, чем меня такая перспектива привлекает. О тебе речи не было. Предполагаю, что они собираются вернуть тебя на исходные позиции — в аэроклуб, по месту приписки.
Кажется, последняя часть моей информации Вале пришлась против шерсти, но спросила она вполне мирно:
— А кто, собственно с тобой разговаривал?
— Он не изволил представиться. В конце беседы, верно, выяснилось — еще до войны мы были соседями по дому, он служил тогда в ведомстве, где перед тем как тебя выпустить, если выпускают, требуют подписать бумажку, которая гласит: ознакомлен с ответственностью за разглашение… предупрежден и так далее.
— И когда же нам дадут команду сматывать отсюда удочки?
— А ты почему уснула, не раздеваясь? Думала, поднимут по тревоге и прикажут бежать к транспортнику? Боюсь, подруга, мы тут еще помаемся. Хорошо бы ошибиться, но думаю, они постараются подвести нас к мысли, что наше освобождение, которое в конце концов состоится, результат их отеческой заботы и персонального благорасположения. Очень опасаюсь, как бы за это «благорасположение» не потребовали расплаты. И одной признательности окажется мало. Надо сотрудничать, ребята! Надо помогать…
— Кошмар, — едва слышно выговорила Валя.
Нет, настоящего кошмара, конечно, не было: нас прекрасно кормили, время от времени давали возможность подлетывать для собственного удовольствия, единственное, что вменялось в безусловную обязанность — ждать.
Говорят: «хуже нет, чем ждать и догонять». Мне трудно согласиться с этой народной мудростью. И вот-почему — всю жизнь я или жду, или догоняю. Именно эти два состояния с наибольшей точностью характеризуют мою судьбу. И, положа руку на сердце, я не посмею сказать, будто жизнь моя сложилась хуже некуда. У меня было много шансов угодить в плен и кто знает, случись такое, не сгореть бы мне в печах Освенцима или Дахау? Спасаясь от немецких танков, бывший курсант аэроклуба, не закончивший программы первоначального обучения, я отважился улететь к своим на боевом самолете и, как ни странно, уцелел. Больше того, нечаянно превратился в профессионального пилота… Не буду пересказывать написанное, только попрошу читателя — поверьте мне, мою жизнь никак нельзя посчитать неудачной, заслуживающей сочувствия или чего-либо подобного. Рано начав летать, я продолжаю с открытой душой служить авиации и много раз пройдя по самому краю пропасти, не сомневаюсь — пока я не лишен возможности подниматься за облака, оглядывать землю с высоты, все в порядке! Я знаю: и ждать и догонять — стоит!
А.М.: Видя, как нелегко продирается Автор сквозь воспоминания той поры, предполагая, что он тщательно отсеивает о чем говорить, а что не подвергать разглашению, я спросил, чтобы как-то отвлечь его от трудных мыслей: — Про домик из бутылок ты когда прочитал в журнале: до или после встречи с Валерусом?
— До, конечно. Больше того, я успел сделать к тому времени кое-какие расчеты, набросал вчерне картинку будущего моего особняка. Все эти материалы хранились в ящике моего стола, но сукин сын Валерус оказался в курсе. Очевидно еще до своего прилета на остров он знал о моих потайных намерениях.
А утвердился в своем подозрении наш Робино очень просто. Стоило завести речь о будущем, попроситься в провинциальный аэроклуб, как Валерус сразу отреагировал: «И с земельным участком там проще, свои сотки наверняка получишь, экзотический домик сумеешь построить… Понимаю, очень даже понимаю». Я, признаться, удивился — как это он так прямо, можно сказать, в лоб дал понять: Робино, ты у нас под колпаком живешь, а вот Автор не удивился:
— А чего было ему секретить? Для новичков, для перворазников они обожают разыгрывать всякие ошарашивающие номера, вроде того, что мне довелось увидеть в кабинете Самого. А я — старый воробей, и тертый, и пуганый! Со мной церемониться было нечего.
Все, что Автор выкладывал передо мной, звучало явно саркастически, а в глазах его жила нескрываемая тревога. Наверное тем, кто моложе, это может показаться непонятным — отважной жизни человек, профессиональный испытатель, готовый по роду своего ремесла рисковать, не теряя головы, почему же он тайно робел перед охранными органами? Сам Робино на этот счет ничего мне не объяснил, но мне, его современнику, кажется — устоять перед совершенно конкретной личностью, даже очень высоко поставленной, не так тяжело, чем перед целой, наезжающей на тебя, системой. Мы — поколение, ставшее совершеннолетним перед началом войны, прошли через этот наезд и оказались просто-таки инфицированы страхом. Кто больше, кто меньше, но даже штатные сотрудники системы подавления боялись собственных снов.
АВТОР: Однако бутылки на возведение домика-мечты я начал собирать совсем не так скоро, как хотелось.
Накануне нас предупредили — завтра летите на Большую землю и в назначенное время препроводили в транспортный самолет. Здесь предупредили — в полете пассажирский салон не покидать. Это означало — к экипажу не лезть! Мы не должны были наблюдать за землей, не могли даже мельком взглянуть на показания компасов. Нас везли в неизвестность. И секретность действовала во всю ее мощь.
Аэродром, на котором мы в конце концов приземлились, не показался мне знакомым. Где мы оказались, я сказать не мог. Судя по времени полета, вероятно — в центральном районе России. У трапа нас встретили и ловко развели в разные стороны. С Валей завела разговор видная, хорошо одетая, заметно намакияженная женщина в годах, пожалуй, точнее будет сказать, дама, а ко мне пристроился молодой человек в штатском, но я, и секунды не сомневаясь, с уверенностью присвоил ему звание старшего лейтенанта.
— Прошу в машину, — любезно распахнув дверку, пригласил он. И сразу, едва машина тронулась, сказал: — Имею удовольствие вручить вам…
В моих руках оказалось удостоверение личности, я раскрыл строгую книжечку и с изумлением обнаружил собственную фотографию. На снимке, как ни странно, я был в полковничьих погонах. Я прочел: полковник Робино/Рабинович/, Максим Максимович.
— Едем обмундировываться, товарищ полковник, — сказал сопровождающий каким-то особым, ободряющим голосом спортивного комментатора и доброжелательно белозубо улыбнулся.
Возвращая ему удостоверение, ни о чем не спрашивая, я сказал:
— Держите! Этот документ мне не подходит. Однажды я уже допустил ошибку, приняв из неизвестных мне рук второе крещение. Капитан Робино остается тем, кем его уже однажды сделали. И передайте вашим начальникам, если они все-таки намерены перелицевать меня снова, я, правда, не понимаю для чего это может быть нужно, пусть позаботятся об основаниях. Понятно? Метрика должна быть ЗАГСовская, копия приказа о присвоении воинского звания — заверенная нотариусом. И извольте мне объяснить, где мы находимся.
— Чуть позже, товарищ полковник, капельку терпения и вы все узнаете.
Что произошло дальше, я и сегодня могу главным образом только гадать.
Какое-то время я очевидно спал. Сколько спал не знаю. Когда открыл глаза, увидел белый потолок и странной формы светильник. Пытаясь понять, что со мной происходит, огляделся и решил — похоже, лежу в больничной палате. Палата одиночная, довольно просторная, обставленная совершенно непохоже на отечественный медицинский «комфорт». На тумбочке обнаружил газеты, оказалось — английские. Убедившись, что руки, ноги, голова не утратили подвижность, ворочаются безболезненно, я сел, потянулся и понял окончательно — ты жив, Максим, как будто здоров, а куда тебя занесло — это надо еще понять. И почему случилось выпадение памяти?.. Случилось же!
Мои размышления прервал моложавый, упитанный, до синевы выбритый, по-видимому, врач. Заговорил он со мной на безупречном английском.
— Вижу и радуюсь! Вы пришли в себя. Прекрасно! Позвольте, — он деликатно взял меня за руку, стал щупать пульс, — Кажется налаживается, все приходит в норму…
— А что, собственно, случилось, доктор? Почему я здесь? И — где?
— Вы уцелели в кошмарной авиационной катастрофе, мой дорогой. Вот, что значит судьба! Ни переломов, ни серьезных ушибов. Да, некоторое время вы были без памяти, но теперь сознание вернулось к вам и скоро, я надеюсь, вы будете в полном порядке.
— Но где я? И почему вы говорите со мной по-английски?
— Что ж тут удивительного, дорогой мой, в Соединенных Штатах все говорят по-английски, — загадочно ответил он и, не вступая в дальнейшие объяснения, покинул палату.
Чертовщина какая-то получается! В Америке, понятное дело, все и должны объясняться на английском, но… — додумать не удалось: бесшумно, словно тени, в палате появились новые посетители. Двое. Офицеры. Как ни странно, они оказались в хорошо сшитой форме американских военно-воздушных сил. Офицеры были странно похожи друг на друга, словно близнецы. Они и двигались и улыбались синхронно.
Доблестные представители авиации приветствовали полковника Робино-Рабиновича, выразили свое сочувствие и вместе с тем удовлетворение — все, кажется, завершается благополучно и предложили взглянуть в принесенную ими газету, которую тут же и вручили. Газета оказалась советской, военной. На четвертой полосе в траурной рамке я обнаружил некролог: «При исполнении служебных обязанностей… погиб полковник Робино-Рабинович, вложивший…». Что и куда я вложил, меня почему-то не взволновало. Все напоминало скорее сон, нежели действительность. А офицеры ждали.
— Господа, если я и вправду погиб, как указано в этой газете, то с вами общаюсь очевидно не я, а кто-то другой. Согласны? Если я жив, то почему напечатали мой некролог? Не сочтите за труд высказать свое мнение по этому поводу.
Они что-то отвечали, я снова спрашивал, и так продолжалось довольно долго. И все это время меня грызли отчаянные сомнения. В конце концов я, кажется, что-то понял. Но решил раньше времени своих карт не раскрывать.
На другой день меня посетил сперва врач, а следом те самые офицеры-близнецы, что были накануне. Судя по их словам, самолет, на котором я якобы летел в Штаты, потерпел жесточайшую катастрофу. Мне фантастически повезло: я единственный уцелел, долго пробыл без сознания и вот теперь, наконец, могу ответить на несколько их вопросов. Первый вопрос, что возникает у американской стороны: с какой целью я направлялся в Штаты? Документы, обнаруженные при мне, достаточно ясной картины не дают. Ими, американцами, установлено, что во время войны я работал на одной из северных баз летчиком-испытателем, а позже занимался перегонкой самолетов в Россию. Дальше они потеряли мой след и просят господина полковника описать перипетии его судьбы подробнее. По ходу дела один из близнецов заметил: «Ваша страна как-то подозрительно легко отказалась от своего заслуженного офицера. Объявили вас погибшим и почему-то не затребовали даже останков для достойного погребения. Нам такое совершенно непонятно. Будьте откровенны. Нас весьма занимают ваши соображения относительного дальнейшего жизнеустройства. Пока вам придется пожить здесь. Чтобы принять разумное и справедливое решение относительно вас нам нужна полная ясность: кто же, Робино? Чего вы ждете?
И тут мои собеседники допустили маленькую ошибку, которая и утвердила меня в возникших накануне сомнениях. Один из офицеров, видимо, торопясь войти в полное доверие, заметил мимоходом:
— А небезызвестная вам Молли жива, здорова и хорошо о вас отзывается… — пытаясь убедить меня в подлинности информации, он понес такую липу о девушке, которую я, конечно, помнил, а главное, о которой знал много больше, чем он мог предположить. «Доброжелатель» просчитался. И это очень способствовало принятию моего решения.
А.М.: Когда не упомню уж в какой раз Автор прервал свое повествование, как принято говорить, на самом интересном месте, я попытался было выяснить — так что ж было дальше. Но он только усмехнулся. Неинтересно же будет все выглядеть, если никаких ни у кого сомнений не появится, как только ты этого не хочешь понять! У меня, честное слово, вся жизнь прошла в скачках от очевидного — в невероятное. И снова — только обстановка прояснится, впереди — туман.
Вторая американская эпопея скоро завершится. Обещаю. Потерпи немножко.
Пришлось встать на задние лапы. Автор, по моим убеждениям, единственный хозяин, которому позволено поворачивать сюжет так, как велит ему совесть.
Глава десятая
АВТОР: Между прочим, именно тогда, получив предписание подробно описать свою жизнь, я впервые подумал: а, наверное, и впрямь стоило бы рассказать — не этим, понятно — а просто людям — у меня же полуфантастическая биография, можно сказать. С неделю я писал, как умел и как считал возможным. В том варианте моего жизнеописания ни сосед Валерус, ни его начальник — Сам, ни многие другие лица не появились. Ну, и события я отразил весьма выборочно. А через неделю, накатав страниц шестьдесят, я заявил моим «покровителям»: мне надоело не вылезать из пижамы, я уже больше не могу видеть больничных стен, если хотите знать, я допишу до конца все толком когда, во-первых, меня переоденут в нормальную одежду, а во-вторых, предоставят другую жилплощадь. Чтобы писать правдиво, человеку очень важно чувствовать себя самим собой. Произвел ли этот довод впечатление, сказать затрудняюсь, но меня облачили в военные доспехи. На плечах лежали погоны полковника ВВС, на левой стороне груди — знак летчика-испытателя. Я внимательно разглядел рисунок погон, форменные пуговицы, все было настоящим, только знак испытателя присобачили не на ту сторону, как положено. И я отважился — рискну!
— А теперь, господа хорошие, извольте пригласить сюда полковника Валеруса, — начальственным тоном на чистом русском языке потребовал я у «американцев», — и не прикидывайтесь, будто вы не поняли.
Короче говоря, второй акт представления я им сорвал. Они, гады ждали, что я клюну на предложение противника сотрудничать с ним, действовать против России, и тогда бы, дай я свое согласие, открылись и согнули меня в бараний рог.
Встреча с Валерусом не состоялась. Но вскоре из тренировочного городка разведчиков, где все было, как в Америке, меня тихо выдворили. Я оказался в маленьком городишке среднерусской полосы. Расписки о неразглашении на этот раз с меня почему-то не взяли. Но… обжегшись однажды на молоке, я решил по собственной инициативе дуть на воду и названия городка не раскрывать — какараз?
Действительно — какая разница. Важно совсем другое — в городишке имелся аэроклуб, куда я и получил назначение. Тут не было дикой островной оторванности от настоящем жизни, вроде бы за мной никто особо не доглядывал, но сразу же одиночество навалилось тяжким грузом. Спасало общение с курсантами. Эти молодые ребята, не утратившие романтической веры в небо, сразу сделались мне вроде бы родными. Мое дело было не столько летать самому, сколько руководить полетами, налаживать методическую работу, контролировать инструкторов, проверять курсантов перед первым самостоятельным вылетом. Но я, признаться, откровенно манкировал своими обязанностями и при каждой самой малой возможности летал, летал и летал. У меня не было группы курсантов, но я регулярно высаживал инструкторов из их кабин:
— Отдохни-ка малость, а я слетаю…
И те, уж не знаю, насколько понимали меня, но подчинялись: начлет велит, куда деваться.
Однажды начальник аэроклуба, пожилой отставник, отвоевавший командиром эскадрилий в Карелии, даже сказал мне:
— Слушай, Максим, — мы как-то сразу и легко перешли с ним на ты и держались так, будто были фронтовыми побратимами, — а не разжаловать ли тебя в инструктора? Неужели ты еще не налетался? Стоит ли так изнуряться — восемь полетов в зону и молодого укатают, а ты ведь не мальчик…
— Воля твоя. Можешь разжаловать, я не заплачу.
— То-то и оно — воля не моя, Максим, и, думаю, ты об этом знаешь не хуже меня.
Вечером я написал письмо, которое так и не отправил. Оно случайно сохранилось и могу приложить его в подлинном виде.
«Добрый день, Валя! Писать — не моя стихия, да и уверенности особой, что письмо дойдет нет. И все-таки — лети с приветом, вернись с ответом! Мне бы радоваться: живу на самом краю летного поля. Рядом рощица чисто березовая. По осени, думаю, будет в ней прорва опят. В чужой избе я занимаю комнату с терраской, квартиру мне снимает аэроклуб. Сортир описанию не подлежит. Мыться бегаю на речку, пока позволяет погода. Тут тихо — только самолеты и пчелы гудят, комары тоже вечерами подают голос — одиноко. Тебя нет рядом. Влюбиться, хотя бы условно, не вижу в кого. Одно радует — летаю почти каждый день, стараюсь всю смену не вылезать из кабины. Показываю ребятишкам основы настоящего пилотажа. Надеюсь, не без пользы стараюсь. У меня метод простой: смотри и делай, как я. Вот бы ты могла их подучить чистоте исполнения! Машины, к сожалению, сильно поношенные, ремонтированные без счета, приходится соблюдать осторожность в отношении допустимых перегрузок.
Начальник аэроклуба — мужик свойский. Он старше меня лет на пять, а может даже и больше. У нас с ним понимание не совсем полное, так он охотно «принимает на грудь» до килограмма запросто, а я как и прежде избегаю. Иногда даже жалею: всю жизнь в авиации, а водку употреблять толком не научился. Плохо я переношу ее… Жалею: тут в самый бы раз тихо-тихо спиваться…
Да что это я все о себе и о себе. Ты как, подруга? Летаешь? Где? Какие виды? Сегодня я с новой силой ощущаю, если нет никаких видов — это не жизнь, а всего только существование.
Известно ли тебе, как погиб Игорь Александрович? Часто его вспоминаю. Правильный он был мужик. А вот как накрылся, не знаю. Живым очень важно знать, как погибают их коллеги, товарищи, друзья — чужие ошибки должны учить, они могут способствовать долголетию живых пилотов. Согласна?
Мой адрес на конверте. Будет охота, напиши, ответь. А будет большая охота — приезжай, подруга. Не так далеко до меня — поездом три часа с половиной.
Думаю: какараз, где жить, вот, с кем жить — это другое дело, это далеко не какараз.
Целоваться и нежничать я не приучен, ты знаешь, а в письме и совсем глупо изображать нежности, так что коротко — Будь! Максим».
Как вышло, что письмо осталось не отправленным Вале, теперь уже и не могу вспомнить. Скорее всего закрутился, когда вдруг узнал, что мне предоставлены шесть соток под застройку. Возникла проблема номер один — бутылки! Первый вклад сделали курсанты когда узнали о моей затее. Ребята натащили буквально целую гору бутылок и совершенно искренне предлагали дальнейшую помощь в строительстве стеклянного домика — дворца Робино. Во избежание кривотолков я старался, конечно, не эксплуатировать ребят, но и не скажу, что совсем отказался от их содействия.
Финансовые возможности оказались в тот момент не самыми лучшими, а надо было для начала работы закупить цемент и кое-какие еще материалы. Но я не унывал. Великий человек Ассен Джорданов, летчик, гениальный авиаконструктор, автор многих книг, в том числе и книги «Ваши крылья», сказал: «Приняв решение, даже худшее из возможных, не изменял его». Решение я принял давно — еще на островной базе и не собирался его менять. Терпения должно было хватить. Пусть бутылок и цемента пока маловато, но на фундамент как раз впору. И я начал работу. Фундамент мог, по моим соображениям, вполне перезимовать и подтвердить, так ли я веду дело. Стеклу в земле ничего не сделается, оно, как известно, не гниет, никакая инфузория его жрать не станет, словом, я поднял флаг великой бутылочной стройки и сразу повеселел.
В это время я сделал интересное, думается, наблюдение. Можно побить десять мировых рекордов, совершить три тарана и уцелеть, можно сбить полсотни самолетов противника и через какое-то время оказаться в полном забвении. Слава — самая неустойчивая материя на свете! Спросите у ста прохожих, как имя отчество Пугачевой, и большинство ответит, не задумываясь, — Алла Борисовна. Спросите у тех же людей, как звали Покрышкина? И едва ли не половина поинтересуется: «А кто это такой?» Не подумайте только, что я претендую на известность. Ни в коем случае. Но стоило по округе расползтись молве, как на мой участок толпой поперли любопытствующие. Серьезно — из бутылок? И будешь в этом доме жить? Ну-у, ты даешь!
Сам я как-то не оценил ситуацию, больно неожиданно все складывалось, а вот один из моих добровольных помощников, совсем зеленый еще пилотяга, догадался и подсказал:
— Надо вывесить объявление: «ПЛАТА ЗА ПОСМОТРЕТЬ — ДВЕ ПУСТЫХ БУТЫЛКИ». И не сойти мне с этого места, натащат столько — еще и на гараж хватит.
Мой начальник, думаю, был не в особенном восторге от такой популярности, правда, ворчал довольно миролюбиво:
— Твоей великой стройки нам не хватало.
Но строительству не препятствовал. Кто и где его инструктировал, как следует обращаться с моей персоной, не знаю, но в одном не сомневаюсь — к той инстанции, которая могла оказывать на него влияние, старый пилотяга особого почтения не испытывал. Опасался — наверняка, но не более того. Он был летчиком добротной закваски, крепкой выучки, за его плечами был опыт, поэтому он просто не мог не испытывать аллергии ко всякого рода теневым, как теперь принято говорить, структурам. Летчик его биографии, если только он жив — солдат свободы и правды.
А.М.: Сколь основательным человеком был Автор я понял, когда, спустя время, увидел в его самодельном домике целую библиотеку строительной литературы. Он всерьез изучал технологию, интересовался материаловедением и радовался всякому источнику, содержавшему хоть какие-то сведения о стекле. При этом он, не делая себе никакой скидки, продолжал летать с полной отдачей, не допуская ни малейшей поблажки.
АВТОР: Тот грустный полет начался, казалось бы, самым обычным образом. Курсант был представлен мне на отчисление. Командир звена докладывал:
— В полете, особенно на посадке перенапряжен, в результате выравнивает то высоко, то низко, словом, я бы так сказал: сколь ни вози его — не в коня корм.
Командира звена, что так нелестно характеризовал курсанта, подчиненного ему непосредственно, я недолюбливал. Сам он летал вполне нормально, ничего не скажу, но гонорист был и подозреваю, ребятишек своих ругал сверх всякой меры. Когда-то такой стиль считался естественным: хочешь летать — терпи! И меня в аэроклубе инструктор материл почем зря. Но были за командиром звена и другие провинности. Предрасположение к нарушению «Наставления по производству полетов» отмечалось в служебном характеристике, замечалась грубость в обращении с коллегами, противопоставление себя коллективу. Такие подробности переходили из аттестации в аттестацию.
А дальше события развивались так.
Подходит ко мне курсант, назначенный на отчисление, докладывает бедолага, вижу у самого ручонки дрожат.
— Сперва вот что, — говорю ему: — сожми-ка мою руку, да покрепче.
Парень смотрит, как баран на новые ворота, явно не поймет, чего я от него хочу, робко так берет протянутую руку и осторожно пожимает.
— Не-е-ет, милый, так не годится, давай жми по-настоящему, ты же мужик, а не барышня. И не бойся.
— А вы не обидетесь? — спрашивает мальчишка, и всматривается мне в лицо, старается понять — для чего это начлет такие фокусы выдумал?
— Давай, давай, — стараюсь подбодрить парня, — хорошо, включай форсаж. Ну!
Лапища у него, оказывается, вполне медвежья.
— Молодец. Нормально. Тебя как зовут.
— Курсант Квашин.
— Зовут, как по имени тебя зовут? Дома, например…
— Миша.
— Всё отлично, Миша. Теперь запомни: самолетную ручку так жать не надо, машине будет больно. Понял? Самолетную ручку держи как ложку, крепко, но не души ее. Сейчас мы выполним два полета по кругу. Я ничего не делаю! Всё — сам. Понял? Главное, не торопись, спокойно выполняй, как тебя учили. Готов?
И мы полетели.
На первом же круге, минут через пять, я понял — инструктор замордовал Мишу бесконечными замечаниями, дерганиями управления, наверняка и лексиконом своим замучил. У парня было умное лицо, внимательные глаза, такой пацан обязательно должен был поддаваться обучению. На своем веку я перевидал всяких инструкторов, перебывал в разных руках — ругать ученика, вообще говоря, не запрещается, иногда бывает даже полезно, но хвалить, замечать пусть самый маленький успех — необходимо! Даже самое сдержанное одобрение инструктора — мощный стимулятор. На втором круге я принял решение — садимся, спрашиваю Мишу: «Готов сам слетать?» Если скажет, что готов, тут же и выпущу. После второго полета Миша, как полагается, доложил:
— Товарищ командир, курсант Квашин выполнил два контрольных полета по кругу, разрешите получать замечания.
— Нормально, Миша, — сказал я, — особых замечаний нет, третий разворот надо начинать чуть раньше. Отдохни малость и, если считаешь, что готов к самостоятельному полету, выпущу.
— Я не устал, товарищ командир… — и надо было видеть его лицо, когда он понял, что я его не забодал, не отчисляю.
Первый самостоятельный полет Квашин выполнил вполне удовлетворительно, самую малость ошибся в расчете и приземлился с перелетом посадочного «Т» метров на тридцать, но я не стал ему выговаривать, махнул рукой: давай, мол, еще полетик.
И тут-то случилось: между вторым и третьим разворотом машина, вроде бы ни с того, ни с сего, опустила нос и стала резко снижаться. Все, кто наблюдал за полетом с земли, замерли, когда Миша скрылся за лесочком и… ни дыма, ни огня. Гнетущая тишина.
Не раздумывая, я вскочил в первый стоявший на старте самолет и взлетел. С высоты в двести метров увидел: Мишина машина стоит на крошечной полянке. Вроде не побита, а если и повреждена, то незначительно. Снижаюсь, прохожу бреющим над местом посадки, вижу: Миша стоит у плоскости и машет мне обеими руками. Выходит — парень жив, цел!
Вынужденные посадки в авиации не очень часто, но иногда все же случаются, так почему же я назвал тот полет грустным? Когда мы во всем разобрались и выяснили — вынужденная произошла из-за отказа небрежно отремонтированного двигателя — у мотора сорвало головку цилиндра, начальник аэроклуба объявил летчику благодарность. Он действовал безукоризненно — своевременно выключил зажигание, перекрыл пожарный кран, сумел приземлиться на малюсенькой площадке. Чего же боле? Естественно, разговор об отчислении иссяк сам собой.
Но… командир звена, что посчитал Квашина безнадежным, явился ко мне с претензиями. Во-первых, он решил, по собственному его выражению, что я выпустил Квашина самостоятельно ему, командиру звена, назло. Во-вторых, вроде бы я своими действиями подорвал авторитет инструктора. В-третьих, если бы на той машине полетел он, а не Миша, как предполагалось по плановой таблице, никакой бы внеаэродромной посадки не произошло, он лично вполне бы сумел спланировать налетное поле… Мне надоело его слушать и я сказал:
— Если бы твоей бабушке колеса, была бы она велосипедом.
Он среагировал неожиданно:
— Будь бы вы не французом Робино, а обыкновенным Рабиновичем, так я бы вам объяснил кое-что…
Признаться, мне очень хотелось врезать ему по морде. Но я не посмел. Начальник не имеет права рукоприкладствовать, даже если его подчиненный полное дерьмо. Больше того, когда начальник аэроклуба сказал, что выгонит наглого щенка с работы, я решительно воспротивился. Склока всегда отвратительна, в этом нет сомнения, так зачем раздувать случившееся до размеров серьезного скандала?! Начальник аэроклуба раскипятился:
— Почему я должен мириться с антисемитскими выходками? Молодцы немцы — попробуй расскажи в послевоенной Германии «еврейский анекдот»? Схлопочешь срок. И без проволочек и формализма, ать-два из суда в тюрьму…
Мы заспорили.
— Одного ать-два, как ты говоришь — в тюрьму, а двое, пожалев «обиженного» встанут на его дорожку… — пытался возражать я.
— А ты что предлагаешь? Воспитывать… внушать? Семьдесят лет воспитывали, внушали, а что получилось — политаппарат, тот самый, что воспитывал, и оказался самой антисемитской частью армии…
— Политаппарат я защищать не стану. Но и сами евреи хороши — больно жаловаться стараются, всякую неудачу так и норовят свалить на их «несчастное происхождение».
На этот раз мы разошлись каждый при своем мнении.
В заключение начальник аэроклуба сказал:
— Все-таки странно ты рассуждаешь. Именно — ты. Я никогда не соглашусь. Только власть и сила могут преодолеть антисемитизм, побороть любой шовинизм, остальное — болтовня.
— Каждый имеет право на свое мнение. Можешь считать меня пособником антисемитов, но я палочного воспитания не воспринимаю.
Так ли, иначе ли, а день выглядел грустным, прямо ли, косвенно меня задевал «еврейский вопрос». Ближе к вечеру я поехал на место мишиной вынужденной посадки. Никакой особой необходимости в моем присутствии там не было. Эвакуацией самолета должен был руководить инженер аэроклуба, человек вполне дельный, но я сам себе подсказал: ум — хорошо, а два — лучше. И поехал.
Оказалось, чтобы попасть на поляну, где приземлился Квашин, надо пересечь кладбище. Прежде я здесь не бывал. И теперь, очутившись среди небогатых надгробий, потраченных временем облезлых крестов, кажется, впервые в жизни обратил внимание на российскую нашу особинку — большинство могил были обнесены железными решетками. Калитки в этих оградах запирались поржавленными амбарными замками. И подумалось: какой же мы дикий народ, даже мертвых норовим держать под замком. Мало нам того, что годами обрешечивали великие тысячи живых и далеко не одних только худших…
Кладбище было провинциальное: тесное, неухоженное. А мне всегда казалось — чем дальше от столицы, тем люди ближе к благородным истокам. Что-то не стыковалось и здесь.
Кладбища всегда наводили на грустные мысли. И опять я, будто четырнадцатилетний пацан спрашиваю себя — а для чего мы вообще живем? Неужели, чтобы отработать, как утверждает статистика, в среднем двадцать тысяч часов, залечь под облезлым крестом и обратиться в прах?
Но тут мне представилась счастливая физиономия Миши, когда он не просто слетал самостоятельно, а после второго в жизни самостоятельного полета сделался знаменитостью местного масштаба. Его физиономия излучала торжество, казалось, он освещает все вокруг. И в этом была моя заслуга. Это я поверил в человека. Это я рискнул, и он полетел. Вот, наверное, для того и стоит жить, чтобы награждать радостью ближних, предохранять от бед окружающих, сокращать дистанцию между дальними. А которые философы по диплому, пусть они себе темнят и формулируют то же самое «учеными» словами. Пусть.
Думал, на этом грустный день и закончится. Ложиться спать было явно рано. Но во всем нашем районе внезапно выключили электричество и ни тпру, ни ну… Решил погулять с часок, как говорят старые штурманы «перевести время в дугу». Но только вышел — машина. И тормозит. И…
— Здравствуй, Максим!
Форменное кино! Из трофейного оппеля выгружается, кто бы мог подумать, «Рязань» собственной персоной. Нарядная, несколько раздобревшая, но вполне узнаваемая.
— Как ты меня нашла? Или ты не ко мне… просто случай свел?
— К тебе. А нашла — по намеку Юли. Но сперва скажи, только откровенно, ты хоть немножечко рад? И смотри, Максим, отвечай честно, совсем совсем честно.
— Хорошо. Честно отвечаю — пока не знаю. Не ждал ведь. И потом — столько времени прошло, а информации — ноль. Что ты? Где? С кем и как?
— Отвечаю по порядку: я — жива, это совершенно точно; где я — главным образом все там же. Перевожу, представительствую и снова до тошноты перевожу. Последний вопрос? Ах, да — с кем я? Вообще-то с Мефодиевым, но у нас не все просто… Может, зайдем в дом? Или тебе это неудобно?
— Некоторое неудобство в данный момент действительно, есть. Но не имеет значения. Пошли. Правда, в доме темно, опять выключили свет едва ли не во всем районе, возможно — до утра.
— Ну и что? — хмыкнула «Рязань». — Темнотой меня не напугаешь.
— О'кэй, идем.
Подробности, мне думается, значения не имеют. Свет действительно не загорался до утра. Мы разговаривали тихо-тихо, не хотели беспокоить хозяйку дома. «Рязань» в подробностях объяснила, что за трудности у нее возникли с Мефодиевым. Он хочет наследника, а лучше — наследников, но… не получается. «Рязань» обследовалась у врача, и тот сказал, что с ее стороны никаких препятствий не видит. Она заставила и Мефодиева пройти через ту же процедуру у соответствующего специалиста. Как ни странно, заключение гласило — у вас все в порядке…
— Мне так и не очень обязательно обзаводиться детьми. Раз в свое время не обзавелась, теперь и вовсе не стоит. Но он житья не дает. У него это пунктик помешательства. Как вечер так начинается: а для чего, собственно жить, если без продолжения?
Потом она стала рассказывать о Юле. Давние подруги, они периодически ссорились и мирились и снова ссорились. Как-то Юля стала с упорством дознаваться, до какого предела зашли ее, «Рязани», отношения со мной. И «Рязань» сказала, что в свое время Рубикон мы перешли. Это Юле так понравилось, что теперь всякий раз, когда случается им посплетничать, она не устает повторять: «Ну, Рубикон, я полагаю они давно преодолели…» или напротив: «Рубикон еще не форсирован, но к тому дело идет…»
И вот однажды Юля сказала «Рязани», что ей не повредит съездить проветриться, и назвала место расположения нашего аэроклуба, прозрачно намекнув, что в аэроклубе она может быть встретит кое-кого из старых знакомых. Рискни, а вдруг и Мефодиева успокоишь, и свое удовольствие справишь. Кто его знает, как жизнь повернется. Рискни!
Естественно, я поинтересовалась, кого же персонально она имеет в виду, когда говорит о старых знакомых? И услыхала: «По-моему, там обретается тот, с кем ты однажды уже преодолела Рубикон». Тут уж я впиявилась в нее с расспросами, но она, как отрубила: «Я и так выдала тебе больше, чем имела права».
О чем подумала «Рязань», услыхав такое, не могу представить. Да и не очень это меня занимало. А я так просто ужаснулся: выходит, что и Юля, такая вроде своя, заслуживающая доверия, и она — стук, стук? И полезли в голову совсем забытые было недоговоренности, обмолвки, вспомнилось, как она мне пеняла, почему не поставил ее в известность, прежде чем согласился воздействовать на облака. Кажется, она обронила тогда: «Что-нибудь я бы придумала…». А может и не так она сказала, но ведь намекнула на какую-то свою не явную причастность…
Поддержку «Рязани» я, хоть и без особого вдохновения, оказывал до самого утра. Получится ли что, или нет, не очень переживал: в конечном счете это была не моя, а ее проблема. Чуть свет «Рязань» исчезла так же внезапно, как появилась накануне.
Неужели то был сигнал к возвращению в старое существование?
В голове начался какой-то странный откат памяти. Молча называю имена и фамилии людей, оставивших более или менее заметный след в моей жизни. Мама — умерла. Отец — умер. Моя первая жена — пропала без вести. Майор Гордеев — погиб, майор Савченко — погиб, полковник Валерус вроде жив, а вот «Сам» — погиб, что с Молли — не знаю. Как странно, однако, получается, живых остается меньше, чем покойных. И не всем, кто жив, я могу довериться. Валерусу — не доверюсь, точно, а Юле? Под большим вопросом… А как Люба Агафонова? Чего тут думать, когда я не знаю о ней ничего. А Пономарева? А Толстый? А Александров? Кто из них заслуживает доверия и в какой мере? И совсем неожиданно подумалось: поехать что ли в Москву? Подписки о «невъезде» в столицу у меня никто не отбирал. Для чего ехать? Допустим, такую версию можно выдвинуть — хочу поклониться могиле Чкалова, положить цветы. Давно я этого не делал. Хочу выяснить, где захоронен Игорь Александрович и тоже отнести на его могилу цветы. Убедительно? И кто смеет лишить меня такого права?
Предварительно я обязательно поделюсь своим намерением с начальником аэроклуба. То, что он меня одобрит, уверен совершенно, а вот станет ли информировать инстанции — не знаю. Но, скорее всего, почувствую, угадаю, замечу — как точно не могу сказать…
Позволю себе повториться: «Приняв однажды решение, даже худшее из возможных, не изменяй его».
В ближайший четверг в разговоре с начальником аэроклуба я походя заметил:
— В субботу думаю съездить в Москву.
— Дела? — без особого интереса, скорее для порядка, спросил он, — И когда обратно?
— Если ничего не помешает, рано утром в воскресенье буду обратно.
— Ну, что ж, раз надо, значит надо.
— Давно я не был на чкаловской могиле, хочу цветы положить. Не в дату, а просто так.
— Святое дело, — сказал начальник аэроклуба. — И от меня поклонись. Мы с тобой одних корней.
В город я въехал без происшествий. Никакого надзора за собой не обнаружил. Черт его знает, может моя подозрительность, вечная оглядка просто — чушь, и за мной давно уже никто не следит? Ведь таких, как я — миллионы! Чтобы всех держать на крючке, какой же аппарат надо иметь, где его набрать, как прокормить?
На Красную площадь я пошел пешком, хотя тогда можно было и въехать на нее. В руках у меня был сноп красных гвоздик. Правее мавзолея перешагнул через низенькую загородку и, углубившись в трибуны, вышел на узенькую асфальтированную дорожку, тянущуюся вдоль Кремлевской стены. Шаг, шаг, еще пять шагов, еще — десять Навстречу, как из под земли, — охранник.
— Гражданин, сюда нельзя.
— Пока я для вас еще — товарищ. Я могу постоять, подождать, а вы сходите к своему начальнику и спросите, имеет ли право летчик поклониться летчику, положить цветы? Я — к Чкалову. Если нужен документ — пожалуйста.
Охранник поколебался, документа смотреть не стал и ушел. Я честно стоял, пока не явился майор, проверил мое пилотское свидетельство, пристально глянул мне в лицо и вполне дружелюбно сказал:
— Идите. Только, пожалуйста, недолго.
Увы, с Валерием Павловичем мне полетать не довелось, просто по возрасту я не мог оказаться с ним в одном строю. А живого — видел. Он приезжал к нам в аэроклуб по случаю празднования дня авиации, если не ошибаюсь. Я даже удостоился его похлопывания по плечу. В каком смысле? Старайся, мужик, на вас вся надежда! Война приближается.
Чкалов еще при жизни стал знаменем целого поколения сопливых болельщиков авиации, таких, каким был и я. Сроду я стихов и не мыслил сочинять, а после того, как почувствовал руку Валерия Павловича на своем плече, вдруг излился: мы чкаловцев имя нигде не уроним, когда же придется в бою, в короткой погоне врага мы догоним, и жизнь не спасет он свою… И вот, спустя, можно сказать, жизнь, я пришел к Чкалову, наверное, сам того до конца не осознавая, чтобы хоть на несколько минут ощутить себя снова семнадцатилетним. Нахальным, петушистым, самонадеянным. Знаю, не всякому удается возвращаться к своим истокам, но если удается — это такая радость, тебе мнится в этот час — все-все еще впереди, нет ничего невозможного на свете, успею, смогу, достигну…
На могилу Игоря Александровича в тот день я не попал. Поглядел на часы, надо было решать: или ложиться на обратный курс, чтобы с рассветом оказаться на аэродроме, или звонить, а уж тогда — как получится. Откровенно говоря, звонить и хотелось и не хотелось. К тому же я не был уверен, что старый номер телефона сохранился. И еще, и еще выползали сомнения, доводы «против», пока я не сказал себе: «Трусишь, засранец!» И тогда ноги сами собой шагнули в будку автомата. Набираю номер.
Не удивительно ли, она моментально узнала меня по голосу. Обрадовалась или сделала вид… впрочем это не могло иметь особого значения. Связь была восстановлена. И она сказала:
— Приезжай, я дома, надеюсь, дорогу найдешь, помнишь?
И я поехал. Без точного адреса. Поехал по памяти, когда-то всего один раз я подвозил Юлю после работы домой.
Ориентироваться в Москве никогда не было просто, а после того, как понастроили новые районы, протяженные, как города, стало и вовсе тяжело, но я почему-то не сомневался — найду.
Во всяком случае я очень хотел найти Юлю.
A.M.: По мере того, как события отдалялись от времени наиболее интенсивной летной работы, Автор делался все скупее и сдержаннее. Мне показалось даже, будто ему все надоело и он спешит развязаться с добровольно принятой на себя «литературной» обузой. Вводить человека в искушение, спрашивать, а не осточертела ли тебе, Максим, наша колгота, я не решался. Общение наше продолжалось. Магнитофон вертелся.
АВТОР: Откровенно говоря, я не люблю автомобильной езды по Москве: все время испытываешь такое чувство, будто впереди засада. Меня не так уж часто тормозят автоинспекторы, но, если уж остановят, редко обходится без скандала. В принципе, я человек законопослушный, особенно за рулем, никаких вольностей стараюсь себе не позволять. Но когда мордастый сержант начинает доказывать, что я превысил скорость или не пропустил кого-то, кого пропускать полагается, мне трудно бывает удержаться в рамках покорности…
Юля жила в районе, который мне был плохо знаком. Ехал я тихо, припоминал характерные ориентиры давней поры, заглядывал на уличные таблички, силясь восстановить детальную ориентировку. Откуда я мог знать, что движение в этом не очень еще загруженном микрорайоне, приобрело совершенно новую схему? Короче говоря, я махнул в улочку с односторонним движением против шерсти. Признаю: знак «Только прямо» я не заметил. И напоролся на целую шайку гаишников. Они стояли кучкой, что-то оживленно обсуждая, а мне показалось — готовятся ловить, держать и не пущать! Остановился, не дожидаясь их команды, и жду. Небрежно козырнув, никак ко мне не обращаясь, сержант этак через губу выговаривает:
— Документы.
— Во-первых, не документы, а документы, товарищ сержант, и, во-вторых, кто вы такой?
— Инспектор, — невнятно бурчит свою фамилию милицейский чин и не понять Синилов, Сатилов или еще кто на букву С…
— Не вижу, — говорю я, — хотел бы познакомиться, как положено, заглянув в ваше служебное удостоверение.
Обменявшись еще несколькими любезностями, я протягиваю сержанту С… пилотское свидетельство. По опыту знаю — иногда такой финт срабатывает. Но на этот раз сержант не клюнул. Он долго рассматривает мое удостоверение, потом молча поворачивается и отходит к группе своих коллег, Черт возьми, — думаю я, — пилотское свидетельство для меня не пустая бумажка… Но выдерживаю характер и вылезать из машины не спешу. Вижу, как сержант передает мой документ очевидно своему начальнику, тот, покрутив его, — дальше, еще кому-то, наконец, ко мне направляется офицер. Он козыряет по всем правилам хорошего милицейского тона, называется: капитаном Тихоновым и спрашивает:
— У вас редкая фамилия — Робино, мне кажется мы когда-то с вами встречались, только никак не могу припомнить, при каких обстоятельствах, где… Или я ошибаюсь?
— Право не знаю, товарищ капитан. Думаю, при вашей службе вы с такой прорвой народа вынуждены общаться, не мудрено и забыть кого-то, даже с редкой фамилией.
— Жаль. — Слово это он произносит так выразительно, что я понимаю — а ему на самом деле жаль, хочется вспомнить. И буквально в следующий момент капитан начинает смеяться.
— Вспомнил! Ей богу, вспомнил! Вы жили напротив станции метрополитена, — и он называет все приметы моего дома, — был я у вас в квартире, товарищ Робино, а потом еще звонил на вашу работу, сообщал о состоянии здоровья Любы Агафоновой. Ее подстрелили, она лежала в больнице тогда. Робино — точно, и без отчества — Максим. Надо же, встретились!
Тут я выхожу из машины, и мы странно радуемся встрече, хотя радоваться-то совершенно нечему. Из прошлой жизни нас решительно ничего не связывает. И вот поди ж ты!
Тихонов по собственной инициативе, не дожидаясь моих вопросов, сообщает, что Люба вполне благополучно выкрутилась из той давней уже передряги, закончила милицейскую академию и, кажется, совсем недавно стала майором милиции. Работает в центральном аппарате. И не без нотки ехидства, так на ходу:
— Семейством вроде не обзавелась. Если дадите телефончик, могу выяснить точно и позвонить по старой памяти, поделиться… В результате телефончик даю не я Тихонову, а Тихонов — мне, свой. Капитан возвращает мое пилотское свидетельство, и мы расстаемся самым дружественным образом.
Юлин дом я нашел не без труда, но все-таки нашел. После первого здрасте, я втягиваюсь в разговор, из которого — сразу понимаю — будет не так просто выпутаться.
— Ты прекрасно выглядишь, мне кажется, помолодел, украсивился… Не мужчина — смерть бабам! Моя подруга тебя уже атаковала?
— Стоит ли начинать с подруги, Юля?
— Почему бы нет? Она так рвалась к тебе…
— Что ты оказалась просто не в силах отказать и вывела ее на курс?
— Можно подумать, будто ты остался недоволен?
— Прежде всего мне хотелось бы узнать, а откуда тебе стал известен мой адрес?
— Кто хочет, тот находит.
— И все-таки? Откуда? Почему ты сама не воспользовалась этим адресом…
— Интересно, а что ты скажешь, если я признаюсь — не успела!
— И еще раз спрашиваю: как ты меня вычислила, Юль? Поверь, тут не только любопытство заставляет меня упорствовать.
— Под кем я существую, Максим, ты не забыл? Генеральный потребовал срочно найти тебя, как он выразился, живого или мертвого, но предпочтительно — живого. У Михаила Ильича появились какие-то серьезные виды на тебя. Я туда-сюда потыкалась — нет следов. Доложила самому, он меня обругал и, недолго думая, тут же при мне позвонил нашему начальнику особого отдела. Слышу, говорит:
— Можешь разыскать моего бывшего летчика Робино Максима? Что тот ему отвечает, не слышу, а Михаил Ильич благодарит и просит: — Мой референт будет тебе звонить, ей дай координаты. Я на полигон лечу, с неделю там пробуду, вот бы к возвращению ты меня отоварил…
— Странно, для чего Генеральному было тебя в это дело подключать. Мог бы, вернувшись, сам связаться…
— А почему, Максим, все это тебя так сильно заинтересовало? Почему ты вдруг засомневался в моем к тебе добром расположении, в моей откровенности? Я же чувствую.
— С той поры, как Генеральный сдал меня в аренду «Толстому», а потом и вовсе отказался от услуг Робино, я сделался подозрительным, подруга. И все ищу подвоха. Даже самому противно.
— А с моей-то стороны, какой может быть подвох?
— Кто знает. Тебе известны слова: «Жребий брошен».
— Не поняла… ну, брошен? И что?
— Кому принадлежат эти знаменитые слова?
— Понятия не имею. Михаил Ильич уж точно такого не скажет, не в его стиле.
— Согласен, — хмыкнул я, — а Цезарь мог сказать?
— Перестань темнить, при чем тут Цезарь?
— В сорок девятом году до нашей эры, эти слова обронил Юлий Цезарь, перейдя Рубикон, вопреки запрету сената, и началась гражданская война. Доходит?
— И это с тех пор, — у Юли глаза становятся в два раза больше, — говорят — «перейти Рубикон»? Ничего себе!
— Вот и объясни, для чего все-таки ты навела свою лучшую подругу на меня?
Нет, толком выяснить то, что я хотел выяснить не удалось. Вариант случайного ее контакта с особняком фирмы выглядел не особенно убедительно, но с другой стороны, я не располагал решительно никакими фактами, чтобы порушить Юлину версию. Вот ведь какая гадость — один раз заберешь в голову и нет тебе покоя, и доверие к человеку медленно так растворяется, подтаивает, истекает по капелькам…
A.M.: Примерно в этом месте Автор потребовал таймаут. Сказал, что у него такое ощущение, будто он запутывается не в описании событий, а в связи одних — с другими. И порекомендовал мне съездить на Ходынку, понюхать воздух старейшего аэродрома России, прислушаться к мыслям, что зазвучат в моей голове, с тем, чтобы обсудить потом некоторые проблемы, давно его занимающие.
На Ходынку я съездил. Воздух оказался самым обыкновенным — городским. Взлетно-посадочная полоса произвела удручающее впечатление. И — коротенькая, по нынешним меркам, и бетонные плиты местами побиты, смещены. Представить себе, что с этой полосы иногда еще взлетают и даже садятся, было просто невозможно.
Запустенье и мерзость расползлись по всей Ходынке. Лишь в одном углу, за спиной аэровокзала, я обнаружил стадо старых списанных самолетов, выставленных на обозрение любителей авиации. Откровенно говоря, это было все-таки не столь грустное зрелище в сравнении со всем остальным. Сами по себе машины обладали завораживающей силой: они были объективно красивы.
Обо всем этом я был готов рассказать Автору, прежде чем начинать очередной сеанс.
АВТОР: Ну, хапнул горя? Значит, правильно я тебя адресовал на Ходынку — для настроения, для злости. Два года бьюсь, хочу узнать, кто персонально — фамилия, имя, отчество, должен был преименовать улицу Чкалова в вонючий Земляной вал? Подумаешь, какая историческая ценность — этот вал! Кто посмел так оскорбить, так унизить нашего Чкалова? Мне кое-кто возражает — не одного Чкалова обидели, улицу Чехова обратно в Малую Дмитровку перекрестили, а… и называют еще кучу улиц, лишенных своих имен. Плюнь, мол, мужик, не кипятись. И скажи, допустим, ты узнаешь, что на заседании такой-то комиссии — их сотни этих комиссий — встал некто и напомнил собравшимся, а в прежние, незапамятные, де, времена, когда Чкалов еще и не родился, улица Земляной вал существовала… И собравшиеся, как ты выразился, единогласно или большинством голосов — это безразлично — решили — отименовать, восстановить и прочие слова. Дальше что?
Как что? Поднять вселенский хай! Должны же понять люди, что того инициатора надо срамить, поносить прилюдно и по радио, во всех средствах массовой информации, житья ему не давать, чтобы он шага вольно шагнуть не мог, чтобы дети на него пальцами показывали…
Можно ли этого конкретного сукиного сына выдрессировать или нет, не знаю, но в одном не сомневаюсь — нельзя какой-то мрази давать в обиду Чкалова, тем более покойного, когда он сам за себя постоять уже не может. Или мы не люди? Почему молчим?
А если то было предложение самого нашего эксцентричного мэра, тогда, что ты запоешь? — подначивают меня.
Неужели страшнее кошки зверя нет, ребята? Сравнили мэра и Чкалова! Мэра изберут или не изберут — вилами на воде писано, а Чкалов избран бессрочно…
Мне летная работа еще и потому дорога, что с высоты я вижу землю такой, какой ее должны бы видеть все люди — молчаливой, многокрасочной, обиженной… На фабричные дымы глянешь, душа переворачивается, душим матушку; а сведенные под корень леса — горе наше, а наступающие пустыни? Кто-то, будто слепой, стихами землю нашу славит, когда караул надо кричать! Люди дрожат или делают вид, будто дрожат от страха перед атомной бомбардировкой, хотя страшнее всех средств уничтожения наши собственные слова, слова и слова, в потоке которых захлебывается жизнь…
A.M.: Автор умолк. Продолжать ему было просто невмоготу. Я видел в этом, на мой взгляд, добром человеке злость вдруг взяла верх надо всеми прочими чувствами. К Чкалову он относился молитвенно, может быть сильно преувеличивая его личность, но Чкалов в этот раз был лишь поводом. Боль за людей, за судьбу всех нас не оставляла Робино равнодушным.
Вдруг Робино сказал: «И не вижу компромисса. Или ты за правду, за справедливость или все твои речи — мусор, пустое сотрясение атмосферы. Что ждет нас завтра, для меня не какараз».
Глава одиннадцатая
АВТОР: День начинался тихо, мирно, я бы сказал, улыбчиво. Солнце только-только встало над летным полем, еще не разошелся легкий ночной туманец. Мне предстояло облетать машину, вышедшую из ремонта. Пока механики осматривали самолет, я отошел в сторону от стоянки, хотелось побыть в одиночестве. На меня, бывает, такое находит.
Подошло время, взлетел. Выполз на высоту в тысячу метров и, как в старое доброе время, погнал площадку. Никому в аэроклубе мое умение гонять площадки, когда острия стрелочек замирают на заданных делениях циферблатов, не требовалось. Просто я сам себе демонстрировал — а испытатель в тебе еще не кончился. Могу! Могу! Наверное, это выглядит несерьезно, по-мальчишески, но уж такой я есть — непременно должен себе доказывать, на что способен.
Минут через двадцать, разделавшись с площадками, приступил к пилотажу. Мотор не насиловал. Мотор пришел с переборки, и я жалел его. Покружив плавными виражами, махнув одну-другую бочку, сделал переворот через крыло и пошел на снижение. Машина была в порядке. И сам я чувствовал себя превосходно. Остатки тумана испарились, небо было празднично-синее. Я доложил начальнику аэроклуба, что можно начинать полеты с курсантами, он кивнул и спрашивает:
— А на недельку в Москву не хочешь?
— Не понял: гулять или работать?
— Сборы руководящего состава аэроклубов начинаются. Думаю, ты на этих сборах сильно не переработаешь, а пожить в свое удовольствие сможешь. Ну?
— Посылаете? Поеду…
— Ты — пижон! МОЖНО сказать, я тебе подарок подношу, а ты изображаешь из себя жертву аборта… Между прочим, я бы и сам мог поехать, а тебя оставить на месте — за себя и за меня…
Вот так я неожиданно отправился в столицу. По дороге думалось о разном. Как представить себе состояние, о котором обычно говорят: он (она) в переживаниях? Худший вариант, я думаю, — это когда обстоятельства требуют принять решение, ты стараешься, прикидываешь и так и этак, сам с собой споришь и… ничего окончательного не находишь.
Медицинские комиссии летный состав проходит регулярно. Освидетельствования бывают более или менее строгие, обширные — в стационаре или сокращенные — в амбулатории. Но все равно любое обследование — переживание. А вдруг медики, найдут к чему придраться. За все годы работы в авиации я не встречал пилотяг, которые бы внутренне не вздрагивали перед человеком в белом халате. У него право казнить тебя и миловать — отстранить от полетов или допустить летать дальше. Понятно, я не составлял исключения, но когда волею обстоятельств мое серьезное летание закончилось и я очутился в аэроклубе, меньше всего, казалось, было бы ожидать неприятностей от эскулапов. Летал тихо, жил на свежем воздухе, стрессов, можно считать, ноль. Да и те комиссии были скорее формальные. И вдруг старичок-доктор, этакий старорежимный сельский лекарь по виду, говорит ворчливо:
— А вы, батенька, неприлично разжирели! Надо пощадить сердечко… легко ли ему таскать столько лишнего жира, трудно ему. Вы слышите меня?
— Слышу, доктор, а что прикажете делать, чтобы не жиреть?
— Худеть натурально! — отвечает милый доктор. — Иначе через годик мне придется вас от летной работы отстранить, батенька, уж не обессудьте, как ни прискорбно сообщать вам столь неприятные вещи, однако обязан — долг велит.
Худеть! Легко это выговорить, а вот как исполнить? Стал я меньше есть, хотя и прежде не обжирался. Меньше хлеба, меньше макарон, меньше сахара употребляю. Прошел месяц, становлюсь на весы и узнаю… скинул чуть больше одного кэгэ. Похудел, называется! Смех! Во мне лишнего веса, по определению того старого лекаря, килограммов двадцать.
И начались мои переживания.
Осваиваю научные рекомендации. Оказывается, существуют рисовая диета, бессолевая — тоже, яблочная, морковно-капустная и прочие и прочие. Еще очень настоятельно рекомендуются разгрузочные дни. Пробую и так, пробую и этак. Результат один — жрать охота до писка, в голове только и вертится, чего бы сейчас зажевать — отбивную с картошечкой жареной или чего попроще — кашу, например, гречневую со шкварками… От таких мыслей я прогрессивно глупею, скоро превращусь в жвачное, наверное, а вес почти не уменьшается.
Наблюдая за моими мучениями добрый мужик, начальник аэроклуба, мне однажды и посоветовал:
— Зря ты, Максим, от нее воздерживаешся. Принял бы стакан другой, полирнул бутылочкой пивка. И пусть с непривычки тебя вывернет, пусть произойдет фридрих хераус, так все равно польза: вес автоматически скинется. Она, голубушка, очень даже подсушивает. Погляди хоть на меня, хоть на кого другого.
Страшно вспоминать. Послушался я, так сказать, старшего товарища и такой он мне фридрих хераус организовал, что я полные сутки белого света не видел. Верно — похудел. Весы показали — на восемьсот граммов ровно. Начальник по этому поводу пропел что-то из репертуара фронтовой самодеятельности: и поднесут родные нам (по возвращении с победой) восемь раз по двести грамм… И очень рекомендовал прислушаться. Но от повторения я отказался, не отважился. И тогда он совершенно неожиданно изрек:
— Тогда тебе надо безнадежно влюбиться! На себе не испытывал, но говорят, многим очень способствует потерять вес, бывает на глазах человек сохнет.
— Рад бы, только… по части кобеляжа, понимаешь меня? никогда никаких затруднений я не испытывал и жалоб со стороны дам не слышал. А что касается вздохов при луне, поцелуйчиков и тонких чувств — не моя это стихия.
На том наш разговор и закончился. А жизнь катит себе дальше. Летаю, тоскую по макаронам с тертым сыром, пирожки с капустой бывает снятся. Взвешиваюсь и киплю от переживаний: а ну как на самом деле спишут? Куда я тогда? Кому нужен?
И как раз на этом этапе оказываюсь в Москве. С тех дурацких сборов я, понятно, регулярно сматываюсь. Распишусь — прибыл, и — ноги в руки, пошел!
Для меня Москва — переживание. Слишком много с этим городом связано, с его улицами, домами, подворотнями… И случилось мне в тот раз забрести на тихий скверик, в середине которого пруд блестел, а на воде рыжие утки вальяжно так круги пишут. Любуюсь утками, стараюсь о жратве не думать. И не сразу сообразил, что рядом происходит. Оказалось, ко мне приближался неслышными шажками мальчишечка лет, пожалуй, трех или трех с половиной, долго меня рассматривал, а я ничего этого толком не видел: сосредоточился на утках. И тогда только смог хоть чуть-чуть оценить ситуацию, когда тот мальчишечка лихим тигриным броском кинулся мне на колени и произнес отнюдь не вопросительным, а весьма даже утвердительным тоном:
— Папа!
Ребенок был — загляденье! Есть такие дети, излучающие обаяние. А события разворачивались дальше по совершенно импровизированному сценарию. К нам подошла женщина, за ее руку держалась девочка, совершеннейшая копия того пацана, что сидел на моих коленях. Женщины я толком не разглядел, услышал, как она выговаривает довольно неуклюжие извинения, обращенные ко мне, а следом говорит сыну:
— Павлик, слезай с дядиных коленей, нам пора домой.
А Павлик домой и не думает, он повторяет снова и снова:
— Папа!
Вижу, женщина в полной растерянности, не знает как увести сына. А он не капризничает, не плачет, только изо всех сила старается объяснить маме — вот, мол, я нашел папу, почему ты не радуешься? Это же папа!
— Знаете что, наверное, надо сделать, — предлагаю я, — пойдемте домой все вместе. Я провожу вас. По дороге разберемся. Она колеблется, а мне пацана жалко. Понимаю, ему так нужен папа, ясно папы у него нет… Бесчеловечно обижать такого славного ребенка. — Да, плюньте вы на все условности, мама, посочувствуйте своему сыну. Не разбойник я с большой, хотите, предъявлю документы? Кстати, как вас зовут?
Она не успевает ответить, Павлик заливисто смеется, очевидно над моей бестолковостью — папа не знает, как зовут маму! — и выкрикивает звонко:
— Надя! Маму Надя зовут! Ты — забыл?!
До их дома дорога не дальняя. Минут за десять дошли. Тут я поглядел на часы и сказал:
— А мне пора бежать! На работу опаздываю. Давай лапку, Павлик, попрощаемся. — С этими словами я опустился на корточки, Павлик неожиданно обнял меня за шею, отчаянно поцеловал и спросил, мне показалось, строго:
— Ты когда придешь ко мне?
— Вы разрешите, Надя?
— Даже не знаю, что вам сказать…
— Скажите, какой у вас номер, квартиры, — предложил я. — Таких прелестных детей, Надя, право, грех обижать.
И снова прозвучал голосок Павлика, раньше чем его мама собралась с духом ответить.
— У нас квартира двадцать пятая. Ты сегодня приходи. Надя только растерянно улыбнулась. Я подумал — молчание — знак согласия. И с этого дня жизнь моя перешла на повышенную скорость.
В аэроклубе все шло заведенным порядком, только теперь я старался не задерживаться. Отработав положенное, несся в Москву или на строительство моего бутылочного домика.
В значительной степени моим существованием руководил теперь Павлик. То его надо было показать отоларингологу, то приближался день рождения ребят и, естественно, их полагалось отоварить игрушками. Хотелось купить не что попало. Ребята, надо сказать никогда не канючили, ничего не просили, но я догадывался как-то, чего им хочется.
Никогда не забуду, как в очередной приезд в Москву, распрощавшись уже с детьми, я собирался было поклониться Наде, когда Павлик вдруг спросил:
— А маму ты почему не целуешь? Поцелуй!
— Мне трудно сказать, кто из нас — Надя или я — был смущен больше этим очень уж категорически прозвучавшим вопросом и то целование, неуклюжее и торопливое, очень мне напомнило школьные времена и первую щенячью влюбленность.
Позже, услыхав, что я строю дом из бутылок, Павлик загорелся желанием увидеть те бутылки собственными глазами. Признаюсь, я не сразу уразумел в чем дело, оказалось Павлик вообразил — бутылки, из которых можно построить дом, должны быть очень большими, такими большими, что папа может в них входить и выходить.
Постепенно жизнь моя перетекла в совершенно новые берега. В Москве меня ждали дети, называвшие меня папой. Майя, сестренка Павлика, не сразу, а мало-помалу тоже расположилась ко мне, а может быть просто копировала поведение своего бойкого и удивительно независимого братишки. Павлику Майя была предана беспредельно. В Москве меня встречала очень долгое время растерянная мама-Надя. Я старался честно исполнять роль папы, не претендуя на положение и.о. мужа. С этим, я чувствовал, никак нельзя было спешить.
Никогда прежде не мог я вообразить, что совсем еще маленький человечек может забрать такую власть над взрослым, вроде бы достаточно искушенным мужиком. Даже в полетах порой думал о Павлике. Воображал — подрастет, дотянется ногами до педалей, и я непременно начну его учить летать. На мой взгляд, управлять самолетом может и десятилетний ребенок, если только у него достаточно длинные ноги, голова на плечах и толковый инструктор. Научить Павлика летать сделалось моей навязчивой идеей, о которой, правда, до поры до времени ничего не знали ни он, ни его мама.
Как минул год, я почти не заметил. Забеспокоился лишь когда объявили: в следующий понедельник очередная медицинская комиссия. Меньше всего я мог ожидать, что старый доктор, грозивший год назад списать меня с летной работы, скажет теперь:
— А вы, батенька, молодец! Двенадцать кэгэ скинули, это ж не кот начихал! Еще чуть сбавить, конечно, не помешает — для надежности, так сказать. — произнеся столь лестные слова в мой адрес, доктор поинтересовался, какая диета и какой режим способствовали вернуть форму?
— Движение, доктор, и никаких особых ограничений в еде. — Врать симпатичному старику мне не хотелось, — Главное, вот уже год я совершенно не сижу на месте. Кругом — бегом…
Выражение «кругом — бегом» — доктору, видать, понравилось, он повторил его несколько раз и, как бы подводя научную базу, изрек:
— Вы очень правильно схватили суть процесса: статика — это смерть, динамика — жизнь. Так что и на дальнейшее рекомендую, — он подмигнул мне, — кругом — бегом! И не переедать.
A.M.: Примерно на этом месте рукописи, которой тогда еще и не было, у меня накопился только ворох кассет с пленкой, произошла наша первая серьезная размолвка. Автор вдруг объявил:
«Вот, собственно, и все. Остальное — никакая не полуфантастическая история капитана Робино, а самая заурядная житуха…».
С таким заявлением я решительно не согласился, но мой протест нисколько не поколебал Робино, хотя он и начал оправдываться. Заурядная житуха мол, не означает — худая, нескладная или какая-то еще — с отрицательным знаком. Просто медленное встречное движение друг к другу Нади и его невозможно, да и совершенно ненужно описывать. Это был прежде всего кропотливый труд. Слишком многое надо было преодолеть. Такую работу не каждая душа, пожалуй, вынесет.
Не сразу и не одновременно они пришли к мысли, что их совместное будущее должно складываться как откровенное, взаимоуважительное партнерство. С Надиной подачи было решено: никаких разговоров, выяснений, обсуждений прошлого быть не должно. Что прошло, то прошло. Долго не могли решить усыновлять ли детей «папе». Спешить с этим не хотела Надя. А вот юридически оформить брак им пришлось. Именно — пришлось. И она и он считали — никакие церемонии, никакие казенные печати ничего упрочить не могут. Но печати потребовались, когда они решили съезжаться.
Стеклянный домик Робино достроил, но это чудо стояло достаточно далеко от города, жить семьей они могли в нем летом, как на даче.
«А теперь, — сказал Автор, — отложим наши труды лет хотя бы на пять, а тогда посмотрим, наберется ли событий, мыслей и прочего, чтобы дописывать или нет. Согласен?»
Откровенно говоря, мне такой финал не улыбался, но воля Автора, его решение, по моим понятиям, обжалованию не подлежат. Отложили.
Глава двенадцатая (записана, спустя годы)
A.M.: Прошли годы, именно так — не годик-другой, прежде чем мы уселись рядком, чтобы потолковать ладком. Конечно и Робино и я, и все вокруг сильно изменились. Но меньше всех постарел Робино, он по-прежнему верил в тайное воздействие на Валин и его организм, имевшее место на том сверхсекретном острове, с которого они летали воздействовать на облака. Выяснить какие-то подробности Робино не сумел, да откровенно говоря, и не очень старался, «бывает, когда спокойнее не знать, чем знать», — заметил он вскользь и еще сказал: что они там с нами делали, как на нас влияли, я понятия не имею, но вот смотри — морщин у меня почти совсем нет и кожа гладкая, как задница у ребенка. Все Валины подруги домогаются узнать у нее, какими снадобьями она пользуется, не может быть, чтобы в ее годы у женщины сохранялся такой цвет лица, не постарели руки и вообще.
— Ну, что, — поинтересовался я, — так вернемся к прежнему разговору, пока еще не поздно?
— Попробуем, — без особого энтузиазма согласился Робино, — попытаемся подвести итоги.
В качестве ИПМ — исходного пункта маршрута — нашего начинания, порешили взять новоселье в бутылочном домике, которым его автор гордился пуще прежнего. Поехали! И я включил магнитофон.
АВТОР: Свой стеклянный дворец я строил долго, что называется, с переменным успехом, постоянно переживал какие-то трудности: то элементарно не хватало денег, то свободного времени не было, то возникала чисто техническая проблема, например, в стекло гвоздя не вбить, шуруп не ввернуть, спрашивается, как же навесить двери? Но в конце концов дом все-таки оказался подведенным под крышу, и хотя въезжать в мои хоромы было рановато, следовало как-то обставить, обуютить жилплощадь, я решил не откладывать в долгий ящик и спраздновать новоселье. Первыми пригласил аэроклубовских мальчишек, которые старательно и совершенно бескорыстно помогали мне. Справедливости ради, отмечу — мальчишки были не просто и не только дармовой рабочей силой, но и моими увлеченными единомышленниками, они много чего напридумывали, наизобретали, пока дом стал выглядеть действительно домом, а не свалкой отработанной тары.
В назначенное время ребята пришли шумной ватагой и притащили кота. Объяснили: чтобы в доме было все благополучно, первым переступить порог должен обязательно кот. Это народная примета! Признаться, в абсолютную народную мудрость я не очень-то верю, но возражать не стал, тем более, что сам по себе кот мне понравился — он был пушистый, дымчато-серый, в белых «носочках».
Раскинув на сверкающем стеклянном полу зимние моторные чехлы, позаимствованные у техслужбы, мы уселись кружком и начали гулянье. Дом был скромно «обмыт», победила, как полагается, дружба, кот незаметно сбежал. Таким было самое начало.
Жизнь постепенно, я бы даже сказал — осторожно, стала втягиваться в будничную, хорошо наезженную колею.
Хотя!
Хотя без приключений у меня никак не получается. Нежданно-негаданно в мой дворец припожаловала «Рязань», да еще с подарком на новоселье. А подарок был на смешных толстых лапах, круглоголовый щенок немецкой овчарки. Вручение щенка сопровождалось таким трогательным текстом:
— Долго я вспоминала твоего красавца пса, который так странно пропал перед самым твоим исчезновением из Москвы. Его звали Тимоша, да? Как он тогда в скверике шикарно на моего бывшего мужа ощетинился, восторг!
— А откуда ты узнала, что Тимоша пропал?
— Точно теперь уже и не помню, но скорее всего от Юли; она очень пристально твоей персоной интересовалось, всегда меня подначивала, а мне-то кажется, ох, готова была Юлька со мной сменяться, да Генерального опасалась…
Странно, — подумал я, — конечно времени прошло много, и я уже не мог с уверенностью сказать, делился я с Юлей — вот, мол, Тимоша пропал, или она черпала информацию о моей жизни из каких-то ей одной известных источников? И опять недобрые мысли закружили в голове. Всю жизнь меня не покидает чувство, будто я живу под увеличительным стеклом. Но почему? Ни к каким сверхсекретам, вроде, не причастен, делаю свою работу, на мой взгляд, вполне добросовестно, с людьми общаюсь открыто, так чего уж за мной досматривать?
О своем втором муже «Рязань» не упомянула, а я не стал ничего спрашивать. Найдет нужным, сама скажет, как ее семейные дела складываются, а нет — так и не особенно мне хотелось.
За пустячными нашими разговорами не заметил, как начало быстро темнеть. «Рязань» потянулась всем телом и неожиданно спросила:
— Не возражаешь, если я тут заночую? — и прежде, чем я успел ей что-нибудь ответить, — сказала: — в багажнике надувной матрац, спальник и все прочие причиндалы автотуриста, вот ключи… Принесешь, Максим?
Никогда я не умел отказывать женщинам.
Помню, в молодости мама моя как-то заметила, какое счастье мол, что родился мальчиком. Не поняв, что она имела в виду, я поинтересовался, почему это счастье. «Ну, как же, родись ты женщиной, пропал бы на панели». Мама умела сказать свое веское слово.
Да, чтобы не забыть! Мебели в моем новом доме все еще не было, хотя телевизор уже занял красный угол и без устали демонстрировал мне сцены из жизни, творившейся за пределами аэроклуба.
Неожиданно — да, да — опять неожиданно, опять — вдруг — я «встретился» на телевизионном экране с Любой Агафоновой, то есть с майором милиции, кандидатом юридических наук Любовью Михайловной Агафоновой, она была гостем какой-то криминальной программы и деловито вещала о росте преступности в стране, о новых мерах пресечения правонарушений и о чем-то еще, что меня не слишком заинтересовало. Свое внимание я сосредоточил на огрузшей, немолодой, адски уставшей женщине и думал: все проходит, — сказал когда-то мудрый царь Соломон, прошла и милая Люба, будто испарилась, словно исчезла, как утренний туман. Но ведь была? И не стоит огорчаться…
Вот тебе и будничная, накатанная колея!
А тут еще появляется в поле зрения Валя. Приехала с сыном. Выглядела она просто сказочно здорово, хоть на обложку модного журнала ее портрет помещай. О том, что она ушла с летной работы я слыхал, а вот о новом ее занятии услыхал впервые — водит экскурсии в авиационном музее… Почему не знаю, но разговор у нас как-то не очень клеился.
И только когда ее парнишка побежал следом за щенком на волю, она спросила:
— На кого, по-твоему, парень похож?
— Только не на тебя, подруга, это уж точно.
— Все говорят — чистой воды грузин…
— А на самом деле?
— Какараз! — усмехнулась Валя своей особенной, снисходительной улыбкой.
— Смотрю на тебя, слушаю и никак, подруга, не пойму… ты какая-то другая стала, но чем — не улавливаю?
Это, Максим, из Бунина строчки. Как я понимаю — о боге… Мне так высоко не подняться… прочла в первый раз и подумала о тебе. Скажи, только честно, осуждаешь меня?
— За что, подруга?
— За то, что бросила летать, за бабское мое безнравственное существование? Ты правильно почувствовал — я на самом деле другой стала. Осуждаешь?
Надо было выдержать паузу. Надо было ответить не суетясь и не виляя, и так, чтобы по возможности не спровоцировать Валю на сердечные излияния. Подумав я сказал:
— Нет, ни в чем я тебя не осуждаю. И очень хорошо, что при тебе растет сын. На слове «сын» в дом ввалился посыльный от начальника аэроклуба (телефона у меня еще не было, мальчишке пришлось бегом нестись).
— Срочно! Бегом! — с трудом переводя дыхание выговорил парень. — В штаб!
Что случилось, почему такая спешка возникла, посыльный не знал. Пришлось оставить на хозяйстве Валю, а самому поспешать на аэродром. Уходя я сказал:
— Надеюсь это ненадолго, скоро вернусь. Не прощаюсь… А тревога оказалась не тренировочной и затянулась надолго.
Высшее должностное лицо нашего района, к слову сказать, весьма благоволившее аэроклубу, позвонило моему начальнику и объявило, что его необходимо срочно доставить в Москву лётом. Посадка в Тушино. Мой начальник стал объяснять: без предварительной заявки он не имеет права… но всемогущий, а скорее мнивший себя всемогущим, босс районного масштаба решительно обрубил:
— Всю ответственность я принимаю на себя! Никаких прений! Выезжаю на аэродром через пять минут. Встречайте! Выполнить этот, откровенно говоря, весьма сомнительный приказ начальник аэроклуб поручил мне. Кроме всего прочего, меня и то смущало, что синоптики передали штормовое предупреждение — по их прогнозу в ближайшие два часа погода должна была резко ухудшиться. Пока, правда, небо было чистое, голубое и ветерок был метров пять в секунду — тишь да гладь, да божья благодать разлилась над летным полем. Понимая, что лететь мне придется, я сказал начальнику аэроклуба:
— Дай все-таки понять нашему покровителю, что в летной работе его ответственность ничего не стоит. За благополучный исход любого полета отвечает только пилот. Пусть он особенно не возникает поэтому.
Вскоре районный чин прибыл. Он вкатил налетное поле на изрядно потрепанной «Волге» и сразу же забрался в кабину, расположившись за моей спиной. Проверив, хорошо ли закрыты дверки, я не торопясь запустил мотор. В зеркале заднего обзора видел, как мой пассажир нервно поглядывает на часы. Уж не знаю, что его так гнало в столицу, лететь он готов был очертя голову.
А я?
На первой трети маршрута я пилотировал не напрягаясь, досадуя, что толком не попрощался с Валей, сомневаясь, что сумею попасть домой в ближайшее время. Потом, усилившийся боковой ветер и острейшая болтанка, возникшая как-то вдруг, вынудили выкинуть из головы все попутные мысли и сосредоточиться на управлении машиной. Конечно, еропланчик был простенький, легкий, а вот верхнее расположение крыла делало эту машину меньше всего приспособленной к такой погоде. До Тушино мы добрались с «опозданием» минут в десять, но это было не худшее. Первое, что я обнаружил налетном поле, был белый крест, выложенный сигнальными полотнищами на ярко-зеленой траве. Крест означал: посадка запрещена. Поглядел на командный пункт, над ним в строго горизонтальном положении замер «колдун» — ветроуказатель. Радиосвязь с землей установить не удалось. Очевидно Тушино просто отключилось.
Понимал ли, что означает крест на траве, мой пассажир? Сомневаюсь. Нацарапав на листочке блокнота: «Аэродром закрыт. Посадка запрещена», я передал ему записку. Он отреагировал моментально: «Плевать! Отвечаю я. Надо сесть».
Что было делать?
Если зайти строго против ветра и снижаться на повышенных оборотах двигателя, сесть, вероятно, удастся… но как рулить? Стоит чуточку отклониться от плоскости, в которой дует ветер, а еще хуже — стоит самому ветру неожиданно «вильнуть» в сторону, и тогда машина будет наверняка бита. Долго раздумывать в такой ситуации я не мог — ну? Мне было решительно наплевать на переживания пассажира, нужно было сохранить машину. Смогу или не смогу? Отважусь ли?
Написал: «Сажусь. Как махну рукой, вываливайся из кабины! СРАЗУ! Понял?»
Он согласно закивал.
Подкравшись к земле на повышенной километров на двадцать скорости, я заскользил колесами по траве, мягко почти неслышно коснулся грунта и почти тут же остановился. Ну и ветерок свистел! Пассажир едва не на ходу еще выметнулся из машины, а я тут же пошел на взлет. Это был единственный шанс сохранить машину, пока свирепеющий ветер не успел ее опрокинуть.
До своего аэродрома я добрался в два раз быстрее, чем перед тем — до Тушино. Ветер меня гнал со страшной силой. Начальник аэроклуба организовал мне шикарную встречу — едва я коснулся летного поля, четверо специально выделенных курсантов, повисли на боковых подкосах, двое — навалились на стабилизатор, собственным весом прижимая хвост самолета к земле, и так мы поползли к стоянке. Здесь, тоже не без труда, закрепили машину на штопорах, глубоко ввернутых в землю.
Почему полетел без заявки? Почему не было радиосвязи? Почему садился при запрете? Почему взлетел без разрешения? — это было только начало! Никакие мои ответы не выглядели убедительными в глазах тех, кто эти вопросы мне задавал. Чем может все кончиться, предполагать было трудно. На всякий случай я решил придерживаться тактики Швейка. Меня засыпали все новыми и новыми вопросами, а я уныло бубнил: «Не могу знать, как велели делал… Никак нет — не думал: исполнял!.. Виноват… Учту… Так точно, исправлюсь…». Почему-то к дуракам в нашей России относятся много снисходительнее, чем к умным.
И ведь пронесло! Помурыжили меня. Наложили взыскание на начальника аэроклуба, естественно, и меня отоварили… Постепенно все утихло и начало забываться.
A.M.: Давно заметил, стареющие люди, за очень редким исключением, любят потолковать о том, как быстро пролетело время. Случается и такое услышать — вроде и не жил! В отличие от большинства, Автор, напротив, при каждой возможности подчеркивал — его жизнь не описать и в двадцати томах! Трудно даже поверить сколько всего и хорошего и худого наслучалось. А чего больше? — хотел понять я, и ставил человека в тупик, когда спрашивал так. Он свято верил, например, что опыт, так сказать, явно отрицательного знака ошибочно считать менее ценным, чем опыт положительный. Ошибки, промахи, неблаговидное поведение — верные средства профилактики, если только ты не самовлюбленный петух, прегрешения случившиеся однажды, не позволяют умному человеку повторять старые глупости, не позволяют упорствовать в заблуждениях, уже случившихся однажды. В какой-то американской книге Автор прочитал, будто восемьдесят процентов людей, хотя бы раз в жизни, совершают деяния, предусмотренные уголовным кодексом, при этом девяносто процентов нарушителей остаются безнаказными только потому, что никто не узнает об этом. Он любил ссылаться на американскую эту арифметику, когда речь заходила о борьбе с преступностью, например, или кто-то предлагал уповать, в первую очередь, на совесть.
С годами Автор, как это может быть и не покажется странным, не так охотно вспоминал о минувшем, выстраданном и пережитом, сколько стремился, по его выражению, «прояснить виды на будущее». Человек реалистического мышления, он, конечно, понимал — прожито куда больше, чем осталось и не строил воздушных замков, не ударялся в бесплодные мечтания. Все решительно виды на будущее Робино связывал с Павликом.
Мальчик рос быстро, увеличиваясь, так сказать, в габаритах физических, возрастала и его привязанность к «папе». Мне довелось близко наблюдать содружество старого и малого не один год, и вот что удивляло: Робино никогда не повышал голоса на детей, он вообще не слишком много с ними разговаривал, но постоянно втягивал ребят, особенно Павлика, в совместную игру-работу, а позже — в работу-игру и, наконец, в настоящее дело. Около «папы» Павлик стремительно набирался недетской независимости. Он рано научился пилить, строгать, ремонтировать какие-то хозяйственные предметы. Конечно в свои семь-восемь лет он оставался ребенком. Только этот ребенок был хоть и маленьким, но рукастым, самостоятельным мужичком. Как только Павлик смог дотянуться до автомобильных педалей, Робино усадил его за руль и буквально за три дня научил управлять машиной. А на четвертый день парнишка подвергся суровому испытанию. Известно, начинающие автомобилисты имеют склонность к езде на повышенных скоростях. Вроде бы всякому понятно, чтобы давить на педаль газа большого ума не требуется, но… Так вот, Робино подъехал к березовому перелесочку, что примыкал к летному полю, освободил место за рулем и сказал Павлику:
— Давай! Поперек рощи… до оврага доедешь, развернешь машину и назад — сюда. Я подожду здесь.
И десятилетний Павлик поехал до оврага и обратно. Один.
Со стороны кому-то могло показаться, что Робино излишне суров с детьми. Он и на самом деле не сюсюкал с ними, не приседал перед малышами, так сказать, на корточки, не очень обцеловывал их подросших, только не из-за черствости душевной, а в силу своего особого понимания, что есть настоящая любовь. Соучаствовать, действовать и мыслить вместе — это главное, полагал Робино, это и есть любовь без притворства и самообмана.
АВТОР: Сколько календарей сменилось в моем бутылочном дворце, считать не будем. Суть не в том. В бутылочном доме мы не столько жили, сколько пользовались им. Чаще — летом, реже — зимой. Женская половина семьи относилась к дому без особого почтения, а вот мы с Павликом очень уважали это сооружение и всячески старались его усовершенствовать и украсить. Никаких особых раздоров с нашими женщинами не возникало. Просто жили и там и там, в московской трехкомнатной квартире и при аэродроме.
В ту пору, о которой веду речь, девочки наши остались в городе, а мы под охраной заматеревшей овчарки, некогда подаренной «Рязанью», ее звали — Рекс, находились на ближних подступах к летному полю. Я еще летал, хотя по всем нормам полагалось уже и честь знать. Теоретически все было ясно, как дважды два, только уходить с летной работы на самом деле — это все равно, что вылезать из собственной шкуры. Но день был назначен, день подкрался, день этот пришел.
Мы поднялись чуть свет в тот день и сразу, не мешкая, отправились на аэродром. Легкий ночной туманец лениво сползал с летного поля. На траве лежала искристая, прохладная роса, ветра совсем не было. С поля тянуло тончайшим, совершенно особенным аэродромным запахом. Не скажу, будто чувство умиротворенности, излучаемое всем окружающим, охватило меня. Решение было принято, это верно, но оставалось еще его исполнить.
— Как настроение? — спросил я Павлика.
— Настроение? Настроение — бодрое. Идем ко дну… — с некоторых пор он старался острить во что бы то ни стало, к месту и не к месту. — А если серьезно, нормальное настроение.
Машина была готова. Механик прогрел мотор и, когда мы подошли к стоянке, он принялся снимать струбцинки с элеронов и с хвостового оперения.
— Осмотри машину, Павлик.
— Есть! — И он пошел в обход самолета — от винта, вдоль правой плоскости и дальше, как предписывало наставление по производству полетов.
Механик, старый авиационный волк, подмигнул мне, дескать, не слишком ли строго с мальчишкой обходишься?
В ответ я отреагировал какой-то глупостью, вроде: «Тише едешь — дальше будешь!» или: «Всякий полет начинается на земле…».
Солнце едва приподнялось над березовой рощицей, и мы полетели.
Конечно, это было полнейшее самоуправство с моей стороны, но ждать дольше я не мог: не сегодня, так завтра меня непременно спишут с летной работы, довод будет простой, как мычание, — не может человек летать вечно, не полагается! Если спрошу, а почему все-таки не полагается? Мне разъяснят: в твои годы и сердчишко может отказать в полете, и зрение подвести, что тогда ты станешь делать?
Странно все-таки. Восьмидесятилетние автомобилем управлять допускаются. И никто не поднимает шум — а если его инфаркт за рулем догонит?!
Но теперь все слова — в сторону.
Мы летим. Павлик пилотирует нежно, неторопливо, я не вмешиваюсь, только наблюдаю. Забавно: стоит мне только подумать, а пора бы приподнимать носовое колесо, как мой двенадцатилетний учлет тихо подбирает ручку управления на себя. Скорость? — это я у машины мысленно спрашиваю, не у Павлика, и самолет тут же отвечает: нормальная скорость. Молодец паренек, не зря я его с такой надеждой учил… и усмехаюсь мысленно же — по инструктору — ученик! Так и должно быть в нашем деле.
Полет по кругу занимает шесть минут. Много ли? Смотря по каким, я бы сказал, по обстоятельствам. Для меня в шесть минут этого контрольного полета вмещается все — и прожитое, и оставшееся.
Приземляется Паша с небольшим перелетом, он чуть опоздал полностью затянуть газ. Но я решаю ничего не говорить: погрешность столь незначительна, что нет смысла лишний раз капать на мозги человеку.
Винт вертится на холостых оборотах.
Вылезаю из кабины и, склонившись к Павлику, спрашиваю:
— Сам полетишь?
Он смотрит на меня с недоверием, будто сомневается — не ослышался ли.
— Я? Один?
— Делай так все, как сейчас со мной делал. Не спеши. Спокойненько. Ну, готов?
— Готов!
И он полетел. В плохих романах случается прочитать, как в решительную минуту перед мысленным взором героя прокручивается с невероятной скоростью вся прожитая жизнь. Признаюсь, и у меня было колоссальное искушение, вильнув в сторону, напомнить, как сам я в начале войны вылетал на боевой машине, как потом шаг за шагом дрессировал себя, становясь настоящим профессионалом, но… я цыкнул на себя. Обещано было писать только правду, так и не фокусничай! Павлик полетел и я медленно осознавал — может быть именно так и начинается вхождение в вечность. Мое — понятно!
A.M.: Здесь автор попросил меня на время выключить магнитофон. Ему, как я понял, нужно было выговориться. Не перед будущим читателем, а перед самим собой. Выпустить в самостоятельный полет ребенка — поступок почти безумный. Так скажут многие. И не играет роли, что самолет надежен и прост, что мальчик полетел не вдруг, а был подготовлен к этому дню не только вывозной программой, но и всей своей короткой жизнью… Что может сказать в свое оправдание тот, кто отважился на такое, если, не дай бог, ему придется оправдываться? Действительность, будничная наша жизнь, неужели могут согласиться — надо!
Предположим, что в успешном завершении полета у вас не было и тени сомнения, но уверены ли вы, что сознание — я летаю! я сам летаю! пойдет парнишке на пользу? Неужели вы не думаете, что преждевременное взросление едва ли лучше, чем затянувшаяся инфантильность?
Примерно такими мыслями поделился со мной Автор, и я понял — его решение не было случайным, оно вынашивалось исподволь, оно давалось нелегко. И труднее всего ему было убедить самого себя, что не чувство эгоизма — я памятник себе воздвиг нерукотворный! — толкнуло старого пилота рискнуть не своей жизнью!
АВТОР: Павлик слетал нормально. Когда он зарулил на стоянку, выключил двигатель и спрыгнул из кабины на землю, мы обнялись. Молча. Никогда в жизни я так остро не переживал ни одну авантюру, случавшуюся раньше. Он полетел, и какараз, что кто-то скажет. Человек летающий, пока он летает, счастливый человек.