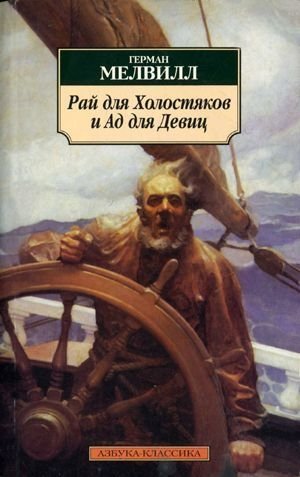
Не столь давно – неважно, когда именно – я, человек уже в летах, перебрался из сельской местности в город, неожиданно унаследовав старый громадный дом в одной из узких улочек той округи, которая славилась ранее блеском и пышностью фешенебельных жилищ, ныне сплошь и рядом превращенных в складские помещения и конторы. Мягкие диваны вытеснены тюками и ящиками; столы, где накрывались изысканные завтраки, завалены кассовыми книгами и гроссбухами. Для стародавних приютов гостеприимства и супружеского счастья пора беззаботного процветания минула безвозвратно.
Но мой старый дом, непонятным образом сохранившийся в неприкосновенности, так и остался стоять памятником былого. Причем не единственным. Среди деловых строений там и сям до сих пор уцелели и другие сходные с моим дома. Облик улицы пока еще не переменился окончательно. Подобно тому как развалины старинных английских монастырей подолгу не покидают призраки прежних их обитателей, так и в здешних окрестностях нередко встречаются диковинные фигуры пожилых джентльменов и леди, которые не могут и ни за какие блага в мире не желают расставаться с привычными им местами. Мне самому подумалось, что, когда однажды весенним утром я, убеленный сединами, появился из ворот своего цветущего фруктового сада, опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости, и присоединился к прогуливающемуся обществу, мои бедные престарелые спутники на мгновение могли вообразить, будто время потекло вспять и уходящий век снова вступает в свои права.
Многие годы дом стоял пустой: неоднократно менявшиеся владельцы подчас сдавали его внаем разным жильцам – то разорившимся горожанам, то загадочным затворникам, то заезжим, сомнительного вида иностранцам, однако никто из них подолгу тут не задерживался.
Снаружи дом подвергался кое-каким мелким переделкам: было убрано, например, дивное, напоминавшее кафедру в соборе крыльцо с шестью внушительными ступенями, увенчанное широким навесом; мишурные венецианские жалюзи появились вместо тяжелых ставней с прорезями наверху в виде полумесяца, душным июльским утром пропускавшими в комнаты свет, подобный лунному сиянию восточной ночи; но если фасад дома вследствие всех этих нововведений стал представлять собой достаточно несуразное зрелище, словно черенок современной моды так и не привился к вековому стволу, внутри дом не претерпел почти что никаких перемен. Сводчатые кладовые в мрачных подвалах, сложенные из потемневшего от времени кирпича, напоминали средневековые гробницы рыцарей-храмовников,[1] а над головой виднелись балки – исполинские тяжелые бревна мореного дуба, которые за долгий срок приобрели густой индейский оттенок. Громадность этих дубовых скреп, тесно сбитых вместе, придавала обширным подвалам сходство с батарейной палубой флагманского корабля.
Все комнаты в доме оставались точно такими, какими они были девяносто лет тому назад: те же массивные деревянные карнизы, те же обшитые панелями стены с затейливым орнаментом из различных представителей растительного и животного царства. Потускневшие от долголетия обои все еще сохраняли узоры времен короля Людовика XVI.[2] Особенной пестротой отличались обои в гостиной – так именовалась моими дочерьми наиболее просторная из трех общих комнат, хотя придуманное ими название вовсе не казалось, мне столь уж необходимым. Сразу же становилось ясно, что эти обои, несомненно, из Парижа – такие обои могли украшать только Версаль, они вполне годились для будуара самой Марии-Антуанетты.[3] На них были изображены огромные изумрудные ромбы, оплетенные пышными гирляндами из роз (наша служанка Бидди поначалу приняла было эти розы за луковицы, но жена сумела ее в этом разубедить), а все ромбы до единого, словно сплошь увитые цветами клетки в саду, содержали в себе впечатляющие иллюстрации к естественной истории: тут были представлены обладавшие подлинно парижским великолепием птицы – попугаи, колибри, павлины, но преимущественно павлины. Среди птиц это были настоящие князья Эстергази,[4] усыпанные рубинами, сапфирами и Орденами Золотого Руна[5]… Но увы! Северная стена комнаты обращала на себя внимание тем, что местами покрылась плесенью, а местами поросла мхом, как вековые деревья в лесу, которые, как говорят, начинают гнить именно с северной стороны. Словом, былая ослепительность павлинов на северной стене прискорбным образом поблекла из-за прохудившегося ската крыши, откуда дождевая влага постепенно проникла в дом, стекая струйками по стене прямо на пол. Тогдашние временные жильцы, выказав по отношению к своему крову явную непочтительность, даже и не подумали заделать течь – вернее, сочли это излишним, поскольку отвели павлиний приют для хранения топлива и сушки белья. Посему многие из некогда блиставших роскошью птиц выглядели так, будто их царственное оперение окутала целая туча пыли. Усеянные звездами хвосты представляли собой на редкость плачевное зрелище. Однако с таким терпеливым и таким кротким, а кое-где и цветущим видом сносили пернатые свою безотрадную участь, такое неподдельное изящество сохраняли их фигуры и так безраздельно, казалось, погружены они были в сладостную задумчивость в своих увядших беседках, что я, обычно весьма уступчивый, невзирая на все уговоры домочадцев (в особенности жены, которая, боюсь, все-таки слишком молода для меня), упорно отклонял настойчивые требования убрать весь этот, по выражению Бидди, насест – и оклеить стены новыми отличными обоями благородного кремового оттенка.
Но главная причина, по которой я не позволяю осквернить старинный павлиний приют – или обитель роз (для меня это то же самое), – заключается в давних воспоминаниях, связанных у меня здесь с одним из первоначальных владельцев особняка – Джимми Розом, доброй, истинно доброй душой.
Бедный Джимми Роз!
Я был знаком с ним чуть ли не с детства. Немного лет прошло с тех пор, как он умер, и я, составив вместе с двумя другими едва ковыляющими стариками скромную процессию, на нанятых дрогах проводил его до могилы.
Джимми унаследовал довольно скромное состояние. Помню его в расцвете лет – как он был хорош собой! Крупный, мужественный, со светло-голубыми глазами; каштановые волосы его вились; щеки казались нарумяненными, но это был румянец здоровья и жизнерадостности. По натуре своей он был, что называется, дамский угодник – и, как многие обожатели прекрасного пола, не ограничил свободу поклонения добровольным принесением себя в жертву у алтаря.
Приумножив свой капитал коммерцией, которую он вел поистине с княжеским размахом, подобно знаменитому флорентийскому купцу Козимо Великолепному,[6] он получил возможность устраивать приемы на самую широкую ногу. Долгое время его обеды, ужины, балы оставались непревзойденными: в Нью-Йорке, городе званых вечеров, никто не мог с ним равняться. Редкая веселость, безупречный костюм, искрящееся остроумие, сверкающие люстры, совершенное владение искусством светской беседы, французская мебель, теплое радушие, щедрое сердце и не менее щедрое хлебосольство, благородные достоинства Джимми и его прославленные вина, – чему дивиться, если все это, вместе взятое, привлекало под его гостеприимный кров целые толпы? В списке учредителя зимних ассамблей его имя стояло первым. Джеймс Роз, эсквайр, неизменно был первым и в списке жертвователей на почетные подношения актерам, прославившимся в «Парке»,[7] или генералам, стяжавшим славу на поле брани. Нередко к тому же именно ему поручали преподнести подарок, зная о его редкой способности находить самые точные слова для выражения утонченных чувств.
– Сэр, – произнес он однажды, протягивая генералу Д. пару пистолетов, отделанных бирюзой. – Сэр, – Джимми говорил с подлинно кастильским красноречием, сияя улыбкой, – бирюзы было бы здесь куда больше, если бы названия ваших громких побед оставили для нее место.
Ах, Джимми, Джимми! Ты был замечательным мастером делать комплименты. Но ведь в тебе от рождения была заложена готовность доставлять приятное. Кто посмеет упрекнуть тебя в заимствовании остроумного оборота, хотя он и в самом деле был заимствован? Плагиата в нашем мире хоть отбавляй, но часто ли пускаются на плагиат для того, чтобы воздать хвалу ближнему?
Однако все переменилось: время – вот подлинный плагиатор времен года в нашей жизни.
Внезапные деловые затруднения при безрассудной расточительности Джимми оказались для него гибельными. По тщательном рассмотрении выяснилось, что он не в состоянии заплатить больше пятнадцати шиллингов за фунт. И все же Джимми мог бы покрыть недостачу – оставшись, разумеется, без гроша в кармане, – не случись так, что во время зимнего шторма два принадлежавших ему судна с товарами из Китая затонули близ Песчаного мыса у самого входа в порт.
Джимми был разорен.
Произошло это давно – как раз во время моего очередного приезда в город. Не прошло и недели с тех пор, как я навестил Джимми. Я застал его в дружеском кругу: когда ужин подходил к концу, некая дама в парчовом платье провозгласила памятный мне тост: «За благородного хозяина этого дома! Пусть всегда цветет румянец на его щеках и доброта в его сердце!» И все они – эти милые леди и обаятельные джентльмены – дружно и весело подняли бокалы, а растроганный Джимми со слезами признательности на глазах кротко взирал на сияющие восторгом лица гостей за столом, уставленным столь же сияющими и столь же восторженными графинами.
Ах, бедный Джимми – Господь, спаси нас и сохрани, – бедный, бедный Джимми Роз!
Итак, не прошло и недели, как меня поразила, словно громом, дурная весть. Однажды в сильный снегопад я пересекал Боулинг-Грин, неподалеку от дома Джимми на Бэттери,[8] и тут заметил неторопливо идущего мне навстречу джентльмена, в котором я сразу же узнал того гостя, что первым порывисто встал, когда произносился тост в честь хозяина. Тогда бокал его был наполнен до краев, а глаза блестели влагой умиления и радости.
Сей достойный джентльмен неспешно двигался по Боулинг-Грин, поигрывая ротанговой тростью с серебряным набалдашником; завидев меня, он остановился.
– Ах, дружище! Что за редким вином угощал нас Джимми в прошлый раз! Но теперь всё… Слышали новость? Джимми разорен. Дочиста, будьте уверены. Зайдем в кофейню, я расскажу поподробнее. А если хотите, откупорим бутылочку бордоского и заодно договоримся о сегодняшней санной прогулке в Кейто. Ну как, согласны?
– Нет-нет, благодарю вас, – отвечал я. – Я… я… я занят.
Я стрелой помчался к дому Джимми. На все мои расспросы привратник отвечал, что хозяина нет, где находится – неизвестно, а дома не появлялся вот уже двое суток.
Снова бросившись на Бродвей, я принялся расспрашивать встречавшихся знакомых: все в один голос подтвердили известие, однако никто понятия не имел, где сейчас Джимми – похоже было на то, что никому до него нет дела. Вскоре мне попался один негоциант, который недвусмысленно намекнул, что скорее всего Джимми, прихватив с собой после банкротства кругленькую сумму, благоразумно скрылся. Следующий, кого я встретил – настоящий набоб, – прямо-таки с пеной у рта яростно обрушился на Джимми, едва только я упомянул его имя: «Вот уж мошенник так мошенник! Плут, отъявленный негодяй, сэр, ваш Джимми Роз – вот он кто! Но ничего-ничего, далеко от нас он не уйдет». Позже мне стало известно, что в результате банкротства Джимми этот разгневанный джентльмен понес финансовый урон в размере семидесяти пяти долларов и семидесяти пяти центов. Рискну добавить, что данная сумма вряд ли покрыла бы стоимость съеденного и выпитого им за обедами у Джимми, особенно если учесть, что сам он любил приложиться к бутылке, а заморские вина Джимми стоили баснословно дорого. Припоминаю даже, что не раз собственными глазами видел, как этот самый почтенный джентльмен посиживал за столом рядом с сияющим Джимми, притворяясь увлеченным задушевной беседой, а сам исподтишка торопливо наливал себе бокал за бокалом, словно спешил, пока еще щедрая звезда Джимми стоит в зените, своекорыстно этим попользоваться.
Наконец я столкнулся с человеком, который славился доскональной осведомленностью во всем том, что касалось тайных сторон жизни людей, известных в обществе. Он тут же увлек меня в сторону, к огражденной перилами церкви Святой Троицы, подальше от снующей толпы, и шепотом сообщил мне, что накануне вечером Джимми входил в один из своих домов на N-стрит, тогда пустовавший. Видимо, следовало заключить, что Джимми именно там сейчас и скрывается. Услышав об этом, я немедленно устремился в нужном направлении и вскоре остановился у того самого дома, где на стенах одной из комнат цвели розы. Ставни были закрыты наглухо, полумесяцы прорезей затянуты паутиной. Повсюду царило унылое запустение. Дорожка к подъезду была не расчищена, крыльцо замело снегом – и следов нигде не было видно. Представлялось очевидным, что если внутри и есть кто-то, то человек этот одинок и всеми покинут. Прохожих на улице почти не попадалось: уже тогда мода отвергла эти края, а коммерция еще не вторглась в былые ее владения.
Оглядевшись кругом, я тихонько постучал в дверь. Никакого ответа. Я постучал снова, на этот раз громче. Никто не отозвался… Я принялся и звонить, и стучать одновременно, однако без малейшего результата. Отчаявшись, я уже собрался было уйти, но напоследок забарабанил изо всей мочи увесистым дверным молотком, а когда выбился из сил, то увидел, как в старинных причудливых окнах соседних домов показались старомодно причесанные седые головы, обладателей которых, по всей видимости, охватило немалое изумление перед устроившим такой переполох визитером. Неожиданно, как если бы его вспугнули, глухой, хриплый голос донесся до меня через замочную скважину:
– Кто вы такой?
– Один из ваших друзей.
– Вы сюда не войдете, – ответил голос совсем хрипло.
Боже милостивый, да ведь это вовсе не Джимми Роз, подумал я, вздрогнув. Я ошибся домом. Меня направили по неверному адресу… Дабы убедиться в этом окончательно, я заговорил снова:
– Нет ли здесь, в этом доме, Джеймса Роза?
Никакого ответа.
Я продолжал:
– Я Уильям Форд, впустите меня.
– Нет-нет, ни за что! Я опасаюсь всех.
Да, это был Джимми Роз!
– Откройте же мне, Роз, впустите в дом, старина. Ведь я ваш друг.
– Никогда в жизни! Я не доверяю ни единому человеку.
– Откройте, Роз, доверьтесь хотя бы мне одному.
– Уходите, не то…
При этих словах внутри дверного замка послышался какой-то скрежет, но вставлялся в него вовсе не ключ, а, как мне показалось, длинное узкое дуло. Охваченный ужасом, я бросился бежать без оглядки.
В те времена я был еще молод, а Джимми едва перевалило за сорок. Я встретился с ним снова спустя двадцать пять лет… Какая разительная перемена! Тот, кого я предполагал увидеть – если суждено нам было свидеться вообще – сникшим, изможденным, одряхлевшим, мертвенно-бледным, но непримиримым мизантропом, – о диво! предстал предо мной с цветущими, как и прежде, розами Шираза[9] на щеках. Правда, беден он был как церковная мышь: доведен до крайней степени нищеты, беднее последнего нищего из богадельни. Он разгуливал по улицам в ветхом, латаном-перелатаном, однако же опрятном пальтишке; единственное его богатство составляли изысканные выражения – и все же он продолжал быть галантным, неизменно улыбчивым, коченеющим на ледяном ветру джентльменом.
Ах, бедный Джимми – Господь, спаси нас и сохрани, – бедный, бедный Джимми Роз!
Когда случилось несчастье, кредиторы Джимми – недавние его друзья – открыли настоящую травлю, намереваясь засадить беднягу в тюрьму. Джимми, спасаясь от преследований и не желая никого видеть, затаился, словно в берлоге, в старом заброшенном доме, где едва не лишился рассудка от одиночества, однако исцеляющее время постепенно вернуло ему душевное здоровье. Надо полагать, сердце Джимми, от природы доброе, никогда не позволило бы ему стать человеконенавистником. К тому же стремление избегать ближних, несомненно, показалось ему греховным.
Горький удел нередко ждет тех, кто продолжает лелеять в себе прежнее чувство достоинства. Что может быть горше участи того, кто раньше слыл богачом и беспечнейшим из смертных, а ныне вынужден робко и униженно жаться по углам роскошных гостиных, где его терпят только как старого чудака? Такова была участь Джимми. Судьба не сломала его сразу, но медленно и неуклонно заставила пригибаться все ниже и ниже. Неведомо откуда у Джимми взялся доход – долларов семьдесят или около того. Основной капитал он сохранял в неприкосновенности и путем всевозможнейших ухищрений умудрялся жить на одни проценты. Поселился он в мансарде и сам носил себе туда еду: кусок хлеба и стакан молока составляли всю его, единственную за день, трапезу – в том случае, если ему не удавалось ничем поживиться за чужим столом. Подчас он заявлялся к кому-нибудь из старых знакомых как раз к началу чаепития, одетый в поношенный, видавший виды, но еще приличный сюртук с нашитыми на обшлага полосками потертого бархата; края панталон внизу были замаскированы подобным же образом, дабы скрыть то, как они выглядят в действительности – словно бы их изъели крысы. По воскресеньям он взял себе за правило обедать в каком-либо из лучших домов города.
Понятно, что ни один человек не мог бы безнаказанно вести подобный образ жизни – разве только тот, кто пострадал безвинно и кого судьба ввергла в такую пучину бедствий, куда мог досягнуть лишь спасительный лот жалости. Велика ли была заслуга хозяев тех домов, в которые являлся еле живой от голода гость за скромным подаянием в виде бутерброда с чаем, если она состояла единственно в том, что посетителя не выталкивали за дверь? Еще можно было бы отдать им должное, если бы они, сговорившись, устроили складчину и без особых затрат обеспечили бы Джимми мало-мальски сносное существование, независимое от благотворительной подачки, ради которой ему вдобавок приходилось ежедневно обивать чужие пороги.
Но трогательнее всего было то, что розы по-прежнему цвели на его щеках – пунцовые розы посреди суровой зимы. Отчего они цвели так пышно, что именно – молоко либо чай с бутербродами способствовали их цветению, или же Джимми прибегал теперь к румянам; силой какого волшебства не знали они увядания – на эти вопросы никто на свете не мог бы ответить. Но розы цвели, цвели – да и только, наперекор всему. И как встарь, Джимми не скупился на улыбки. Он улыбался везде и всюду. Величественные двери домов, куда, как за милостыней, он являлся на чашку дарового чая, не распахивались еще перед более улыбчивым посетителем, нежели Джимми Роз. В дни былого преуспевания улыбка Джимми была знаменита на весь город. Теперь она достойна была стяжать ему гораздо большую славу.
Джимми всегда приносил с собой самые свежие городские новости. Как завсегдатай читален, где его особенно привечали за безобидность, он неизменно находился в курсе последних политических событий в Европе и был прекрасно осведомлен о новинках литературы – как иностранной, так и отечественной. Обо всем этом он мог говорить часами, стоило только его поощрить. Однако поощряли его далеко не всегда. В иные дома – а таких было немало – Джимми заглядывал минут за десять до начала чаепития и исчезал минут через десять после того, как оно было окончено, ничуть не заблуждаясь относительно собственной незаменимости для полного довольства хозяев.
Как грустно было наблюдать за ним, когда он, примостившись к столу, то и дело усердно намазывал душистый хлеб маслом и щедро запивал бутерброды китайским чаем, поглощая чашку за чашкой, тогда как прочие гости, привыкшие обедать поздно и обильно, вовсе не прикасались к этой нехитрой снеди и выпивали разве что по одной чашечке чаю. Бедняга Джимми, слишком хорошо понимая все это, пытался и скрыть свой голод, и вместе с тем по возможности утолить его: изо всех сил стараясь поддерживать с хозяйкой самую оживленную беседу, он тут же с рассеянным видом спешил набить себе рот, словно вынуждаемый к тому диктатом обычая, но отнюдь не недоеданием.
Бедный, бедный Джимми – Боже, храни нас, – бедный Джимми Роз!
Ничуть не утратил Джимми и своей галантности. Сидящие с ним за столом дамы наверняка знали, что услышат от него какой-нибудь комплимент, – впрочем, в последние годы юным леди комплименты эти представлялись все более допотопными, им все чаще казалось, что любезности Джимми заставляют вспоминать времена, когда носили камзолы и треугольные шляпы с широкими полями – нет, тут скорее чудились пропыленные в лавке старьевщика галуны и портупеи. Дело в том, что в манерах Джимми все еще ощущались остатки военной выправки, так как в пору своего процветания он побывал и генералом государственной милиции. В этой должности, к слову, есть нечто фатальное. Увы! Я могу припомнить нескольких генералов государственной милиции, которые стали потом нищими. Над тем, почему это так происходит, я не решаюсь задуматься. Значит ли это, что военные наклонности человека совсем не воинственного (а, напротив, обладающего мягким, миролюбивым характером) выдают его тайное пристрастие к показному блеску? Бьюсь об заклад, что нет. Во всяком случае, некрасиво, попросту не по-христиански, будучи благополучным, морализировать по поводу тех, кто пребывает в несчастье.
Домов, которые посещал Джимми, было так много, и так предусмотрительно распределял он во времени свои все менее и менее желательные для хозяев визиты, что в иных особняках появлялся в своем неизменном потертом сюртуке не чаще одного раза в год. И ежегодно, завидев юную цветущую мисс Френсис или мисс Арабеллу, он отвешивал ей низкий поклон, самым учтивым образом брал ее руки в свои, отличавшиеся нежностью и белизной, и восклицал: «Ах, мисс Арабелла, драгоценные камни на ваших кольцах бесподобны, но они сияли бы еще ярче, если бы их не затмевал алмазный блеск ваших глаз!»
Не имея за душой ни пенни, чтобы подать милостыню неимущим, ты, Джимми, благодетельствовал богачам. Нищий, что клянчит грош на перекрестке, не менее страстно мечтает о куске хлеба, нежели тщеславное сердце жаждет хвалы. Богачи, не насытившиеся избытком, и бедняки с ненасытной нуждой – они всегда отыщутся среди нас. Джимми Роз, я думаю, прекрасно понимал это.
Но не все женщины тщеславны, а если кому-то из них и свойственна эта слабость, они всецело искупают ее добротой. Доброе сердце было и у той девушки, которая закрыла глаза бедному Джимми. Единственная дочь состоятельного олдермена,[10] она хорошо знала Джимми с детства и ухаживала за ним на закате его дней: во время его предсмертной болезни сама приносила ему на мансарду желе и бланманже, заваривала чай, переворачивала в постели с боку на бок. Ласка прелестного создания была тебе, Джимми, достойной наградой; по праву заслужил ты и то, что глаза тебе закрыли волшебные женские пальцы – ведь ты всю свою жизнь, в богатстве и в бедности, оставался преданным ревнителем и поклонником женщин.
Не знаю, стоит ли упоминать здесь о незначительном эпизоде, происшедшем во время одного из визитов этой юной леди: в нем проступило отношение Джимми к ее заботам. Поскольку случай этот совершенно невинного свойства, я о нем расскажу.
Нечаянно оказавшись в городе, я прослышал о болезни Джимми и отправился его навестить. В его одинокой мансарде я застал очаровательную сиделку. Вскоре она вышла встретить другого посетителя и оставила нас наедине. Помимо разных лакомств, девушка принесла с собой и несколько книг – тех самых, что серьезно настроенные люди из добрых побуждений считают нужным посылать тяжелобольным. Не знаю почему – то ли ему претила мысль, что его считают умирающим, то ли он дал волю естественной в его положении раздражительности, – но тем не менее, едва только юная леди скрылась за дверью, Джимми, собрав последние силы, бросил книги в дальний угол и пробормотал: «Зачем она принесла мне это унылое старье? Уж не принимает ли она меня за нищего? И надеется уврачевать сердце джентльмена бальзамом для бедняков?»
Бедный, бедный Джимми – Господь, помоги нам, – бедный несчастный Джимми Роз!
Да-да, сам я уже стар – и пусть проливаемые мною слезы будут малой лептой моей привязанности к нему. Но, слава Всевышнему, отныне Джимми не нуждается больше в людской жалости…
Джимми Роз умер!
И вот, когда я сижу в павлиньем приюте – в той самой комнате, откуда донесся до меня глухой голос Джимми, сжимавшего в руке нацеленный на меня пистолет, я не перестаю размышлять о необычной судьбе этого человека: удивительнее всего мне кажется то, каким образом после столь ошеломляющего взлета к вершинам независимости и благоденствия он мог довольствоваться тем, что доживал дни в жалком прозябании, отираясь по роскошным гостиным ради оскорбительного бутерброда с чаем, – он, тот самый Джимми Роз, который некогда, подобно славному Уорику,[11] под восторженные клики пирующих потчевал весь мир бургундским и олениной.
И всякий раз, созерцая увядающее великолепие надменных павлинов на стене, я задумываюсь о сокрушительной перемене, которая постигла Джимми, купавшегося некогда в блеске гордости. И всякий раз, любуясь гирляндами вечно цветущих роз, что окружают поблекших павлинов, я вспоминаю не знавшие умирания розы на увядших щеках Джимми…
Теперь они пересажены на иную почву, где несть ни печали, ни воздыхания, – и да подарит им Бог бессмертие!
1854