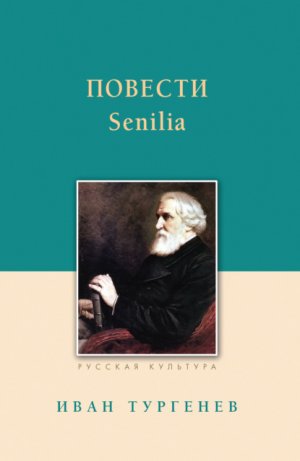
Повести
Фауст
Рассказ в девяти письмах
Entbehren sollst du, sollst entbehren[1].
«Фауст» (часть 1-ая)
Письмо первое
От Павла Александровича В… к Семену Николаевичу В…
Сельцо М…ое, 6 июня 1850
Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был – страшно вымолвить – целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, – ты все, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, – я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким славным вареньем потчевала), совсем высохла и сгорбилась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталошки и обутые в те же самые скрыпучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление… Но, Боже мой! – как болтаются теперь эти панталошки на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены – все это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле – песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он… А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы – моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, и пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках – совершенный Геркулес Фарнезский! Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила – и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса; не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, – словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть все это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско. Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д’арленкуровского «Пустынника». На одной шторе этот пустынник, с огромнейшей бородой, глазами навыкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой – происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах; один лежит, en raccourci[2], убитый – словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок… Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня… куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности… Потом эти воспоминания сменились другими, потом… потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение… Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.
А скучать я не буду. Я привез с собой несколько книг, и здесь у меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей: «Кандида» в рукописном переводе 70-х годов; ведомости и журналы того же времени; «Торжествующего хамелеона» (то есть Мирабо); «Le Paysan perverti»[3] и т. д. Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки: на одной ветхой-ветхой французской грамматике, в пестром переплете, написано крупными буквами: Ce livre appartient à m-lle Eudoxie de Lavrine[4] и выставлен год – 1741. Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гетевского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им… Но другие дни – другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гете в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помнишь: «На жизненных волнах, в вихре творения», возбудили во мне давно не изведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих, и Зейдельманна в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла и все и вся… Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания…
Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя, одинокий, в своем одиноком домишке! Что, если бы кто подсмотрел меня? Ну, так что ж? Я бы нисколько не устыдился. Стыдиться – это тоже признак молодости; а я, знаешь ли, почему стал замечать, что стареюсь? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва…
А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и это «что-то» – чуть ли не самое важное.
Эх, до чего я дописался! Прощай! До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати: Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком, потолстел и обрюзг немного. Так же хорошо делает куриные супы с разварными луковицами, ватрушки с узорчатой каймой и пигус – знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке – настоящий картон. Однако прощай!
Твой П. Б.
Письмо второе
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 12 июня 1850
Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай! Вчера, перед обедом, захотелось мне погулять – только не в саду; я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге – очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю: едет навстречу коляска. «Не ко мне ли?» – подумал я с тайным страхом… Однако нет: в коляске сидит господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня: не я ли такой-то? – называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю: «Я такой-то», а сам гляжу, как баран, на господина с усами и думаю про себя: «А ведь я его видал где-то!»
– Вы меня не узнаете? – произносит он, вылезая между тем из коляски.
– Никак нет-с.
– А я так узнал вас тотчас.
Слово за слово: оказывается, что это был Приимков, помнишь, бывший наш университетский товарищ. «Что же это за важная, новость? – думаешь ты в это мгновение, любезный Семен Николаич. – Приимков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя не злой и не глупый». Все так, дружище, но слушай продолжение разговора.
– Я, говорит, очень обрадовался, когда услыхал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался.
– Позвольте узнать, – спросил я, – кто же еще был так любезен…
– Моя жена.
– Ваша жена!
– Да, моя жена: она ваша старая знакомая.
– А позвольте узнать, как зовут вашу супругу?
– Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова урожденная…
– Вера Николаевна! – восклицаю я невольно…
Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма.
Но, может быть, ты и в этом ничего на находишь важного… Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей… давно прошедшей жизни.
Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 183… году, мне было двадцать три года. Ты поступил на службу; я, как тебе известно, решился отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать. Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего… «Но где мне провести лето?» – спрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось: отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было, я боялся одиночества, скуки… А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Т***ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое: два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживало пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали – а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было возможности. Все делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъезде и ждал только, чтобы прошли дядины именины, но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову – и остался.
Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своею матерью в маленьком именьице, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее – человек, говорят, весьма замечательный – быстро достиг полковничьего чина и пошел бы еще далее, но погиб в молодых летах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви; он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю и до самой смерти (по словам Приимкова, она умерла скоро после свадьбы дочери) носила одни черные платья. Я живо помню ее лицо, выразительное, темное, с густыми, поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец – фамилия его была Ладанов – лет пятнадцать прожил в Италии. Мать Веры Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил трастеверинец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил… Эта история в свое время наделала много шуму. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать умерших… Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему, но не простил ей ее побега с Ельцовым, не пустил к себе на глаза ни ее, ни ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, г-жа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывала отроду, даже в своем уездном.
Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалось, ни о чем не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво. Веселою она бывала редко и не так, как другие: ясность невинной души, отраднее веселости, светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых, кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы: у людей с талантами таких рук не бывает… и действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голос у ней звенел, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и, несколько дней спустя, в первый раз поехал к ним.
Г-жа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное: я и уважал ее и побаивался ее. Все у ней делалось по системе, и дочь свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила ей слепо. Стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не читай – она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Но и у г-жи Ельцовой были свои idées fixes[5], свои коньки. Она, например, как огня боялась всего, что может действовать на воображенье; а потому ее дочь до семнадцатилетнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения, а в географии, истории и даже в естественной истории частенько ставила в тупик меня, кандидата, и кандидата не из последних, как ты, может быть, помнишь. Я было раз попытался потолковать с г-жой Ельцовой об ее коньке, хотя трудно было вовлечь ее в разговор: она очень была молчалива. Она только головой покачала.
– Вы говорите, – сказала она, наконец, – читать поэтические произведения и полезно и приятно… Я думаю, надо заранее выбрать в жизни: или полезное, или приятное, и так уже решиться, раз навсегда. И я когда-то хотела соединить и то и другое… Это невозможно и ведет к гибели или к пошлости.
Да, удивительное существо была эта женщина, существо честное, гордое, не без фанатизма и суеверия своего рода. «Я боюсь жизни», – сказала она мне однажды. И точно, она ее боялась, боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца… Это хотя бы кого запугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. Она, должно быть, много горя перенесла на своем веку и никогда ни с кем не поделилась им: все в себе затаила. Она до того приучила себя не давать воли своим чувствам, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою к дочери; она ни разу не поцеловала ее при мне, никогда не называла ее уменьшительным именем, всегда – Вера. Помню одно ее слово; я как-то сказал ей, что все мы, современные люди, надломленные… «Надламывать себя не для чего, – промолвила она, – надо всего себя переломить или уж не трогать…»
Весьма немногие ездили к Ельцовой; но я посещал ее часто. Я втайне сознавал, что она ко мне благоволила; а Вера Николаевна мне очень нравилась. Мы с ней разговаривали, гуляли… Мать не мешала нам; сама дочь не любила быть без матери, и я, с своей стороны, тоже не чувствовал потребности уединенной беседы. У Веры Николаевны была странная привычка думать вслух; по ночам она во сне громко и явственно говорила о том, что ее поразило в течение дня. Однажды, поглядев на меня внимательно и, по обыкновению своему, тихонько подпершись рукою, она сказала: «Мне сдается, что Б. хороший человек; но положиться на него нельзя». Отношения между нами были самые дружелюбные и ровные; только однажды мне показалось, что я подметил там, где-то далеко, в самой глубине ее светлых глаз, что-то странное, какую-то негу и нежность… Но, может быть, я ошибся.
Между тем время шло, и мне уже пора было собираться в отъезд. Но я все медлил. Бывало, как подумаю, как вспомню, что скоро я не увижу более этой милой девушки, к которой я так привязался, – жутко мне станет… Берлин начинал терять свою притягательную силу. Я не смел самому себе сознаться в том, что во мне происходило, да я и не понимал, что происходило во мне, – точно туман бродил в душе. Наконец, в одно утро мне вдруг все стало ясно. «Чего еще искать, – подумал я, – куда стремиться? Ведь истина все-таки в руки не дастся. Не остаться ли лучше здесь, не жениться ли?» И, вообрази себе, эта мысль о женитьбе нисколько не испугала меня тогда. Напротив, я обрадовался ей. Мало того: в тот же день я объявил о своем намерении, только не Вере Николаевне, как бы следовало ожидать, а самой Ельцовой. Старуха посмотрела на меня.
– Нет, – сказала она, – мой милый, поезжайте в Берлин, надломитесь-ка еще. Вы добры; но не такой муж нужен для Веры.
Я потупился, покраснел и, что тебя, вероятно, удивит еще более, тотчас же внутренне согласился с Ельцовой. Через неделю я уехал и с тех пор уже не видал ни ее, ни Веры Николаевны.
Я описал тебе мои похождения вкратце, потому что знаю, ты не любишь ничего «пространственного». Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну… Но, признаюсь, неожиданное известие о ней меня взволновало. Меня поразила мысль, что она так близко, что она моя соседка, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из земли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня. Приимков объявил мне, что посетил меня именно с целью возобновить наше старинное знакомство и что он надеется в самом скором времени увидать меня у себя. Он мне сообщил, что служил в кавалерии, вышел в отставку поручиком, купил имение в восьми верстах от меня и намерен заниматься хозяйством, что у него было трое детей, но что двое умерли, осталась пятилетняя дочь.
– И жена ваша меня помнит? – спросил я.
– Да, помнит, – отвечал он с небольшой запинкой. – Конечно, она тогда была еще, можно сказать, ребенок; но ее матушка вас всегда очень хвалила, а вы знаете, как она дорожит каждым словом покойницы.
Пришли мне на память слова Ельцовой, что я не гожусь для ее Веры… «Стало быть, ты годился», – подумал я, сызбока посматривая на Приимкова. Он у меня пробыл несколько часов. Он очень хороший, милый малый, так скромно говорит, так добродушно смотрит; его нельзя не полюбить… но умственные способности его не развились с тех пор, как мы его знали. Я непременно к нему поеду, может быть, завтра же. Чрезвычайно любопытно мне посмотреть, что такое вышло из Веры Николаевны?
Ты, злодей, вероятно, смеешься теперь надо мною, сидя за своим директорским столом; а я все-таки тебе напишу, какое впечатление она произведет на меня. Прощай! До следующего письма.
Твой П. Б.
Письмо третье
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 16 июня 1850
Ну, брат, был я у ней, видел ее. Прежде всего должен сообщить тебе удивительное обстоятельство: верь мне или не верь, как хочешь, но она почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане. Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул: семнадцатилетняя девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки; впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы. Но то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь двадцать восемь лет, и трое детей у ней было… Непонятно! Ты, пожалуйста, не думай, что я из предубежденья преувеличиваю; напротив, мне эта «неизменность» в ней вовсе не понравилась.
Женщина в двадцать восемь лет, жена и мать, не должна походить на девочку: недаром же она жила. Она очень приветливо меня встретила; но Приимкова мой приезд просто обрадовал: этот добряк так и смотрит, как бы к кому привязаться. Дом у них очень уютный и чистый. Вера Николаевна и одета была девочкой: вся в белом, с голубым поясом и тоненькой золотой цепочкой на шее. Ее дочка очень мила и на нее нисколько не похожа; она напоминает свою бабку. В гостиной, над диваном, висит портрет этой странной женщины, поразительно схожий. Он мне бросился в глаза как только я вошел. Казалось, она строго и внимательно смотрела на меня. Мы уселись, вспомнили про старину и понемногу разговорились. Я поневоле то и дело взглядывал на сумрачный портрет Ельцовой. Вера Николаевна сидела прямо под ним: это ее любимое место. Представь мое изумление: Вера Николаевна до сих пор не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения – словом, ни одного, как она выражается, выдуманного сочинения! Это непостижимое равнодушие к возвышеннейшим удовольствиям ума меня рассердило. В женщине умной и, сколько я могу судить, тонко чувствующей это просто непростительно.
– Что же, – спросил я, – вы положили себе за правило никогда таких книг не читать?
– Не пришлось, – отвечала она, – некогда было.
– Некогда! Я удивляюсь! Хоть бы вы, – продолжал я, обратившись к Приимкову, – приохотили вашу жену.
– Я с удовольствием… – начал было Приимков, но Вера Николаевна его перебила.
– Не притворяйся: ты сам небольшой охотник до стихов.
– До стихов, точно, – начал он, – я не очень; но романы, например…
– Да что же вы делаете, чем вы занимаетесь по вечерам? – спросил я, – в карты играете?
– Иногда играем, – отвечала она, – да мало ли есть чем заняться? Мы тоже читаем: есть хорошие сочинения, кроме стихов.
– Что вы на стихи так нападаете?
– Я на них не нападаю: я с детства привыкла не читать этих выдуманных сочинений; матушке так было угодно, а я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что все, что матушка ни делала, все, что она ни говорила, была правда, святая правда.
– Ну, как вы хотите, а я с вами согласиться не могу: я убежден, что вы напрасно лишаете себя самого чистого, самого законного наслаждения. Ведь вы не отвергаете музыки, живописи: отчего же вы отвергаете поэзию?
– Я ее не отвергаю: я до сих пор с ней не познакомилась – вот и все.
– Так я возьмусь за это! Ведь ваша матушка не на всю жизнь запретила вам знакомство с произведениями изящной словесности?
– Нет; как я вышла замуж, матушка сняла с меня всякое запрещение; мне самой в мысли не приходило читать… как вы это сказали?.. ну, словом, читать романы.
Я с недоумением слушал Веру Николаевну: я этого не ожидал.
Она смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся.
– Я вам принесу книгу! – воскликнул я. (У меня в голове мелькнул недавно мной прочтенный «Фауст».)
Вера Николаевна тихонько вздохнула.
– Это… это не будет Жорж Санд? – спросила она не без робости.
– А! значит, вы слыхали о ней? Ну, хоть бы она, что же за беда?.. Нет, я вам принесу другого автора. Ведь вы по-немецки не забыли?
– Нет, не забыла.
– Она говорит, как немка, – подхватил Приимков.
– Ну и прекрасно! Я вам принесу… да вот вы увидите, какую я вам удивительную вещь принесу.
– Ну, хорошо, увижу. А теперь пойдемте в сад, а то Наташе на месте не сидится.
Она надела круглую соломенную шляпу, детскую шляпу, точно такую же, какую надела ее дочь, только побольше немного, и мы отправились в сад. Я шел с ней рядом. На свежем воздухе, в тени высоких лип ее лицо мне показалось еще милее, особенно когда она слегка поворачивалась и закидывала голову, чтоб посмотреть на меня из-под края шляпки. Если бы не шедший за нами Приимков, если бы не прыгавшая перед нами девочка, я бы, право, мог подумать, что мне не тридцать пять лет, а двадцать три года; что я только собираюсь еще в Берлин, тем более что и сад, в котором мы находились, весьма походил на сад в имении Ельцовой. Я не удержался и передал мое впечатление Вере Николаевне.
– Мне все говорят, что я наружно мало изменилась, – отвечала она, – впрочем, я и внутренно осталась та же.
Мы подошли к небольшому китайскому домику.
– Вот такого домика у нас в Осиповке не было, – сказала она, – но вы не смотрите, что он так обвалился и полинял: внутри очень хорошо и прохладно.
Мы вошли в домик. Я оглянулся.
– Знаете ли что, Вера Николаевна, – промолвил я, – велите к моему приезду принести сюда стол и несколько стульев. Здесь в самом деле чудесно. Я вам здесь прочту… Гетева «Фауста»… вот какую вещь я вам прочту.
– Да, здесь мух нет, – заметила она простодушно, – а когда вы приедете?
– Послезавтра.
– Хорошо, – возразила она, – прикажу. Наташа, которая вместе с нами вошла в домик, вдруг вскрикнула и отскочила вся бледная.
– Что такое? – спросила Вера Николаевна.
– Ах, мама, – проговорила девочка, указывая в угол пальцем, – посмотри, какой страшный паук!..
Вера Николаевна взглянула в угол – большой пестрый паук тихо всползал по стене.
– Чего же тут бояться? – сказала она, – он не кусается, посмотри.
И, прежде чем я успел остановить ее, она взяла безобразное насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон.
– Ну, какая же вы храбрая! – воскликнул я.
– В чем же тут храбрость? Этот паук не из ядовитых.
– Видно, вы по-прежнему сильны в естественной истории; а я бы его в руки не взял.
– Его нечего бояться, – повторила Вера Николаевна.
Наташа молча посмотрела на нас обоих и усмехнулась.
– Как она похожа на вашу матушку! – заметил я.
– Да, – возразила Вера Николаевна с улыбкой удовольствия, – это меня очень радует. Дай Бог, чтобы она не одним лицом на нее походила!
Нас позвали обедать, и после обеда я уехал. Обед был очень хорош и вкусен – это я в скобках замечаю для тебя, объедало! Завтра я к ним свезу «Фауста». Боюсь я, как бы мы со стариком Гете не провалились. Опишу тебе все подробно.
Ну, а теперь что ты думаешь обо всех «сих происшествиях»? Небось, – что она произвела на меня сильное впечатление, что я готов влюбиться и т. д.? Пустяки, брат! Пора и честь знать. Довольно подурачился; полно! Не в мои годы начинать жизнь сызнова. Притом же мне и прежде не такие женщины нравились… Впрочем, какие женщины мне нравились!!
Во всяком случае, я очень рад этому соседству, рад возможности видеться с умным, простым, светлым существом; а что будет дальше, узнаешь в свое время.
Твой П. Б.
Письмо четвертое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 20 июня 1850
Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно, о том следуют пункты. Прежде всего спешу сказать: успех неожиданный… то есть «успех» – не то слово… Ну, слушай. Я приехал к обеду. За столом нас было шестеро: она, Приимков, дочка, гувернантка (незначительная белая фигурка), я и какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе… все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шиммель, учитель немецкого языка у соседей Приимкова, князей Х…х. Вера Николаевна, кажется, благоволит к нему и пригласила его присутствовать на чтении. Мы обедали поздно и долго не выходили из-за стола, потом гуляли. Погода была чудесная. Утром шел дождь и ветер шумел, а к вечеру все утихло. Мы вместе с нею вышли на открытую поляну. Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако; как дым, тянулись по нем серые полосы; на самом краю его, то показываясь, то исчезая, дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка поалевшей лазури. Я указал Вере Николаевне на это облако.
– Да, – сказала она, – это прекрасно, но посмотрите-ка сюда.
Я оглянулся. Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой середине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла…
– Быть грозе, – заметил Приимков.
Но я отдаляюсь от главного. Я в последнем письме забыл тебе сказать, что, приехав домой от Приимковых, я раскаивался, что назвал именно «Фауста»; для первого раза Шиллер гораздо бы лучше годился, уж коли дело пошло на немцев. Особенно пугали меня первые сцены до знакомства с Гретхен; насчет Мефистофеля я тоже не был покоен. Но я находился под влиянием «Фауста» и ничего другого не мог бы прочесть с охотой. Когда уже совсем стемнело, мы отправились в китайский домик; его накануне привели в порядок. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром; кругом расставлены были кресла и стулья; на столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Вера Николаевна поместилась на креслах несколько поодаль, недалеко от двери. За дверью, среди тьмы, выставлялась, слегка качаясь, зеленая ветка акации, освещенная лампой; изредка вливалась в комнату струя ночного воздуха. Приимков сел близ меня у стола, немец возле него. Гувернантка осталась с Наташей в доме. Я произнес небольшую вступительную речь: упомянул о старинной легенде доктора Фауста, о значении Мефистофеля, о самом Гете и попросил остановить меня, если что покажется непонятным. Потом я откашлянулся… Приимков спросил меня, не нужно ли мне воды с сахаром и, по всему можно было заметить, остался очень собой доволен, что сделал мне этот вопрос. Я отказался. Глубокое молчание воцарялось. Я начал читать, не поднимая глаз; мне было неловко, сердце билось, и голос дрожал. Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину… «Удивительно! возвышенно! – твердил он, изредка прибавляя: – А вот это глубоко». Приимков, как я мог заметить, скучал: по-немецки понимал он довольно плохо и сам сознавался, что стихов не любит!.. Вольно ж было ему! Я за столом хотел было намекнуть, что чтение может обойтись без него, да посовестился. Вера Николаевна не шевелилась; раза два я украдкой взглянул на нее: глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня; ее лицо мне показалось бледным. После первой встречи Фауста с Гретхен она отделилась от спинки кресел, сложила руки и в таком положении осталась неподвижной до конца. Я чувствовал, что Приимкову тошно приходилось, и это меня сперва охлаждало, но понемногу я забыл о нем, разгорячился и читал с жаром, с увлечением… Я читал для одной Веры Николаевны: внутренний голос говорил мне, что «Фауст» на нее действует. Когда я кончил (интермеццо я пропустил: эта штука по манере принадлежит уже ко второй части; да из «Ночи на Брокене» я кое-что выкинул)… когда я кончил, когда прозвучало это последнее «Генрих!» – немец с умилением произнес: «Боже! как прекрасно!» Приимков, словно обрадованный (бедняк!) вскочил, вздохнул и начал благодарить меня за доставленное удовольствие… Но я не отвечал ему: я глядел на Веру Николаевну… Я хотел услыхать, что она скажет. Она встала, подошла нерешительными шагами к двери, постояла на пороге и тихонько вышла в сад. Я бросился за ней вслед. Она успела уже отойти несколько шагов; платье ее чуть белело в густой тени.
– Что же? – крикнул я, – вам не понравилось?
Она остановилась.
– Можете вы оставить мне эту книгу? – раздался ее голос.
– Я вам ее подарю, Вера Николаевна, если вы желаете иметь ее.
– Благодарствуйте! – отвечала она и скрылась.
Приимков и немец подошли ко мне.
– Как удивительно тепло! – заметил Приимков, – даже душно. Но куда жена пошла?
– Кажется, домой, – отвечал я.
– Я думаю, скоро пора ужинать, – возразил он. – Вы превосходно читаете, – прибавил он погодя немного.
– Вере Николаевне, кажется, понравился «Фауст», – проговорил я.
– Без сомнения! – воскликнул Приимков.
– О, конечно! – подхватил Шиммель.
Мы пришли в дом.
– Где барыня? – спросил Приимков у попавшейся нам навстречу горничной.
– В спальню пойти изволили.
Приимков отправился в спальню. Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу.
– Сколько звезд! – медленно проговорил он, понюхав табаку, – и это все миры, – прибавил он и понюхал в другой раз.
Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел вверх. Тайное недоумение тяготило мою душу… Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас. Минут через пять явился Приимков и позвал нас в столовую. Скоро пришла и Вера Николаевна. Мы сели.
– Посмотрите-ка на Верочку, – сказал мне Приимков.
Я взглянул на нее.
– Что? ничего не замечаете?
Я действительно заметил перемену в ее лице, но, не знаю почему, отвечал: – Нет, ничего.
– Глаза у ней красны, – продолжал Приимков.
Я промолчал.
– Вообразите, я пришел к ней наверх и застаю ее: она плачет. Этого с ней давно не случалось. Я вам могу сказать, когда она в последний раз плакала: когда Саша у нас скончалась. Вот что вы наделали с вашим «Фаустом»! – прибавил он с улыбкой.
– Стало быть, Вера Николаевна, – начал я, – вы теперь видите, что я был прав, когда…
– Я этого не ожидала, – перебила она меня, – но Бог еще знает, правы ли вы. Может быть, оттого матушка и запрещала мне читать подобные книги, что она знала…
Вера Николаевна остановилась.
– Что знала? – повторил я. – Говорите.
– К чему? Мне и так совестно: о чем это я плакала? Впрочем, мы еще с вами потолкуем. Я многое не совсем поняла.
– Отчего же вы меня не остановили?
– Слова-то я все поняла и смысл их, но…
Она не докончила речи и задумалась. В это мгновение из саду пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром. Вера Николаевна вздрогнула и повернулась лицом к раскрытому окну.
– Я вам говорил, что будет гроза! – воскликнул Приимков. – А ты, Верочка, чего это так вздрагиваешь?
Она взглянула на него молча. Слабо и далеко сверкнувшая молния таинственно отразилась на ее недвижном лице.
– Все по милости «Фауста», – продолжал Приимков. – После ужина надо будет сейчас на боковую… не правда ли, г. Шиммель?
– После нравственного удовольствия физический отдых столь же благодетелен, сколь полезен, – возразил добрый немец и выпил рюмочку водки.
После ужина мы тотчас разошлись. Прощаясь с Верой Николаевной, я пожал ей руку; рука у ней была холодна. Я пришел в отведенную мне комнату и долго стоял перед окном, прежде чем разделся и лег в постель. Предсказание Приимкова сбылось: гроза надвинулась и разразилась. Я слушал шум ветра, стук и хлопанье дождя, глядел, как при каждой вспышке молнии церковь, вблизи построенная над озером, то вдруг являлась черною на белом фоне, то белою на черном, то опять поглощалась мраком… Но мысли мои были далеко. Я думал о Вере Николаевне, думал о том, что она мне скажет, когда прочтет сама «Фауста», думал о ее слезах, вспоминал, как она слушала…
Гроза уже давно прошла – звезды засияли, все замолкло кругом. Какая-то не известная мне птица пела на разные голоса, несколько раз сряду повторяя одно и то же колено. Ее звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины; а я все еще не ложился…
На другое утро я раньше всех сошел в гостиную и остановился перед портретом Ельцовой. «Что, взяла, – подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, – ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!» Вдруг мне почудилось… ты, вероятно, заметил, что глаза en face всегда кажутся устремленными прямо на зрителя… но на этот раз мне, право, почудилось, что старуха с укоризной обратила их на меня.
Я отвернулся, подошел к окну и увидел Веру Николаевну. С зонтиком на плече, с легкой белой косынкой на голове, шла она по саду. Я тотчас вышел из дому и поздоровался с нею.
– Я всю ночь не спала, – сказала она мне, – у меня голова болит; я вышла на воздух – авось пройдет.
– Неужели это от вчерашнего чтения? – спросил я.
– Конечно: я к этому не привыкла. В этой вашей книге есть вещи, от которых я никак отделаться не могу; мне кажется, это они мне так жгут голову, – прибавила она, приложив руку ко лбу.
– И прекрасно, – промолвил я, – но вот что дурно: боюсь я, как бы эта бессонница и головная боль не отбили у вас охоты читать такие вещи.
– Вы думаете? – возразила она и сорвала мимоходом ветку дикого жасмина. – Бог знает! Мне кажется, кто раз ступит на эту дорогу, тот уже назад не вернется.
Она вдруг бросила ветку в сторону.
– Пойдемте сядемте в эту беседку, – продолжала она, – и, пожалуйста, до тех пор, пока я не заговорю с вами сама, не упоминайте мне… об этой книге. (Она как будто боялась произнести имя «Фауста».)
Мы вошли в беседку, сели.
– Я не буду говорить вам о «Фаусте», – начал я, – но вы позволите мне поздравить вас и сказать вам, что я вам завидую.
– Вы мне завидуете?
– Да; вам, как я теперь вас знаю, с вашей душою, сколько предстоит наслаждений! Есть великие поэты, кроме Гете: Шекспир, Шиллер… да и наш Пушкин… и с ним вам надо познакомиться.
Она молчала и чертила зонтиком по песку.
О, друг мой Семен Николаич! если б ты мог видеть, как она была мила в это мгновение: бледная почти до прозрачности, слегка наклоненная, усталая, внутренне расстроенная – и все-таки ясная, как небо! Я говорил, говорил долго, потом умолк – и так сидел молча да глядел на нее…
Она не поднимала глаз и продолжала то чертить зонтиком, то стирать начерченное. Вдруг раздались проворные детские шаги: Наташа вбежала в беседку. Вера Николаевна выпрямилась, встала и, к удивлению моему, с какой-то порывистой нежностью обняла свою дочь… Это не в ее привычках. Потом явился Приимков. Седовласый, но аккуратный младенец Шиммель уехал до света, чтоб не пропустить урока. Мы пошли пить чай.
Однако я устал; пора кончить это письмо. Оно должно показаться тебе нелепым, смутным. Я сам чувствую себя смутным. Мне не по себе. Я не знаю, что со мною. Мне то и дело мерещится маленькая комната с голыми стенами, лампа, раскрытая дверь; запах и свежесть ночи, а там, возле двери, внимательное молодое лицо, легкие белые одежды… Я понимаю теперь, почему я хотел на ней жениться: я, видно, не так был глуп перед поездкой в Берлин, как я до сих пор думал. Да, Семен Николаич, в странном состоянии духа находится ваш друг. Все это, я знаю, пройдет… а если не пройдет – ну, что ж? не пройдет. Но я все-таки собой доволен: во-первых, я удивительный провел вечер; а во-вторых, если я разбудил эту душу, кто может меня обвинить? Старуха Ельцова пригвождена к стене и должна молчать. Старуха!.. Подробности ее жизни не все мне известны; но я знаю, что она убежала из отцовского дома: видно, недаром она родилась от итальянки. Ей хотелось застраховать свою дочь… Посмотрим.
Бросаю перо. Ты, насмешливый человек, пожалуйста, думай обо мне что хочешь, но не глумись надо мною письменно. Мы с тобой старые приятели и должны щадить друг друга. Прощай!
Твой П. Б.
Письмо пятое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 26 июля 1850
Я давно к тебе не писал, милый Семен Николаич; кажется, больше месяца. Писать было о чем, да лень одолела. Говоря правду, я почти не вспомнил о тебе все это время. Но из последнего твоего письма ко мне я могу заключить, что ты делаешь предположения на мой счет, которые несправедливы, то есть не совсем справедливы. Ты думаешь, что я увлечен Верой (мне как-то неловко называть ее Верой Николаевной); ты ошибаешься. Конечно, я вижусь с ней часто, она мне нравится чрезвычайно… да кому бы она не понравилась? Хотел бы я тебя посмотреть на моем месте. Удивительное создание! Проницательность мгновенная рядом с неопытностью ребенка, ясный, здравый смысл и врожденное чувство красоты, постоянное стремление к правде, к высокому, и понимание всего, даже порочного, даже смешного – и надо всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть… Да что и говорить! Мы много читали, много толковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней – наслаждение, какого я еще не испытывал. Точно новые страны открываешь. В восторг она ни от чего не приходит: все шумное ей чуждо; она тихо светится вся, когда ей что нравится, и лицо принимает такое благородное и доброе… именно доброе выражение. С самого раннего детства Вера не знала, что такое ложь: она привыкла к правде, она дышит ею, а потому и в поэзии одна правда кажется ей естественной; она тотчас, без труда и напряжения, узнает ее, как знакомое лицо… великое преимущество и счастие! Нельзя за это не помянуть добром ее матери. Сколько раз думал я, глядя на Веру: да, прав Гете: «Добрый человек в неясном своем стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога»[6]. Одно досадно: муж все тут вертится. (Пожалуйста, не смейся глупым смехом, не оскверняй даже мыслью нашей чистой дружбы.) Он столь же способен понимать поэзию, как я расположен играть на флейте, а не хочет отстать от жены, просветиться тоже желает. Иногда она сама меня выводит из терпенья; вдруг найдет на нее стих какой-то: ни читать не хочет, ни разговаривать, шьет в пяльцах, возится с Наташей, с ключницей, в кухню вдруг сбегает или просто сидит, поджав руки, и посматривает в окошко, а не то примется играть с няней в дурачки… Я заметил: в этих случаях к ней приставать не должно, а лучше подождать, пока она сама подойдет, заговорит или возьмется за книжку. Самостоятельности в ней много, и я очень этому рад. Бывало, помнишь, в дни нашей юности, какая-нибудь девочка повторяет тебе, как умеет, твои же слова, а ты восхищаешься этим эхом и, пожалуй, поклоняешься ему, пока не раскусишь, в чем дело; а эта… нет: эта сама по себе. На веру она ничего не примет; авторитетом ее не запугаешь; спорить она не станет, но и не поддастся. О «Фаусте» мы с ней рассуждали не однажды: но – странное дело! – о Гретхен она ничего сама не говорит, а только слушает, что я ей скажу. Мефистофель ее пугает не как черт, а как «что-то такое, что в каждом человеке может быть»… Это ее собственные слова. Я начал было толковать ей, что это «что-то» мы называем рефлексией; но она не поняла слова рефлексия в немецком смысле: она только знает одну французскую «réflexion»[7] и привыкла почитать ее полезной. Удивительные наши отношения! С некоторой точки зрения я могу сказать, что имею на нее влияние большое и как бы воспитываю ее; но и она, сама того не замечая, во многом меня переделывает к лучшему. Я, например, только по ее милости недавно открыл, какая бездна условного, риторического во многих прекрасных, известных поэтических произведениях. К чему она остается холодною, то уже в моих глазах заподозрено. Да, я стал лучше, яснее. Быть к ней близким, видаться с нею и остаться прежним человеком – невозможно.
Что же из этого всего выйдет? – спросишь ты. Да, право, я думаю – ничего. Я весьма приятно проведу время до сентября, а там уеду. Темна и скучна покажется мне жизнь в первые месяцы… Привыкну. Я знаю, как опасна какая бы то ни было связь между мужчиной и молодой женщиной, как незаметно одно чувство сменяется другим. Я бы сумел оторваться, если б я не сознавал, что мы оба совершенно покойны. Правда, однажды между нами произошло что-то странное. Не знаю, как и вследствие чего – помнится, мы читали «Онегина» – я у ней поцеловал руку. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд (я, кроме ее, ни у кого не видал такого взгляда: в нем и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость)… вдруг покраснела, встала и ушла. В тот день мне уж не удалось быть с ней наедине. Она избегала меня и битых четыре часа играла с мужем, няней и гувернанткой в свои козыри! На другое утро она предложила мне идти в сад. Мы прошли его весь до самого озера. Она вдруг, не оборачиваясь ко мне, тихо прошептала: «Пожалуйста, вперед не делайте этого!» – и тотчас начала мне что-то рассказывать… Я был очень пристыжен.
Я должен сознаться, что образ ее не выходит у меня из головы, и я едва ли не с тем намерением стал писать к тебе письмо, чтобы иметь возможность думать и говорить о ней. Я слышу фырканье и топот лошадей: это мне подают коляску. Еду к ним. Кучер мой уже не спрашивает меня теперь, куда ехать, когда я сажусь в экипаж, – прямо везет к Приимковым. За две версты до их села, на крутом повороте дороги, усадьба их внезапно выглядывает из-за березовой рощи… У меня всякий раз радостно станет на сердце, как только блеснут вдали ее окна. Шиммель (безвредный этот старик изредка к ним приезжает; князей Х…х они, слава Богу, видели всего раз)… Шиммель недаром говорит со свойственною ему скромною торжественностью, указывая на дом, где живет Вера: «Это обитель мира!» В этом доме точно поселился мирный ангел…
Ну, однако, довольно; а то ты Бог знает что подумаешь. До следующего раза… Что-то напишу я в следующий раз? Прощай! Кстати, она никогда не скажет: прощайте, а всегда: ну, прощайте. Мне это ужасно нравится.
Твой П. Б.
P. S. Я не помню, сказывал ли я тебе, что она знает, что я за нее сватался.
Письмо шестое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 10 августа 1850
Сознайся, ты ожидаешь от меня письма либо отчаянного, либо восторженного… Не тут-то было. Письмо мое будет как все письма. Нового ничего не произошло, да, кажется, и произойти не может. На днях мы катались в лодке по озеру. Опишу тебе это катанье. Нас было трое: она, Шиммель и я. Не понимаю, что ей за охота так часто приглашать этого старика. Х…ие дуются на него, говорят, что он стал пренебрегать своими уроками. Впрочем, на этот раз он был забавен. Приимков не поехал с нами: у него болела голова. Погода была славная, веселая: большие, точно разодранные белые тучи по синему небу, везде блеск, шум в деревьях, плесканье и шлепанье воды у берега, на волнах беглые, золотые змейки, свежесть и солнце! Сперва мы с немцем гребли; потом мы подняли парус и помчались. Нос лодки так и занырял, а за кормою след шипел и пенился. Она села у руля и стала править; на голову она повязала платок: шляпу бы снесло; кудри вырывались из-под него и мягко бились по воздуху. Она твердо держала руль своей загорелой ручкой и улыбалась брызгам, изредка летевшим ей в лицо. Я прикорнул на дне лодки, недалеко от ее ног; немец достал трубку, закурил свой кнастер и – вообрази – запел довольно приятным басом. Сперва он спел старинную песенку: «Freu’t euch des Lebens»[8], потом арию из «Волшебной флейты», потом романс под названием: «Азбука любви» – «Das A-B-C der Liebe». В этом романсе проводится – с приличными прибаутками, разумеется – вся азбука, начиная с А, Бе, Це, Де, – Вен их дих зе![9] и кончая: У, Фау, Ве, Икс – Мах эйнен кникс![10] Он пропел все куплеты с чувствительным выражением; но надо было видеть, как плутовски он прищурил левый глаз на слове: кишке! Вера засмеялась и погрозила ему пальцем. Я заметил, что, сколько мне кажется, г. Шиммель, в свое время, был малый не промах. «О да, и я мог постоять за себя!» – возразил он с важностью, выколотил пепел из трубки себе на ладонь и, полезая пальцами в кисет, ухарски, сбоку, укусил мундштук чубука. «Когда я был студентом, – прибавил он, – о-хо-хо!» Больше он ничего не сказал. Но что это было за «о-хо-хо»! Вера попросила его спеть какую-нибудь студенческую песню, и он спел ей: «Knaster, den gelben»[11], но на последней ноте сфальшивил. Очень уж он раскутился. Между тем ветер усилился, волны покатились довольно большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко вокруг нас. Мы переставили парус, начали лавировать. Ветер вдруг перескочил, мы не успели справиться – волна шлепнула через борт, лодка сильно зачерпнула. И тут немец показал себя молодцом; вырвал у меня веревку и поставил парус как следовало, промолвив притом: «Вот как это делается в Куксгафене!» – «So macht man’s in Guxhafen!»
Вера, вероятно, испугалась, потому что побледнела, но, по своему обыкновению, не произнесла ни слова, подобрала платье и поставила носки на перекладину лодки. Мне вдруг пришло в голову стихотворение Гете (я с некоторых пор весь заражен им)… помнишь: «На волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд», и прочел его громко. Когда я дошел до стиха: «Глаза мои, зачем вы опускаетесь?» – она слегка приподняла свои глаза (я сидел ниже ее: взор ее падал на меня сверху) и долго смотрела вдаль, щурясь от ветра… Легкий дождь налетел мгновенно и запрыгал пузырями по воде. Я предложил ей свое пальто; она накинула его себе на плечи. Мы пристали к берегу – не у пристани – и до дому дошли пешком. Я вел ее под руку. Мне все как будто хотелось сказать ей что-то; но я молчал. Однако я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери? «Ваше сравнение очень верно, – возразила она, – я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла». – «Не желали бы выйти на волю?» – спросил я опять. Она ничего не отвечала.
Я не знаю, зачем я рассказал тебе эту прогулку, – потому разве, что она осталась в моей памяти как одно из самых светлых событий прошедших дней, хотя в сущности какое же это событие? Мне было так отрадно и безмолвно весело, и слезы, слезы легкие и счастливые, так и просились из глаз.
Да! вообрази, на другой день, проходя в саду мимо беседки, слышу я вдруг – чей-то приятный, звучный женский голос поет: «Freu’t euch des Lebens…» Я заглянул в беседку: это была Вера. «Браво! – воскликнул я, – я и не знал, что у вас такой славный голос»!» Она застыдилась и умолкла. Кроме шуток, у ней отличный, сильный сопрано. А она, я думаю, и не подозревала, что у ней хороший голос. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней! Она сама себя не знает. Но не правда ли, что такая женщина в наше время редкость?
12 августа
Престранный разговор был у нас вчера. Речь зашла сперва о привидениях. Вообрази: она в них верит и говорит, что имеет на то свои причины. Приимков, который тут же сидел, опустил глаза и покачал головою, как бы подтверждая ее слова. Я стал было ее расспрашивать, но скоро заметил, что этот разговор был ей неприятен. Мы начали говорить о воображении, о силе воображения. Я рассказал, что в молодости я, много мечтая о счастии (обыкновенное занятие людей, которым в жизни не повезло или не везет), между прочим, мечтал о том, какое было бы блаженство провести вместе с любимой женщиной несколько недель в Венеции. Я так часто думал об этом, особенно по ночам, что у меня понемногу сложилась в голове целая картина, которую я мог, по желанию, вызвать перед собою: стоило только закрыть глаза. Вот что мне представлялось: ночь, луна, свет от луны белый и нежный, запах… ты думаешь, лимона? нет, ванили, запах кактуса, широкая водная гладь, плоский остров, заросший оливами; на острове, у самого берега, небольшой мраморный дом, с раскрытыми окнами; слышится музыка, Бог знает откуда; в доме деревья с темными листьями и свет полузавешенной лампы; из одного окна перекинулась тяжелая бархатная мантия с золотой бахромой и лежит одним концом на воде; а облокотясь на мантию, рядом сидят он и она и глядят вдаль туда, где виднеется Венеция. Все это так ясно мне представлялось, как будто я все это видел собственными глазами. Она выслушала мои бредни и сказала, что и она тоже часто мечтает, но что ее мечтания другого рода: она либо воображает себя в степях Африки, с каким-нибудь путешественником, либо отыскивает следы Франклина на Ледовитом океане; живо представляет себе все лишения, которым должна подвергаться, все трудности, с которыми приходится бороться…
– Ты начиталась путешествий, – заметил ее муж.
– Может быть, – возразила она, – но коли уж мечтать, что за охота мечтать о несбыточном?
– А почему же нет? – подхватил я. – Чем бедное несбыточное виновато?
– Я не так выразилась, – промолвила она, – я хотела сказать: что за охота мечтать о самой себе, о своем счастии? О нем думать нечего; оно не приходит – что за ним гоняться! Оно как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.
Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне… От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни.
– И в ваших жилах течет итальянская кровь, – заметил я.
– Да, – возразила она, – хотите, я покажу вам портрет моей бабушки?
– Сделайте одолжение.
Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены – этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью. Только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и резче, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и слава Богу! Она нарисована в своем альбанском наряде; живописец (мастер!) поместил виноградную ветку в ее волосах, черных, как смоль, с ярко-серыми отблесками: это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд…
Да, повторяю: ни она сама, ни другой кто на свете не знает еще всего, что таится в ней…
Кстати! Ельцова, перед свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не от этого ли она верит в привидения? Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него…
Но довольно. К чему писать все это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть и отправляется к тебе.
Твой П. Б.
Письмо седьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 22 августа
Берусь за перо спустя десять дней после последнего письма… О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа; я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, – я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось все сильней и сильней. Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало… Но мог ли я ожидать, что со мною повторится все то, чему, казалось, так же как и молодости, нет возврата? Да что я говорю! Так я никогда не любил, нет, никогда! Манон Леско, Фретильоны – вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко; а теперь… я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом; но оно так. Стыдно мне… Любовь все-таки эгоизм; а в мои годы эгоистом быть непозволительно: нельзя в тридцать семь лет жить для себя; должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу… Вот опять все развеяно, как вихрем! Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме; я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову! Стою и бессмысленно гляжу вперед: черная завеса висит перед самыми глазами; на душе тяжело и страшно! Я могу себя сдерживать, я наружно спокоен не только при других, даже наедине; не бесноваться же мне в самом деле, как мальчику! Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался и при ней утихал тотчас… Теперь я и при ней непокоен – вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их!.. Одной молодости позволительно плакать; слезы идут к ней одной…
Я не могу перечесть это письмо; оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать… Дай срок: я приду в себя, овладею своею душою, я буду говорить с тобою, как мужчина, а теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и…
О Мефистофель! и ты мне не помогаешь. Я остановился с намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния… Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел… Прощай.
Твой П. Б.
Письмо восьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 8 сентября 1850
Любезный друг мой, Семен Николаич!
Ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается: бабья натура! С годами это, конечно, пройдет; но, признаюсь со вздохом, до сих пор я все еще не исправился. А потому успокойся. Не буду отрицать впечатления, произведенного на меня Верой, но опять-таки скажу: во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст Бог знает из-за чего – да это было бы безумие! Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь, право, не хочется: чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи – преданного тебе П. Б.
Письмо девятое
От того же к тому же
Село П…ое, 10 марта 1853
Я долго не отвечал на твое письмо; я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием; но я все-таки колебался: последовать ли мне твоему совету, исполнить ли твое желание? Наконец, я решился, я все расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю; но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою; мне кажется, что я даже остался бы виновным… увы! еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу. Ты один, может быть, на земле помнишь о Вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно: этого я допустить не могу. Узнай же все. Увы! это все можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель…
С тех пор как ее не стало, с тех пор как я поселился в эту глушь, которой уже не покину до конца дней моих, прошло с лишком два года, и все так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько мое горе…
Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать.
Помнишь ты мое последнее письмо – то письмо, в котором я вздумал было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга? Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию: ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим.
Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания… Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова.
Вот как я узнал, что Вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать (и ты мне поверишь), что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало; но я не понимал, отчего это с ней делалось. Наконец, в один день, седьмого сентября, – памятный для меня день – вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома: он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна; на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас: это был мой «Фауст». Лицо ее выражало усталость. Я сел против нее. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в Бога. Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она все так же пристально смотрела на меня.
Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось.
– Что вы со мной сделали! – проговорила она медленным голосом.
– Как? – произнес я c смущением.
– Да, что вы со мной сделали! – повторила она.
– Вы хотите сказать, – начал я, – зачем я убедил вас читать такие книги? Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я глядел за нею вслед.
На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне.
– Я вас люблю, – сказала она, – вот что вы со мной сделали.
Кровь мне бросилась в голову…
– Я вас люблю, я в вас влюблена, – повторила Вера.
Она ушла и заперла за собою дверь. Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу. Я словно замер; чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу… Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из оцепененья; ему послали сказать, что я приехал: он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной, – промолвил он, – пойдемте к ней». Ты можешь себе представить, с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами; я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной; в том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я наконец решился посмотреть на нее. Взоры наши встретились… Она чуть-чуть покраснела и наклонилась над канвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала; невеселая усмешка изредка трогала ее губы.
Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня:
– Что вы теперь намерены сделать?
Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека – удалиться, «потому что, – прибавил я, – я вас люблю, Вера Николаевна, вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к канве и задумалась.
– Я должна переговорить с вами, – промолвила она, – приходите сегодня вечером после чаю в наш домик… знаете, где вы читали «Фауста».
Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом Приимков, который в это самое мгновенье входил в комнату, не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя: не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я… я не мог прийти в себя. Вера меня любит! Эти слова беспрестанно вращались в моем уме; но я не понимал их, – ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастию; с усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне…
После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут – я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось – мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее – ко мне. При потухающем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй…
Этот поцелуй был первым и последним.
Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад…
– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голосом, – вы ничего не видите?
Я быстро обернулся.
– Ничего. А вы разве что-нибудь видите?
– Теперь не вижу, а видела.
Она глубоко и редко дышала.
– Кого? что?
– Мою мать, – медленно проговорила она и затрепетала вся.
Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновенье? – Полноте! – начал я, – что вы это? Скажите мне лучше…
– Нет, ради бога, нет! – перебила она и схватила себя за голову. – Это сумасшествие… Я с ума схожу… Этим шутить нельзя – это смерть… Прощайте…
Я протянул к ней руки.
– Остановитесь, ради Бога, на мгновение, – воскликнул я с невольным порывом. Я не знал, что говорил, и едва держался на ногах. – Ради Бога… ведь это жестоко.
Она взглянула на меня.
– Завтра, завтра вечером, – проговорила она, – не сегодня, прошу вас… уезжайте сегодня… завтра вечером приходите к калитке сада, возле озера. Я там буду, я приду… я клянусь тебе, что приду, – прибавила она с увлечением, и глаза ее блеснули, – кто бы ни останавливал меня, клянусь! Я все скажу тебе, только пусти меня сегодня.
И, прежде чем я мог промолвить слово, она исчезла.
Потрясенный до основания, я остался на месте. Голова моя кружилась. Сквозь безумную радость, наполнявшую все мое существо, прокрадывалось тоскливое чувство… Я оглянулся. Страшна мне показалась глухая сырая комната, в которой я стоял, с ее низким сводом и темными стенами.
Я вышел вон и направился тяжелыми шагами к дому. Вера дожидалась меня на террасе; она вошла в дом, как только я приблизился, и тотчас же удалилась к себе в спальню.
Я уехал.
Как я провел ночь и следующий день до вечера – этого передать нельзя. Помню только, что я лежал ничком, спрятав лицо в руки, вспоминал ее улыбку перед поцелуем, шептал: «Вот она, наконец…»
Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды: «Ты как лед: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется».
Еще вот что мне приходило на память: мы как-то толковали с Верой о том, что значит уменье, талант.
– Я умею только одно, – сказала она, – молчать до последней минуты.
Я тогда ничего не понимал.
«Но что значит ее испуг?.. – спрашивал я себя. – Неужели она точно видела Ельцову? Воображение!» – думал я и снова предавался ощущениям ожидания.
В тот же день я написал тебе – с какими мыслями, жутко вспомнить – то лукавое письмо.
Вечером – солнце еще не садилось – я уже стоял шагах в пятидесяти от калитки сада, в высоком и густом лознике на берегу озера. Я из дому пришел пешком. Сознаюсь к стыду моему: страх, страх самый малодушный наполнял мою грудь, я беспрестанно вздрагивал… но я не чувствовал раскаяния. Спрятавшись между ветвями, я неотступно глядел на калитку. Она не растворялась. Вот село солнце, вот завечерело; вот уже звезды выступили, и небо почернело. Никто не показывался. Лихорадка меня била. Наступила ночь. Я не мог терпеть долее, осторожно вышел из лозника и подкрался к калитке. Все было тихо в саду. Я кликнул шепотом Веру, кликнул в другой раз, в третий… Ничей голос не отозвался. Прошло еще полчаса, прошел час; совсем темно стало. Ожидание меня истомило; я потянул к себе калитку, разом отворил ее и на цыпочках, словно вор, направился к дому. Я остановился в тени лип.
В доме почти все окна были освещены; люди ходили взад и вперед по комнатам. Это удивило меня: часы мои, сколько я мог различить при тусклом свете звезд, показывали половину двенадцатого. Вдруг раздался стук за домом: экипаж съезжал со двора.
«Видно, гости», – подумал я. Потеряв всякую надежду видеть Веру, я выбрался из сада и проворными шагами пошел домой. Ночь была темная, сентябрьская, но теплая и без ветра. Чувство не столько досады, сколько печали, которое овладело было мною, рассеялось понемногу, и я пришел к себе домой немного усталый от быстрой ходьбы, но успокоенный тишиною ночи, счастливый и почти веселый. Я вошел в спальню, отослал Тимофея, не раздеваясь бросился на постель и погрузился в думу.
Сперва мечты мои были отрадны; но скоро я заметил в себе странную перемену. Я начал ощущать какую-то тайную, грызущую тоску, какое-то глубокое, внутреннее беспокойство. Я не мог понять, отчего оно происходило; но мне становилось жутко и томно, точно близкое несчастие мне грозило, точно кто-то милый страдал в это мгновенье и звал меня на помощь. На столе восковая свечка горела небольшим неподвижным пламенем, маятник стучал тяжело и мерно. Я опер голову на руку и принялся глядеть в пустой полумрак моей одинокой комнаты. Я подумал о Вере, и душа во мне заныла: все, чему я так радовался, показалось мне, как оно и следовало, несчастием, безвыходной пагубой. Чувство тоски во мне росло и росло, я не мог лежать долее; мне вдруг опять почудилось, что кто-то зовет меня умоляющим голосом… Я приподнял голову и вздрогнул; точно, я не обманывался: жалобный крик примчался издалека и прильнул, словно дребезжа, к черным стеклам окон. Мне стало страшно: я вскочил с постели, раскрыл окно. Явственный стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной. Весь похолодев от ужаса, внимал я его последним, замиравшим переливам. Казалось, кого-то резали в отдаленье, и несчастный напрасно молил о пощаде. Сова ли это закричала в роще, другое ли какое существо издало этот стон, я не дал себе тогда отчета, но, как Мазепа Кочубею, отвечал криком на зловещий звук.
– Вера, Вера! – воскликнул я, – ты ли это зовешь меня?
Тимофей, заспанный и изумленный, явился предо мною.
Я опомнился, выпил стакан воды, перешел в другую комнату; но сон не посетил меня. Сердце во мне билось болезненно, хоть и нечасто. Я уже не мог предаваться мечтам о счастии; я уже не смел верить ему.
На другой день перед обедом я отправился к Приимкову. Он встретил меня с озабоченным лицом.
– Жена у меня больна, – начал он, – в постели лежит; я посылал за доктором.
– Что с ней?
– Не понимаю. Вчера ввечеру пошла было в сад и вдруг вернулась вне себя, перепуганная. Горничная за мной прибежала. Я прихожу, спрашиваю жену: что с тобой? Она ничего не отвечает и тут же слегла; ночью открылся бред. В бреду Бог знает что говорила, вас поминала. Горничная мне сказала удивительную вещь: будто бы Верочке в саду ее мать покойница привиделась, будто бы ей показалось, что она идет к ней навстречу, с раскрытыми руками.
Ты можешь себе представить, что я почувствовал при этих словах.
– Конечно, это вздор, – продолжал Приимков, – однако я должен сознаться, что с моей женой в этом роде случались необыкновенные вещи.
– И, скажите, Вера Николаевна очень нездорова?
– Да, нездорова: ночью плохо было; теперь она в забытьи.
– Что же сказал доктор?
– Доктор сказал, что болезнь еще не определилась…
12 марта.
Я не могу продолжать так, как начал, любезный друг: это стоит мне слишком больших усилий и слишком растравляет мои раны. Болезнь, говоря словами доктора, определилась, и Вера умерла от этой болезни. Она двух недель не прожила после рокового дня нашего мгновенного свидания. Я ее видел еще раз перед ее кончиной. У меня нет воспоминания более жестокого. Я уже знал от доктора, что надежды нет. Поздно вечером, когда уже все улеглись в доме, я подкрался к дверям ее спальни и заглянул в нее. Вера лежала на постели с закрытыми глазами, худая, маленькая, с лихорадочным румянцем на щеках. Как окаменелый, смотрел я на нее. Вдруг она раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку —
Чего хочет он на освященном месте,
Этот… вот этот[12]…
произнесла она голосом до того страшным, что я бросился бежать. Она почти все время своей болезни бредила «Фаустом» и матерью своей, которую называла то Мартой, то матерью Гретхен.
Вера умерла. Я был на ее похоронах. С тех пор я покинул все и поселился здесь навсегда.
Подумай теперь о том, что я рассказал тебе; подумай о ней, об этом существе, так скоро погибшем. Как это случилось, как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых, я не знаю и никогда знать не буду; но ты согласись, что не припадок прихотливой хандры, как ты выражаешься, заставил меня удалиться от общества. Я стал не тот, каким ты знал меня: я многому верю теперь, чему не верил прежде. Я все это время столько думал об этой несчастной женщине (я чуть не сказал: девушке), об ее происхождении, о тайной игре судьбы, которую мы, слепые, величаем слепым случаем. Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки? Мы все должны смириться и преклонить головы перед Неведомым.
Да, Вера погибла, а я уцелел. Помню, когда я был еще ребенок, у нас в доме была красивая ваза из прозрачного алебастра. Ни одно пятнышко не позорило ее девственной белизны. Однажды, оставшись наедине, я начал качать цоколь, на котором она стояла… ваза вдруг упала и разбилась вдребезги. Я обмер от испуга и стоял неподвижно перед осколками. Отец мой вошел, увидал меня и сказал: «Вот посмотри, что ты сделал: уж не будет у нас нашей прекрасной вазы; теперь уж ничем ее поправить нельзя». Я зарыдал. Мне показалось, что я совершил преступление.
Я возмужал – и легкомысленно разбил сосуд в тысячу раз драгоценнейший…
Напрасно говорю я себе, что я не мог ожидать такой мгновенной развязки, что она меня самого поразила своей внезапностью, что я не подозревал, какое существо была Вера. Она, точно, умела молчать до последней минуты. Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее, люблю замужнюю женщину; но я остался – и вдребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих.
Да, Ельцова ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу.
Пора кончить… Я тебе и сотой доли не сказал того, что бы следовало; но с меня и этого было довольно. Пускай же опять упадет на дно души все, что всплыло… Кончая, скажу тебе:
Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, – исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.
Прощай! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; теперь скажу тебе: старайся жить, оно не так легко, как кажется. Вспоминай обо мне, не в часы печали – в часы раздумья, и сохраняй в душе твоей образ Веры во всей его чистой непорочности… Еще раз прощай!
Твой П. Б.
1855
Поездка в Полесье
Первый день
Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид «Полесья» напоминает вид моря. И впечатления им возбуждаются те же; та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: «Мне нет до тебя дела, – говорит природа человеку, – я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами; оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой… Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо – и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, – трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братии может исчезнуть с лица земли – и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность – и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значенье и в свою силу.
Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты, увидал я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса; кой-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи; весь кругозор был охвачен бором; нигде не белела церковь, не светлели поля – все деревья да деревья, все зубчатые верхушки – и тонкий, тусклый туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет – отсутствием жизни, чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона; помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками; на дне ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная, торная дорога.
На этой дороге, прямо против крыльца, стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою, тоже хромую, лошаденку; это был пряничник, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько людей; за ними потянулись другие… наконец повалила целая гурьба; у всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча: это юхновцы, копачи, возвращались с заработков. Старик лет семидесяти, весь белый, казалось, предводительствовал ими; он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. «Но, но, но, ребятушки, – говорил он, – но-о». Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только, низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его:
– Почем пряник, шут?
– Каков будет пряник, любезный человек, – возразил тонким голоском озадаченный торговец. – Есть и в копейку – а то и грош дать надо. А есть ли грош в мошне-то?
– Да от него, чай, в брюхе просолодит, – возразил тулуп и отошел от телеги.
– Поспешите, ребятушки, поспешите! – послышался голос старика, – до ночлега далеко.
– Необразованный народ, – проговорил, искоса взглянув на меня, пряничник, как только вся толпа провалила мимо, – разве это кушанье про них?
И, наскоро снарядивши свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик, в белом войлочном «шлыке» (обыкновенной полешской шапке), вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом.
Я покормил лошадей – и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, взобрался я наконец по узкой гати в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по круглым бревешкам; я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы; потом они стали реже попадаться, сплошной стеной надвинулся густой ельник; далее закраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно – они не любят больших лесов; только по временам раздавался заунывный, троекратный возглас удода да сердитый крик ореховки или сойки; молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая золотистою лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну; жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики; в стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем, невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми и гулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку; а там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой; по обеим сторонам расстилалось лесное болото, все зеленое и темное, все покрыто тростниками и мелким ольшаником; утки взлетывали попарно – и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. «Га, га, га, га», – неожиданно поднимался протяжный крик; то пастух гнал стадо через мелколесье; бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза на бежавшую передо мной собаку; ветерок приносил тонкий и крепкий запах жженого дерева; белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху: знать, мужичок промышлял уголь на стеклянный завод или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бору всегда тихо; только идет там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам… Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорей на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью – и давит его эта пахучая сырость и гниль…
Верст пятнадцать ехали мы шагом, изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах.
– Далеко ли до Святого? – спросил я одного из них.
– Нет, недалеко.
– А сколько?
– Да версты три будет.
Прошло часа полтора. Мы все ехали да ехали. Вот опять заскрыпела нагруженная телега. Мужик шел сбоку.
– Сколько, брат, осталось до Святого?
– Чего?
– Сколько до Святого?
– Восемь верст.
Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой, деревянной, одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было Святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мычаньем, хрюканьем и блеяньем пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных; белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами; пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела.
Я остановился у старосты, хитрого и умного «полехи», из тех полех, про которых говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, с старостиным сыном и другим крестьянином, по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба – десятин двести, не больше, считалось распаханного поля вокруг Святого; но до хороших мест приходилось ехать верст семь. Старостина сына звали Кондратом. Это был малый молодой, русый и краснощекий, с добрым и смирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мною рядом. Мне хочется сказать о нем слова два.
Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице, за скудостью пороха и дроби; но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиный. Егор слыл за человека правдивого и за «молчальника». Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи – черта, редкая в охотнике. Роста он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова, – очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло: жена его все хворала, дети умирали; он «забеднял» и никак не мог справиться. И то сказать: страсть к охоте не мужицкое дело, и кто «с ружьем балует» – хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость – важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкараулив их на «овсах». В последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить: медведь все не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке; присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом.
– Какого же ты молодца повалил! – заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку.
– Коли охотиться приехали, в Мошном глухари есть – три выводка, да рябцев пять, – промолвил он и снова принялся за свою работу.
С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую Святое, а въехавши в лес, опять потащились шагом.
– Вон витютень сидит, – заговорил вдруг, оборотившись ко мне, Кондрат, – хорошо бы сшибить!
Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. До витютня шагов было сто с лишком, а его и на сорок шагов не убьешь: такова у него крепость в перьях.
Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат; но лесная тишь недаром охватила и его: он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтенью и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до «Мошного». Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли; Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился: он ничего без креста не начинал.
Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже наверное могли скрываться в его захолустьях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета; между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю; голубика росла сплошными кустами; крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей; но в лесу было все-таки душно и не темно; как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало; даже шагов наших не было слышно; мы шли по мху, как по ковру; особенно Егор двигался бесшумно, словно тень; под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик; рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку; но напрасно указывал мне его Егор: как я ни напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог; пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей; осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком; нам, однако, удалось убить трех молодых.
У одного майдана[13] Егор вдруг остановился и подозвал меня.
– Медведь воды хотел достать, – промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом.
– Это след его лапы? – спросил я.
– Его; да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след: за медом лазил. Как ножом прорубил, когтями-то.
Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый, высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом.
– Что это, майдан тоже? – спросил я.
– Нет, – отвечал Егор, – здесь воровской городок стоял.
– Давно?
– Давно; дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий: на человечью кровь.
Мы прошли еще версты с две; мне захотелось пить.
– Посидите маленько, – сказал Егор, – я схожу за водой, тут колодезь недалеко.
Он ушел; я остался один.
Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и, после долгого безмолвия, медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово-печально – нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во мне сжалось. В это мгновенье, на этом месте я почуял веяние смерти, я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора! Я снова, почти со страхом, опустил голову; точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку… Я закрыл глаза рукою – и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь…
Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями; потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием… Пришли на память и они, товарищи первых стремлений… потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний… потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы – и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! – невольно шептали горьким шепотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла – вот все, что осталось от тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нечто – это я, тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного, она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное, она ждала: вот-вот нахлынет счастье потоком – и ни одной каплей не смочило алкавших губ? О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья… вы и звучали только – когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарною улыбкой – да я не умел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоуменье… А вы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз, скупые, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким словам: «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила – там не наше место!
– Вот вам вода, – раздался за мною звучный голос Егора, – пейте с Богом.
Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную, темную глубь, где уже все стихало кругом и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби… я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой… Я встал.
– Пойдем, веди меня, – сказал я с увлечением.
Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара «свалила», в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте вон, беспокойные живые», – казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг, среди чрезвычайной тишины в воздухе, слышим мы, ясно раздается его «тпру, тпру», в близком от нас овраге… Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и так же внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов: многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтанья и сожаленья потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть…
День второй
На следующее утро мы опять втроем отправились на «Гарь». Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло; кой-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мох да перележалая зола. На этой «Гари», до которой от Святого считается верст двенадцать, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники до земляники и брусники.
Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову.
– Э! – воскликнул он, – да это никак Ефрем стоит. Здорово, Александрыч, – прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку.
Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге.
– Аль отпустили? – спросил Кондрат.
– А то небось нет! – возразил мужичок и оскалил зубы. – Нашего брата держать не приходится.
– И Петр Филиппыч ничего?
– Филиппов-то? Знамо дело, ничего.
– Вишь ты! А я, Александрыч, думал: ну, брат, думал я, теперь ложись гусь на сковороду!
– От Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы таких. Суется в волки, а хвост собачий. На охоту, что ль, едешь, барин? – спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.
– На охоту.
– А куда, примерно?
– На Гарь, – сказал Кондрат.
– Едете на Гарь, не наехать бы на пожар.
– А что?
– Видал я глухарей много, – продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату, – да вам туда не попасть: прямиком верст двадцать будет. Вот и Егор – что говорить! в бору, как у себя на двору, а и тот не продерется. Здорово, Егор, Божия душа в полтора гроша, – гаркнул он вдруг.
– Здорово, Ефрем, – медленно возразил Егор.
Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.
– На побывку домой, что ли? – спросил его Кондрат.
– Эк-ста, на побывку! Теперь, брат, погода не та: разгулялось. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-та производитель: брось, мол, нас, Лександрыч, выезжай из уезда вон, пачпорт дадим первый сорт… да жаль мне вас, святовских-то: такого вам вора другого не нажить.
Кондрат засмеялся.
– Шутник ты, дядюшка, право шутник, – проговорил он и тряхнул вожжами. Лошади тронулись.
– Тпру, – промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.
– Полно озорничать, Александрыч, – заметил он вполголоса. – Вишь, с барином едем. Осерчает, гляди.
– Эх ты, морской селезень! С чего ему серчать-то? Барин он добрый. Вот посмотри, он мне на водку даст. Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее, – подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами.
Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать.
– Много довольны, ваше благородие, – крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем. – А ты, Кондрат, напредки знай, у кого учиться; оробел – пропал, смел – съел. Как вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будет, сшибем горла два; жена у меня баба хлецкая, двор на полозу… Гей, сорока-белобока, гуляй, пока хвост цел!
И, засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.
– Что за человек? – спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, все потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собою.
– Тот-то? – возразил Кондрат и потупился. – Тот-то? – повторил он.
– Да. Он ваш?
– Наш, святовский. Это такой человек… Такого на сто верст другого не сыщешь. Вор и плут такой – и Боже ты мой! На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься, а что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь.
– Какой он смелый!
– Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него: по финазомии бестиян, с носу виден. (Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.) Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили и в острог сажали, только убытки одни. Его станут вязать, – а он говорит: «Что ж, мол, вы ту ногу не путаете? путайте и ту, да покрепче, я пока посплю; а домой я раньше ваших провожатых поспею». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тут, ах ты, Боже ты мой! Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобыкли сызмала, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом, ночью, напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал отродясь, верст сорок будет. Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела его не жалит. Все пасеки разорил.
– Я думаю, он и бортам спуска не дает.
– Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Пасека огорожена; тут караул; коли утащил – твое счастье; а бортовая пчела дело Божие, не береженое; один медведь ее трогает.
– Зато он и медведь, – заметил Егор.
– Он женат?
– Как же. И сын есть. Да и вор же будет сын-то! В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. Намеднись горшок с старыми пятаками притащил, украл где-нибудь, значит, пошел да зарыл его на полянке в лесу, а сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу, и ночевал в лесу, а нашел-таки горшок. Да, мудреный этот Ефрем. Пока дома – любезный человек, всех потчует: пей, ешь сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения. А и то сказать: он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого святовского – «Обходи, брат, мимо, – кричит издали, – на меня лесной дух нашел: убью!» Беда!
– Чего же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может?
– Да уж пожалуй, что так.
– Колдун он, что ли?
– Кто его знает! Вот намеднись он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью, а дьячок-то караулил сам. Ну, поймал его, да впотемках и приколотил, Как кончил, Ефрем-то и говорит ему: а знаешь ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что ж вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то, словно ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло; слово больно крепкое, знать, залепил мне разбойник. Вот что с ним сталось, с дьячком-то.
– Дьячок этот, должно быть, глуп, – заметил я.
– Глуп? А вот это как вы рассудите. Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся вострый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет… Один-то из них и закричи: вот он, вот он, держите его, вяжите! А Ефрем вошел в лес да вырезал себе древо, эдак перста в два, да как выскочит опять на дорогу, безобразный такой, страшный, как скомандует, словно енарал на разводе: «На коленки!» – все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал: держите, вяжите? Ты, Серега?» Тот-то как вскочит да бежать… А Ефрем за ним, да древом-то его по пяткам… С версту его гладил. И потом все еще жалел: «Эх, мол, досадно: заговеться ему не помешал». Дело-то было перед самыми филипповками. Ну, а станового в скором времени сместили, – тем все и покончилось.
– Да зачем же они все ему покорились?
– Зачем! то-то и есть…
– Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами что хочет.
– Запугал… Да он кого хочешь запугает. И уж горазд же он на выдумки, Боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я было в сторону… А он поглядел на меня, да эдак меня ручкою и подозвал. «Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть». Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал (и Кондрат засмеялся), вот уж потешил. Овес у нас молотили на току, да не кончили; последний ворох сгрести не успели; ну и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они да гуторят, а Ефрем возьми да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в эдаком-то виде к овину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку риги-то свои выставлять. Один-то малый и говорит другому: видишь? – Вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг… только плетни затрещали. А Ефрем нагреб овса в мешок да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то… Право!
Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрещали?» – промолвил он.
– Только их и видно было, – подхватил Кондрат. – Так и пошли сигать!
Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился.
– Э, батюшки, – воскликнул он, – да это никак пожар!
– Где, где? – спросили мы.
– Вон, смотрите, впереди, куда мы едем… Пожар и есть! Ефрем-то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянная он душа…
Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой; от него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей.
Мужик, весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку.
– Братцы, – спросил он задыхающимся голосом, – полесовщиков не видали?
– Нет, не видали. Что это, лес горит?
– Лес. Народ согнать надо, а то, коли к Тросному кинется…
Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади… Она поскакала.
Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире; местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания; скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот, между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые, бледно-красные языки пламени.
– Ну, слава Богу, – заметил Кондрат, – кажется, пожар-то поземный.
– Какой?
– Поземный; такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый аршин горит? Одно спасение: копай канавы – да это разве легко? А поземный – ничего. Только траву сбреет да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди, однако, как шибануло!
Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел ему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра; он подвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром. Кондрат сказал правду: это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собою черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг, и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом, воздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило оттого, что пожар поземный, «значит, не сердитый». Да ведь огонь тот же, возражал я. Поземный пожар, повторил Кондрат. Однако хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие: зайцы как-то, беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня; птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел, – да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара…
– Чего смотреть! – сказал вдруг Егор за моей спиной. – Поедемте.
– Да где проехать? – спросил Кондрат.
– Возьми влево, по сухоболотью проедем.
Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге.
Целый день протаскались мы по Гари. Перед вечером (заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе) я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтанья. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора; на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного, невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй, и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами», а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками… вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе – вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня – кверху ли, книзу ли, все равно, – выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни радости любви; больной зверь забивается в чащу и угасает там один: он как бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить; а человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать.
– Ну, что ж ты, Егор! – воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами, – иди садись. Чего задумался? Аль о корове все?
– О корове? О какой корове? – повторил я и взглянул на Егора: спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть.
– А вы не знаете? – подхватил Кондрат, – у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему – что ты будешь делать?..
Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться», – подумал я.
1857
Ася
I
Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н. Н., дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.
Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевелбе». Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.
Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною, грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.
Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!» – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.
Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.
– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.
– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.
«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же, я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.
II
Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят филистеров; иногда они нанимают оркестр.
Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою «Солнца», в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя…
– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мной мужской голос по-русски.
– Подождем еще, – ответил другой, женский голос на том же языке.
Я быстро обернулся… Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.
– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.
Молодой человек улыбнулся и промолвил:
– Да, русские.
– Я никак не ожидал… в таком захолустье, – начал было я.
– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя… – он запнулся на мгновение, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выраженью их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье – и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.
Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.
– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой?
Девушка утвердительно кивнула головой.
– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.
Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.
– Вот и наше жилище! – воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, – а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!.. Мы сейчас примемся за еду; но прежде, – прибавил он, – оглянитесь… каков вид?
Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.
– Отличную вы выбрали квартиру, – промолвил я.
– Это Ася ее нашла, – отвечал Гагин. – Ну-ка, Ася, – продолжал он, – распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, – прибавил он, обратясь ко мне, – вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, – чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.
Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) – Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:
– Ася, полно ежиться! он не кусается.
Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.
Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее ро́спили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец, луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.
– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.
– Пора, – повторил Гагин.
Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.
– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.
Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.
– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.
Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.
– Прощайте! – раздался опять ее голос.
– До завтра, – проговорил за нею Гагин.
Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медлено вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнату весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий.
Я чувствовал себя счастливым… Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал… Я был счастлив.
Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице… «Что же это значит? – спросил я самого себя. – Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.
III
На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:
Я поспешил отворить ему дверь.
– Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют…
Со своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.
Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной два раза из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.
Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.
– Да, да, – подхватил он со вздохом, – вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.
Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.
– Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, – промолвил он сквозь зубы, – не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать, – сказал он.
Мы пошли.
IV
Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уже наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кое-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и уселась на уступе стены, прямо над пропастью.
– А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – экая сумасшедшая!
Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.
– Полноте, – сказал мне шепотом Гагин, – не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености местных жителей.
Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное… «Она хочет удивить нас, – думал я, – к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.
– Ты думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обращаясь к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.
Гагин ничего не ответил ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала… Мне стало еще досаднее.
– Да она как коза лазит, – пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновенье от своего чулка.
Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.
«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».
– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.
Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:
– За здоровье дамы вашего сердца!
– А разве у него, – разве у вас есть такая дама? – спросила вдруг Ася.
– Да у кого же ее нет? – возразил Гагин.
Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.
На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?
– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он со своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?
– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у нее; притом же я думала, что вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.
Она ушла.
– Фрау Луизе, – сказал Гагин, стараясь избегать моего взора, – вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка.
Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего: я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня очень избалована, как видите, – прибавил он, помолчав немного, – да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.
Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником… Без горького, постоянного труда не бывает художников… а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, – нет! трудиться ты не будешь, сдаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.
Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.
– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.
Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.
– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?
Освещенное окно в третьем этаже стукнуло и открылось, и мы увидали темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.
– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.
Фрау Луизе засмеялась.
– Н. уходит, – ответил Гагин, – он хочет с тобой проститься.
– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.
Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.
Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь в чужой стороне, между чужими?» – воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел, и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать… думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию… «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.
Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом…». «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине, – шептал я, – да; и она ему не сестра…»
А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.
V
На следующее утро опять я пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне я хотел посмотреть, что станет делать Ася, так ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры: я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?
– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.
Он надел круглую шляпу à la Van Dyck[14], блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали, и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею – ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.
– А-га! – говорил Гагин, – пост и покаяние на себя наложила.
К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:
– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.
VI
Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.
Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и получила воспитание странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, о ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.
– Браво! – сказал я, подойдя к ней, – как вы прилежны!
Она подняла голову, важно и строго посмотрела на меня.
– Вы думаете, что я только смеяться умею, – промолвила она и хотела удалиться…
Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.
– Однако я ваш выбор похвалить не могу, – заметил я.
– Что же читать! – воскликнула она, и, бросив книгу на стол, прибавила: – Так лучше пойду дурачиться, – и побежала в сад.
В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он общался с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.
Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.
Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Не долго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимом… Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:
– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.
– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.
Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.
– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.
– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.
Несколько мгновений остался я неподвижным… Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него… И что за чувствительное объяснение?»
VII
Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытные в геологическом отношении; в особенности замечательные они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто принуждал их выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.
Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо смеясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, – все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами…
Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы… Привет тебе и мир!
Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить образ жестокосердной вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня… Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.
Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.
VIII
Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал, когда я отсутствовал. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнату и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва удерживал меня, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн, и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.
Сперва мы перекинулись несколькими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.
– Скажите, – заговорил вдруг Гагин, со своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?
– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.
– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю…
– Ее историю? – перебил я, – разве она не ваша…
Гагин взглянул на меня.
– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.
Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видел улыбки на лице его… но попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил моего отца все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он меня извещает о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором, и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.
– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.
Ася зарыдала и упала лицом на кровать… Полчаса спустя мой отец скончался.
Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо я помню эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.
– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.
Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.
Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме него, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы… Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.
И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.
Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, – говаривала она мне, – и на ласку она не подается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой… Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Изо всех подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из Закона Божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.
Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собой. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она… шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же мнением в особенности.
И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.
– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить… И при этом так расплакалась…
– Так вот что… – промолвил было я и прикусил язык.
– А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видела же она молодых людей?
– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.
– Послушайте, – начал я, – пойдемте к вам, мне домой не хочется.
– А работа ваша?
Я ничего не ответил; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце. Мне стало легко после гагинского рассказа.
IX
Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.
– Вот он опять, – заговорил Гагин, – и, заметь, сам захотел вернуться.
Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.
Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мной по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.
– И вам не скучно было без нас? – начала Ася.
– А вам без меня было скучно? – спросил я.
Ася взглянула на меня сбоку.
– Да, – ответила она. – Хорошо в горах? – продолжала она тотчас, – они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.
– Вольно ж было вам уходить, – заметил я.
– Я уходила… потому что… Я теперь вот не уйду, – прибавила она с доверчивой лаской в голосе, – вы сегодня были сердиты.
– Я?
– Вы.
– Отчего же, помилуйте…
– Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.
– И я рад, что вернулся, – промолвил я.
Ася повел плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.
– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.
До этого дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.
– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.
Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.
– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.
– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.
– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня… по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами…
Ася подняла голову и встряхнула кудрями.
– Ах, мне хорошо, – проговорила она.
В это мгновенье до нас долетели отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными остановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями…
– Вот бы пойти с ними, – сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.
– Разве вы такая набожны?
– Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, – продолжала она. – А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?
– Вы честолюбивы, – заметил я, – вы хотите прожить не даром, след за собой оставить…
– А разве это невозможно?
«Невозможно», – чуть было не повторил я… Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:
– Попытайтесь.
– Скажите, – заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, – вам очень нравилась та дама… Вы помните, брат пил за ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?
Я засмеялся.
– Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.
– А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.
– Какой странный вопрос! – воскликнул я.
Ася слегка смутилась.
– Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.
– Говорите, ради Бога, не бойтесь, – подхватил я, – я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.
Ася опустила глаза и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.
– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочитайте что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»…
Она вдруг задумалась…
проговорила она вполголоса
– У Пушкина не так, – заметил я.
– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она все так же задумчиво. – Рассказывайте, – подхватила она с живостью.
Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.
– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.
– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если бы мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы.
– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.
– Как?
– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.
– А у вас были?
– Как вам сказать… Кажется, до сих пор я еще не летал.
Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.
– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.
– Умею, – ответил я, несколько озадаченный.
– Так пойдемте, пойдемте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.
Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание, долго мерещились темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.
X
Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла – и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце… поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке… но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки… Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и любит. Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел называть его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился… А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.
XI
Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней; ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только со вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили…
Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик, я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.
Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собой – и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.
– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.
– Нет, не такая, – ответила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего… Я нехорошо спала, всю ночь думала.
– О чем?
– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой…
Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:
– Когда я жила с матушкой… я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.
– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом…
– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.
Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.
– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, – продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы… Правда ли, что женщинам не следует читать много?
– Много не нужно, но…
– Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, – прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.
Я не тотчас нашелся, что сказать ей.
– Ведь вам не будет скучно со мной?
– Помилуйте, – начал я.
– Ну, спасибо! – возразила Ася, – а я думала, что вам скучно будет.
И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.
– Н.! – вскрикнул в это мгновение Гагин, – не темен ли этот фон?
Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.
XII
Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.
– Послушайте, – сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня?
– Что у вас за мысли сегодня! – воскликнул я.
– Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощается. Умереть лучше, чем жить так… Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.
– Разве вы меня боялись?
– Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу…
Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною, а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.
– Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной… Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово…
Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.
– Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.
– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты.
Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.
– Вы сегодня дурного мнения обо мне, – сказала она, нахмурив брови.
– Я? дурного мнения? о вас!..
– Что вы точно в воду опущенные, – перебил меня Гагин, – хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?
– Нет, нет, – возразила Ася и стиснула руки, – сегодня ни за что!
– Я тебя не принуждаю, успокойся…
– Ни за что, – повторила она, бледнея.
……………………………………………………
«Неужели она меня любит?» – думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.
XIII
«Неужели она меня любит?» – спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось, у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» – и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.
Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу – не мог; хотел ничего не делать и не думать… и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.
– Вы ли господин Н.? – раздался вдруг за мной детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. – Это вам от фрейлейн Annette, – прибавил он, подавая мне записку.
Я развернул ее – и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, – писала мне она, – приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность… Приходите, ради Бога, вы все узнаете… Скажите посланному: да».
– Будет ответ? – спросил меня мальчик.
– Скажи, что да, – отвечал я.
Мальчик убежал.
XIV
Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.
Дверь отворилась – вошел Гагин.
Лицо его было пасмурным. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.
– Что с вами? – спросил я.
Гагин взял стул и сел против меня.
– Четвертого дня, – начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, – я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы… так прямо… Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.
Я вздрогнул и приподнялся…
– Ваша сестра, говорите вы…
– Да, да, – перебил меня Гагин. – Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать – и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки… но она себя погубит, непременно.
– Да вы ошибаетесь, – начал я.
– Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась… Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у нее сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у нее горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых… Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить… Рыдания ее усиливаются… и вдруг сквозь эти рыдания услышал я… Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, – продолжал Гагин, – но почему она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, – я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее – просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, – и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился – поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее – уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть… как знать? – вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд… Притом же я сам кое-что заметил… Я решился… узнать от вас… – Бедный Гагин смутился. – Извините меня, пожалуйста, – прибавил он, – я не привык к таким передрягам.
Я взял его за руку.
– Вы хотите знать, – произнес я твердым голосом, – нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится…
Гагин взглянул на меня.
– Но, – проговорил он, запинаясь, – ведь вы не женитесь на ней?
– Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь…
– Знаю, знаю, – перебил меня Гагин. – Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой – верх неприличия… Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить… Другая умела бы все скрыть и выждать – но не она. С нею это в первый раз – вот что беда! Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.
Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.
– Да, – сказал я наконец, – вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.
Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавным, но мне было не до смеху.
– Вы, повторяю, благородный человек, – проговорил он, – но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности… и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?
Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.
Вот на чем мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свидание и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.
– Я твердо надеюсь на вас, – сказал Гагин и стиснул мне руку, – пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, – прибавил он, вставая, – потому что ведь вы на Асе не женитесь.
– Дайте мне сроку до вечера, – возразил я.
– Пожалуй, но вы не женитесь.
Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня…
«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – сказал я, вставая.
XV
В условленный час я переправился через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.
– От фрейлейн Annette, – сказал он шепотом и подал мне другую записку.
Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.
– Опять: да? – спросил меня мальчик.
– Да, – повторил я и пошел по берегу Рейна.
Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.
– Да, – промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, – Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.
Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукой щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь… Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».
Я встал – и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.
– Сюда! – послышался старушечий голос. – Вас ждут.
Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.
– Вы это, фрау Луизе? – спросил я.
– Я, – отвечал мне тот же голос, – я, мой прекрасный молодой человек.
Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собой.
XVI
В небольшой комнате, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову…
– Анна Николаевна, – сказал я.
Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.
– Я желала… – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела… Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.
Я сел подле нее.
– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.
Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы… Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло…
– Ася, – сказал я чуть слышно…
Она медленно подняла на меня свои глаза… О, взгляд женщины, которая полюбила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались… Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами, я нагнулся и приник к ее руке…
Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все тело ее повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы…
– Ваша… – прошептала она чуть слышно.
Уже руки мои скользили вокруг ее стана… Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.
– Что мы делаем!.. – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. – Ваш брат… ведь он все знает… Он знает, что я вижусь с вами.
Ася опустилась на стул.
– Да, – продолжал я, вставая и отходя в другой угол комнаты. – Ваш брат все знает… Я должен был ему все сказать.
– Должны? – проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.
– Да, да, – повторил я с каким-то ожесточением, – и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. – Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. – Теперь все пропало, все, все.
Ася поднялась было со стула.
– Останьтесь, – воскликнул я, – останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком, – да, с честным человеком. Но, ради Бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.
«Что я такое говорю?» – думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, – так и звенела у меня в голове.
– Я не звала брата, – послышался испуганный шепот Аси, – он пришел сам.
– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать…
– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.
– И вы думаете, – возразил я, – мне будет легко с вами расстаться?
– Но зачем же вы сказали брату? – с недоумением повторила Ася.
– Я вам говорю – я не мог поступить иначе. Если бы вы сами не выдали себя…
– Я заперлась в моей комнате, – возразила она простодушно, – я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ…
Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту – меня тогда чуть не рассердило… а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!
– И вот теперь все кончено! – начал я снова. – Все. Теперь нам должно расстаться. – Я украдкой взглянул на Асю… лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил как в лихорадке. – Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне…
Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед – и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я тотчас теряюсь.
– Анна Николаевна, Ася, – твердил я, – пожалуйста, умоляю вас, ради Бога, перестаньте… – Я снова взял ее за руку…
Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла…
Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату – я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться…
– Фрейлейн ушла? – спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.
Я посмотрел на нее как дурак – и вышел вон.
XVII
Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, которая заставила Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее. А теперь ее образ меня преследовал, я просил у нее прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах, о легком прикосновении ее головы к моей груди – жгли меня. «Ваша…» – слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», – уверял я себя… Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! Безумец!» – повторял я с озлоблением…
Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.
XVIII
Гагин вышел мне навстречу.
– Видели вы сестру? – закричал он мне еще издали.
– Разве ее нет дома? – спросил я.
– Нет.
– Она не возвращалась?
– Нет. Я виноват, – продолжал Гагин, – не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?
– Она не была у часовни.
– И вы ее не видели?
Я должен был сознаться, что я ее видел.
– Где?
– У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, – прибавил я, – я был уверен, что она домой вернулась.
– Подождем, – сказал Гагин.
Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец, Гагин встал.
– Это ни на что не похоже! – воскликнул он, – у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу… Пойдемте искать ее.
Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.
– О чем же вы с ней говорили? – спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.
– Я видел ее всего минут пять, – отвечал я, – я говорил с ней, как было условлено.
– Знаете ли что? – возразил он, – лучше нам разойтись, этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.
XIX
Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу… Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, – тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал… нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! – самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я дал бы все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою… Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость… и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиной восторга… Эта мысль меня с ума сводила.
«Куда она могла пойти, что она с собою сделала?» – восклицал я в тоске бессильного отчаяния… Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест со старинной надписью. Сердце во мне замерло… Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос испугал меня самого – но никто не отозвался…
Я решил пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.
XX
Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси… Это меня несколько успокоило.
Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.
– Нашли? – спросил я его.
– Она вернулась, – ответил он мне шепотом, – она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.
– Слава Богу! – воскликнул я с несказанным порывом радости, – слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.
– В другое время, – возразил он, тихо потянув к себе раму, – в другое время, а теперь прощайте.
– До завтра, – сказал я, – завтра все будет решено.
– Прощайте, – повторил Гагин. Окно затворилось.
Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору… «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив…»
Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновенье.
Я не помню, как я дошел до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.
XXI
Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были раскрыты и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.
Я приблизился к ней…
– Уехали! – брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?
– Уехали?.. – повторил я. – Как уехали? Куда?
– Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?
– Я господин Н.
– К вам есть письмо у хозяйки. – Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. – Вот-с, извольте.
– Да не может быть… Как же это так?.. – начал было я.
Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.
Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ждали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.
«Какие предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня…» Я схватил себя за голову…
Служанка начал громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе… Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она крикнула мне вслед, что у нее есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидал опять эту комнатку…
– По-настоящему, – начала старуха, показывая мне маленькую записку, – я бы должна была дать вам это только в случае, если бы вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.
Я взял записку.
На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:
«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше… Прощайте навсегда!»
Одно слово… О, я безумец! Это слово… я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей… но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее… Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви: оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании… оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее… но тогда уже было поздно. «Да это невозможно!» – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, – выскользнула из рук моих.
В тот же день я вернулся с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кельн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, – я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял рядом с нею и, смеясь, рассказывал ей что-то, а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.
XXII
В Кельне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, я долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.
И я не увидел их более – я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору своей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.
Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод – и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знавал других женщин – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… И я сам – что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.
1858
Первая любовь
Посвящено П. В. Анненкову
Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.
– Итак, это дело решенное, – промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару, – каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.
– У меня не было первой любви, – сказал он наконец, – я прямо начал со второй.
– Это каким образом?
– Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?
– Так как же быть? – начал хозяин. – В моей первой любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, – и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?
– Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных, – ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.
– А! – промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. – Тем лучше… Рассказывайте.
– Извольте… или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво, а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку – и прочту вам.
Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.
Вот что стояло в его тетрадке:
I
Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.
Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.
Никто не стеснял моей свободы. Я делал что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (comme un bombe) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно… Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.
Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятою мая, в самый Николин день. Я гулял – то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу – курс Кайданова, например, – но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло – так сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.
У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире – как весело дул мне в уши ветер! – или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.
Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского…
Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови… ему было суждено скоро сбыться.
Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев… Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день – недели три спустя после девятого мая – ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица – какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня… – а потом прибавила: – Должно быть, бедная какая-нибудь».
– На трех извозчиках приехали-с, – заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий, – своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.
– Да, – возразила матушка, – а все-таки лучше. Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.
Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.
II
У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад – и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор – и окаменел. Мне представилось странное зрелище.
В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы – а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними…
– Молодой человек, а молодой человек, – проговорил вдруг подле меня чей-то голос, – разве позволительно глядеть так на чужих барышень?
Я вздрогнул весь, я обомлел… Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне… Я увидал огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице – и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись… Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.
Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.
– Что с тобой? – внезапно спросил меня отец, – убил ворону?
Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом – и опять заснул.
III
«Как бы с ними познакомиться?» – было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна… Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною… Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.
В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь, – писала она, – как благородная дама благородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать – матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна – и знала это и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просить ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения – и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстух и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.
IV
В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:
– Чего вам?
– Княгиня Засекина дома? – спросил я.
– Вонифатий! – закричал из-за двери дребезжащий женский голос. Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.
– В квартал ходил? – повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то. – А?.. Пришел кто-то?.. – послышалось опять. – Барчук соседний? Ну, проси.
– Пожалуйте-с в гостиную, – проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.
Я оправился и вошел в «гостиную».
Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.
Я подошел к ней и раскланялся.
– Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?
– Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?
– Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.
– Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?
Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.
– Очень хорошо; непременно буду, – промолвила она наконец. – А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?
– Шестнадцать лет, – отвечал я с невольной запинкой.
Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.
– Годы хорошие, – произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле. – А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.
«Слишком просто», – подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее неблагообразную фигуру.
В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.
– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на нее локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?
– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.
– А по батюшке?
– Петровичем.
– Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.
Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок.
– Я уже видела мсье Вольдемара, – начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) – Вы мне позволите так называть вас?
– Помилуйте-с, – пролепетал я.
– Где это? – спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери.
– Вы теперь заняты? – промолвила она, не спуская с меня глаз.
– Никак нет-с.
– Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.
Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.
В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.
Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большею частию полуприщуренные, открывались во всю величину свою, – ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.
– Что вы подумали обо мне вчера, мсье Вольдемар? – спросила она погодя немного. – Вы, наверно, осудили меня?
– Я, княжна… я ничего не думал… как я могу… – отвечал я с смущением.
– Послушайте, – возразила она. – Вы меня еще не знаете; я престранная: я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду… и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?
Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.
– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно… Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.
– Княжна… – начал было я.
– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?
Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:
– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.
Она с расстановкой покачала головой.
– У вас есть гувернер? – спросила она вдруг.
– Нет, у меня уже давно нет гувернера.
Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.
– О! да я вижу – вы совсем большой. – Она легонько ударила меня по пальцам.
– Держите прямо руки! – И она прилежно занялась наматыванием клубка.
Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее – и как дорога и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее… На ней было темненькое, уже поношенное, платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам… «И вот я сижу перед ней, – подумал я, – я с ней познакомился… какое счастье, Боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал как ребенок, который лакомится.
Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.
Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза – и опять она усмехнулась.
– Как вы на меня смотрите, – медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.
Я покраснел… «Она все понимает, она все видит, – мелькнуло у меня в голове. – И как ей всего не понимать и не видеть!»
Вдруг что-то застучало в соседней комнате – зазвенела сабля.
– Зина! – закричала в гостиной княгиня, – Беловзоров принес тебе котенка.
– Котенка! – воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.
Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навыкате.
– Какой смешной! – твердила Зинаида, – и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.
Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.
– Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами… вот, я и достал-с. Слова – закон. – И он опять поклонился.
Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.
– Он голоден! – воскликнула Зинаида. – Вонифатий! Соня! принесите молока.
Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.
– Какой у него розовый язычок, – заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.
Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:
– Унеси его.
– За котенка – ручку, – проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.
– Обе, – возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.
Я стоял неподвижно на одном месте и не знал – засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.
– Что ты? – спросил я.
– Маменька прислали за вами, – проговорил он шепотом. – Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.
– Да разве я давно здесь?
– Час с лишком.
– Час с лишком! – повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.
– Куда вы? – спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.
– Мне нужно домой-с. Так я скажу, – прибавил я, обращаясь к старухе, – что вы пожалуете к нам во втором часу.
– Так и скажите, батюшка.
Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.
– Так и скажите, – повторила она, слезливо моргая и кряхтя.
Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.
– Смотрите же, мсье Вольдемар, заходите к нам, – крикнула Зинаида и опять рассмеялась.
«Что это она все смеется?» – думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно… Я силился не плакать… Я ревновал к гусару.
V
Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire[15], что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней все какие-то тяжбы и дела – des vilaines affaires d’argent[16] – и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien», по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл все свое состояние – и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, – впрочем, он бы мог лучше выбрать, – прибавил отец и холодно улыбнулся, – женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.
– Как бы она денег взаймы не попросила, – заметила матушка.
– Это весьма возможно, – спокойно промолвил отец. – Говорит она по-французски?
– Очень плохо.
– Гм. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.
– А! Стало быть, она не в мать.
– И не в отца, – возразил отец. – Тот был тоже образован, да глуп.
Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.
После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда – и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.
Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.
Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.
Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?»[17] – подумал я (Бог знает почему) по-французски.
Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся – ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.
– Это княжна? – спросил он меня.
– Княжна.
– Разве ты ее знаешь?
– Я ее видел сегодня утром у княгини.
Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.
Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.
VI
Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова – но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» – не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстух.
– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и Бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!
– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.
– Вот вздор! какие это гости!
Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстуха не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность – и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек – на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее – и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.
– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь чего гордиться – avec sa mine de grisette![18]
– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.
– И слава Богу!
– Разумеется, слава Богу… только как же ты можешь судить о них?
На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.
– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть.
Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:
– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно.
Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.
VII
Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпились пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:
– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs, позвольте вас познакомить: это мсье Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.
Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.
– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсье Вольдемару билет.
– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.
– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый, как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук, без эполет, нараспашку.
– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсье Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.
Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.
– По крайней мере, позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играли в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?
Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.
– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.
Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи! что сталось со мною, когда я увидел на нем слово: поцелуй!
– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.
– Браво! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.
– Я?.. – пролепетал я.
– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.
Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!
– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.
Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.
– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.
Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну что же?», а я только краснел, и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!
Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.
Мы наконец выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.
Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.
Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!
Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.
Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко… Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен…
Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра… Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня…
И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…
О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?
VIII
На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал, – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.
– Все-таки они люди не comme il faut, – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.
Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.
Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… Потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.
На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и веселость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).
– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу!
– Что?
– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.
Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.
Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.
Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.
– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.
– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.
Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.
Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.
После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.
– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.
– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?
– Сегодня же перепишу-с.
Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.
– Зина, а Зина! – проговорила старуха.
Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.
IX
Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней… Я изнывал… но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.
Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться… и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам…
Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которую пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.
Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него и сама улыбается и качает головой.
– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я ее однажды.
– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.
– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил… Да я на такого не наткнусь, Бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!
– Стало быть, вы никогда не полюбите?
– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.
Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, я с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда… но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это все одним именем – именем Зинаиды.
А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.
Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.
Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:
– Что с вами?
Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.
– Вы меня очень любите? – спросила она наконец. – Да?
Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?
– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Все мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить… И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело… Боже мой, как тяжело!
– Отчего? – спросил я робко.
Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее – и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад – и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно…
– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.
Я сел и прочел «На холмах Грузии».
– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду… Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдемте. У мамаши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь… что делать. Вы когда-нибудь узнаете… только не сердитесь на меня!
Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.
воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились.
Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»
X
Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал – и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена – это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался – или мне показалось, что я сделался, – чрезвычайно проницателен. «Не он ли? или уж не он ли?» – спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.
Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере, доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче – невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.
– Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек, – сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) – Вам бы надобно учиться, работать – пока вы молоды, – а вы что делаете?
– Вы не можете знать, работаю ли я дома, – возразил я ему не без надменности, но и без замешательства.
– Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю… в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?
– Я вас не понимаю, – заметил я.
– Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожица еще нежная; здесь для вас воздух вредный – поверьте мне, заразиться можете.
– Как так?
– Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо?
– Да что же я чувствую? – сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.
– Эх, молодой человек, молодой человек, – продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное, – где вам хитрить, ведь у вас еще, слава Богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)… если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?
– А что же такое делается? – подхватил я и весь насторожился. Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.
– Хорош же и я, – промолвил он, словно про себя, – очень нужно это ему говорить. Одним словом, – прибавил он, возвысив голос, – повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет? И в оранжерее тоже приятно пахнет – да жить в ней нельзя. Эй! послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова!
Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.
– Вот, – прибавила княгиня, – господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?
– Зачем вы это делаете? – спросил Лушин.
– А что из этого может выйти?
– Что? вы можете простудиться и умереть.
– В самом деле? Неужели? Ну что ж – туда и дорога!
– Вот как! – проворчал доктор. Княгиня ушла.
– Вот как, – повторила Зинаида. – Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом… Что – хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие – пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, – я уже о счастии не говорю.
– Ну да, – заметил Лушин, – каприз и независимость… Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.
Зинаида нервически засмеялась.
– Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь: вас дурачить, себя дурачить… куда как весело! – А что до независимости… Мсье Вольдемар, – прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, – не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют. – Она быстро удалилась.
– Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек, – еще раз сказал мне Лушин.
XI
Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.
Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.
– Но знаете ли что? – сказала она ему, – если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например… Вы не будете надо мной смеяться?
– Нет! нет! – воскликнули мы все в один голос.
– Я бы представила, – продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, – целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке – на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.
– Понимаю, понимаю, продолжайте, – значительно и мечтательно промолвил Майданов.
– Вдруг – шум, хохот, факелы, бубны на берегу… Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт… только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш – и золота, много золота.
– Где же должно быть золото? – спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.
– Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн – они не могут его продолжать, – но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается… Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются… Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту… Представьте тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу.
Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» – подумал я опять.)
– И только? – спросил Майданов.
– Только, – отвечала она.
– Это не может быть сюжетом для целой поэмы, – важно заметил он, – но для лирического стихотворения я вашей мыслию воспользуюсь.
– В романтическом роде? – спросил Малевский.
– Конечно, в романтическом роде, байроновском.
– А по-моему, Гюго лучше Байрона, – небрежно промолвил молодой граф, – интереснее.
– Гюго – писатель первоклассный, – возразил Майданов, – и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»…
– Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? – перебила Зинаида.
– Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев…
– Ну, вы опять заспорите о классицизме и романтизме, – вторично перебила его Зинаида. – Давайте лучше играть…
– В фанты? – подхватил Лушин.
– Нет, в фанты скучно; а в сравненья. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)
Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.
– На что похожи эти облака? – спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: – Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?
Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.
– А сколько лет было тогда Антонию? – спросила Зинаида.
– Уж, наверное, был молодой человек, – заметил Малевский.
– Да, молодой, – уверительно подтвердил Майданов.
– Извините, – воскликнул Лушин, – ему было за сорок лет.
Я скоро ушел домой. «Она полюбила, – невольно шептали мои губы. – Но кого?»
XII
Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась… все лицо ее было облито слезами.
– А! вы! – сказала она с жестокой усмешкой. – Подите-ка сюда.
Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.
– Больно… – проговорил я наконец.
– А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она.
– Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсье Вольдемар!
Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.
– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. – Это вас, быть может, утешит немного… а теперь прощайте.
Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того: помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme capable de tout[19]. Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку; я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..
Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон… Вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости… Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.
– Что это вы делаете там, на такой вышине? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.
Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.
– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться… Ведь я люблю тебя… встань.
Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг – что сталось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями… они коснулись моих губ… Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:
– Ну вставайте, шалун безумный; что это вы лежите в пыли?
Я поднялся.
– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так… что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня… Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она, словно про себя. – Ступайте домой, мсье Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда…
Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу… ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась, но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.
XIII
Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастие, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новый ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, – и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел… «Заговорить самому о вчерашнем деле, – подумал я, – спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно…», – но я только махнул рукой и присел в уголок.
Беловзоров вошел; я ему обрадовался.
– Не нашел я вам верховой лошади, смирной, – заговорил он суровым голосом, – Фрейтаг мне ручается за одну – да я не уверен. Боюсь.
– Чего же вы боитесь, – спросила Зинаида, – позвольте спросить?
– Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани Бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?
– Ну, это мое дело, мсье мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича… (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей.)
– Вот как, – возразил Беловзоров. – Вы это с ним хотите ездить?
– С ним или с другим – это для вас все равно. Только не с вами.
– Не со мной, – повторил Беловзоров. – Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.
– Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать.
– Скачите, пожалуй… С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?
– А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь, – прибавила она, – и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский – фи! – Она тряхнула головой.
– Вы это говорите, чтобы меня утешить, – проворчал Беловзоров.
Зинаида прищурилась.
– Это вас утешает?.. О… о… о… воин! – сказала она наконец, как бы не найдя другого слова. – А вы, мсье Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?
– Я не люблю… в большом обществе… – пробормотал я, не поднимая глаз.
– Вы предпочитаете tête-à-tête?.. Ну, вольному воля, спасенному… рай, – промолвила она, вздохнувши. – Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.
– Да; а деньги откуда взять? – вмешалась княгиня.
Зинаида наморщила брови.
– Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.
– Поверит, поверит… – проворчала княгиня – и вдруг во все горло закричала: – Дуняшка!
– Maman, я вам подарила колокольчик, – заметила княжна.
– Дуняшка! – повторила старуха.
XIV
На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию, но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве – взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму… «Другие для нее лучше меня, – думал я, – пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду, – и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.
Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение: «О Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке… Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза – и оба поскакали… Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей.