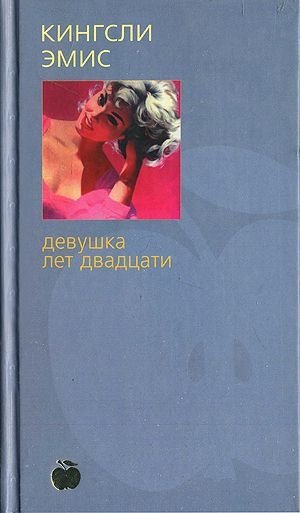
Глава 1
Империалист, расист, фашист
– Неужто этот малый и впрямь так хорош, как вы его расписываете? – спросил Гарольд Мирз.
– Вроде да. Может, и лучше. В том смысле, что пока еще трудно сказать определенно. На этой стадии нелегко оценить, насколько он…
– Вы технику его имеете в виду?
– Не только, – сказал я. – Просто… Он соображает, что играет. Сами увидите, я не…
– Разве не все музыканты соображают?
– Как правило, нет, уверяю вас!
– На то они и музыканты! – внезапно и как бы в удивлении произнес Гарольд. – Он, кажется, из Восточной Германии?
– Совершенно верно.
– Там самый отсталый, продажный и деспотичный режим на планете. Разумеется, не считая Черной Африки.
– Несомненно. Что не помешало этому Колеру сделаться классным пианистом. Могло бы, но не помешало.
– Настоятельно напоминаю вам, я не без оговорок согласился на музыкальную колонку. Теперь на концерты никто не ходит, покупают пластинки. Все домоседами заделались. Такая вот теперь у нас публика. Здесь по крайней мере. В Манчестере. В Бирмингеме. В кои-то веки материал публикуем! Сколько можно твердить, у нас не лондонская, у нас общегосударственная газета. Он еврей?
Гарольд говорил с обычной размеренностью и обычным своим тоном, при этом его кургузые ручки (с кургузыми предплечьями при кургузых же плечиках) застыли ладошками вверх на письменном столе и слабый солнечный луч покойно мерцал на его практически лысом черепе. Обычна была и манера разговора: несколько напрягать внимание и память собеседника. Одна фраза в самом деле заставила-таки меня здорово напрячься. Я и не подозревал, что у Гарольда были сомнения, когда пару месяцев тому назад он взял меня в газету музыкальным критиком, точнее, репортером музыкальной жизни. Тогда он уверял, что подобное новшество он лично задумал как первый прорыв в кампании по всеобщему подъему культурного уровня журналистики, лично отвоевав свое детище в суровой борьбе как с собственным патроном, так и с редактором текущих новостей и даже с лифтером. Глядя Гарольду в глаза в его просторном и по-современному убогом кабинете, я честно ответил на его вопрос:
– Не знаю!
– Надо ли пропагандировать всякий сброд? Например, что там раздули из истории, помните, с боливийским ансамблем песни и танца? Понаписали, как на концерт ворвались хулиганы, как их арестовывала полиция и все такое прочее, а что все-таки они играли-то? Всякую заумь вроде Телемана, или Прокофьева, или кого там еще?
– Они и Бетховена играли. Я был у этих боливийцев на репетиции; и не думаю, чтоб они в самом деле…
– Не надо в критике перебарщивать с похвалой! – Лучистый взгляд карих глаз Гарольда упал на мою рукопись, лежавшую прямо перед ним, и на мгновение показалось, будто он погрузился в чтение. – Мы не должны мешать искусство с политикой, – почти не прерываясь, продолжал он. – Это те мешают. Неужели вам не ясно, что малого пустили за границу только потому, что он верный и преданный слуга их кошмарного, возмутительного режима? Его ходячая пропаганда!
– Ясно или нет, к моим задачам это не имеет никакого отношения. Вы меня взяли, чтобы я отражал в прессе важнейшие явления музыкальной жизни, важнейшие с точки зрения музыкальных достоинств, а не всяких…
Один из телефонов Гарольда слабо затренькал, и Гарольд, подхватив трубку одной своей маленькой ручкой, другой махнул, чтобы я сел.
– Да! – произнес он фальцетом. – Да! Кто? Пусть оставит номер телефона, – и, положив трубку, сказал: – Хорошо-хорошо, но, может, все-таки не упоминать, из какой он страны?
– Просто указать, мол, немец и все?
– Вообще ничего о нем не говорить. К чему нам широко его рекламировать?
– Послушайте, Гарольд, если вы против стран Восточного блока, так и…
– Хорошо! – снова сказал он: ни раздраженно, ни с подвохом, просто без всякого выражения. – Хорошо! Не будем. Но, я считаю, надо поменьше специфических терминов. Не забывайте, пишете не для профессионалов.
– Могу я хотя бы упомянуть о смене темпа или пройтись насчет темы с вариациями, ведь это элементарно даже для…
– Идет! Звякните, как обычно, в районе полшестого в редакцию, вдруг придется слегка подсократить материал. Все! А звонили, между прочим, вам.
– Кто?
– Китти Вандер… дальше не разобрал. Не супруга ли сэра Роя Вандервейна, случаем?
– Похоже, что она.
– Должно быть, присуждение титула повлияло на него не лучшим образом. Похоже, служение музыке оборачивается прислуживанием премьер-министру.
– Что вы, Гарольд, он не такой!
– Ах да, ведь вы работали у него, верно?
– При его оркестре.
– Чудно! Ну, пока!..
В коридоре редакции я соединился по коммутатору с номером, оставленным Китти, сообразив или припомнив, что Вандервейны переехали на несколько миль к северу от Хэмпстеда, где я в последний раз навещал их год или больше тому назад, – и, по слухам, в весьма шикарный дом на окраине сельской части Хартфордшира. Примерно полминуты я пережидал гудки, потом где-то на том конце провода сняли трубку, однако привычного обращения не последовало. Вместо этого я услышал нечленораздельный вой, довольно громкий, хотя и не прямо в трубку, а также приглушенный мужской голос, утверждавший, что от этого воя можно с ума сойти. Вой слегка поутих, и последовал долгожданный вопрос:
– Алло! Да! Извините, кто говорит? – раздраженно произнес в трубку мужской голос. Судя по интонациям, принадлежавший цветному.
– Это Дуглас Йенделл. Мне звонила леди Вандервейн.
Я не удостоился ничего такого, из чего можно было бы заключить, что моя информация достигла цели; наступила пауза, вой сник до едва уловимого; наконец трубку взяла Китти:
– Дуглас, это вы?
– Я, Китти!
В этом начальном вопросе было столько стоически подавляемого надрыва, что вполне реально было ожидать его продолжением бурный всплеск типа: «Ах, слава богу, слава богу, ты жив, любовь моя, мое счастье, и, значит, я снова могу вернуться к жизни!» Однако я знал, что Китти всегда изъясняется с таким накалом, и за сим впрямь последовала всего лишь фраза, произнесенная с царственным укором, приправленным невыразимо глубокой скорбью:
– Мы не виделись целую вечность!
Возразить мне было нечего, и тут же с ходу, без всякой формалистики насчет того, какие я имею планы на остаток дня, Китти принялась подробнейше излагать, как добраться от меня до места, где находится она. Китти утверждала, что жизненно необходимо повидаться, в том смысле, что я ей очень нужен, а значит, без всяких разговоров обязан явиться как можно скорей. Что ж, может, заодно таким образом удастся повидать и Роя?
– А Рой дома? – спросил я, едва сумев вставить слово.
– Нет, его нет, сейчас нет. По правде говоря, как раз… – тут я мгновенно представил взгляд, который она горделиво бросает исподволь через плечо, – …как раз на этот счет мне необходимо с вами лично переговорить. По-моему, Дуглас, у него назревает очередное увлечение. Если уже не началось…
– Он что, сам сказал?
– Нет, я это поняла!
– Неужели снова по белью?
– Именно! Надо же, вы помните!
– Как же, как же!
Такое забудешь! Не вонючка от природы, Рой не был и каким-то отъявленным чистюлей, за исключением тех случаев, когда устремлялся или же только-только погружался в одно из своих «увлечений», как именовала Китти его любовные похождения. За годы их случившейся в 1961 году женитьбы Китти выучилась определять эту фазу по стопочке трусов в его бельевом ящике. Внезапное и мгновенное похудание этой стопочки, сопровождаемое равно внезапным шквалом назначаемых в неурочное время и вне дома интервью с иностранными журналистами, безрезультатными встречами с представителями компаний грамзаписи и т. п., являлось для нее сигналом к началу очередного «увлечения». Несколько лет назад, когда я еще служил секретарем при оркестре, постоянным дирижером которого был Рой, Китти доверилась мне. Из соображений чисто мужской солидарности я походя намекнул тогда Рою про такой его явный прокол, о чем, видимо, он, в отличие от меня, уже успел позабыть. А может, не забыл? Разве такое забывают?
Слушая и отвечая Китти, я обдумывал свое положение. Как раз полдень. Я планировал прогуляться до Флит-стрит, пропустить в «Эль вино» пару стаканов пива под бутерброды с копченой лососинкой, затем приятно провести дневные часы у себя дома, прослушивая новые записи, на которые предстояло написать рецензию в журнал «Проигрыватель», потом не поздно поужинать в «Бьяджи» и, наконец, посетить на южном берегу довольно рядовой концерт из произведений Баха и Генделя. И еще, как всегда, вернуться (а может, и нет) к работе над своей монографией о Вебере, чтобы вырваться наконец за пределы главы «Юные годы». Однако ощутимого внутреннего сопротивления призыву Китти я не испытывал. Странно, но я всегда оказывался уступчив перед мощным давлением проблем Вандервейнов, хотя в данный момент что-то подсказывало мне не вмешиваться. Расспрашивать Китти по телефону, чем ей помочь, повлекло бы за собой кучу беспрерывных, еще минут на двадцать, патетических недомолвок. Я сказал, что приеду немедленно, поинтересовавшись из чистого любопытства:
– Откуда вы узнали, где я сейчас работаю?
– Ах, это Гилберт! В таких делах он просто чудо!
– Кто такой Гилберт?
– Сами увидите.
Я уж было повернулся уходить, но редактор текущих новостей, толстяк Коутс, спросил, заходясь отчаянным кашлем:
– Что босс?
– Будто ты не знаешь?
– Знаю-знаю! Просто интересно твое мнение. Немного подумав, я сказал:
– Как бы ты назвал мастера от всего отмахиваться и ни в ком не видеть ничего хорошего?
– Я бы сказал: дерьмецо, но я-то мужик простой! Он что, колонку твою снял?
– Пока не снял. Снова в политику ударился.
Коутс сделал затяжку и жестоко закашлялся. Казалось, толстяк не уловил никакой связи между двумя вышеуказанными действиями. Откашлявшись, он сказал:
– Слабо из греческих полковников сваять симфонический оркестр и с этим заявиться? Тут бы ему и крышка! Увидимся на будущей неделе, если я доживу.
Проехавшись по Стрэнду на автобусе номер одиннадцать, я сел в метро на поезд в направлении Норт-Вестерн. Когда поезд грохоча выбрался из тоннеля позади Голдерс-Грин и апрельское, теперь более щедрое солнышко принялось высвечивать наугад убегавшие назад деревья и кусты, а также временные на вид постройки, я погрузился в размышления по поводу увлечений Роя.
Их нынешний цикл начался, должно быть, года через четыре после его женитьбы, которая тоже в свою очередь была результатом застоявшегося увлечения, так как последовала за разводом Роя с его первой женой. Когда мы в последний раз виделись с Китти, она говорила, что дела у них все хуже и хуже, в том смысле, что девицы у Роя с каждым разом все моложе и чудовищней, а Рой с каждым разом увязает все глубже и глубже, и я чувствовал, что так оно и есть. В ту пору Рой как раз только что возвратился домой, весь уикенд – впервые за второе супружество – проведя с некой особой, назвавшейся актрисой и певицей, хотя никто и никогда не видел и не слышал ее ни в одном из названных качеств. Китти утверждала, будто живет в жутком страхе, что Рой буквально в любой момент может уйти, причем насовсем, и что пребывает в полном отчаянии, чему бы я с готовностью поверил, не имей она обыкновения представлять все свои проблемы в виде нагромождения кошмаров и не повергай ее каждый раз в прострацию запаздывание женщины, прибирающей в доме. И все же, мне кажется, я понимал переживания Китти в ее сорок шесть или сорок семь и никак не мог понять, почему Рой, дожив почти до пятидесяти четырех (через неделю он станет старше меня ровно на двадцать лет), с каждым годом впадает во все большую дурь, так что на его примере сложно утверждать, будто с возрастом люди становятся мудрее.
Поезд остановился у дальнего конца платформы, я сошел в числе других немногочисленных пассажиров. Следуя указаниям Китти, позвонил из автомата у входа на станцию и доложился, теперь уже женскому (хотя, может, и не женскому) голосу, что прибыл. Мне было велено направиться вперед по шоссе и идти, пока меня не подхватит автомобиль. На вопрос, как я выгляжу внешне, я вполне честно сообщил, что ростом шесть футов, рыжий и в очках. И пошел, сперва круто вверх, затем вниз по сельскому шоссе, миновал садик с искусственным водоемом, на глади которого колыхалось множество раскрашенных гипсовых уток.
Но вот показался огромный, блиставший хромом автомобиль и, поравнявшись со мной, резко притормозил. За рулем сидел молодой чернокожий в строгом черном костюме, белой рубашке и при галстуке, и в тот же миг меня осенило, что это и есть Гилберт и что это его голос отвечал мне по телефону. Я уселся на сиденье рядом с ним. Не удостоив меня взглядом и не ответив на мое приветствие, чернокожий водитель развернул машину и стремительно газанул с места.
– Какой прекрасный автомобиль! – сказал я. – Ваш?
– Полагаете, тупой черномазый может заработать на эдакий символ благосостояния?
– Раз уж вы сами обмолвились, не скрою, было б удивительно.
– Это автомобиль Роя, если вам угодно.
– У него превосходный вкус!
Мы свернули в сторону, поднялись по пологому холму и влились в магистраль, по одну сторону которой сначала живописно тянулся лес, потом выгон, а по другую изредка мелькали большие виллы.
– Откуда вы? – полюбопытствовал я.
– Из Лондона.
– Ах вот как!
– Вам не все равно?
Посреди выгона возник пруд, на сей раз настоящий, и машина свернула с шоссе к внушительного вида дому с гипсовыми вазонами и огромными кустами рододендронов перед ним. Помнится, Рой говорил, что купил этот дом за одну свою песню: ну да, как же, ораторию – для смешанного хора, большого симфонического оркестра и органа. В этот момент я обнаружил, что автомобиль стоит перед деревянными, выкрашенными голубой краской воротами, а мой попутчик сидит рядом, не двигаясь с места.
– Вы хотите, чтобы я открыл ворота?
– Если, конечно, не боитесь замарать свои нежные пальчики.
– Рискну!
Я открыл ворота и вступил на мощеный двор, обрамленный деревцами весьма заморенного и худосочного вида. Едва я сделал шаг, как по дому разнесся дикий лай, временами перемежающийся каким-то захлебывающимся скрежетом. Я узнал голос Пышки-Кубышки, принадлежавшей Вандервейнам рыжей суки кавалер-спаниеля. Мне всегда казалось несколько странным, что человек с такими политическими взглядами, как Рой, может терпеть рядом с собой, больше того, именно обожать такое реакционное существо в собачьем обличье: деспотичное, чувствительное к иерархии, высокомерное, утверждающее приоритет семьи, заведенный порядок, презирающее перемены, отстаивающее неприкосновенность собственности, а также, как я вскоре обнаружил, непреложность расовых барьеров.
Непосредственный объект последнего из предрассудков стремительно въехал во двор и резко остановился, словно перед невидимой рытвиной на своем пути. Хлопнул дверцей, подошел ко мне и сказал:
– Вы – империалист, расист и фашист!
– Помилуйте, с чего вы взяли?
Последовало упоминание о моей работе в газете, редакцию которой я не так давно покинул.
– Ну и что из этого?
– Это рассадник крайне расистских и колониалистских взглядов!
– Пусть так, но я же не штатный сотрудник, просто регулярно пишу для газеты. А называть колониалистской музыку, это уж что-то…
– Пока вы работаете на эту газету, знайте, иначе, как фашистом и всем отсюда вытекающим, вас никто и не назовет!
– Что ж, придется с этим смириться!
Несмотря на вышепроизнесенное, пока тон Гилберта был на удивление далек от враждебности. В особенности последнее замечание, казалось, содержало чисто назидательный подтекст. Но внезапно в выражении его лица, на мой взгляд в чем-то более европейского, чем африканского, а также в его тоне, в целом дружелюбном, послышался вызов:
– Неужели вас вовсе не уязвляет, что вас назвали фашистом?
– Нисколько! Пусть зовут хоть коммунистом, хоть буржуа, хоть кем угодно. Видите ли, мне на все это совершенно наплевать.
Гилберт уставился на меня, явно обескураженный:
– Так ведь это же главные темы нашего времени!
– Вы хотите сказать, вашего времени! Основные темы моего – мои собственные интересы, преимущественно из сферы музыки. Не пора ли нам войти в дом?
В сопровождении притихшего, с побитым видом Гилберта я прошел через застекленную веранду недавней пристройки со свалкой поношенных старых пальто, старой вешалкой на одной ноге и множеством пустых бутылок из-под вина и виски. Дверь выводила в коридор. Открылись ближняя и дальняя лестницы, а также прибитая к стенке пустая плексигласовая коробка с наклейкой «Фонд в помощь антиапартеиду». Сперва возвещая о себе, а затем сопровождая свое появление истошным лаем и рычанием, из-за угла, цокая коготками, явилась Пышка-Кубышка и завертелась под ногами. Склонившись к ней, я отметил, что с момента нашей последней встречи она еще более разрослась в пышку-кубышку (только с приросточками сосков). Псина то ли признала меня, то ли сочла, что я, по ее представлениям, свой, ибо, оборотившись на Гилберта, слегка рыкнула. Я мог бы заверить его, что, как бы собака свирепо ни лаяла, она в жизни никого не укусит, однако на Гилберта, несомненно, все еще шарахнутого моими откровениями, казалось, ее рык произвел устрашающее воздействие. В этот момент появилась Китти и, поздоровавшись со мной, более или менее незамедлительно собаку прогнала. Мы прошли в гостиную с огромным, во всю стену, окном в глубине и с роскошным старым концертным творением Швандера, «Блютнером», – чуть правее центра. На диване сидели, беседуя, молодой человек с девушкой. Юноша взглянул на меня, дернул головой то ли в приветствии, то ли подавляя отрыжку, отвел взгляд, и лишь тогда я узнал в нем Кристофера, двадцатилетнего сынка Роя. Девушка в платье – я бы даже не сказал «как у», именно «в платье» – гувернантки времен королевы Виктории и головы не подняла.
– Узнаешь, Кристофер, – это Дуглас Йенделл! – сказала Китти. – Дуглас, познакомьтесь – Рут Эриксон.
Молодой человек явно – на сей раз уж вне всякого сомнения – кивнул. Молодая особа глянула на него, потом на меня, снова на него в каком-то заторможенном испуге. Лицо Китти выразило немой призыв ко мне не судить о молодежи слишком строго по первому взгляду.
– Привет! – сказал я. – Как тебе Нортэмптон? Я намекал на тамошний университет, вдохновляясь своей попыткой блеснуть памятью.
– Да ну, обычное дерьмо! Ничего особенного.
– Что изучаешь?
– Я? Социологию, политику, экономику и социологию… антропологию то есть.
– Ага! Звучит впечатляюще и, гм, масштабно! – Я силился не допустить старческого дребезжания в голосе, чего эта парочка, несомненно, от меня ждала. – Вы тоже там учитесь?
– Нет! – отрезал Кристофер на вопрос, который я адресовал Рут.
– Ах так!
– Дорогой, – вставила Китти, улыбаясь и моргая, – если хочешь успеть показать Рут до обеда наш сад, тебе следует поторопиться!
– Угу, потороплюсь!
И эти двое возобновили свой еле слышный разговор. Китти потащила меня к окну, откуда открывался вид на скользящие вниз лужайки, на залитую солнцем кирпичную изгородь с деревьями вдоль нее и дальше – на огромные деревья, кедры всяких разновидностей. Совсем вдалеке крыши домов городка довольно скорбно проглядывали над верхушками дальних деревьев. В ближайшем поле зрения повсюду валялись детали для игры в крокет.
– А Гилберт где? – бросил я небрежно.
– Знаете, на самом деле он совсем не такой, каким кажется, – сказала Китти, подтверждая истину, что не всем эгоистам свойственно отсутствие наблюдательности. – Он считает, что вести себя надо только вызывающе. Иначе его запрезирают друзья. Скорее даже белые, чем черные. Он ужасно милый, стоит узнать его поближе.
– Это приятно!
– Он, должно быть, вернулся наверх к Пенни и Эшли. Они изумительно ладят.
Я исключительно зримо представил себе Пенни, старшую дочь Роя от первого брака; скажем прямо, если бы я обладал хоть малейшим даром рисовать, я смог бы в тот миг сделать легкий набросок внешнего очертания ее грудок, которые как-то раз безуспешно попытался потискать в такси в промежутке между концертом Роя и приемом в Хэмпстеде. Насчет Эшли дело обстояло совсем иначе; то было относительно недавнее произведение Роя и Китти, его я видел мельком всего однажды и успел совершенно позабыть, какой он из себя. Что и попытался скрыть.
– Ему, э-э-э, сейчас, должно быть, года четыре?
– На днях исполнилось шесть!
Взгляд, брошенный Китти на меня, отразил сложные чувства, и трудно было понять, относится она к своему единственному отпрыску со смесью гордости и рабской признательности или же с чувством вины и страха. Тут она не без энтузиазма предложила:
– Не хотите ли осмотреть дом?
– Может, после? – рискнул я с надеждой избежать этого испытания. – Хотя… гм, внешне он просто великолепен. Должно быть, недешево вести такое хозяйство?
– Мы управляемся. Знаете, Дуглас, Рой просто кошмарно много сейчас зарабатывает. Он поистине достиг вершин. Ну, разумеется, уже многие и многие годы он пользовался уважением в музыкальном мире, но сегодня сделался фигурой государственной важности, по высшему счету. Причем не снизив своих художественных критериев.
Тут юная пара с дивана, видимо решив, что они выдержали достаточно времени, чтоб не показалось, будто ушли, едва их попросили, встала и удалилась. Китти немедленно метнула на меня пронзительно многозначительный взгляд, но, так же быстро погасив его, заметила, что неплохо бы выпить. Когда я запротестовал, умоляющим голосом заверила: чтобы выложить все, что накипело, ей просто необходимо чего-нибудь выпить, а пить одна она не может, или не должна, или не будет, или что-то в этом роде. Я заикнулся насчет пива, и Китти вышла.
Мне было приятно видеть и слышать, что у Роя все обстоит прекрасно. Он того заслуживал, особенно в «музыкальном мире», где так редко можно заработать себе даже на ежедневное пропитание. Более сомнительным представлялось то, что этот мир когда-либо питал к нему уважение, однако Роя неизменно, хоть и со скрипом, признавали добросовестным профессионалом. Ему удавалось и со средненьким оркестром добиться большего исполнительского блеска, чем иным дирижерам, превосходившим его в смысле музыкальности, и все за счет собственного обаяния, а может, и за счет определенной толики добродушной ругани во время репетиций, подпаивания активистов, а также всяких прочих хитростей. Его так и не получившая должного признания карьера в качестве скрипача-солиста оборвалась рановато, хотя не слишком давно он предпринимал достойные похвал выступления, исполнял Моцарта или Вивальди на благотворительных и тому подобных сборищах. Кроме того, Рой был, а может, и остался, как утверждали злые языки, композитором околорахманиновской ориентации, хотя, на мой взгляд, подобная локализация отнюдь не зазорна. Его собственные произведения исполнялись не часто, если не считать Nocturne, сладковатого, из ранних, опуса для скрипки, струнного оркестра и ксилофона, а также двух-трех новинок того же, если не более раннего периода. Где-то году в 1950-м Nocturne перевоплотился в популярную песню, а совсем недавно обрел новую жизнь, если не сказать тягучее бытие, преобразившись в досадно отличную от популярной – в поп-песню. И в качестве последней, должно быть, немало содействовал увеличению суммы заработка Роя до устрашающих размеров.
В пору нашего наиболее тесного знакомства Рой как раз пытался предстать композитором, причем самого серьезного толка. Но уже тогда было очевидно, что по времени он чуть-чуть запоздал с демонстрацией вершин своего вкуса и таланта. Кое-кто считал, что Вандервейн отлично бы вписался – и, как мне всегда казалось, не просто благодаря имени – в эпоху, когда композиторы в Англии имели преимущественно неанглийские фамилии: Делиус, Хольст, Ван Дирен, Мэран, Руббра. Однако Рой возродил к жизни добрую половину музыкантов следующего поколения, но опять-таки характернейшим для себя образом не смог полностью вписаться и в него по причине англизации своей фамилии, произведенной его дедом ван дер Вейном по прибытии в Англию из Роттердама столетие назад. (Иногда Рой горячо отстаивал англизацию своего имени, порой огорчался и грозился все восстановить, – все зависело только от его настроя, вовсе не от того, как воспринимали или не воспринимали его соотечественники.)
Не успел я пуститься в мысленные рассуждения насчет нынешнего уровня художественных критериев Роя, как вернулась Китти, неся мне пиво, а себе бокал, содержимое которого по виду напоминало разбавленный на глазок джин. При ближайшем рассмотрении Китти показалась мне слегка сдавшей со дня нашей последней встречи, несмотря на то что еще оставалась привлекательной в своей румяной, не в моем вкусе, упитанности. Наверное, она была просто измотана и взвинчена – взвинчена гораздо сильнее и круче, чем обычно. Поношенная линялая ковбойка и грязноватые джинсы – на той, кому к завтраку надлежало разряжаться не иначе как Марии Стюарт, – свидетельствовали о тяжелом моральном состоянии их обладательницы. А сухость истончившейся кожи в уголках глаз говорила уже о процессе необратимом.
Мы уселись рядышком на диване, освободившемся после ухода Кристофера и бессловесной особы женского пола. Подавшись ко мне, втянув голову в плечи и, как боксер в низкой защитной стойке, выставив вперед кулак со сжатым в нем стаканом и сигаретой меж пальцев, Китти начала рассказ:
– После вашего звонка я просмотрела трусы на полке. Их оказалось определенно на три пары меньше, чем в конце недели. Но что меня крайне ужасает, так это открытость, с которой все делается. Ведь он знает, что на мне стирка и все такое прочее. Должен же он понимать… Он даже как бы не прочь, чтобы я знала! Хочет, чтобы я знала. Бравирует этим. Буквально перед носом моим размахивает! Демонстрирует, до какой степени меня ненавидит! – выкрикивала она еле слышно, подтверждая в привычных для нее красках уже зародившееся у меня предположение.
– Не думаю! Он поступает так без всякой задней мысли…
– Почему же тогда не купит пару трусов и не переоденется где-нибудь? Нет, вы ответьте… ответьте! – угрожающе наседала на меня Китти. – Что ему мешает купить в магазине пару новых и надеть, скажем, в своем клубе? Ну, скажите, что?
– Китти, я не знаю! Просто ему это не приходит в голову. Его это не заботит.
– Господи, как бы мне узнать, кто она! Или нет, не надо. Особенно после той художницы-ювелирши!
– А что, у него еще и художница-ювелирша была?
– Специалистка по поясам, браслетам и всяким этим штучкам. Да вы, должно быть, слыхали. Он возил ее в Глайндборн, в Ковент-Гарден, в Олдборо,[1] повсюду. Это-то меня и спасло. У них уже все было готово, чтобы ехать в Байрейт,[2] а она только под конец узнала, что это за место.
– В каком смысле?
– Про Байрейт. Что это Вагнер! Опера! Музыка! Клянусь, Дуглас!
– Сочувствую. Где же он сейчас?
– Спросите что-нибудь полегче! – И Китти продолжала, изображая интонацией курсив, зримо помечая кавычки, жирный шрифт и заглавные буквы: – На каком-то деловом обеде, сам не знает где, ведь и тот, с кем он обедает, этого точно не знает, и имя его Рой не помнит, потому что как-то сложно произносится, но у этого непонятно кого есть кое-какие соображения по поводу предстоящего турне в Бразилию, которые Рою кажутся, наверное, даже наверняка, малостоящими, но все равно надо же выслушать человека, да к тому же тот платит за обед, который неизвестно сколько продлится, и так далее…
– Ясно. Похоже, что и в самом деле…
– Я не против, чтоб Рой иногда имел увлечения. Наверное, это ему необходимо. Или он думает, что необходимо. Ведь не он же девиц тащит в постель.
– Не он? – как и положено, переспросил я.
– То есть да, разумеется, он тоже… В общем, хоть для меня все это – ножом по сердцу, я сумею с этим примириться. Но что меня повергает в кромешный ужас, так это мысль, что он уйдет совсем!
– Но сейчас, конечно же, ничто этого не предвещает? Этот ужин, разговор о Бразилии. Он действует в высшей степени не нарочито. Во всяком случае, пытается действовать. Не похоже, будто собирается в очередной раз в Байрейт…
– Это все впереди! Ах, дорогой Дуглас, я знаю все наперед! Видите ли, я сама через это прошла. Изучила по собственному опыту.
– Он и вас возил в Байрейт?
– Вроде того. Словом, я с ним поехала. Это была моя победа. После первой его жены я оказалась лучшей слушательницей его рассказов о музыке. Так явственно помню: он наигрывает на рояле всякие фрагменты, потом это прослушивается в записи. А когда он брал меня с собой на концерт, я узнавала знакомые темы и репризы, ну и так далее… Впрочем, почему бы мне не помнить? Ведь прошло всего-навсего лет десять.
Глаза Китти наполнились слезами, хотя такое с ней случалось частенько. Неужели Рой и в самом деле женился на ней потому, что она умела слушать?
– Скажите, Китти, вам и в самом деле это нравится? Музыка, я хочу сказать…
– А как же, конечно! – официально-сдержанно отозвалась она. – Я обожаю музыку. Всегда обожала.
– Ну и… Скажите, вы что-нибудь знаете об этой новой девице? Сколько ей лет?
– Ничего я о ней не знаю, только в последние годы у него стали появляться двадцати-двадцатидвухлетние. С годами они все юнее. Похоже, с каждым его лишним десятком будут становиться вдвое моложе прежнего. Когда ему стукнет семьдесят три, начнет заглядываться на десятилетних.
Прикинув в уме, я отметил, что, пожалуй, последнее наблюдение Китти при определенных посылках верно. Мне показалось невероятным, чтобы человек, способный поставить именно эти посылки во главу угла и затем подвести их к соответствующему «логическому» выводу, мог (что в случае с Китти было очевидно) представлять себе финал исключительно в трагических и неприглядных тонах.
– И когда стукнет восемьдесят три – на пятилетних? – испытующе поинтересовался я.
– Вот именно! – согласилась она, обрадованная, что я внемлю ее логике.
Продолжать я не стал.
– Собственно, я говорю, если ему нужна ученица, не там ищет. Это поколение совершенно музыкой не интересуется. За исключением чересчур пресных любительниц лошадей, а также строчить по списку открытки к Рождеству. За нынешними молодыми Рою не угнаться.
– Возможно, в его возрасте учить музыке не так уж важно, – сказала Китти и как бы походя спросила: – Скажите, поп – это музыка?
– Нет! Так все-таки, чем я могу помочь? Я готов, но не совсем себе…
– Милый, милый Дуглас! Первым делом разузнайте, кто она такая и…
– Но ведь вы сказали…
– …и насколько далеко это у них зашло, а потом мы сможем наметить кое-какой план действий.
– Но это же шпионаж! А что за план?
– Я не против, чтобы вы сказали Рою, что я просила вас переговорить с ним об этому. Убеждена, вы сделаете все возможное, чтобы его образумить, разве вы не согласны, что глупо ему кидаться на прыщавую дикарку-малолетку? Ведь это же просто преступление, это так ужасно для всех: для меня, для детей и, разумеется, будет для него самого, когда она ему надоест, и еще, например, для молоденького виолончелиста, в ком он принимает такое участие, для стольких людей, которые находятся на его попечении, для всех, по отношению к кому у него есть обязательства…
Ну да, до кучи – и для этих, которые ведут переговоры начет разоружения!
– Наверное, вы правы. То есть, конечно же, правы; я тоже так считаю. И все же не вижу, как могу я или вообще кто-либо остановить его, если он решил.
– Но если вы что-то этакое разузнаете, чтобы в конце концов можно было…
Из глубин верхнего этажа послышался, быстро нарастая, какой-то беспокойный гул, слагавшийся из бессловесного, уже слышанного мною в телефонной трубке воя, громкого, захлебывающегося скрежетом лая Пышки-Кубышки, раздраженных реплик Гилберта, какого-то четвертого голоса, а также топота многочисленных ног. Китти вскочила, на несколько мгновений приняв облик жертвы грядущего артобстрела, затем переместилась на, похоже, заранее подготовленные позиции. И тут в комнату, все громче и визгливей заходясь ревом, ворвался мальчишка в ладненьком бархатном костюмчике бутылочно-зеленого цвета и уткнулся к ней в колени: насколько я понял, то был Эшли Вандервейн. Следом за ним явился Гилберт с последующей перебранкой. В процессе выяснилось, что Эшли удирал от Гилберта всего-навсего затем, чтобы заручиться поддержкой матери в отстаивании за собой чего-то – то ли одиннадцатого за день шоколадного батончика, то ли бутылки с соляной кислотой, – чему гнусно противился Гилберт.
Но особо в суть я не вникал, так как мое внимание было целиком приковано к Пенни Вандервейн, также представшей в общей группе, – и главным образом к ее груди, обозреть которую особого труда не составляло, в том смысле, что она хорошо просматривалась в глубоком V-образном вырезе темно-коричневой, с пестрым шотландским рисунком кофточки, или рубашки, или, может, даже пижамной блузы. Грудь Пенни поражала не столько своей величиной, сколько своей чрезвычайной выпуклостью, и еще тем, что торчала высоко и была какая-то монолитная, так что, казалось, ткни ее пальцем, и упрешься во что-то жесткое, как в коленку. Именно так: грудки ее походили на пару коленок изумительной формы, обтянутых новенькой первоклассной нежнейшей кожей. Теперь я отметил, что крепились они на довольно высокой, с длинными руками и ногами фигурке, увенчиваемой аккуратно подстриженной головкой с личиком, поражавшим глазами удивительной широты и голубизны.
Последние скользнули в ответ на мой пристальный взгляд, на мгновение задержались на мне, не отражая ни малейшего узнавания и даже с меньшим любопытством, чем пассажир в лифте уделяет своему попутчику. Что из того: мне уже было ясно – вот она, причина мгновенно вспыхнувшего во мне любопытства, едва Китти утром пригласила ее посетить. Однако было так же очевидно, что мне предстоит ждать долго, может быть бесконечно долго, того момента, когда можно будет изложить Пенни свои соображения насчет ее грудей.
Заключенный в материнские объятия, Эшли, засунув большой палец одной руки в рот, растопыренными большим и указательным другой – жеста в такой комбинации, ей-богу, я ни у кого доселе не встречал – размахивал в воздухе. Он вынул изо рта большой палец, только чтобы сообщить матери, что Гилберт его стукнул. Гилберт это отрицал, и я ему поверил, однако Пышка-Кубышка, порыкивая на лодыжки Гилберта, придерживалась явно иного мнения. Китти разрешила эту проблему тем, что увела сына из комнаты в сопровождении собачонки, увязавшейся вслед за ними.
– Вы воспитываете мальчика в нездоровом духе, – заметил Гилберт.
– Насчет его воспитания – это не ко мне! – отозвалась Пенни своим вывернутым выговором, точнее, совмещая худшее из по крайней мере двух диалектов.
– Похоже, это никого не интересует. Игрушки, подарочки, конфетки, мороженое. Почему он сегодня не пошел в школу?
– Не захотелось – не пошел.
– Надо было заставить! Ему еще шесть, его пока винить нельзя. Что можно ожидать от ребенка, которому позволяют спать в родительской постели!
Пенни повела плечами, что благотворно отозвалось колыханием верхней части ее торса, и вот уж было повернулась в мою сторону, но передумала и сохранила прежнее положение.
– Я Дуглас Йенделл! – произнес я, решив, ведь надо же с чего-то начать.
Криво усмехнувшись, Пенни бросила:
– Знаю!
Гилберт устремил на нее осуждающий взгляд и не отрывал, пока Пенни взгляд не перехватила. После чего мне сказал:
– А я – Гилберт Александер!
И протянул руку, которую я пожал.
После тяжкого минутного колебания я спросил у Пенни:
– Как ваш отец?
– Кирюха-то? Прекрати идиотничать, Гилберт, не выставляй себя чистоплюем, это всего-то допотопный шантанный жаргон. На самом деле никакой он не кирюха. Нет, папаша вполне молодцом, по птенчикам ударяет, чтоб взбодриться.
Издав негодующий возглас, Гилберт покинул комнату.
– Правда, обхохочешься с этими? – Пенни начала уделять мне прямо-таки преувеличенное внимание. – Гляди, какой аристократ! Этот даже в постели малость версаль изображает. Правда, поначалу, когда мы только сошлись. С тех пор здорово поднаторел. Знаешь, у него такой прибор! Клянусь, в полном порядке!
Меня слегка взволновало то обстоятельство, что Пенни взяла на себя труд выдворить Гилберта и тут же с ходу применила, на мой взгляд, запрещенный прием – ниже пояса, хотя я вполне отдавал себе отчет, что другой на моем месте мог бы воспринять это как поощрение к действию. Я прикидывал, что это: просто так или безупречный инстинкт. Канув взглядом в глубину ее голубых глаз, я твердо решил, что инстинкт.
– Дико рад за тебя! – сказал я весело. – Что ж у Роя за птенчик на сей раз?
– Без понятия. Зелененький. Это она вас сюда зазвала, чтоб… как это… повлиять на него?
Я смекнул, что теперь речь о Китти.
– Она мучается.
– Да ты видал когда, чтоб она не мучилась? Такая натура. Такая, старик, идиотская натура! Наверное, и этого сопляка, Эшли, родила, чтоб прибавить себе мучений. Чуть что – трагедь! Понятно, что этот за птенчиков принялся, – продолжала Пенни в своей навороченной манере. – Потом все этой выложит, и опять по-новой. Не сомневайся, теперь тем же кончится. Прямо скажем, никаких особых волнений.
– Ты с ними живешь?
– На халяву, – ответила она на мой мысленный вопрос.
– Ну а Гилберт? Он что, тут живет или так?
– Ну, он считает, что здесь.
– А ты как считаешь?
Она снова пожала плечами, поймала мой взгляд и придвинулась чуть поближе.
– А ты где живешь?
– На Мейда-Вейл. У меня там квартира.
– Один?
– В настоящий момент, к сожалению, да.
– Угу!
Пенни прикрыла позелененные веки.
Даже абстрагируясь от ее похвал в адрес физических достоинств Гилберта, я прекрасно понимал, что меня ждет на этом этапе, однако есть ситуации, когда приходится с копьем бросаться на броневик. Раздались шаги, кто-то приближался к нашей двери по дощатому, не покрытому ковром коридору.
– Можно тебя как-нибудь пригласить к себе? – спросил я.
– Нельзя! – отвечала она, расплываясь в улыбке и качая головой. И повторила: – Нельзя!
Вошла Китти, не только всем видом, но и голосом смахивавшая на человека, только что перенесшего допрос в тайной полиции. Сказала, что можно, если угодно, отобедать вместе со всеми, и мы отправились в гостиную. Я раздумывал про себя, с чего это у Пенни ко мне такая неприязнь: ведь не из-за того же, что пару лет назад я тискал ей грудь. Она, то есть грудь, наверняка с тех пор обрела надлежащий опыт в таких вещах. И еще, я чувствовал, здесь дело посложней, чем просто настороженное отношение ко мне как к возможному союзнику мачехи. Не исключено, что я просто противен ей сам по себе. Затем я подбодрил себя мыслью, что мне решительно необходимо, пусть формально, из чистого тщеславия, возобновить свой приступ, памятуя о непреложной истине, что, чем дольше оставлять девушку без внимания на первом этапе, тем дороже это обойдется впоследствии, когда дойдет до дела.
Я проследовал за дамами через комнатушку с множеством паровых котлов, баков, труб и иного сопутствующего оборудования в очередное помещение.
– Пригнитесь, Дуглас! – предупредила Китти как раз в тот самый момент, когда я с размаху пришелся лбом о притолоку.
Обожгла резкая боль. Спустившись на пару ступенек вниз, мы оказались в просторной и величественной кухне с видом во двор. Присутствующие в целом отреагировали на приключившееся со мной несчастье – Китти бесконечными аханьями и прикладыванием мокрого кухонного полотенца к моему лбу; Гилберт довольными взглядами в процессе доставания из буфета и расставления посреди накрытого стола всяких бутылочек с соусами и баночек с чатни и маринадами; пожилая прислуга участием и сочувствием; Рут и Пенни соответственно с тайной и явной насмешкой. Лишь Кристофер остался безучастен, спешно и шумно нагружая снедью и посудой на двоих свой поднос. Каковой мгновение спустя в сопровождении Рут и вынес из кухни; прислуга вскоре также покинула комнату, восприняв выражение признательности со стороны Китти как знак очистить помещение. Таким образом, за столом остались лишь Китти, да я, да Гилберт, да Пенни. Гилберт находился при исполнении, протягивая тарелки с супом, передавая мясные закуски и салат, извлекая из кладовки, исторгавшей дыхание Арктики, жестянки с пивом. У женщин осведомлялся, не хотят ли чего, при помощи слов, у меня – при помощи вздымания бровей или подбородка, а иногда и того и другого одновременно. В ответ на приказание Китти поведать мне о своих занятиях изрек в весьма, если так можно выразиться в данных обстоятельствах, учтивой манере, дескать, является работником сцены (вероятно, передвигает туда-сюда декорации, домыслил я) и что почти закончил работу над книгой о проживании выходцев из Вест-Индии в Лондоне.
– Роман? – осведомился я.
– Ни в коем случае! Культура, вызвавшая к жизни роман, умирает. Нечто по форме более свободное от традиционных рамок и вместе с тем более смелое. Близко к музыке и изобразительному искусству. Я постепенно осваиваю трактовку книги как некой «Лондонской сюиты», трехцветной и в трех частях.
Я подумал про себя, если он еще только в процессе осваивания, стоило бы, пока не поздно, остановиться, однако удержался, чтобы произнести это вслух.
– Книга в целом автобиографическая?
– Считаю вопрос бессмысленным. Мы способны воспроизводить только то, что чувствуем, или испытываем, или переживаем в жизни.
Пока я, не вполне осознанно, пытался совместить его высказывание со звучавшей увертюрой к «Поэту и крестьянину» Суппэ, Китти полюбопытствовала:
– В ней есть сюжет?
– Сюжет! Ритм! Персонажи! Пластика! Форма! Мелодика! Композиция! – припечатал Гилберт столь патетически, что никак нельзя было разобрать, то ли он издевается над этими понятиями, то ли утверждает, что в его «Лондонской сюите» этого всего – сколько душе угодно. Похоже, Китти, как и я, осталась в недоумении. Вид сидевшей по другую сторону от меня Пенни свидетельствовал, что та с момента своего появления на свет никогда и ни по какому поводу недоумения не испытывает.
– А какие у тебя планы на ближайшие дни, Пенни? – с трудом выдавил я из себя.
– Жаль, тебе не видно, какую ты себе на лоб здоровую впендюрил шишку! – Смех Пенни прозвучал весьма непринужденно, даже как-то обаятельно-наивно. – Так и торчит, прямо накладной носина! Вот умора!
Гилберт прищелкнул языком, а Китти обескураженно и с осуждением произнесла:
– Пенни! – и тут же добавила: – Она учится в колледже домоводства, это…
– Ни в каком собачьем колледже, никакого домоводства! Бросила, ясно? Никуда не хожу. Завязала. Хотя чего было вязать-то. Теперь полная свобода. Не делаю ни-че-го.
В голосе Пенни, можно сказать определенно и без всяких сомнений, прозвучала только холодная ярость. Глаза тоже злобно блеснули, хотя взгляд не был направлен ни на кого конкретно. Почувствовав, что к этому обеду душа у меня как-то не лежит, поскольку привык днем перехватывать что-нибудь легкое, я принялся раздумывать, как бы удрать. Но тут заметил, как чья-то тень мелькнула в окне и как кто-то направился к застекленной веранде, но кто именно, я разобрать, не смог. Через мгновение откуда-то из глубины дома послышалось громкое мужское пение, сочные гортанные звуки лились, как бы подражая валлийскому говору, хотя в замысел исполнителя это, очевидно, не входило:
Музыканты в большинстве своем глуховаты к произнесению или звучанию слов, а многие и к мелодике текста, однако для Роя, который столько раз в моем присутствии пел эту песню и в этой самой манере, характерно утрированное «англис-с-ски» вместо «английский» как бы содержало намек на тех, кто произносит наши слова так, как они пишутся. В самом деле, это все приближавшееся и приближавшееся к нам, сидевшим за столом, пение производилось в явно издевательски-обидной, уничижительной манере, хотя вряд ли Рой предполагал, будто в его отсутствие в дом тайно просочились обладатели вокального стиля, который он в данный момент пародировал. Однако ярость к отсутствующим и зачастую воображаемым врагам составляла часть его сущности. Разумеется, самым очевидным объяснением такой выходки было стремление рассмешить, если бы не тот факт, что нередко подобное в его исполнении никто, да и сам он, как шутку не воспринимал. Аналогичный ход рассуждений мог привести к предположению, что это просто рисовка. Скорее всего, Рой просто забавлялся, не более, привыкнув, должно быть, – дитя уже немолодых родителей, явившееся на свет младшим в подростковом коллективе сестер и братьев, – так забавляться с детских лет. Но почему Рой именно в данный момент завел песню про «англис-с-с-ки садик»? Заострить внимание на своем нежданно раннем возвращении домой еще до фактического появления, почти так, как однажды проделал Джонас Чеззлвит, совершив проступок куда серьезней, чем тот, на который мог отважиться Рой.
Дверь в кухню отворилась, и вошел Рой, большой и неуклюжий, в двубортном пиджаке с широкими лацканами, который в соответствии с последней модой производил странноватое впечатление, весьма и весьма смахивая на короткое пальтецо, в рубашке о двух тонах с переливом и ворсистых брюках в очень широкую полоску. Внешне он не изменился, все то же лицо, казавшееся всегда монолитным слепком: прямой, внушительного вида нос, полные губы, острый, слегка покатый подбородок, – похожая физиономия частенько встречается средь фото знаменитостей 30-х годов, в особенности актрис; это сходство сейчас, отметил я с некоторой озабоченностью, подчеркивалось небрежной короткой стрижкой, которой подверглись его густые, темные, без тени седины волосы. Решительно ничего актрисоподобного в Рое быть не могло, при всем том, что повсюду такого у нас было в избытке, – Рой был мужчина до мозга костей; однако сегодня я смотрел на него, испытывая легкий внутренний дискомфорт, которого, клянусь, никогда прежде не ощущал. В руке Рой держал большой бокал с напитком коричневатого цвета.
Рой, по крайней мере внешне, изобразил крайнюю радость при виде меня и тут же выразил глубокую, хотя и непродолжительную озабоченность видом моего лба, хотя мог бы сосредоточиться на этом подольше, дабы нивелировать собственную моральную неловкость. Китти и Пенни молча и внимательно слушали подробный рассказ Роя о том, как бразилец внезапно почувствовал недомогание, вызванное приступом, – в этом месте Рой недоуменно фыркнул, – какой-то болезни от какого-то тропического микроба, подхваченного этим малым во время путешествия по Амазонке. И я с грустью подумал: дойдет ли до Роя когда-нибудь, что выдавать объяснения, полагая их убедительными на том основании, что те слишком очевидны и неизобретательны, чтобы считаться придуманными, – типичная мужская ошибка, которую многие успевают изжить еще до завершения среднего образования. Очередное появление Эшли, на сей раз в пижамке и в сопровождении Пышки-Кубышки, спасло Роя от семейного скандала. Тут отец и сын с неаполитанской – по крайней мере со стороны отца – страстью слились в объятии; вскоре сынок принялся вырываться из рук папаши, любопытствуя, что тот ему принес. Тотчас подношение было извлечено из огромного накладного кармана пиджака-пальтеца – миниатюрная пожарная машинка с, как тут же обнаружилось, пронзительнейшей сиреной. Мальчишка принялся забавляться с машинкой на полу под столом, прямо у нас под ногами. Гилберт, не преминувший продемонстрировать свое неодобрение происходящим, осведомился у Роя, успел ли тот отобедать.
– Нет, разумеется! Я тут же со всех ног поспешил домой, – с серьезным видом отвечал Рой. – Но вы на мой счет не беспокойтесь – мне совсем чуть-чуть чего-нибудь!
– Как же ты добирался домой от станции? – спросила Китти, впервые открыв рот с момента появления мужа. Голос ее прозвучал откуда-то издалека, как будто она сидела много дальше всех.
– А?
– Как… ты добирался… домой… со станции?
Она как бы сплевывала пережеванные куски, тряся головой, точно церковный голубь.
– Как добирался? А пешком. Славный денек! Что-нибудь на перехват, Гилберт, спасибо. Кусок говядины попостнее в самый раз. А после – можно этих, как их, баночных ананасов и слив, если есть. И порядок!
Когда мы только познакомились, у Роя был легкий северный акцент, который неизменно исчезал, преображаясь в речь английского школьника в те нередкие моменты, когда на него находило возбуждение. Сообразив, вне всякого сомнения, на неком промежуточном этапе самосознания, что такая несуразность слишком очевидна даже для непритязательного слуха иных преуспевающих социалистов, с кем Рой проводил большую часть своего времени, он, должно быть, решил переключиться на новую небрежную манеру разговора, сочтя ее наиболее легкой для воспроизведения, более насущной в политическом смысле, а также похожей на ту, которой изъясняется молодежь.
Не произнеся более ни слова, дамы удалились в сопровождении Гилберта, успевшего поставить перед нами на стол досточку с нарезанными сырами. С преувеличенной страстью Рой принялся уплетать мясо с салатом. Затем сказал:
– Не могли бы вы задержаться чуть-чуть? Кое-что надо с вами обсудить. Хотел просить, если возможно, об одной услуге.
– Вообще-то я уже завербован Китти в программу содействия ей.
Стул Роя тряхнуло от врезавшейся пожарной машинки.
– Черт! Круто! – рявкнул он, как бы перекрывая вой сирены и яростный лай Пышки-Кубышки.
Я мотнул головой:
– Не хотелось, чтоб вы решили, будто я действую за вашей спиной.
– Да нет, отчего же! Надо сказать, до меня дошли слухи, что к вам намерены обратиться. У нас в доме всем все про всех известно, даже если что-то скрывается. Что, мой номер не слишком удачно прошел? Я про Амазонку и все прочее.
– Прямо скажем, не блестяще.
– Я было решил, что версия – высший класс. Хотя не мне судить. Разве они способны хоть чему-нибудь поверить! Вы только подумайте, лечу как идиот со всех ног в родное гнездышко и, опоздав к обеду, давлюсь холодным мясом и всякой этой отравой, принимаюсь лебезить перед бабами, вместо того чтобы деликатесничать в своем клубе или где-нибудь в Сохо, а под утро заявиться домой пьяным в стельку в половине шестого! Видали идиота? Уж лучше был бы совсем в другом месте и занимался совсем другим делом. Отлично выглядите, Даггерс. Если не считать лба. Кошмар. Ну что, как жизнь?
– Средне. Как всегда, в погоне за средствами.
– От кого-то я слыхал, будто с Энн вы расстались?
– Она вернулась к мужу. Ради детей.
– Бред! Ну почему люди так поступают? Такая тоска! Невыразимая тоска. И все потому, что читают книги и смотрят сериалы по телевидению. Кто бы помыслил, чтоб вернуться, если бы годы и годы кругом постоянно не твердили, что возвращаются все, – даже не что следует возвращаться, а просто: все возвращаются. Это так угнетает. До сих пор. И что, есть замена?
– Частичная, – сказал я, прикидывая, прилично ли нагнуться, чтобы одернуть или ущипнуть Эшли, который бесконечно крутил своей пожарной машинкой вокруг передней ножки моего стула. – Она живет на противоположном берегу реки, так что на дорогу к ней уходит довольно много времени.
– Прекрати, Эшли!
– Отвали, сучий потрох!
Я выслушал эту ремарку с затаенным восторгом, предвкушая последствия. Рой по праву славился своим умением давать отпор любому нахалу, будь то всемирно известный музыкант-солист, навязывающий ему свое непререкаемое мнение насчет rubato, или наглый официант. Однако я буквально остолбенел, когда Рой безмятежнейшим тоном предложил Эшли подойти, сесть к нему на колени и съесть совершенно особенную шоколадку, которую Рой ему принес. Данное указание было выполнено. Пышка-Кубышка, теперь отпускавшая с ближайшего кресла в мою сторону томные взгляды, многозначительно тявкнула.
– Ах ты, глупая старая придворная собачина-спаниелька! – сказал Рой, а мне добавил: – Там около вас стоит сыр. Не дадите ли ей вон тот кусочек чеддера? Нет, не такой большой, только порежьте меленько и проследите, чтоб она ела не лежа. Ух ты, смешная старая кляча!
Собака ела, наклонив голову и по-прежнему поглядывая на меня; маленькая, зато прожорлива, как боров.
После некоторого подозрительно затянувшегося раздумья Рой произнес:
– Разумеется, мы с вами диаметрально противоположно относимся… ну… к таким, как Энн, и вообще. Ведь вас никогда сильно не притяаугивало, да? (Я близко к оригиналу воспроизвожу протяжность, с которой он это слово произнес, коверкая в стиле, чтимом и популярном в данный момент.)
– Хотите сказать, что вас притянуло?
– Его вечно кто-нибудь притяаугивает, – немедленно вставил Эшли. – Мамочка говорит, сотню фунтов бы отдала, чтоб узнать, кто на этот раз.
– Мы говорим о мистере Йенделле, дорогой!
– Угу! – отозвался мальчишка точь-в-точь как его сводная сестрица.
– Может, нам лучше бы… – начал я было.
– Нет-нет, все нормально. Так как насчет вас? Притяаугивает или нет?
Я хотел было сказать, что – то ли в силу природных качеств или врожденной предусмотрительности, то ли в силу внутренней черствости, трусости или удачливости – я считаю, что до сих пор сумел избегнуть наиболее опасных, по крайней мере, симптомов подобного притяаугивания. Однако Рой, по-прежнему задумчиво, продолжал гнуть свое:
– Никогда не мог понять, что все-таки ищут люди, подобные вам.
– Ничего я не ищу. Во всяком случае, ничего, кроме того, что подворачивается само собой, если ты холостяк и обладаешь кое-каким темпераментом и имеешь собственное жилье.
– Вы не собираетесь жениться?
– Не собираюсь. Во всяком случае пока.
– А может, и вообще?
– Не знаю.
– Боитесь ответственности?
– Если угодно. К тому же это недешево.
– Возможно, все просто зависит от вашего физического склада.
– Что именно?
– То, что вы ищете.
Не прерываясь, он сжал одной рукой оба запястья Эшли, успев вовремя спасти его костюмчик от обмазывания значительной массой шоколада, и потащил отпрыска к кухонному крану, где и принялся трудиться над грязнулей с помощью полотенца, ранее обвивавшего мою голову. В процессе этой деятельности он избавил себя от необходимости встречаться со мною взглядом.
– Я хочу сказать, Даггерс, меня всегда изумляло, черт побери, до какой степени вы всеядны, сами понимаете, в каком смысле. Большинство…
– Послушаешь вас, я будто их коллекционирую. Просто подхватываю первую попавшуюся. Как повезет, какие возможности, только и всего…
– Понятно, понятно! Я просто хотел сказать, и с этим вы не можете, стоит вам хоть каплю напрячься, не согласиться, что, пожалуй, большинство мужчин предпочитает какой-то определенный тип…
– …птенчиков! – подсказал Эшли, уже явно обретший свободу движений и голоса.
– А ну цыц, маленький мерзавец! – вскинулся Рой, вновь обретая долю утраченного достоинства. – Так вот, гм, сами прекрасно знаете, иным нравятся высокие, другим коротконогие, или там блондинки, или… в общем, ясно. С вами все не так. С вами совершенно невозможно понять, что именно вы предпочитаете. – Он произнес это серьезным тоном и вид при этом имел также серьезный. – Я даже не могу определить ваш основной критерий, именно основной. – Старательным взмахом он завершил работу над умыванием Эшли. – Скажем, как вы оцениваете прелести малышки Пенни? Ну, что она…
– Бросьте, Рой! Не знаю, на что вы намекаете, но бросьте! Даже слышать ничего такого не хочу.
– Ваша реакция мне совершенно непонятна, – заметил он холодно. – Я просто спросил. Ладно. Ну что, маленький бандит, – произнес он, тиская сынка, – что, маленький хулиган, что нам теперь с тобой делать? Пойдем-ка мамочку поищем, а?
Мы быстро обнаружили мамочку в гостиной, где она то ли слушала, то ли просто тихо замерла под пластинку Майлза Дэвиса. Гилберт с хозяйским видом сидел у граммофона, что отлично дополняло эту уютную стихийную атмосферу отчаяния и ненависти. Пенни жестом профессионала-антиквара брала и уплетала шоколадные конфеты, почитывая книжку в мягкой обложке: кажется, стихи, во всяком случае, не прозу. Сбыв с рук Эшли, который с виду так изрядно насытился шоколадками, что даже на время позабыл про свою пожарную машину, Рой повел меня в сопровождении Пышки-Кубышки в сад.
– Раздевалки! – махнул он рукой на какие-то сарайчики.
– Это для будущего бассейна?
– Точно!
– Рой, а что за услуга?
– Услуга?
– Вы сказали, что хотели просить меня об одной услуге.
– Ах да! Просто так, потерпеть мое общество и болтовню. Приятельское общение. В этом доме мне и поговорить-то практически не с кем.
– Вот как? Тоже мне услуга!
Рой завел меня в сарай, забитый пустыми картонными коробками и досками, собранными здесь для какой-то уже забытой цели.
– Хотел переоборудовать эту хибару в лабораторию музыки.
– До или после бассейна?
– Послушайте, Даггерс, да не будьте вы таким мещанином! Хотите вы или нет, а времена меняются. Согласен, Вебер чертовски хорош, но он едва ли так современен, как Веберн. Этот смог бы выдать такое, отчего бы вы так и присели, если бы его не прикончили янки.
– К черту вашу современность, к тому же он умер от несчастного случая, к тому же в возрасте шестидесяти трех лет, к тому же присесть…
– Верди было за восемьдесят, когда он…
– …Если присесть, неловко накренясь, можно громко пукнуть! Рой, прекратите, снова за старое!
– Все, умолкаю!
Мы вышли из сумрачного сарая и направились по невзрачной аллее, там и сям усыпанной сухими ветками. Тени мягкими полосами покрывали ее. Пышка-Кубышка, носом в землю и слегка повиливая вытянутым до упора хвостом, трусила меж придорожных кустов.
– Как вы теперь, присаживаетесь за клавиатуру? – спросил Рой.
– На концертный уровень едва ли потяну, но раз в неделю почти весь день провожу за фортепиано.
– Может, попозже сегодня сбацаем чего?
– Что-что?… Ах, ну да… Конечно, было бы великолепно!
– Как насчет ре-минорной Брамса?
– Тут необходимо соответствующее настроение.
– Ну что ж, тогда подберем что-нибудь менее притязательное. Моцарт – есть возражения?
– Напротив, с радостью! Да, пока не забыл, ради бога, прекратите вы свои штуки с трусами!
Тут я принялся излагать ему проблему, причем не жалея подробностей, чтобы сэкономить время, и лишая его возможности медленно и туго входить в суть вопроса и все такое прочее.
– Чертово гестапо! – произнес он, когда я умолк.
– Китти недоумевает, почему бы вам не купить лишнюю парочку, и, должен признаться, не могу с ней не согласиться. От стольких хлопот бы себя уберегли…
– Ну да, чтобы торгаш-мерзавец крякал: «Не угодно ли еще чего, сэр Рой? Может, дезодорантик или упаковочку пилюлек от импотенции?» А все это дурацкое телевидение. Клянусь, половина моих бед оттого, что никогда не знаешь, какая скотина и где тебя узнает. Всего лишь накануне вечером пробираюсь я по одному жилому кварталу в… неважно где, как вдруг из окна высовывается идиот привратник и орет: «Лифт не работает, сэр Рой, боюсь, придется вам подниматься по лестнице!» Не соблаговолите ли, черт бы вас подрал! И все из-за моих прошлогодних концертов по лондонскому телевидению. Из-за них и еще этой, чтоб ее, дурацкой викторины. Господи, зачем только я позволил себя уболтать в ней участвовать!
Тут я был с ним солидарен, хоть по иным и, возможно, более шкурным соображениям. Однако вслух заметил:
– Если вы считаете, хотя я этого не разделяю, что покупка пары трусов может внушить подозрение, покупайте дюжину. Или же боитесь, этот тип заподозрит, что вы развлекаетесь с дюжиной девочек кряду? Ну и пусть его! Не понимаю, вам-то от этого что?
– Не могу я повсюду таскать за собой дюжину трусов!
– Так и не нужно! Оставьте в своем клубе.
– Это исключено!
– Тогда хотя бы…
– Не желаю больше это обсуждать!
Аллея оборвалась, упершись в калитку о пяти металлических прутьях, за которой было видно поле с двумя беспородными лошадьми посредине. Видимо, Рой посчитал, что его политический престиж пострадал бы, если бы я решил, что лошади принадлежат ему. И он принялся пояснять, что это не его лошади, что те принадлежат тому-то и тому-то. Я же принялся размышлять, а не содержит ли в конце концов воинствующая теория Китти насчет трусов некоего в себе резона. Всякий, кто знал Роя, мог бы ожидать, что в ответ на мое предупреждение в нем возникнет тягостное чувство вины, слегка приправленное смущением, только не эта увертливость, граничащая с вызовом. Кроме того, мысль о неясной услуге не давала мне покоя. Вероятно, в тот момент я не был в подходящем состоянии, чтобы переходить к подробностям, и Рой ждал момента, когда мое сознание притупится похотью, алкоголем или страхом перед грозящим угасанием чувств, преимущественно похоти: тут как раз пришлась бы к месту тема Пенни. Я решил рискнуть, для его же блага, и подвести его к сути поближе, раз уж ему так трудно сдерживаться, и первый запустил в ход пешку:
– Если для вас покупка пары трусов сродни маскировке типа накладной бороды, как же вы с вашей пассией появляетесь на людях?
– Вовсе нет! Нигде я с ней не появляюсь. Вы что, считаете меня полным идиотом?
– Ну и как же тогда? – спросил я в надежде, что он не станет сопротивляться и ответит на этот вопрос.
– Никуда носа не показываем. Иногда прихожу к ней на квартиру, хотя возникает немало проблем с ее соседкой. Чем дальше, тем больше. Или одалживаю у кого-нибудь ключи. Но это по-своему тоже нелегко. У меня мало знакомых с квартирами, к кому можно обратиться с такой просьбой, большинство также знают Китти и, стоит мне заикнуться, начинают корчить из себя почтенных британцев. Притом те, к кому я обращаюсь, как правило, болтуны. Просто до странности все так нелепо сходится.
В философической печали Роя потянуло вбок по заросшей тропинке, наши ноги по щиколотку увязали в толще нападавших листьев.
– Если в этом проблема, то… в общем, прошу ко мне в любое время, только предупредите заранее. А рот свой я, как вам известно, умею держать на замке.
– Большущее спасибо, Даггерс, буду иметь вас в виду, – сказал Рой так, что мне стало совершенно ясно, смысл услуги вовсе не в том, чтобы просто выслушивать все эти его откровения, и угасшие дурные предчувствия с новой силой зашевелились во мне.
– Сколько ей лет?
– Девятнадцать.
– Ну надо же! – воскликнул я больше из восхищения перед прозорливостью Китти.
– А что такое?
– Да нет, все, собственно, в порядке, хотя, по правде говоря, поражает столь юный возраст.
– А что такого? Я бы просил по возможности оставить вашу вечную привычку все расставлять по полочкам. Всякие разговоры о разнице между поколениями не более чем выдумка прессы, радио и телевидения, а также янки. Вы, верно, даже не представляете себе, что такое молодежь в полном смысле слова. Понятия не имеете, какая она, что у нее в голове, на что она способна.
Дорожка сделала поворот и устремилась подъемом по направлению к дому. Мы брели к нижнему каскаду лужаек, земля под ногами была мягковата. Я наслаждался и садом, и воздухом, и солнцем, однако ни на шаг не продвинулся в определении смысла услуги. Тем не менее снова рискнул:
– Так вы это о ней или о молодежи вообще?
– О них обо всех. Она так много открыла мне, о чем до нее я даже не подозревал.
– Да что вы говорите! Что же именно?
– Ах, да все… умение чувствовать, умение видеть.
– Надеюсь, на ваш слух она не оказала влияния?
– Ну вас, Дуглас! Да-да, она обожает поп; все они обожают. И если вглядеться попристальней – именно в лучшее, что там есть, а это не «Херманз Хермитз», а, скажем, «Лед Зеппелин», – то здесь можно обнаружить на удивление приличную музыку. Только, по-моему, это все не для вас.
– Не для меня.
– Философская школа!
Я узнал эту фразу: к ней Рой прибегал в патетический момент в качестве скабрезоподавителя или ради выдрючивания. Тот факт, что при этом он в любой компании не гнушался употреблять, притом в избытке, явные непристойности, натолкнул меня на мысль, что данный его возглас был произнесен не из стыдливости, а, скорее, был отголоском детской еще привычки, изначально возникшей как следствие домашнего или школьного запрета. Если же подозревать выдрючивание, значит, это выражение когда-то в прошлом вызвало в нем раздражение, что в некоторых случаях определяется довольно точно. Скажем, сочетание слов «философская школа» само по себе могло всплыть где-то в процессе образования; еще одна его любимая фразочка, «спортивный дух», восходила к более раннему периоду. Как я установил путем исследования, «правоверный христианин» – было любимое прозвище генерала Франко эпохи Гражданской войны в Испании, и я частенько представлял себе, как Рой, лишенный всякой возможности активно сопротивляться, выдает в сердцах этот эпитет с больничной койки в Барселоне, где провалялся с приступом аппендицита и последующими осложнениями осенью 1937 года, – таковым оказалось его пребывание в этой стране, не считая пары часов по приезде и пары при отъезде.
Выдержав паузу, Рой продолжал:
– Она и джаз тоже любит. Она в нем слышит иное, не то, что мы, и все же любит.
– Рад за нее. Так кто она?
– Не из вашего круга, – сказал Рой, интонационно подчеркивая своеобычность подразумеваемой особы.
– И все же должен вам заметить: неплохо для мужчины, гм, для мужчины вашего…
– Для старого петуха вроде меня завести и плести амуры с крошкой девятнадцати лет?
– Именно. Я бы даже больше сказал. Не просто плести амуры, но делать ее счастливой, даже не выходя с нею на люди, без всяких вечеринок или шикарных ресторанов, не теша ее самолюбие явлением там и сям в обществе сэра Роя Вандервейна. Такого прежде с вами не бывало, – верно, Рой? – чтоб скрывать тайну от всех, кроме домашних. Китти мне говорила…
– Тут обстоятельства особые.
– Несомненно. Но, должно быть, ваше девятнадцатилетнее создание само по себе необыкновенное, особенно учитывая нынешний стандарт, если она примирилась с тем, что ее держат вот так взаперти. Если только у нее нет кого-то еще, кто выводит ее в свет?
Мы добрели до самой верхней лужайки и двинулись по ней по направлению к внутреннему дворику. И тут внезапно, но как-то машинально Рой развернулся и зашагал в направлении, откуда мы шли. Я устремился следом, убежденный, что настал момент раскрытия сути услуги.
– Вовсе она не примирилась. С каждой новой встречей все настойчивей выговаривает мне за то, что я ее прячу. Теперь она в любой момент может отказаться лечь со мной в постель, если я не выведу ее на люди. А этого мне никак нельзя. Во всяком случае, выходить только вдвоем.
– Стало быть, вы предлагаете, чтобы мы выходили вчетвером, вы, она, Пенни и я под видом того, что она – подруга вашей дочери, а я приятель подруги вашей дочери, который по счастливой случайности оказался вашим старым приятелем. Очень мило. К тому же так удобно!
Он даже не оценил моей сообразительности.
– Это единственное, что можно придумать. Я уже был в полном отчаянии, если бы не ваше внезапное появление в нашем доме. Понимаете, она меня сегодня выставила, и все из-за этого самого. Дьявольская нервотрепка!
– Я нахожу, что Гилберт гораздо больше бы вам подошел. Он нравится Пенни. По-моему. Ну и потом, гм, и возраст более подходящий, и вообще.
– Я уже к нему обращался.
– И он вам отказал?
– Категорически. Сами знаете, эти… молодчики способны корчить из себя истинных пуритан. Вот вам результат, мы сами начинили их пошлой фрондерствующей идеологией, чтоб заткнулись и не мешали их спокойно эксплуатировать.
– Насколько я знаю, немало таких, кого не затронула эта идеология.
– А Гилберта затронула. Он содействовать отказывается.
Рой яростно пнул ногой уже почти сгнивший крокетный мяч и затих в ожидании бесконечного шквала возражений с моей стороны.
– Это нелепо!
– Возможно, для вас на этом этапе это звучит довольно-таки нелепо. Но если вы, прежде чем вынесете свое решение, обдумаете мое предложение, как я надеюсь, то увидите, что в нашем случае это вовсе не будет выглядеть нелепостью, даже в глазах общих знакомых, поскольку мы можем попасть именно в их поле зрения.
– Но я буду нелепо себя чувствовать!
– Вы постепенно привыкнете.
– Гилберту не понравится, что я увлекаю его девушку в вылазку, которую он уже заклеймил как аморальную.
– Вылазка всего одна. Нет, ей-богу, Даггерс, я вам обещаю! Дайте мне просто передышку. И что нам Гилберт? Что он, за вами с Пенни с ножом погонится? Он не из таких.
– Пожалуй, с ним все ясно. Ну а Пенни? Она же меня не выносит!
– Ах, оставьте, все они выламываются одинаково! Сами знаете, им все по фигу. Надеюсь, вам известно это выражение? Отправится как миленькая, если я… подкачу к ней должным образом.
– Вы собираетесь подкупить свою дочь, чтобы та против воли своего друга и за спиной у мачехи стала прикрытием для вас и вашей любовницы, намерившихся вместе на людях провести вечер?
– Фу-у, «любовницы»! Окститесь, сэр. Какой подкуп! Гилберту даже полезно, если его слегка бортанут. Ну а мачехе насолить Пенни будет даже приятно.
– Не надо ее втягивать, не надо ставить ее в такое положение!
– Глядите-ка, еще пуританин объявился! Нет, клянусь, вы не так поняли. Поверьте, меня не трогает даже, как Пенни относится к Китти. Не любит, и пусть. Она, Пенни, как раз из тех, что, насолив, станет даже лучше к ней относиться. Ладно. Я понимаю, что выгляжу как порядочная дрянь, а может, именно порядочная дрянь я и есть, и меня от всего такого воротит. Но что поделать, я влюблен в это удивительное маленькое создание, и пусть это ничего не оправдывает, но вы не можете себе представить, с каким нетерпением я жду каждого следующего дня и как неистово меня тянет работать, а такого не случалось со мной уже многие годы, уверяю вас! Видите ли, все это так, к юным должен быть особый подход, выдержка и понимание, потому что они молоды и агрессивны и иначе смотрят на мир, только бедные старые развратники моих лет требуют того же подхода, да что там, нам это необходимо, когда начинаешь привыкать к мысли о смерти или о старости. Таким, как вы, пока беспокоиться не о чем. Вы в самом расцвете сил. Эх, если б остановить время! Ну да хватит об этом. Как насчет К-четыреста восемьдесят первой?
– Это что, ми-бемольная? – подхватил я.
– Угу. Пошли!
Он увлек меня в дом, в гостиную. При виде нас Кристофер с Рут почтительно встали и удалились. Осталась лишь Пенни, покончившая с шоколадом, однако продолжавшая читать свою книгу или, по крайней мере, делавшая вид, что читает, пока мы с Роем бренчали, разыгрываясь, и не встроились наконец в ногу с Моцартом. Но вот во время непритязательного аккомпанемента я углядел, что с момента, как мы начали играть, Пенни застряла на одной и той же странице. Очень немногие женщины из непрофессионалок проявляют интерес к музыке, и мысль о том, что такая девица, как Пенни, втайне, возможно, поклонница музыки, изумила меня настолько, что я чуть было не напортачил со скромненьким бравурным пассажем, поджидавшим впереди. С этого момента я старался изо всех сил, и мы завершили первую часть воистину вполне достойно.
– Прекрасно, черт возьми! – похвалил Рой. – Отлично сработано, старина. Видно, что перед этим вы зря времени не теряли.
– Вы тоже!
– Рад, что старался не зря! Я довольно много упражнялся последние пару месяцев. И в результате, гм, ощущение полноты жизни.
– Планируете публичное выступление?
Я явно попал в точку, однако внутренняя аварийная служба Роя сработала немедленно:
– Что вы, где уж! Просто так играю, для личного удовлетворения. Возможно, предстоит осенью одно благотворительное мероприятие, но это пока еще неопределенно. Непонятно, где я к тому времени окажусь.
Пенни перевернула страницу, чем привлекла к себе внимание Роя.
– Слушай, Пен, прошу, обрати внимание на то, что мы сейчас сыграем. По-настоящему здорово. Непонятно, почему эту вещь так мало знают! Совсем коротенькая.
Трудно придумать более яркий посыл к выдворению. Направившись к двери, Пенни буркнула, мол, надо пойти помочь Китти, что, на мой взгляд, было уже чересчур.
– Скажите, пожалуйста, какие мы чувствительные, а? – заметил Рой, когда Пенни исчезла. – Ну, как к такой подступиться!
– А Гилберту не удается?
– Наверное, кое в чем удается, только от этого менее колючей она не сделалась. И все же винить ее в этом не стоит, правда?
– Это почему же?
– Виновато наше чудовищное общество, черт бы его побрал! Что хорошего оно может предложить натуре хоть сколько-нибудь яркой, творческой или… Знаю, вы скажете, что тут уж, разумеется, ничего поделать нельзя.
– Меня это просто не волнует.
– Именно! Так что, продолжим?
Следующая медленная часть получилась у нас менее удачно, главным образом потому, что в отсутствие Пенни мое освободившееся внимание сосредоточилось на мысли об услуге и на том, соглашаться мне или отказать. Любопытство, как водится, подсказывало положительный ответ. Активней всего протестовало во мне предчувствие невыносимости этого совместного вечера. Сегодняшнее поведение Пенни усиливало это ощущение. За меня решило появление Китти в момент нашего приближения к финалу. Нет!
Китти так восхитительно старалась нас не сбить, не потревожить наше музицирование – сжав губы, прикрыв в упоенности музыкой глаза, она достала шкатулку, открыла ее, вынула шитье, развернула и принялась за работу, – что нам с Роем стоило немалого труда не превратить финальные такты в сплошную кашу. Закончили мы более или менее одновременно. Китти свернула свое шитье и захлопала нам, по-детски сложив ладошки вместе, а не скрестив под прямым углом.
– Как жалко, что я поздно пришла и не слыхала с самого начала! – произнесла она томно, демонстрируя весь драматизм несбывшихся желаний.
– Что-что? – Рой приложил руку к уху, то ли не расслышав, то ли распознав ее тактику с томностью в голосе.
– Говорю, жалко, что поздно пришла и не слыхала с самого начала! – рявкнула Китти, уже не заботясь о качестве звучания.
– Ну, спасибо!
Рой спрятал в футляр свой страдивариус. Китти, шея у которой сделалась как бы длиннее, чем мгновение назад, снова развернула свое шитье. Я поднялся и окинул взглядом гостиную: высококлассный проигрыватель, сервант красного дерева с мраморным верхом, едва проглядывавшим средь частокола бутылок, пара гигантских, фантастического вида лилий, несколько жирных фарфоровых котов, дешевые портретики в рамочках с ликами Че Гевары и Хо Ши Мина, нагая совокупляющаяся парочка и прочие характерные атрибуты времени.
Китти за моей спиной произнесла (вполне явственно):
– Скажи, милый, ты говорил с Эшли насчет ванной?
– Насчет чего? – переспросил Рой.
– Я спросила, говорил ли ты с Эшли.
– Это я понял! О чем, я имею в виду. Об «говорил» я слышал.
– Насчет ван-ной…
– Так что насчет ванной?
– Милый… – Китти говорила так вяло, что, казалось, вот-вот начнет клевать носом. – Не поговоришь ли ты с Эшли об этом?
– Да слышал я, слышал! Надо поговорить с ним о ванной! Но что, собственно? Черт побери… о чем именно в связи с ванной ты хочешь, чтоб я с ним поговорил?
– Ну же, милый! Чтоб он не писал в ванной. Вот о чем я прошу тебя с ним поговорить. Если ты не против.
Рой издал рык наподобие волчьего, выражая этим запоздалое понимание:
– Ах вот оно что! Ты хочешь, чтоб я поговорил с Эшли о том, что он писает в ванной!
– Именно так! – произнесла Китти голосом, вобравшим в себя все: и сморщившийся от напряжения лоб, и подернутый слезой взор и натянувшуюся на скулах кожу.
Наступила пауза; Рой так долго кивал, что меня впервые в жизни охватило смятение: неужто человек, сумевший прослушать всю от начала и до конца Восьмую симфонию Брукнера, не сможет в данном случае найтись, чтобы хоть что-нибудь сказать. Наконец Роя прорвало:
– Ну и что?
– Как что? Скажи ему, чтоб не писал!
– Уже говорил, он продолжает.
– Используй свой авторитет!
– О чем ты? Какой авторитет? Мы ведь условились, что не будем его наказывать, обратного пути нет. Я даже представить себе такое не могу! Нет, в самом деле, что я ему скажу? Это не риторический вопрос, уверяю тебя. Я действительно желал бы это знать.
– Можно мне позвонить? – спросил я.
– Ну разумеется, дружище!
Рой проводил меня по коридору в свой кабинет и вышел. Это была небольшая комната с кое-какой звукоизоляцией, недостаточной, однако, для поглощения доносившихся сверху слабых завываний и увесистых шлепков. Для отбора и размещения здесь различных предметов потребовалась фантазия, и немалая, я бы даже сказал, незаурядная: фотографии Брамса и Кастро, бюстики Бетховена и Мао, издания Хатчингса фортепианных концертов Моцарта, а также трактатов Маркузе о свободе, афиша концерта Никиша 1913 года и плакат антиамериканской демонстрации 1969 года. Я позвонил в авиакомпанию, где работала некая Вивьен (и где, между прочим, я с ней и познакомился), и условился, что заскочу за ней домой после концерта, поскольку это, к счастью, неподалеку, и мы поедем куда-нибудь ужинать. Во время разговора мой взгляд упал на нотную рукопись, лежавшую на миниатюрном пианино в конце комнаты, и, повесив трубку, я с любопытством поспешил на нее взглянуть.
Это была незавершенная рукопись в семь страниц, исписанных рукою Роя: квартет или камерный концерт для скрипки и соло ситара, бас-гитары и барабанчиков-бонго. Вверху первой страницы было выведено «Элевации № 9», вероятно, обозначая название. Меня почему-то возмутила именно эта девятка: значит – либо имелось еще восемь других элевации, либо данное число имело произвольный характер, либо, что не лучше, являлось чистым украшательством. Я стал просматривать партию скрипки. Насколько можно было определить, и, вероятно, определил я достаточно точно, она претендовала на некоторую, хоть и не слишком значительную виртуозность, – не слишком значительную, сказал бы я, для модного скрипача, старого кретина, кто еще совсем недавно обладал если не чувством здравого смысла, то хотя бы чувством стиля, чтоб удержаться от таких музыкальных авантюр, как совмещение мотивчика в стиле поп (каковой я здесь обнаружил) с классическим obbligato для виолончели, предназначая все это – для кого же еще? – для себя самого. Превосходный пример верности высоким художественным критериям, о которой толковала Китти.
И тут мне захотелось скорей бежать отсюда куда глаза глядят. Что еще эти «Элевации № 9», как не пустое упражненьице, каприз или даже пародия, созданная так, смеха ради, элемент дурацкой сборной солянки на каком-нибудь благотворительном концерте! Но для Роя в его нынешнем положении это же недопустимо, пошло. Не может быть, чтоб такое сочинил он. Ведь у него такой грандиозный опыт! Так отчего же…
Я тихонько вышел в коридор и немедленно увидел то, что как раз и ожидал там увидеть: отличный телефонный аппарат и, как выяснилось, в превосходном рабочем состоянии. Я вернулся в кабинет и уставился на разложенную рукопись. Ну как же! Боже ты мой! Я (как приверженец традиционной классики) с этой вот рукописью – это как бы эстетический дубликат ситуации Китти с теми пресловутыми трусами. Ярчайший! Я стоял, уставившись в ноты невидящим взором.
Через пару минут я взглянул на часы. Ровно половина шестого. Я набрал номер редакции, вскоре услышал в трубке кашель Коутса, затем его голос:
– Пришлось подсократить на полдюйма, Дуг!
– На те самые, где говорится, откуда приехал Колер, где он учился и тому подобное?
– Именно. Причина, как водится, в нехватке места.
– Ты решал или он?
– В какой-то степени мы оба. Когда подгоняли, он был у нас. Прости, я не сразу сообразил.
– Он сейчас у себя?
– Пять минут назад был. Послушай, если хочешь, мы все можем восстановить. Только придется тебе в другом месте подсократиться. Копия у тебя с собой? Может, вымарать тот кусок ближе к концу про раннее творчество того малого на «Я», как его…
– Яначек. Не стоит, мне это нужно.
– Ну, тогда… Потом ведь не всунешь, верно?
– Ладно. Пусть. Оставь, как есть.
Я повесил трубку. Последние дни я то и дело твердил себе, что, если Гарольд урежет меня материально, как он уже дважды проделывал, больше я в газете работать не буду. Но теперь я как-то вдруг осознал, что бросать эту работу не стану. С чего бы? Кто сказал, что я непременно должен уведомить пять миллионов читателей, что Генрих Колер родом из Восточной Германии? Их затянувшееся неведение на этот счет никак не может повредить ему, разве что его стране, что также не вполне очевидно, а она, хочу я того или нет, может хоть завтра возгордиться первенством по испусканию за свои пределы отменных музыкантов и певцов, а также музыкальных инструментов. Единственное, к чему я всегда стремился, – восхвалять музыкантов и музыку, которые мне нравятся, и отбраковывать то, что не нравится. А значит, мне определенно не стоит уходить от Гарольда хотя бы потому, что я могу потихоньку отваживать всяких шарлатанов, слегка прохаживаясь по ним в промежутке между литературным обзором и самым престижным разделом – ресторанной колонкой.
В коридоре хлопнула дверь и кто-то с огромной скоростью метнулся вверх по лестнице – Китти! В глубине дома еще раз хлопнула дверь. Я почесал задницу. Кто сказал (в самом деле!), что я только и должен исключительно угождать истеричкам вроде Китти? Главным я счел для себя во что бы то ни стало встать на пути «Элевациям № 9». Потому изменил свое решение по поводу упомянутой Роем услуги, так как хотел воспользоваться возможностью внедриться в его нынешние музыкальные прожекты. При этом проблема с Пенни не исчезала, просто я отодвинул ее подальше.
На письменном столе затренькал телефон. Недолго думая, я направился в коридор. Там с телефонной трубкой в руке стоял Рой. Завидев меня, взглядом и кивком пригласил подойти; я подошел; он водил пальцем по странице приоткрытого потрепанного телефонного справочника. На обложке я углядел вечно казавшееся мне пустым утверждение, будто только здесь и можно обнаружить любой необходимый номер телефона.
– Уж давно собирался это сделать, – сказал Рой с видом серьезным, сосредоточенным. – Нельзя им позволять скрываться вот так с… Отдел справок? Добрый день. Простите, не поможете ли?… Уверен, поможете. Так вот: на днях вечером, если точнее, то во вторник, где-то в Челси на одном из приемов я познакомился с одним очень симпатичным типом и его женой. Лет сорок – сорок пять, чуть полноват, темноволосый, волосы редковаты, представился сотрудником рекламного агентства. Что еще… курит сигару. Жена на пару лет моложе, пожалуй, скорее худощава. Позвольте, я закончу, я почти договорил. Ага, на ней было зеленое платье с широким поясом, клипсы, вроде такие, как носили в конце восемнадцатого века; у них двое детей, мальчик и девочка, оба школьного возраста. Пожалуй, это все, что я помню. Надеюсь, этого достаточно… Разумеется, надо, чтобы вы назвали их фамилию, чтоб я мог найти в справочнике номер их телефона. Видите ли, мне необходимо с ними связаться… Но если бы я знал фамилию, то смог бы узнать их телефон, как любезно сообщает пухлый справочник, который у меня в руках. Потому-то в первую очередь к вам и обратился, что не знаю их фамилии… Не можете назвать? Тогда какого черта вы существуете?
И с видом победителя он бросил трубку.
– Даже чуточку жалко девицу. Ей-богу, милый такой голосок. Надо было сказать, чтоб позвала начальство. Ладно, завтра. Мне необходимо их разыскать. Что это с вами?
– Ничего. Думаю, таких данных вы ни в одном новейшем справочнике не найдете.
– Нет, я из принципа! Хотите выпить?
– Нет, благодарю. А вы пейте.
– Уж я-то выпью, будьте уверены!
Он провел меня слегка вперед по коридору, после чего щелкнул выключателем в небольшом закутке (во всем доме было довольно темно), и передо мной возник приземистый холодильник и пара полок, заставленных немытыми в массе своей стаканами, а также пустыми в массе своей бутылками. Морозильник был сущий айсберг в миниатюре, однако Рою все же удалось вытянуть оттуда формочку со льдом, и он кинул несколько кубиков в относительно чистый стакан. Затем увлек меня в гостиную, налил поверх льда граммов сто пятьдесят скотча и хватил значительную часть. Замечу, с той же решительностью, с какой говорил по телефону. Мы открыли рот одновременно, но Рой кивнул мне, уступая очередь.
– Простите! Так вот, Рой, я передумал насчет услуги, о которой вы просили. Можем договариваться, называйте удобный вам вечер.
Он повернулся, нацелившись на меня своим носом, и разразился характерным для себя глубоким утробным смешком.
– Как раз собирался вам сообщить, что ничего уже не надо. Инцидент исчерпан.
– Как так?
– Решил с ней порвать. Начисто. Будет лучше для всех. По-моему, и вы так тоже считаете, верно? Только что я все напрямик выложил Китти.
– Что, судя по всему, не прошло у вас слишком гладко. Уж простите, невольно услышанные мною звуки…
– О нет, все не так страшно. Кажется, я несколько переусердствовал с описанием чар, под которые подпал. Ничего, забудем! Самой невыносимое – выкладывать всю историю целиком.
– Но зачем вы это?
– О, христианин-аристократ! Как зачем? Чтоб самому не чувствовать себя виноватым и чтобы она больше не дергалась. Неужели не ясно?
– Расставить все точки над i, все забыть, начать жизнь с чистого листа? Куда как ясно! Вы просто не в своем уме. Я-то думал, вы влюблены в ту девчонку! Или с любовью тоже покончено?
– Как вы не понимаете, ведь ясно же, сколько неприятностей мне это сулит!
– Все я понимаю, невзирая на ваши прежние увлечения, только если вы почувствуете, что вас снова затягивает или вот-вот затянет, тогда поймете, сколько лишних сложностей сами себе создали. Стоит вам начать откалывать свои номера с трусами, как Китти неизбежно…
– К черту трусы! Вы с Китти прямо-таки помешались на этой идиотской теме! Она и сейчас мне про них ввернула. Это все такая чушь! – Он явно притормаживал в намерении закрыть тему. – Почему бы вам не остаться поужинать, Даггерс? Будет парочка соседей; так, обычная публика…
– Благодарю, я иду на концерт. Своими же руками воздвигли себе непреодолимое препятствие, притом что никому от этого лучше не стало.
– Ну, не знаю… А что за концерт? Может, я заскочу.
– Что ж ваши… Ах, концерт? Лондонские любители Гайдна под управлением Матесона. Ваши подробности вовсе не принесли Китти ничего…
– Да ужин у нас вовсе никакой не званый. Зайдут посидеть, и все. К тому моменту, как Матесон взмахнет палочкой, гости успеют вдоволь насидеться. А что исполняют-то?
– Даже если вы в жизни больше не притронетесь ни к одной юной особе, вы себе этого никогда не простите! Бах и Гендель. Первая сюита. Кончерто гроссо из Шестого опуса, не помню точно. И что-то еще. Ну почему вы не способны держать язык за зубами! Вы…
– Все это у меня есть в записи, и в лучшем исполнении. Пожалуй, не пойду. И для Китти будет лучше, если я останусь дома.
И чтоб не вступать в обсуждение еще и с Китти, которая уже входила в комнату, а за нею – Эшли, Пышка-Кубышка, Гилберт и Пенни, я, как и Рой в момент намыливания улизнуть, поспешил отказаться от приглашения. Голова в том месте, которым пришлась о притолоку, уже перестала болеть. Мне предстоял долгий обратный путь, в основном в метро. Я откланялся, получив в ответ от Пенни молчаливую ухмылку в направлении моего лба. В полном молчании Гилберт подбросил меня до станции метро. Поезд только что отошел. Тот, на который я сел, с четверть часа простоял в тоннеле под рекой. Я спешил на концерт со всех ног и добрался как раз вовремя. С началом запоздали минут на десять. Играя Гайдна, солист-скрипач порвал струну. После концерта мне пришлось под моросящим дождем прошагать примерно милю, пока не набрел на укрытие. Вивьен, от природы отменным вкусом не отличавшаяся, встретила меня в кошмарном брючном костюме, сшитом, как мне показалось, из чехлов автомобиля новейшей марки. Она была слегка насуплена и озабочена, но объяснять причин не стала. В ресторане ей подали пересушенный и пересоленный омлет, я же опрокинул на скатерть бокал вина. В постели было чуть удачней. Не настолько, насколько я имел веские основания ожидать. На следующее утро я обнаружил, что мой материал в газете сокращен на две строчки, а фамилия Колера напечатана с ошибкой. После столь многообещающей вылазки в сельскую глушь жизнь, казалось, постепенно вошла в свое обычное русло.
Глава 2
Что-нибудь помягче
Месяца полтора о Рое не было никаких известий. Собственно, от него лично. Однако я постоянно натыкался на его имя, и не только. Его подпись стояла в числе других под письмом в «Таймс», ультимативно требовавшим от режима Смита в Родезии передать черным лидерам в двадцать четыре часа всю полноту власти во избежание нашей воздушной интервенции. Рой дал интервью в одну из воскресных газет, где и нашли развитие те мысли насчет нынешней молодежи, какими он делился со мной в парке, и где, в частности, он заявлял, что она, то есть молодежь, сейчас в процессе открытия чего-то грандиозного, вроде христианской веры, и что у тех, кто препятствует свободной торговле гашишем и прочими наркотиками, у самих рыльце в пушку. Рой возник в теледискуссии о будущем искусства, явно позабыв, к каким неприятностям подобное появление на экране привело его в недавнем прошлом. Эту передачу я не видел, но рассказывали, что она имела политический уклон и показала широкий спектр взглядов, от Роя до одного американского скульптора, который будто бы призвал покончить со всяким искусством, если оно не становится прямым разрушителем общества. С чувством облегчения я прочел в разделе культурных сплетен, что знаменитый дирижер сэр Рой Вандервейн готовит с Новым Лондонским симфоническим концертную программу из симфоний Малера. Пусть модно, заметил я про себя, но все-таки много, много лучше, чем «Элевации № 9».
За это время у меня не произошло ничего из ряда вон выходящего. Обзвонив всех рецензентов посолидней меня и от всех получив отказ, «Проигрыватель» прислал мне здоровенный ящик с двумя десятками симфоний Гайдна вкупе с целой библиотечкой: восемь больших долгоиграющих пластинок, то есть шесть часов слушанья допотопного наследия, не говоря уже об утомительном чтении с немереным количеством сведений о жизни и эпохе композитора при полном презрении к подробностям касательно самих произведений. Всю неделю Гайдн стоял у меня в ушах, точнее, в одно ухо влетал, в другое вылетал. Гарольд Мирз в целом вел себя прилично, всего лишь раз запретив хотя бы мимоходом упомянуть об успешных гастролях нашего струнного квартета в Польше. Наконец-то я, изъяв Вебера из Зальцбурга, переместил его в Вену. Заставил прачечную вернуть мне мою рубашку, которую они держали, а может, и носили, месяца два. Вызвал настройщика и привел в порядок инструмент. Угрюмо-озабоченный вид Вивьен, обычно нарочитый не до такой степени, чтобы отравить любую встречу, сохранялся, эволюционируя по установленной схеме: усугубляясь к концу недели, исчезая к середине дня в субботу, когда мне случалось везти ее куда-нибудь во взятом напрокат автомобиле, и снова мало-помалу проступая к исходу воскресенья. Как-то раз в воскресенье около восьми я решил изменить своему обыкновению сидеть (или в данном случае лежать) и ждать, пока не пройдет у Вивьен ее женская хандра, и спросил:
– В чем дело, с тем твоим другом проблемы?
– Нет! – сказала Вивьен.
Ответ свидетельствовал о восхитительной особенности ее характера. Хотя тот другой тип начал маячить на горизонте где-то с Рождества, деля с ней большую часть ее свободного времени, а также, по вторникам и четвергам, постель, и хотя она знала, что мне это известно, вплоть до нынешнего момента тот субъект отдельной темой ни разу не внедрялся в наш разговор. Замечательно, что теперь не потребовалось прорубаться сквозь джунгли ненужного «не понимаю, о чем ты» и я просто назвал все своими именами. Должен признать, что отзывчивость на факты сочеталась в Вивьен с нежеланием самой оглашать их, и потому, скажем, выведывание у нее, чем ее папаша зарабатывает на жизнь, превращалось буквально в игру, где фигурируют только «да» и «нет». Но невозможно, а в данном случае и ненужно, чтобы человек состоял из одних достоинств.
– Он богат?
– Нет. Примерно как ты.
– Ясно. Женат?
– Нет.
В голосе ее я уловил некое раздражение.
– А что, собственно, кругом полно женатых! Симпатичный?
– Неужели ты думаешь, я выбрала бы несимпатичного? Довольно симпатичный. Я бы даже сказала, более чем. Нечто среднее между довольно симпатичным и крайне симпатичным. Он невысокий, ну, наверное, только чуточку выше меня. И еще у него борода. Но усов нет. Такая круглая борода во все лицо, но без усов.
– Судя по твоему описанию, я гораздо привлекательней.
– Ты прав. Он не такой, как ты. Зато очень добрый и заботливый. То есть, я хочу сказать, ты тоже добрый, если захочешь, а он всегда. Это в нем самое замечательное. И еще он надежный. На него я во всем могу положиться.
– Не сердись, но, судя по твоим словам, он большой зануда.
– Пожалуй, да, – сказала Вивьен.
Мы помолчали, затем я спросил:
– Он обо мне знает?
– Ну конечно!
– Как он узнал?
– Спросил, и я сказала.
– Так! И он спокойно с этим мирится?
– Думаю, нет, но утверждает, уж лучше так, чем потерять меня, говорит, пусть будет все, как я хочу. Эту сторону дела он целиком предоставляет мне.
– Ну, а как тебе на два фронта? Ты уже практиковала подобное?
– Да так почему-то само собой получается, однажды даже попробовала с тремя, так что, наверное, для меня это нормально. По-моему, и для тебя, ну, или ты не очень против, ведь так? И значит, я могу воспринимать нашу связь не слишком серьезно. Вообще-то, вроде бы, на два фронта – это как-то нехорошо, верно? Я имею в виду именно наши отношения. Может, так оно и есть, только прежде чем начать, я прикинула про себя и не нашла ничего предосудительного, если только следовать правилам: говорить правду и не знаться с женатыми.
– А почему не знаться с женатыми?
– Чтоб не огорчать жен. Да и какая радость мужчине, встретившему девушку, на которой, если б мог, с радостью женился, если жена отказывается давать развод? Но ты ведь не против, да? Не против, что меня устраивает на два фронта?
– Да ради бога!
– Ну да, это ведь так увлекательно! О, милый! – произнесла она, прильнув ко мне и заиграв всем телом и при этом сразу же, я бы сказал, с налета, страстно задышав. Мне ничего не стоило отреагировать, поскольку мы с ней лежали в тот момент в постели у меня в комнате. Как всегда, на адекватную ответную реакцию с моей стороны потребовалось гораздо больше, чем пара минут. Вивьен стартовала необычайно стремительно, однако она была готова равным образом стремительно стартовать еще бесчисленное множество раз, и без передышки. Ее склонность общаться на два фронта, несомненно, диктовалась утилитарными мотивами.
Но была и еще одна сторона дела, в чем мы – я и, по всей видимости, тот другой тип – воздавали ей должное: и это момент, когда мужчина достигает своего кайфа. В тот вечер, как всегда, Вивьен восхитительно подхватила его. Довольно скоро после этого, воскликнув: «Господи, неужели уже так поздно?» – она скакнула из постели и ринулась в ванную.
Лежа на спине, я надел, чтобы сосредоточиться, очки, и мало-помалу ко мне пришла мысль, что, должно быть, причина угрюмости Вивьен вкупе с озабоченностью заключается в прежде отличавшем меня обидном отсутствии интереса к этому самому типу. Мне бы следовало время от времени справляться, как он там у нее, при этом, разумеется, всякий раз подчеркивая, как счастлив я, что тот пребывает в добром здравии.
Когда Вивьен вышла из ванной, я направился туда, а выйдя, застал ее одевающейся. Она стояла ко мне спиной, но к этому я уже привык; по правде говоря, лишь недавно после многократных увещеваний мне удалось убедить ее не бегать одеваться в ванную. Белье на ней, как всегда, смотрелось новым и одновременно застарелым, будто она только что выудила из какого-то тайника ненадеванный, герметически запечатанный комплект приданого своей мамаши. Затем последовали переливчатая шелковая блуза в сиреневых, огненных, горчичных и темно-синих пятнах, затем довольно-таки длинная юбка из толстой ткани в мелкую черную ломаную клеточку по розово-бежевому фону, бледно-зеленые чулки и коричневые туфли. Пояс-цепочка, янтарные бусы, чудненький браслет – источник оглушительных бряцаний, золотые сережки в виде золотых птичьих клеток с яркими попугайчиками, это – пока я натягивал свою одежду. При всех своих достоинствах подобный наряд полностью погребал под собой выразительный бюст, тонкую талию и крутые бедра. Вивьен надругалась над своими угольно-черными (без преувеличения) волосами, воздвигнув из них на макушке съехавшую на один бок некую прямоугольную пирамиду, и теперь, презрев истинный контур, размалевывала губы розово-лиловой помадой. По счастью, она не додумалась заляпать краской карие глаза, изуродовать оспой кожу, свернуть на бок нос, измазать или выломать зубы. Именно эти ее упущения, а также то, чего форменному костюму оливкового цвета скрыть не удалось, побудили меня однажды утром в агентстве авиакомпании положить на Вивьен глаз. (Как-то она, без тени самоанализа, призналась, что мужчины почему-то обращают на нее внимание только в рабочее время.)
– Не хочешь ли выпить чего-нибудь? – спросил я.
Вивьен взглянула на часы, на крупном циферблате которых красовалась исполненная в стиле поп-арт голова космонавта.
– Только побыстрее, Дуг. Мне бы не хотелось очень поздно возвращаться домой. Может, немного бьянко с содовой?
Я приготовил пару бокалов заказанного напитка. Мы пили в гостиной, как вдруг зазвонил телефон. После серии идиотских потренькиваний, свидетельствовавших, что звонят из автомата, в трубке раздался голос Роя:
– Будьте добры, можно мистера Йенделла? (Он до сих пор не усвоил нынешнюю манеру телефонного общения – без всякого миндальничанья просто называется нужное имя.)
– Да, Рой, это я!
– Даггерс? Отлично! Как поживаете? Послушайте, дружище, вы у меня последняя спасительная соломинка. Вы что, не один?
– Не один.
– Ах ты, вот невезуха! Что ж, ничего не поделаешь. – Он был явно раздосадован. – Ну да, никогда…
– Мы уходим, собираемся поужинать.
– Ах вот как! Видите ли, я тоже не один. У нас кое-что сорвалось. Скажите, нельзя ли…
– Где вы сейчас?
На другом конце трубки я услышал тоненькое женское хихиканье, затем приглушенные слова Роя – судя по всему, он кого-то увещевал. После чего вернулся к разговору: – А? Мы за углом от вас. На Карлтон-хилл.
– Так давайте немедленно ко мне! Я вас впущу, и мы тут же исчезнем.
– Правда?
Я заверил, что это серьезно, повесил трубку и кое-что объяснил Вивьен. Как я и ожидал, она вмиг и невозмутимо восприняла сказанное мной, согласившись на то, что, если понадобится, я могу потом разделить с ней постель, куда она так или иначе непременно возвращалась в воскресенье к вечеру, чтобы начинать рабочую неделю на своей, по ее выражению, территории – и, как выяснилось потом, в аккурат с шести утра. Тогда я объяснил, кто такой этот Рой, который сейчас явится.
– Как, сам сэр Рой Вандервейн? Который выступает по телевизору?
– Да, частенько. К тому же дирижирует разными оркестрами. Музыкант, мой старый приятель. Только прошу тебя, Вив, не говори никому, хорошо?
– Какой разговор! Ну а все же, он женат?
– Да. Это все…
– И что жена? Смотрит сквозь пальцы или как?
– Думаю, что нет. Тут трудно сказать. Должно быть, нет. Скорее всего. Видимо, просто не знает. Почти наверняка.
– Жены знают всегда.
Вивьен осуждающе смотрела на меня, и я не знал, что сказать, но как раз в этот момент раздался звонок, и я поспешил вниз открывать. По первому беглому взгляду, один из силуэтов, поджидавших за матовым стеклом двери, принадлежавший, по-видимому, Рою, был так сильно выше второго, что на мгновение мне подумалось: вдруг Китти ошиблась в своих подсчетах и Рой уже дошел до совращения малолетних? Мои гости переступили порог, и я обнаружил, что дело еще не приняло столь серьезного оборота; однако, подобно библиофилу, который тянет время и протирает очки, прежде чем приняться листать редкий том, я отсрочил обстоятельный обзор вплоть до того момента, как мы все предстали друг перед другом в гостиной.
– Знакомьтесь, Сильвия! – сказал Рой тоном, не оставлявшим ни малейшего сомнения, что ему совсем не хочется называть ее фамилию.
Не давая себя вовлечь в бессмысленные мистификации, я представил Вивьен как Вивьен. Возникший в памяти эпизод с трусами представился мне во много раз красноречивей утаивания фамилии, и меня так и подмывало заметить Рою: если б он заделался шпионом, то тут же наверняка побежал бы к полицейскому спрашивать, где площадка для запуска бактериологических ракет. Но я сдержался: он не так поймет, к тому же это помешает моему изучению Сильвии; словом, я смолчал, в то время как Вивьен, осуждающий взгляд которой горел любопытством, обменивалась с Роем любезностями.
Интересно, та ли это большая любовь Роя, которая началась еще пару недель назад или же эту он подцепил только что на каком-нибудь сборище? Скорее всего, именно так, изо всех сил надеялся я, оглядывая ее лицо (круглое, бледное, тонкие губы), волосы (гладкие, длинные – до пояса), одежду (джинсы, свитерок с рыбака-недоростка, длинная кожаная безрукавка), фигуру (ничего особенного, по сравнению с этой Вивьен просто вызывающе соблазнительна). От Сильвии как-то странно попахивало, чем-то вроде прелой соломы. Я смотрел, как она озирается, обводя взглядом полки с книгами, проигрыватель с усилителем, рояль, ряды пластинок, пишущую машинку так, словно все эти предметы казались ей не просто слегка непонятными, но явно не отличимыми друг от друга. Она то и дело откидывала назад две длинные, падавшие на лицо пряди разделенных прямым пробором волос, но те тотчас возвращались на привычное место; хлопотно, нет слов, но, видно, удобней так, чем прибегать к пошлой и унизительной помощи ножниц или ленты. В довершение всего Сильвия кого-то мне напоминала, а может, просто ее фотография, одна из многих фотографий девиц до двадцати пяти, на днях мелькнула в газетах.
– Дико потрясная хата! – произнесла она с модным на тот момент грудным прононсом. Голосок у нее был тонкий и звонкий, а выговор как раз такой, от которого Рой в своей речи пытался избавиться. – Вы сам по себе тут живете?
– В основном да.
– Тут у вас, смотрю, книг, пластинок всяких прямо жуть.
– Что поделаешь. Такая работа.
– Рой рассказывал! – бросила она.
Тут, едва я начал осваиваться с мыслью, что предстоит проскучать всего-навсего пару минут, Сильвия, громко фыркнув, уставилась прямо мне в физиономию, как бы с намерением отыскать в ней изъяны; мне немедленно вспомнилось отношение Пенни к шишке у меня на лбу, но если Сильвия минуту назад и напомнила мне кого-то, то только не Пенни.
Внезапно Роя прорвало:
– Я вам обоим так признателен за эту любезность!
– Не за что! Ну что, Вив, пошли?
– Куда вы так бежите? – Рой украдкой адресовал мне сердито-многозначительный взгляд. – Задержитесь хоть на несколько минут. Быстренько выпьем вместе и пойдете.
– Что вам дать? – спросил я Сильвию.
Девицу, которая, видно, еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться, мой вопрос развеселил окончательно. Дернув узкими плечиками, Сильвия звучно прыснула. Сотрясаясь от смеха, она повторяла мои слова, при этом медленно, рывками, поворачиваясь и взглядывая на каждого из нас по очереди, но как бы вскользь. На ее щеках блестели то ли слезы, то ли пот.
– Ей чего-нибудь помягче, – проговорил Рой с видом явно обескураженным. – Думаю, вы не держите кока-колы или пепси? Тогда не важно что, тоник, горькая лимонная, сухое имбирное, что-нибудь из этого.
– Мне ничего, Дуглас! – Вивьен явно считала, что никто не замечает ее критических взглядов в сторону Сильвии.
– Ей что-нибудь помягче! – вся вибрировала Сильвия. – Помягче!
– Мне, если можно, виски, Даггерс! Позвольте, я помогу.
– Она что, такая всегда? – спросил я у Роя в кухне.
– Нет, иногда только. Не часто, клянусь! Понимаете, только когда под кайфом.
– Под кайфом? Вы хотите сказать, она употребляет этот мерзкий гашиш?
– Помилуйте, старина, вечно вы с вашими буржуазными предрассудками! Прямо слова нельзя сказать!
– Чтоб здесь не смела курить! У вас-то предрассудки чьи?
– Извините. Ладно, прослежу, чтоб не курила.
С непоколебимо решительным видом он махнул примерно половину налитого ему мною виски. Даже в те годы, когда Рой стригся короче и время от времени высказывался негативно о рок-н-ролле, о России и тому подобном, он никогда своими обещаниями и заявлениями вне музыкальной сферы большого доверия не внушал. И сейчас бесполезно было говорить ему, что я в свое отсутствие невольно окажусь правонарушителем, если он не сумеет предотвратить выкуривание своей жуткой подружкой сигаретки с марихуаной. Попутно я на мгновение засомневался насчет стойкости и нынешних музыкальных его вкусов.
– Да, кстати, это та самая? – спросил я, выливая тоник из бутылки и намереваясь плеснуть в нее жидкого мыла.
– Та самая?
– Ну та, Рой! Та, про которую, что влюбились, вы рассказывали мне у себя дома.
– А! Да, она самая. Ну как же, это было в тот день, когда я решил с ней порвать, верно? Теперь вспомнил. Как видите, ничего из этого не вышло.
– Что заставило вас передумать?
– Уже не помню. Ах да! Китти принялась меня в чем-то обвинять. Да-да, теперь я ясно припоминаю. Все из-за Китти. Возмутилась, что я напился в стельку накануне, когда к нам заявился один малый из уже поднадоевших, с женой. Венгр, переселился к нам после их гражданской войны. Отпетый реакционер. К вашему сведению, я к ним обоим, помнится, отнесся весьма по-доброму, оба раза. Сердечней некуда.
– А как насчет трусов?
– Ах, этот игривый сюжет! Снова общались с Китти?
– Она позвонила мне назавтра после моего посещения, я сказал, что ничего не смог выяснить, и это была правда. С тех пор ни звонка.
– Я бы предпочел, если не возражаете, чтобы в моем белье не копались! Хотя, по правде говоря, я взял это под контроль. Теперь у меня их, трусов этих, целая стопка, а также маек и носовых платков. Это ж надо талант иметь выслеживать! Побудьте еще немного, если вам не слишком противно, Даггерс, помогите мне ее утихомирить. Славная девушка – эта, ваша. Сколько ей, двадцать восемь? Не возражаете, если я допью до того, как мы к ним вернемся?
Вернувшись, мы обнаружили, что Вивьен не только жива-здорова, но и с видимым вниманием слушает, как ей что-то втолковывает Сильвия, сидя на диване и с частотой гимнастического упражнения смахивая с лица волосы.
– Мы не такие! Мы другие! – Абсолютно не глядя в мою сторону, она вскинула длань с растопыренными пальцами, направив прямо в меня, так что вмиг и без особых усилий я вставил ей в руку стакан с тоником. – Совсем другие! Мы отказываемся от денег, отказываемся от вашего образа жизни, вашего жизненного устройства, ваших законов. Всего того, на что они хотят забрать нашу энергию, чтобы самим остаться у власти.
– От всей системы! – живо и с видом некоторого облегчения подхватил Рой, опускаясь рядом с Сильвией на диван.
– Если у вас горит дом, вы откажетесь от услуг пожарных? – спросила Вивьен.
Снисходительно улыбнувшись, Рой тряхнул головой, так что волосы у него на затылке колыхнулись туда-сюда.
– Это совсем не то. Конечно, без пожарников не обойтись. Как не обойтись без домов, телефонов, магазинов, телевизоров, школ и тому подобного. Иное дело, когда они нами управляют.
– Управляют? Кто – пожарники?
В очередной раз меня охватила смертная тоска, казалось, уж лучше бы каскад ухмылок Сильвии, у которой от былой активности осталось лишь частое помаргивание и покусывание тонкой нижней губы. Рой заметил Вивьен, что ее пример с пожарниками не годится и что он говорит о тех, кто за этими пожарниками стоит. Вивьен спросила, кто это «мы», которые отказываются от денег и пожарников. И, получив от Роя ответ, что под этим подразумевается в широком смысле молодежь, сказала, что сама себя причисляет к молодежи в широком смысле, или, по крайней мере, причисляла до сих пор. Тут Сильвия так и прыснула, из чего я заключил, как заблуждался всего минуту назад, и зашептала что-то Рою на ухо, одной рукой обняв его за шею, другую положив ему на колено.
– Нет, нет! – сказал Рой. – Нет!
Вивьен гнула свое:
– Мне, например, не от чего отказываться!
– Почему же? – проговорила Сильвия, хохоча еще пуще. – Начнем, скажем, с блузки, это у тебя блузочка называется?
– Как вы сказали?
– Чего так нелепо вырядилась? Надо же, сколько понапяливала на себя! Это он так велит? А сережки! Что там внутри, птички?
– Перестань, Сильвия! – вставил Рой бесцветно.
– Да уж, нет у некоторых сдерживающего начала! – В голосе Вивьен лишь едва улавливалось возмущение, щеки сохраняли обычный легкий румянец, что было странно для нее, склонной мгновенно заливаться краской.
Рой пустился в объяснения:
– По-моему, людей по-настоящему можно разделить на тех, кто хочет иметь, и тех, кто хочет быть. То, что люди хотят иметь, многообразно, и необязательно все из этого плохо. Некоторые, разумеется, обожают власть во всех ее проявлениях, то, без чего не могут обходиться политики, и тут я имею в виду вовсе не только фашистских диктаторов, я имею в виду всех, кто существует за счет политики. Тут еще можно говорить о бизнесменах, священниках, высших чиновниках и тому подобных. Однако я хочу, кроме того, выделить стремление к личной власти, власти человека над человеком, как бывает в семье, ну и так далее. Или есть еще страсть обладать вещами, автомобилями, стиральными машинами, мебелью, коллекционировать фарфор или еще что-нибудь. Те, которые стремятся быть, тоже в массе своей весьма разнообразны, это и художники, и мистики, и философы, и революционеры – такого рода публика, и просто люди, которые хотят жить, чувствовать и осязать. Человеку следует определиться, кто он: хочет ли иметь или хочет быть.
Никогда еще Рой не восхищал меня так вне своей концертной деятельности, как в заключительные мгновения этой своей речи. Стоило ему произнести «по-настоящему можно разделить», как Сильвия принялась гладить его по спине; когда он произнес «политики», она уже водила рукой по его бедру возле колена, прильнув носом к его уху; при словах «личной власти» принялась поглаживать одну его щеку и прикладываться губами к другой. До этого момента Рой со всей возможной убедительностью делал вид, будто Сильвии не существует вовсе, однако затем переменил тактику, изобразив вялое сопротивление: закинул ногу за ногу и оттянул голову как можно дальше к плечу. Когда же на словах «коллекционировать фарфор» Сильвия прижалась к нему животом, одной рукой пытаясь расстегнуть пуговицу на его рубашке, а другой внедриться ему между ног, Рой схватил ее за обе руки и на слове «философы» отпихнул вниз, воспротивившись активной попытке раздвинуть себе ноги, сжал их сильней, резко наклонившись вперед и упершись животом в колени, решительней сдавил ее запястья. На мгновение наступило затишье.
– Нам в самом деле пора уходить! – сказал я.
Мы чуть-чуть потянули, пока Вивьен искала сигареты с зажигалкой, наконец нашла и положила к себе в сумочку, но не успели мы дойти до дверей, как услыхали сзади со стороны дивана легкий двойной стук, означавший, что это ботинки с обоих наконец раскрещенных ног Роя каблуками ударились об пол. Я кинул ему через плечо, что утром позвоню.
– Что она собиралась делать? – спросила Вивьен, когда мы ужинали у «Бьяджи».
Выждав, пока официант разольет нам вальполичеллу и удалится, я высказал свои предположения по поводу выбора, стоявшего перед Сильвией, и по поводу того, что она, на мой взгляд, была готова предпочесть.
Вивьен вспыхнула:
– Но ведь не при нас же с тобой! Как это можно, прямо на наших глазах!
– Думаю, интерес – так, чтоб именно на наших глазах. В том-то и весь смысл. По крайней мере основной. Продемонстрировать свободу от того и от сего, а также свое презрение к тому, другому, пятому, десятому.
– Но для чего? Зачем?
– О господи! Чтоб выразить свой протест против нашего представления о приличиях. Показать, что она из тех, кто хочет быть. Незачем тебе в этом копаться. Это такой ребус, что голову сломаешь от вопросов, даже если нащупаешь разгадку. Кстати, Вив, почему ты не разозлилась, когда она… наезжала на тебя?
– Вообще-то чуточку разозлилась, хотя понимаю, о чем ты. Я видела, что ее раздражает и твоя приличная квартира, и то, что у нас с тобой все в порядке. И что это для нас естественно. Скажи, она была… как это… под кайфом?
– По-моему, да.
– Ну вот, нельзя ведь сердиться на человека в таком состоянии, верно? Она была не в себе. Ну и, значит…
– Верно.
Благополучно уронив на пол еще кусок своего escaloppe di vitello alla Biagi, Вивьен сказала:
– Скажи, Дуг, эта блузка ужасна? И эти серьги? Скажи, прошу тебя!
– Это твой стиль. Это решаешь ты сама. Вот что ей и претит. Те, кто не согласен.
– Не согласен? Она сама одевается не так, как принято.
– Да я не модный журнал имею в виду! Ее собственное окружение. Эти отбрасывают все и вся. Да и тот же самый Кингс-роуд или где там их центр поп-культуры!
– Так тебе нравится эта блузка? А сережки?
– Ты же сама знаешь.
– И она еще смеет говорить! Сама вырядилась черт знает во что. В рубище какое-то.
– Кошмарная девица!
– Надеюсь, она в квартиру ничего тебе не занесет? – сказала Вивьен.
Я тоже надеялся, особенно когда на другое утро, как и обещал, позвонил Рою и услышал его угрюмый, рассеянный голос. Сильвия ушла; он остался до моего возвращения; может, у меня найдется время, надо поговорить. Я сказал, что найдется, несмотря на то что я уже столько его сегодня потерял, а именно: между половиной шестого утра, когда меня разбудила Вивьен, и шестью, когда она, согласно распорядку, покинула постель. Времени было потеряно еще больше, потому что она долго сновала туда-сюда, пряча одно и вынимая другое из гардероба и ящиков комода, а потом еще пылесосила квартиру во всем ее многообразии, с преувеличенным вниманием, как мне казалось, проходясь вокруг кровати, на которой я продолжал лежать, но из которой, однако, она меня выпихнула сразу после семи, так как надо было складывать белье для прачечной. Изрядное количество яичницы с ветчиной, приготовленное мною по традиции, способствовало моей недолгой реактивации: в самом деле, Вивьен была так соблазнительна в своем форменном костюмчике, что я бы охотно склонил ее к возобновлению наших забав, если бы к тому моменту временные лимиты не были исчерпаны. Мы расстались, сев каждый в свой автобус, условившись, как обычно, созвониться в среду; вечером в понедельник Вивьен навещала своего отца в Хайгейте, а вторник принадлежал тому другому малому. При прощании я уловил в ее взгляде непривычно скудную для этого дня недели долю угрюмой озабоченности. Но легкомысленно не придал этому особого значения.
Экзотические кухонные запахи исходили от моего дома по Мейда-Вейл, во всяком случае, неслись с первого этажа, где обитал один пакистанец (по его словам, работавший где-то на Би-би-си) с женой, толстухой валлийкой. Поднявшись по лестнице, я столкнулся с Роем, который оказался небрит, а следы запекшейся крови на его щеках и подбородке свидетельствовали, что с моей бритвой ему совладать не удалось.
– Вы какой-то взъерошенный, – сказал он.
– Еще бы, если проснуться в такую рань! Между прочим, и вы выглядите не лучше.
– Верно. По всем статьям, ночь выдалась тяжелая.
– Могу себе представить.
– Сомневаюсь, дружище!
Мой взгляд упал на голый пол перед диваном в гостиной.
– Что такое, где мой ковер?
– Прошу прощения, Даггерс. С ним вышла неувязка.
– И он испарился начисто?
– Просто я велел Сильвии, чтоб она его унесла. Уверяю вас, это случайность, никакого умысла.
– Не сомневаюсь. Но все же, что с ним стряслось?
– Пожалуй, теперь им пользоваться уже нельзя. Я подыщу вам другой и сегодня же организую, чтоб вам привезли.
В подобных случаях, насколько я знал, Рой был не только готов и впрямь возместить ущерб, но предложить взамен нечто получше, хотя и в разумных пределах. Больше никаких перемен в гостиной я не заметил. Интересно, что в других комнатах, особенно в спальне.
– В остальном все в порядке, – заверил Рой, заметив мой пытливый взгляд. – Может, разбили только пару тарелок, чашку. Ну и еще я слегка переусердствовал с вашим скотчем. Разумеется, я все возмещу.
– Нет, нет, скотч за мой счет!
– Благодарю, очень мило с вашей стороны. Послушайте, мне, э-э-э, крайне неловко за ее вчерашнее поведение. Как правило, она ведет себя приличней.
– А, ерунда! Ничего страшного, даже несколько забавно. Теперь, если вы оставили лезвия, я хотел бы побриться. А пока сварите еще кофе.
Спальня оказалась не в худшем, чем обычно, виде, а постель была даже относительно аккуратно застелена: напрасная трата сил со стороны Роя, ведь белье с этой кровати, как и с утренней, предназначено в стирку, и не за его счет. Я не стал заниматься сменой белья, во-первых, потому, что вновь проявилась усталость, а во-вторых, потому, что неприятно, если б Рой застал меня за этим занятием.
Когда мы пили в гостиной кофе, он спросил:
– Вы чем с утра намерены заняться?
– Ну, сначала собирался послушать Вебера, а потом, в двенадцать пятнадцать, у меня запись в Доме радиовещания, «Музыкальный дневник».
– Пусть Вебер немного подождет, ладно? Сколько до его двухсотлетия? Лет десять?
– Шестнадцать. Нынче прогресс так стремителен, что мне нельзя упустить ни года. А что вы хотите предложить?
– Так, ничего особенного. Думал, можем слегка отвлечься от дел, завернуть в мой клуб, там я угощу вас парой бокалов шампанского и в лучшем виде отправлю на вашу запись.
– После чего мы отправимся вместе с Сильвией и Пенни обедать?
– Нет, клянусь, ничего такого я не имел в виду!
Во взгляде Роя я не узрел ни кристальной честности, ни уязвленности тем, что его честность поставлена под сомнение, а это в целом означало, что он искренен или, прямо скажем, почти.
– Как вам Гилберт Александер? – продолжал он. – Ну, помните, тот парень, который…
– Да-да, чернокожий. Нормально. А что, собственно?
– Он подъедет за мной на машине. Я обещал, что угощу его в баре и покажу клуб. Не возражаете против его общества?
– Ни в коей мере, а вы не опасаетесь, что он сочтет «крэгговскую» атмосферу фашистски-расистской?
– Ну нет, не думаю! Я все ему объяснил.
– Объяснили, что внешне – так, а на самом деле – нет?
– Он скандалить не станет! – заверил меня Рой.
В истории наших с Роем взаимоотношений я уже привык играть роль универсального публичного громоотвода. Его сегодняшнее использование меня казалось в перспективе не столь эксплуататорским и в этом смысле не сродни той услуге, на которую я ему намекнул минуту назад. Пока Рой ставил новую пластинку Ойстраха, а я относил мусорное ведро, я осознал всю полноту своей предполагаемой роли в этой услуге: не только громоотвод, не просто ширма, а мальчик для битья, телохранитель, соучастник позорного действа, слушатель бредятины о тех, кто имеет, и тех, кто хочет быть, а возможно, и прикрыватель отступления, вызыватель полиции, «скорой помощи» или той же несчастной пожарной команды. Мысленно вновь пройдя весь этот перечень, я стал настраивать себя не упоминать вслух об этой услуге.
– Ну так как, Даггерс?
– Рановато, вам не кажется? Не могу же я полтора часа дуть шампанское, а потом отправляться работать!
– Чертовски приятная погода. А не пройтись ли нам пешком прямо до эстакады или хотя бы до канала?
На Эджвер-роуд было пыльно, ветренно и шумно, но так солнечно, что даже высотные кварталы на западной стороне смотрелись пригодными для жилья, создавая иллюзию, будто в них и возможна самая что ни на есть распрекрасная жизнь. Автобусы казались еще красней и массивней, грузовички с прицепами, дребезжа и подпрыгивая, стремились будто к какой-то высокой цели. Я спросил:
– Что в ней такого особенного? То есть понятно, молода и все прочее, потом вы утверждаете, что она буквально во всем разбирается, но видел я ее всего лишь несколько минут, скажите, что в ней такого особенного?
– Насколько я могу судить, а судить в этом вопросе могу только я, особенное в ней – то, что она есть. Я встретил ее и стал с ней спать. Именно с ней, с Сильвией, ни с какой другой. Конечно же, молодость и осведомленность – вещи весьма существенные, но этими качествами обладает множество других девушек. А я встретил именно эту и именно с ней сплю. И еще очень существенно, что она мне не жена.
– Справедливо. Китти уникальна в своем роде.
– Да не Китти я имею в виду, идиот вы этакий! Я сказал: не жена, – а не Китти! А это совсем не одно и то же. Вот станете старше, сами поймете, что к середине жизни секс – это уже совсем не то, что в самом начале. По существу, как бы то же, если разобраться, даже, может быть, когда доходит до дела, и лучше, потому что с годами вы, вероятно, кое-чего набрались, способны лучше собой управлять и тому подобное, только теперь воздействие иное. И нет уже той оголтелой ебли как части бытия, где само воздействие чуть ли не одинаково важно, как то, что воздействует. Что бы ни воздействовало. Всякий гораздо больше времени тратит на то, чтобы ощутить воздействие всего этого, а не на сам процесс. Я говорю не про листание журнальчиков с голыми сиськами, орудуя при этом над своим членом, хотя без этого тоже не обойтись, и не только про то, сколько всего проносится в голове от взгляда, цепляющего птенчика, до определенного в этом направлении шага, хоть и тут всякого уйма. Нет, я говорю о том, чтоб, увидев собственную жену в ванной, заметив на улице птенчика, представить, как было бы с ней, или, читая в романе сексуальную сцену, представить себя на месте того, другого, или не представить, хотя почему бы нет, или встретить прежнюю любовь и поразмышлять на этот предмет, или прикинуть, как будет получаться лет через десять, если повезет дожить. И вдруг, о господи, выпадает удача!
Мы остановились на кромке тротуара на углу Сент-Джонс-Вуд-роуд, пережидая, пока не зажжется зеленый или не иссякнет движение. Рядом также пережидал мужчина лет тридцати в строгом черном костюме и темных защитных очках. Рой шагнул к этому субъекту и внезапно подхватил его под руку.
– Не волнуйтесь, старина! – воскликнул Рой. – Я вас переведу. Вы меня, конечно, извините, но, по-моему, с вашей стороны довольно опрометчиво выходить на улицу без палки. Кроме того, вам, разумеется, стоит подумать насчет собаки-поводыря. Говорят, это исключительные помощники. С ними познаешь совсем другую жизнь.
Поток машин ненадолго прервался, и не успел незнакомец опомниться, как Рой перевел его на противоположную сторону. Там человек вырвался:
– Какого черта, что за издевательство!
– Как вы разговариваете с человеком, только что переведшим слепенького через улицу? Какая неблагодарность!
– Вы спятили? Я вовсе не слепой!
– Тогда зачем вы в такой день в темных очках? Всякий здравомыслящий примет вас за слепого. Что ж, я перестарался! А все дурацкое сострадание.
– Послушайте, Рой, – сказал я, поравнявшись с ним, – день, как вы изволите заметить, довольно-таки солнечный!
– Солнечный, но не слишком! Это вам не август в Италии, а май в Англии.
– Согласен. Но для чьих-то глаз может быть и ярковато!
– Пусть так, но этот говнюк вовсе не потому напялил свои окуляры. Выставиться хочет! Нельзя им бесконечно все спускать с рук. Надо тыкать мордой. Нет, я согласен, лучше бы солнце не так светило. Но беда в том, что слишком редко подворачивается случай встретить ближнего, в самом деле нуждающегося, чтоб его перевели. Я уже года три предвкушаю такую возможность, и вот наконец представилась. Ну как ей было не воспользоваться?
Некоторое время мы шагали молча, потом я возобновил разговор:
– Вы рассказывали про свои сексуальные ощущения…
– Ах да! Так к чему я это все? Ага, помните, один малый у Джойса, по ночам бродя по городу, выкрикивал: «Голые бабы!» – специально, чтобы себя возбудить? И еще был в романе, кажется у одного француза, такой, у которого тут же вставало, стоило ему увидеть в колонке кратких объявлений: «Девушка двадцати лет». Впрочем, ну их всех к черту! Все мы по молодости этим грешили. В наши дни, я убежден, должно возникнуть нечто большее. Такое, чтобы секс по-настоящему волновал. Чтобы был изощренней, самобытней. По-моему, не важно как, важно, чтоб это было. Возьмем, к примеру, тех, кто, большую часть жизни прожив в скучнейшем и благопристойнейшем браке, под конец пускается в приставания к бойскаутам или выставляет свое хозяйство перед девчушками в электричках, – кажется, у Олдоса Хаксли есть что-то на этот счет. Ведь на самом деле вряд ли они занимались подобным изначально, так чтоб теперь, если приспичит, сказать себе: займусь-ка; нет, ничего подобного! Скорее, слова «девушка двадцати лет» уже не способны их возбудить. Ну, как призыв, что ли. Сама по себе девушка двадцати лет, может, их и возбудит, только это совсем другое. Послушайте, не знаю, как вам, а мне уже порядком надоело это пешее хождение. Ради бога, возьмем такси!
– Ну а ваш случай как с этим соотносится? – спросил я, когда мы сели в машину.
– Видите ли, как вы можете догадаться, я был на пути к этому. Порой, знаете ли, невольно приходится обдумывать многое заново, как бывает, скажем, когда выбираешь страну, куда эмигрировать, климат один – уровень жизни другой, ну и тому подобное. И говоришь себе: а не попроказничать ли напоследок? Столько возможностей, такие приятные, по нашим временам почтенные партнеры, относительно недорого. А иметь член – это так восхитительно, и что за образ! Вот что волнует. Беда лишь в том, что за ним всегда существо мужского пола. И тут, боюсь, в моем случае это неприемлемо. Есть еще способ истязания плоти. Я никогда всерьез этого не обсуждал. Положим, это возбуждает, ну и что из этого? Чтоб довести себя до экстаза, можно с таким же успехом играть в теннис или носки вязать. То же относится к таким проказам, как некрофилия и скотоложство. Даже говорить об этом не хочу. Воистину – из пушки по воробьям.
Я повернул голову и пристально взглянул на Роя: он сидел, подергивая то рукой, то коленом, то плечом, и бормотал как бы себе под нос.
– Ну… видите ли, «пушка» и «воробьи» здесь ни при чем, – словно оправдываясь, продолжал он. – Просто это меня не волнует. Надеюсь, вы понимаете?
– Да-да, я-то понимаю! Хотелось бы думать, что и вы понимаете. Я слушаю.
– Понимаю, черт побери! Словом, я буквально только что трахал эту самую девушку двадцати лет, но ситуация становится еще пикантней, если представить девушку двадцати лет вместе с мужчиной, по возрасту годящимся ей в деды, подразумевая при этом привкус подростковой преступности в восприятии обоих поколений. Да, кстати, я не говорил вам, что моя – девушка девятнадцати лет? Вот-вот, так я многим говорю. То есть тем, кому считаю нужным сказать. Однако, Даггерс, между нами говоря, на самом деле она – девушка семнадцати лет. Уверяю вас, это так вдохновляет!
– Боже милостивый!
– Стареющий мерзавец пытается возбудить в себе угасшую страсть, возрождая в памяти ранние сексуальные искания и одновременно вкушая всю прелесть недозволенности, растления малолетних, этот старый грязный развратник заманивает девчушку в заброшенную будку путевого обходчика и, потчуя жвачкой и дешевыми сладостями, заставляет скинуть трусики и удовлетворить его гнусную похоть. Именно так. Лучше и не скажешь. Прямо в самую точку.
Я все еще не мог оправиться от потрясения:
– Но ведь вы определенно рискуете!
– Да, и это тоже. Теперь ясно, почему не слишком стремлюсь показываться с ней на люди? Вообще-то, насколько мне известно, я не так уж чтоб нарушаю закон. Она не пьет, и, собственно говоря, как это ни жаль, скоро ей восемнадцать.
– И как на это реагируют ее родители?
Тут Рой стал клониться от меня куда-то вбок, словно торговое судно от таможенного катера.
– Э-э-э… видите ли, они дают ей полную свободу…
– О да, это заметно! А насчет вас они в курсе?
– Нет! – Рой рассмеялся нелепости такой мысли. – Им известно, что мужчины у нее имеются, но, гм…
– Вероятно, если они узнают про вас, вы окажетесь в дурацком положении? Где вы с ней были вчера вечером, до того как очутиться под моими окнами?
– На одной вечеринке. У ее друзей. Вполне надежное место.
– Кто ее родители?
– Ну, отец… э-э-э… банкир, – процедил Рой, всем своим тоном выражая презрение к профессии отца Сильвии, и добавил с притворным вздохом облегчения: – Приехали!
Мы спустились под горку, подъезжая к клубу «Крэгг». Рой отстранил плечом мою руку с деньгами, но когда с его ладони вниз скатился жалкий флорин, завопил так, как кричат в кино, срываясь вниз из окна небоскреба. Водитель включил двигатель, дал задний ход и проронил унылым фальцетом:
– Вы – сэр Рой Вандервейн?
– Да.
– Катились бы себе в Москву, если вам здесь обрыдло!
Такси унеслось прочь. Когда мы шли к крыльцу, Рой с тяжелым вздохом сказал:
– Нет смысла втолковывать таким, как этот, что я выступал против вторжения в Чехословакию!
– Ни малейшего. Все равно будет считать, что вам здесь не место.
– У него все извилины выпрямлены.
– Должно быть.
Мы вошли в просторный продолговатый холл, где потрескивал, вернее, ворковал телетайп. Рой направился к швейцару, поглядывавшему на нас из застекленной кабинки красного дерева. Какой-то тип с отвислым подбородком, вероятно член клуба, хотя по виду поп-сингер в обличье джентльмена из Сити, промелькнул мимо, направляясь к выходу. Я обвел беглым взглядом отдельные и групповые портреты, во множестве висевшие по стенам, в который раз ощутив всю шаткость тезиса о демографическом взрыве, поскольку, исходя из имевшегося поле зрения, человечество сто лет назад было явно многочисленней.
Рой догнал меня, и мы вместе пошли по крытому ковром, звучно скрипевшему под ногами коридору. В конце оказалась более просторная, чем холл, но равно высокая комната с таким множеством писчей бумаги и конвертов повсюду, какого в обозримом будущем вполне хватило бы, чтоб занять работой сотню трудолюбивых писцов, а в данный момент приютившая полдюжины одиноких мужчин, каждый из которых пребывал в той или иной степени оцепенения. Рой нажал кнопку звонка, появился моложавый официант в белом пиджаке и получил заказ принести шампанское. Внимательно оглядевшись, я перевел взгляд на Роя.
– Здесь удобно пережидать, – сказал он успокаивающе. – В промежутках между разными встречами. Отличная кухня. Весьма привлекает американцев. Можно и на ночь остаться.
– С птенчиками?
– Нет, зато по чеку выдают наличными. К тому же прекрасное место в смысле алиби: «Как же, дорогая, я был в клубе! Прикорнул в гостиной у цветного телевизора. Швейцары здесь все ленивей и ленивей. Знаешь, мне еще надо перекинуться словом с секретарем!». Вот так-то.
– Кстати, об алиби, где вы провели прошлую ночь?
– Здесь! Неплотный ужин, ранний отход ко сну. Никаких телефонных звонков не было; я проверил.
– Тогда все в порядке. Одного вы мне пока не прояснили – насчет того, почему вас устраивает, что некая особа вам не жена. Могу понять, что девушка двадцати или там семнадцати лет для этой роли не годится, ну а девушка двадцати восьми? Наверное, она для как раз уж…
– Отложим эту тему до того, как принесут шампанское.
Когда шампанское было принесено, мы пристроились в уголке в окружении томов «Панча» и «Кто есть кто», и Рой начал:
– Тут, видите ли, есть два обстоятельства. Очевидное – все, что имеет касательство к девице сорока пяти, гораздо более привлекательной, чем ваша собственная жена, но которая на самом деле не лучше, а…
– С этим все ясно. Перейдем ко второму.
– Ну а тут все просто определяется вашим желанием уйти от привычного, пристойного, богобоязненного секса, а ваша жена на это не способна. В ваших отношениях все фальшиво, все надуманно. Так больше невозможно. «Милый, Тулбоксы прислали письмо и приглашают нас к себе на Пасху, помнишь, как тебе тогда у них понравилось, ну как же, когда ты пописал в дождемер мистера Тулбокса, так что, написать, что приедем? И будь добр, передай с туалетного столика мою сумочку! И позвони, прошу тебя, этому мерзавцу, как его, керосинщику и выдай ему по первое число! Что интересного получил с почтой?» – «Ничего особенного, дорогая, вот прислали пару билетов на концерт этого Дерьмовича, еще контракт от Британского союза музыкантов, и еще пару вырезок из газет, и вот, взгляни на это, а, не хочешь ли вниз?»
Я выждал, пока часы в глубине комнаты пробьют половину чего-то.
– Хотите сказать, настолько приелось вставать по утрам, спускаться вниз к завтраку, и при этом совсем не…
– О, громы небесные, Даггерс! Тон государственного мужа! Вниз!\ Да вы что, в самом деле! Ваша вас совершенно…
– Спокойно! Моя – мое личное дело.
– Позвольте просветить вас, что теперь означает слово «вниз»!
– Сам знаю, что означает.
– Судя по вашей реакции, нет!
– Вы это выпалили в таком контексте, что я сразу не сообразил.
– В самом деле? Простите. Позвольте, я завершу свою мысль. Так вот, уясните себе. Девушка таких-то лет даст вам то, что вы хотите, и еще кое-что, хотя… Скорее, не то чтобы сама даст, а то, что ее можно об этом попросить. Наверное, это опять-таки в значительной степени вопрос возраста. – Рой произнес это тоном премудрого судии, чем напомнил мне, как недели две тому назад я прочел сообщение о его предстоящем участии в симпозиуме, организуемом каким-то служителем Церкви и касавшемся проблем сексуальной морали в наше (или же их) время. – По-моему, даже такие, как вы, не могут не согласиться: одна полная, воистину дающая раскрепощение доза терпимости, заимствованная хотя бы от тех, кто помоложе, – и открывается доступ всего многообразия в известный, боже ты мой, стандартный набор приемов, практикуемых супругами в постели.
– И тогда все станет естественным, как воздух, которым мы дышим?
– Вот именно! Куда это подевался Гилберт? Обычно он крайне пунктуален. Надеюсь, дома все в порядке.
– А что, вы сомневаетесь?
– Всегда что-то может случиться.
Рой оценивающе взглянул на меня, и я понял, что он соображает, то ли представить домашние неурядицы неминуемым следствием буржуазного уклада, то ли, наоборот, здоровым свидетельством более мощного, более возвышенного строя социальной справедливости, который вот-вот грядет. Однако не успел Рой открыть рот, как в комнату вошел Гилберт. Только теперь я обратил внимание, как он строен и как легко двигается. Вид у него, однако, в данный момент был встревоженный. С порога он выпалил Рою:
– Со мной Пенни!
– Как! Это невозможно. До пяти сюда женщин не пускают.
Первой моей мыслью было, что это один из заранее заготовленных сюрпризов, снискавших в свое время кое-какую славу Рою, однако вскоре стало очевидно, что его удивление и подозрительность, равно как и гнев ввиду нарушения клубных правил, абсолютно искренни. При этом выяснилось, что правила, по существу, нарушены не были: Пенни осталась сидеть в машине, которую Гилберт припарковал на Сент-Джеймсской площади. Выдав эту информацию, Гилберт устранился от малейших разъяснений, предположений или утешений. Рой в безнадежной ярости махнул рукой, завершив этот жест тыканьем в звонок.
– Что у нее на уме? – вопрошал он. – Что она сказала?
– Просто что хочет проехаться со мной, – сказал Гилберт.
– Может, ей захотелось развлечься, заскочить в магазины, где-нибудь пообедать? – высказал предположение я, с обоих сторон вызвав взгляды, на удивление единодушно выразившие жалость и презрение к моей бесцветной фантазии.
– Ну же, выкладывай, Гилберт, что она задумала? Как она себя ведет? Ей-богу, ты же все-таки должен знать!
– Она исключительно молчалива. По-моему, как обычно, задумала что-то крушить.
– Боюсь, что ты прав. Похоже на то.
– Что она может крушить, сидя в припаркованной машине? – воскликнул я, чувствуя себя одним из трех маститых хирургов, призванных мгновенно решить, стоит или нет вскрывать монарший чирей. – Ну, пройдется пару раз по обивке своими маникюрными ножничками, если те у нее окажутся!
Гилберт даже не взглянул в мою сторону:
– Должно быть, она заподозрила, что вы тут затеваете кое-что, чему ее присутствие или даже угроза такового могут помешать.
– Считаете, она намерена разделаться со мной в гостиной перед цветным телевизором?
– Я бы вас попросил, Дуглас, прекратить на время ваши насмешки и язвительные шуточки! – И Рой отвернулся к вернувшемуся официанту.
– А уж вас-то, – заметил Гилберт, – мисс Вандервейн вообще знать не желает!
– Я бы сказал, это усиливает мои опасения!
– В этаком элитарном заведении только и место субъектам с вашими взглядами.
– Угу, и с Роевыми. Это его клуб.
– Все живое вам противно!
– Да пошел ты!
– Ну-ну, Даггерс, успокойтесь, – сказал Рой. – Нам надо подумать, что лучше всего предпринять.
– Вам – точно! – сказал я, взглядывая на часы. – А мне пора, я опаздываю.
– У вас еще больше двадцати минут! – Рой метнул на меня грозный пристальный взгляд. – Минутку повремените, мы вас подбросим на машине. Подшампаньтесь еще чуть-чуть!
– Хватит. Благодарю!
– Итак, можем выйти все втроем, а мы с тобой, Гилберт, подбросим ее к «Савою». Как-то она сказала, что ей там нравится. Словом, решено!
– В какое время построено это здание? – спросил Гилберт с умозрительностью антрополога.
Рой принялся рассказывать ему про это и еще про что-то. Прибыл бокал для шампанского Гилберту, а также порция скотча для Роя. Они оба пили, а я между тем поразмышлял над своей ролью внештатного громоотвода, потом немного о Пенни, потом с особой озабоченностью о том, как, должно быть, здорово опоздаю на Би-би-си. Когда мы вышли из клуба, мне, чтобы не выслушивать упреков по поводу опоздания, оставалось времени ровно столько, чтобы, быстрой рысью промчавшись по Кинг-стрит, со скоростью участника автопробега рвануть затем вверх по Риджент-стрит.
– Что вы делаете днем? – спросил я по пути у Роя.
– Много чего. Мотаюсь туда-сюда. Но есть и некая скромная радость. Высказать одному охламону, почему я не желаю по его прихоти исполнять «Гарольда в Италии».
– Так ведь там, кажется, партия скрипки довольно-таки…
– Нет-нет, речь идет о том, чтоб палочкой махать. А причина – в Байроне.
– Какое Байрон имеет к этому отношение?
– Даггерс, эта музыка Гектора Берлиоза, умершего, как мы с вами знаем, в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году, в основу которой…
– Господи, ну конечно!
– Прошу прощения, но в последнее время вы как будто совсем перестали понимать с полуслова!
– Ну и при чем тут Байрон?
– Черт побери, ведь он греческий национальный герой! Они постоянно о нем распространяются.
– Значит, мы отказываемся исполнить музыкальное произведение французского композитора, подсказанное произведением английского поэта, скончавшегося полтора столетия тому назад, на том лишь основании, что эта музыка может смягчить сердца соотечественников насчет современных правителей Греции? Так-так.
– Сами знаете, тут опростоволоситься никак нельзя. Приходится приспосабливаться.
– Как же вы допустили, что мы с вами пару недель назад исполнили сонату номер четыреста восемьдесят один! Ведь Гитлер, кажется, тоже австриец?
– Ну, эта тема уже не так актуальна. И аналогия слишком притянута за уши.
– За что?
– За уши! – рявкнул Рой. – У Моцарта нет ни капли восторга перед колыханием знамен.
Шагавший по другую руку от Роя Гилберт всем своим видом демонстрировал вежливое нетерпение, явно не одобряя мою готовность злоупотребить свободным временем Роя и одновременно восхищаясь милосердием патрона. И он поставил меня на место, презрительно-монотонным тоном припечатав:
– Черт побери, это же и ежу понятно!
В поле зрения возникла машина, явно выделявшаяся среди остальных своими размерами и роскошным видом. Сразу и не подумаешь, что подобный выбор характерен для личности, желающей быть, мелькнула у меня жестокая мысль; затем я прикинул вариант, что Рой не столько владеет такой машиной, сколько посредством ее самовыражается. О любом другом можно было бы сказать имеет; его же отличительная черта – быть тем, кому машина принадлежит. Хотя, возможно, он пока еще не преодолел грань между иметь и быть.
Склоненный силуэт внутри обернулся не кем иным, как Пенни в шляпе величиной с экипажное колесо. Она сидела на заднем сиденье. Почему? Может, она переместилась назад после приезда, чтобы освободить отцу место спереди? Исключено. Пенни всю дорогу ехала сзади, выказывая тем самым свое презрение к человечеству, олицетворением которого являлся Гилберт. Это более вероятно. Где-то на периферии сознания пронеслось, что, возможно, Пенни хотела распространить мнение (скорее всего, среди ограниченной части населения), что, мол, до скандальности прогрессивно мыслящий сэр Рой Вандервейн держит чернокожего шофера – в роли которого наглядно выступал Гилберт в своем темно-синем костюме и бледно-голубой рубашке с черным шелковым плетеным галстуком. Само предположение подобной версии в какой-то степени угнетало меня.
– Что ж, поехали все вместе! – бросил Рой зловещим тоном бандита-налетчика. – Полезайте назад, Дуглас!
Пенни отодвинулась от меня подальше так, как отодвигаются в автобусе от совершенно нежелательного, весьма пьяного соседа; для приветствия несколько демонстративно. Сидя вполоборота на переднем сиденье, Рой без обиняков выложил, что собирается подбросить меня до студии, после чего направиться в «Савой», между тем Пенни пялилась в окошко на какую-то ограду. При таком ракурсе, да к тому же из-за ее шляпы, собственно Пенни мне было плохо видно, но, даже несмотря на это, что-то в ней вдруг физически остро напомнило мне Сильвию. Ощущение сходства ушло, и я успел лишь бегло сообразить, на что оно не распространялось: лицо, волосы, фигура, одежда, запах. В последней из упомянутых сфер для Пенни было характерно обилие источаемых женской плотью теплых ароматов, хотя и без всякой иной примеси. Быть может, она тайно любила не только музыку, но и мыться? Замечательно, но только если я умудрился как-то углядеть сходство между двумя юными особами, вполне вероятно, даже возможно, даже допустимо, что это мог сделать и Рой. Не исключено, что инцестное влечение воплотилось у него в…
Дав себе не слишком пылкую клятву откопать дешевый справочник популярной психологии, который, я был почти уверен, до сих пор валяется где-то в ящике буфета в моей квартире, и при первой же возможности зашвырнуть его в Риджент-канал, я хотел было попристальней взглянуть на Пенни, что, однако, пришлось на неопределенное время отложить, поскольку Гилберт с лихостью гонщика международного класса, обходящего рытвины, рванул с места стоянки, и меня швырнуло затылком на спинку сиденья. Этим все не кончилось, так как Гилберт тут же произвел крутой вираж и меня с силой вдавило в дверцу с моей стороны, а Пенни кинуло в распластанном виде ко мне на колени, чему я был очень рад.
– Полегче, Гилберт! – с сочной интонацией произнес Рой.
– Вот те на! Стараешься, а вместо благодарности…
В его словах я уловил некий протест, и, если задуматься, не столь уж безосновательный. Но на подобные размышления времени не было. Не успел я поддержать Пенни, как она уже приняла вертикальное положение и поправила шляпу на голове. На ней была малинового цвета юбка – сварганенная, видимо, из старой занавески, и такая широкая, что под нею вполне могло поместиться еще пары три-четыре ног, – алые ажурные перчатки выше локтя и замшевый жакетик с глубоким вырезом, из которого куполами страусовых яиц выступали ее груди. Пенни взглянула на мети, и мне открылись ее глаза, ее кожа.
– Ваш лоб как будто получше, – произнесла она.
– Да, спасибо! Быстро зажило.
– Небольшой след остался, но, я надеюсь, скоро исчезнет. Кстати сказать, он еле заметен. Я заметила только потому, что знаю, куда смотреть.
– Да, уже все в порядке!
– Простите, что была с вами тогда груба. Меня одна вещь очень расстроила, а когда меня что-нибудь расстраивает, я делаюсь грубой.
– Ах так!
– Словом, простите.
– Не стоит!
Моим глазам не слишком хотелось от нее отрываться, но я перевел взгляд и заставил себя смотреть в окно. Может, это – одна из форм ее дурацкого протеста против такой ничтожно-благопристойной атмосферы в машине? Или я вовлечен в одну из полных скрытого сарказма игр в искренность, когда некая А, наращивая обороты своей искренности, доводит некого Б до такого состояния, что он либо оказывается идиотом, позволившим так долго водить себя за нос, либо хамом, грубо обрывающим ее козни. Против этих домыслов говорил тот факт, что игра хороша, если есть зрители, а Пенни говорила, понизив голос, хотя вполне могла бы говорить громче, чтобы перекричать рев мотора, производимого автомобилем, который Гилберт запустил как стрелу в сторону Пиккадилли-серкус. Может, Пенни в самом деле извинялась? Но вот, так же тихо и так же пристально глядя на меня, она спросила:
– О чем вы с ним беседовали?
– Так, ни о чем особенно. О музыке.
– Он вам говорил насчет субботы? Ближайшей субботы?
– Нет. А что будет в субботу?
– Вы в этот день вечером свободны?
– Могу освободиться. – В субботу вечером мне предстоял концерт сольного пения и свидание с Вивьен; первое можно пропустить, а второе отложить. – А что?
– Он мне говорил, что собирается организовать небольшой ужин. В ресторане. Чтобы была я, вы и эта девица.
Вот она, услуга! Что ж, Гилберту нельзя вовсе отказать в интуиции, а Пенни удалось освободить Роя от того, чтобы самому сделать мне в удобный момент это предложение. Как он сможет одновременно договориться и с Гилбертом, предугадать было трудно, однако Рой всегда отличался обилием и разнообразием своих возможностей. Я спросил машинально:
– Какая девица?
– Ее зовут Сильвия. Вы, должно быть, с ней встречались. У нее такие длинные волосы.
– Да. Действительно, встречался. Когда вы с ней познакомились?
– Я в жизни ее не видала! Он мне о ней рассказывал. Ну, и как она внешне?
– Она… э-э-э… не в моем вкусе, – с трудом выдавил я.
– Угу, он говорил, что молоденькая. Хорошенькая?
– Я бы не сказал. Но, разумеется, о вкусах…
– Так что, пойдете на этот ужин?
– Не думаю.
– Бросьте, пошли, это будет забавно! Сами сказали, что освободитесь.
– Забавно? – Я постарался не придать этому восклицанию слишком легкомысленно-бодрое звучание. – Вот уж чего бы никак не сказал, имея в виду… имея в виду ее общество. Хотя, гм, для вас, возможно, это выглядит забавно, не так ли, показаться в свете с папашей и его птенчиком да вдобавок еще с одним типом для ровного счета? – А что такого?
Я набрал побольше воздуха в легкие, чтобы сказать ей, что если с точки зрения такого ветхого и древнего понятия, как чувство меры, она не видит ничего особенного в данном предложении, то я предпочту в компании служителей Церкви заявить, что у меня просто нет слов. Но на мгновение я задержал дыхание, осознавая, к моему вящему раздражению, или неловкости, или чему-то еще, что больше уже не ощущаю во всем этом деле ничего предосудительного. Тут вдруг мне пришлось разом выпустить весь воздух из груди, потому что автомобиль резко затормозил, как будто врезался в кирпичную стену, и я метнулся вперед и ударился лбом о спинку сиденья Роя. Машина не слишком разогналась и край, по которому я пришелся лбом, был не столь остер, как у притолоки в доме Вандервейнов; и все же я испытал на удивление сходное ощущение и, должно быть, выглядел подобным же образом, по крайней мере для Пенни, потому что она зашлась подобным же смехом.
Я разобрался в происшедшем. Машина врезалась не в кирпичную стену, а в идущий впереди автобус, слегка помяв ему зад, но сама при этом осталась вроде как бы невредимой. Все трое моих попутчиков также были целы, без сомнения предвидев столкновение. Гилберт высунул голову в окошко, Рой приоткрыл дверь, а Пенни хохотала и, как видно, от всей души. Переходившие улицу пешеходы останавливались, глазели, и так и замирали посреди улицы. Мы застряли на углу Кондуит-стрит. Было ровно четверть первого. На противоположной стороне улицы показался полицейский.
Бросив Рою, что буду звонить, я выбрался из машины и оказался на тротуаре. Впереди по всей Оксфорд-серкус застыли ряды неподвижного транспорта. Я двинулся вперед легким шагом пехотинца, предпочтя явиться в студию, опоздав минут на двадцать, но в свежем виде, чем опоздать меньше чем на четверть часа, но явиться во взмыленном. Я пробирался через заслоны семейных групп, передвигавшихся со скоростью едва начавших ходить младенцев, мимо дам с собаками на длинных поводках, мимо сцепленных под ручку троек, мимо внезапно останавливающихся старцев, мимо фаланги школьников, мимо двух увлеченно беседовавших девиц, мимо идущего прямо на меня сикха, уткнувшего нос в развернутую карту города. Больше всего раздражало меня в смехе Пенни предчувствие, что завтра я смогу определить в полной мере его мотивы, ни единого из которых сегодня представить абсолютно не способен. Смешное привлекает не потому или не столько потому, что несчастья ближнего увлекательны с безопасного расстояния, но именно в силу стирания отставания по времени. Кончится запись, и я зайду в пивную Джорджа, закажу себе пинту пива, кусок круглого острого сыра, круглый ломоть ветчины и побольше горчицы. А потом, дома, буду слушать новую запись моцартовских сонат К-415 и К-467 в исполнении Вальтера Клайна.
Я перешел Оксфорд-стрит, и тут меня кто-то окликнул сзади; это оказалась Пенни собственной персоной со шляпой в руке. Я остановился. Все проходившие мимо оборачивались и глядели на нее. Внезапно я почувствовал, что мотаюсь вот уже семь часов, что мне жалко коврик, с которым что-то приключилось, что у публичного громоотвода в контракте должен быть пункт, оговаривающий исключение из его обязанностей ответственности за все, начиная с присутствия в клубе и кончая отсутствием у Моцарта восторга к колыханию знамен, что мне душно, что у меня ноет сердце.
Пенни подошла ко мне: физического волнения в ней ощущалось меньше, чем можно ожидать от такой завзятой флегмы, однако вполне достаточно для того, чтобы мой взгляд тут же упал на вырез ее костюма. Должно быть, она их чем-то подпирает, подумалось мне. Что-то там снизу подкладывает. Может, рулоны туалетной бумаги?
– Погодите минуту, – сказала она.
– Не могу, мне нужно на Би-би-си. Я опаздываю!
– Ничего, подождут.
– Пенни! Мне надо идти.
Вынырнувший из-за моей спины тип в комбинезоне врезался в Пенни с такой силой, что ее развернуло, однако она и рта не раскрыла ему вдогонку, хотя мы с Вивьен никогда бы не оставили такое без внимания.
– Вы пойдете с нами в субботу на ужин?
– Простите, не смогу.
– Как это, не сможете? Вы же сказали, что свободны!
– Я не могу, я не хочу, я не собираюсь туда идти!
– Послушайте, вы же вовсе не старик, в самом деле! Ведете себя так, будто вдвое старше его. Да ну вас, прямо умирать собрались!
Я шагнул к ней:
– Я никуда не пойду, потому что одна из девушек – точная ваша копия, а другая – вы сами. Я мог бы добрых полчаса распространяться о том, что мне здесь не нравится в отношении вас, потому просто скажу, что помогать ему в этом деле – значит, делать больно Китти, и не надо мне говорить, будто она все знает и не против! Она заботится о вас и хорошо к вам относится, дай бог ей здоровья, а я не желаю ничего иметь общего с теми, кто считает, что поступать так – это нормально, или забавно, или почему бы и нет, или замечательно, или классно! А теперь – уходите!
Часы в фойе студии показывали без двадцати одной минуты час, когда я ворвался туда через вращающуюся дверь. Увидев меня, стоявший за конторкой продюсер программы, в которой я участвовал, поспешил навстречу.
– Простите, Филип! Меня мало повесить.
– Вам уже вроде и так досталось? – сказал он, взглянув на мой лоб. – Как вы себя чувствуете? Ладно, не переживайте, у нас студия до часа. Если сможете, то…
Тут он в немом недоумении уставился мне через плечо.
Это снова была Пенни.
– Простите, что я рассмеялась в машине.
– Ничего. Но теперь…
– Помогите мне, Филип!
Приказ подобного рода не имеет себе равных, тут нельзя не проявить участия и все же нельзя при такой постановке вопроса надеяться на успех в исполнении. Прикладывая ко лбу руку, я сказал:
– Хорошо. Минут через двадцать я спущусь, тогда… Ну или позвоните мне!
Запись прошла без сучка без задоринки. Когда я спустился в фойе, Пенни там уже не было.
Глава 3
Оказание услуги
По мере приближения этого дня мысль о помощи Пенни скрашивала пугающую перспективу, так как я прикидывал вероятность и этический ракурс расширения или сужения ее просьбы до надобности снять с нее замшевый жакетик, содействия избавлению от пижамки и прочего. Отчасти я считал, что фланг, отводимый Вивьен, прикрыт известным мне и допускаемым мной тем другим типом, – хотя, подчеркиваю, лишь отчасти: совершенно очевидно, что поговорка «каков соус для гусыни, таков и для гусака» явилась следствием солидаризации гусаков, дабы сделать рядовой гусыне впечатляющий намек. Но в отношении Пенни как раз не все казалось столь ясным и четким. Помощь, о которой она просила, могла колебаться в диапазоне от просьбы ее удочерить до моего согласия в конце концов прийти в субботу, подпитанного остро отдающим под ложечкой или в боку сознанием, что придет и она. Последнее я считал моральной поддержкой, в случае если меня обвинят, что воспользовался в своих целях чьим-то смятенным состоянием. Что ж, каким бы это состояние ни оказалось, во всяком случае о невинности тут говорить не приходится. Все это в достаточной мере служило мне самооправданием, и его мне с лихвой хватало на предстоящие планы.
Вместе с тем, когда вечером того же дня мне позвонил Рой – формально с вопросом, привезли ли новый коврик (да, привезли) и подходит ли он мне (да, вполне подходит), – он походя заметил, что, наверное, Пенни уведомила меня о его пока предварительной идее насчет того, чтоб слегка проветриться в ближайшую субботу, на что я ответил: да, уведомила, добавив, что, на мой взгляд, идея довольно привлекательная.
– В самом деле? Когда мы это обсуждали в последний раз, вы высказались иначе.
Я счел неуместным напоминать ему, что мои последние слова тогда были как раз в поддержку. Я знал, что Рой, большой мастер заставлять других делать то, что ему хочется, становился весьма подозрителен, если эти другие шли на это с охотой. Я нашелся, заметив, что одобряю идею условно, в общих чертах, и предусмотрительно осведомился о деталях. Что дало ему приятную возможность навести туману сверх меры. Под конец мне удалось вытянуть из него название паба в Айлингтоне, где предстояло сойтись вечером, и даже выведать время встречи. Дальше, заверил он с убежденностью опытного стратега, будем действовать по обстоятельствам.
– Как Пенни? – спросил я.
– Пенни? – Роя мой вопрос явно озадачил. – Отлично! Почему вы спрашиваете?
– В последний раз мне показалось, будто она какая-то не такая.
Тут Рой в своей манере по-волчьи взвыл, изображая догадку:
– У-у-у-у! Это! Да ну, ерунда. Вы поняли, надеюсь? Она решила, что вы обиделись, что она рассмеялась, когда вы стукнулись головой, и хотела извиниться. Неужто не понятно?
– Допустим. Не круто ли для нее, нет?
– Да нет, уверяю вас, вполне в ее духе! Как ваша голова?
– Ничего, работает. Как ваша машина?
– Делайте примочки. Машина пару дней проторчит в ремонте. Вы так психовали, чтобы не опоздать на эту чертову запись, что Гилберт позабыл, для чего существуют тормоза. Нет, нет, я иного не виню!
– Понятно. Скажите, а как вы узнали, где Пенни?
– Гилберт вычислил, но он остался при машине, а я просто пошел к зданию Би-би-си, где ее и подобрал. Кстати, мы замечательно пообедали в «Савое». Жаль, вас с нами не было. Надо сказать, Пенни все время на этот счет сокрушалась. Гилберт, правда, и бровью не повел.
– Ему известно, что намечается на субботний вечер?
– Предоставьте это мне. Да! Уж не знаю, что вы Пенни такого сказали, только вы произвели впечатление; насколько могу судить, благоприятное. Послушайте, если сумеете, найдите к ней какой-нибудь подход, так было бы лучше для всех.
«Для всех», – повторил я про себя, вешая трубку. Для кого, – для Гилберта? Или Вивьен? Или того другого типа? Или меня? Скорее всего, для самого Роя. Были ли его слова – перед тем как повесить трубку – данью перестраховке в предчувствии возможных осложнений с Пенни в субботу или он вынашивал далеко идущие планы, учитывая то, что я уловил тогда у них в доме на кухне в его вопросе насчет ее взглядов? Беда с этими врунами, решил я про себя, запоздалым жестом вынимая пластинку Вебера из его ящичка, никогда не знаешь, правду говорят или лгут.
В субботу днем у меня было довольно-таки хорошее настроение. На прошедшей неделе Гарольд Мирз без звука пропустил в печать то место в рецензии, где я хвалил болгарку сопрано. Я представил Гайдна в оригинальной, упрощенно-бытовой трактовке, то и дело вставляя теплые отзывы об исполнительском мастерстве и качестве записи, и отправил рецензию в «Проигрыватель». Фирма «Нонпарель лейбл» заказала мне сделать аннотации для пластиночных конвертов к записям всех сонат Моцарта в исполнении какого-то нового пианиста из Парагвая. С Вивьен все обошлось без проблем, когда я ей, звонившей с полпути ко мне, много ближе, чем мне бы хотелось, предложил даже не перенести, а попросту отменить наше свидание в этот день. Она ответила, что в таком случае у нее появится возможность заняться письмами, и так это прозвучало неприкрыто банально, что уж лучше б она соврала.
Привычных трех минут мне не хватило, чтобы решить, что надеть. По большому счету, идеально подошла бы такая кожаная куртка, которая, если вывернуть наизнанку, превращалась бы в смокинг, к ней манишка и галстук-бабочка, лакированные башмаки с металлическими носками, ну и тому подобное. Но ничего такого у меня не оказалось, потому я остановился на черном костюме, черной рубашке и черных ботинках, а также черном шейном платке, решив припрятать в рукав, а еще лучше запихнуть в карман брюк некоторые детали для быстрой смены защитной окраски, а именно, пару галстуков: один психоделического вида (в качестве шутки подаренный мне сестрой), второй нормальный. В половине шестого я выпил пинту молока, чтобы предохранить желудок от того содержимого, которым Рой, вероятно, меня осчастливит, переложил бумажник из правого в левый нагрудный карман и вышел из дому.
Препротивно нудный путь в метро, как в пространственном, так и в познавательном плане, вывел меня наконец наружу на станции Энджел. Мне показалось, что продавца газет слегка передернуло, когда я назвал ему заведение, в которое направлялся, хотя, завидев этот дом, издали ничего пугающего не обнаружил. Надо сказать, я ожидал увидеть безлюдные улицы, незаселенные дома, поскольку мой приятель, фаготист, который сидит слева от дирижера, и его жена, арфистка, – с той же стороны, рассказывали, что они недавно одними из первых переселились в этот новый район. Оказалось, напротив, по виду район был очень даже обитаем, и на улицах сновала масса народу, молодого и пожилого возраста, как бы перемещающегося с места на место или праздно разгуливающего, поскольку в такой не слишком поздний час – было около шести – возвращаться с работы еще рановато. Легко лавируя в толпе, я без происшествий дошел до нужного дома.
При ближайшем рассмотрении вид заведения уже не показался мне слишком безобидным. Стены – правда, при весьма беглом взгляде или же моем, но без очков – были, похоже, облицованы разнородными деревянными планками и отделаны полосками из оцинкованного железа. Повсюду налеплены устаревшие плакатики военного времени или же их репродукции, составляя как бы часть непонятного наружного стенного покрытия. Все же я вошел внутрь и очутился в маленьком вестибюле, освещенном лишь несколькими указателями-стрелками: «Бар наемников», «Бар "Отечество"», «Походная кухня», «Блиндаж». Рой обмолвился насчет того, что встреча в каком-то подвале, потому я выбрал последний указатель. В самом низу крутой деревянной лестницы без боковин и с веревкой вместо перил я натолкнулся на какую-то прилипчивую преграду, которую при скудости освещения опознал как пластиковую занавеску, закамуфлированную, опять-таки предположительно, под брезент. В тени углублений, разрисованных под бетонированные укрытия, я углядел две сидевшие на корточках пары. По стенам висели муляжи винтовок, противогазов, гранат. Больше я разглядывать ничего не стал, а направился прямо к стойке бара, где меня встретила девица в форме, расцвеченной орденскими ленточками и сержантскими нашивками. Как раз в этот момент откуда-то из разных невидимых источников грянул немыслимый вой, напоминавший ор Эшли Вандервейна, только значительно ниже и сопровождавшийся грохотом и вялыми ударами. Все же мне удалось заказать себе пива «Гиннесс», после чего я пошел и сел на снабженный подушкой ящик из-под боеприпасов.
Прошло, как мне показалось, около часа, хотя, возможно, и минуты две, и я уж было собрался выйти подождать на свежем воздухе, как вдруг, сражаясь с занавеской, явились Рой и Пенни. Пенни была без шляпы, но в сапогах; насчет остального, что на ней было или чего не было, я определиться не смог. Она молча уселась рядом со мной, Рой отправился к стойке, а я осведомился, как ее дела, предусмотрительно понизив голос до предела.
– Что-что? Не слышу, шумно!
Я пододвинулся к Пенни поближе, достаточно близко, чтобы ощутить тот теплый запах чистоты, который уловил тогда в машине, и повторил свой вопрос.
– В порядке. А что?
– Вы не позвонили.
– А зачем мне вам звонить?
– Ну, не знаю! Откуда мне знать зачем, раз вы так и не позвонили.
– Что, разве я обещала?
– Нет, это я сказал, чтоб позвонили, если я понадоблюсь.
– Мне? Зачем?
Кровь с силой прилила к голове, грозя навеки вывести мои мозги из строя. По-моему, теперь, основываясь на разнообразном опыте от просмотра многочисленных фильмов и телепостановок, при желании можно на вопрос вовсе не отвечать и вместо этого просто пожимать плечами; потому я молча пожал плечами. Но тут мне пришло в голову, что во мраке Пенни может неверно истолковать этот жест, принять за излишне возбужденное подергивание или не заметить вовсе. Тогда я принялся что-то бормотать. В мое бормотание Пенни не вникала. Безусловно, я попал в дурацкое положение, либо потому, что поспешил напомнить ей насчет обращения за помощью, либо решив, что она обязательно помнит, что говорит. Ничто так не молодит, как пребывание в обществе юных: чувствуешь себя прямо-таки четырнадцатилетним юнцом, точнее – то и дело без нужды краснеющим, наивным четырнадцатилетним придурком. Я услышал, как спрашиваю Пенни, нравится ли ей здесь.
– Гнусная дыра! – произнесла она, закуривая сигарету.
– Непонятно, почему у них такая темень. И грохот!
– Что-что?
В этот момент как раз подошел Рой, неся, насколько я мог разглядеть, напитки себе и дочери.
– Мы тут как раз говорим, до чего отвратное место! – сказал я.
– Мерзее не придумаешь, правда? – с готовностью согласился он, отпивая.
– Тогда что нас сюда понесло?
– Просто здесь удобнее.
– С чего это вы взяли?
– Отсюда потом удобнее направиться в другое место.
– Какое?
– Да тут, за углом.
– Так, и куда же именно?
– Думаю, вы оба согласитесь, что здесь любопытно.
Мне изо всех сил хотелось надеяться, что кирпичная стена здесь просто так, вовсе не для того, чтобы заслонить ту удручающую перспективу, одного вида которой достаточно, чтобы я, или Пенни, или мы вместе со всех ног кинулись бы прочь по Сити-роуд. Я размышлял на эту тему в перерывах между довольно-таки подробным, такт за тактом, рассказом Роя о его состоявшейся сегодня репетиции с Новым Лондонским симфоническим Пятой симфонии Малера. Окружавший нас шум затруднял и общение Роя с Пенни, поскольку ему требовалось постоянно орать что есть силы, а скрюченный силуэт Пенни свидетельствовал, что она вовсе не слушает. После того как Рой уже второй раз описал мне свою стычку с главным контрабасистом (может, он, что вполне понятно, уже успел набраться?), я вмешался в его повествование, произнеся не слишком пылко, но достаточно громко:
– Знаете, по-моему, лучше бы старина Гус Малер сперва написал на отдельном листе свои программные требования, а затем шел бы от них к партитуре. Раз уж струнные не сумели достичь согласованности, к которой стремились битый час, тогда трубы с тромбонами торжественно доносят идею…
– Вот и она!
Появилась Сильвия, одетая, насколько могло определить мое ночное видение при подсказке памяти, запечатлевшей ее предыдущий внешний вид, так же, как при первой встрече. Рой встал и, видимо, ее поцеловал, после чего представил свою птичку дочери, в манере и с жестикуляцией, отдаленно напоминавшей его публичное выступление в момент патетической кульминации. Потом они с Сильвией направились к стойке. Я повернулся к Пенни, уже чувствуя себя не четырнадцатилетним, лет на двадцать старше, но, на мое удивление, она первая выкрикнула:
– Куда он намерен нас отсюда вести?
– Представления не имею.
– Я не хочу туда!
– Я говорю, представления не имею!
– Слышу! Не хочу туда идти! Никуда не хочу! Ясно?
– То есть хотите здесь остаться?
– Господи, ну что за идиот!
Мне показалось, даже если я сейчас издам душераздирающий вой, с каким в подземном тоннеле проносится поезд метро, до ушей Пенни мой крик все равно не дойдет.
Она придвинулась, чтоб я услышал ее слова, произносимые обычным, негромким голосом:
– Мне вообще ничего не хочется! Нет такого, что бы мне хотелось! Нет, и все. Надоело жить с ней – то есть с Китти, она противней всех, даже Пышки-Кубышки, – а где хотелось бы жить, не знаю. Мне противно быть одной, и противно с кем-нибудь вдвоем, и противно в компании. То есть я терплю, но мне все время кажется, еще немного, и не выдержу. Не могу думать ни о чем, только о том, что я чувствую, а чувствую всегда, что думаю о том, что чувствую. Уж лучше не просыпаться!
Это было произнесено без открытой враждебности, очевидной только что, и совершенно беспощадным по отношению к самой себе тоном. Так телевизионный редактор во время обсуждения сценария бодро от первого лица заявляет важного второстепенного персонажа, которого хочет ввести. В мгновение, когда вспыхнула ее сигарета, я увидел, что Пенни смотрит на меня, будто явно ждет, что я ей что-то скажу. Чтобы поддержать разговор, я спросил:
– Вы что, под наркотиком?
– Сейчас – нет. Почему-то считается, что они помогают, а оказывается, нет, вовсе нет. Не мне, во всяком случае. От них будто видишь все во множестве зеркал или в каком-то странном зеркале, как при мигрени, или будто смотришь вверх, лежа на полу, только все равно получается то же. Даже если все кажется другим, подергивается не поймешь чем или дробится огнями на отдельные предметы, или даже если перестаешь привычно видеть и слышать, все равно знаешь, что все осталось на своих местах. Не то чтобы вернется, когда ты вернешься в привычное состояние, а просто ничего не менялось. Даже если не удается вспомнить что-то конкретное. Да нет, никакого такого…
Ее голос потонул в недолгом гаубичном feu de joie,[3] отразившем некую кульминацию в неистовствовавшем вокруг музыкальном сопровождении.
– Чего-чего?
– Героина! – рявкнула Пенни. – Его считают самым крутым наркотиком, когда тебя…
– Так вы его не принимали?
– Пока нет.
– И не хочется.
– Почему бы нет? Что мне мешает?
– Почему бы нет! Да потому что, боже мой, это вас погубит!
– Ну и что?
Тут несшийся со всех сторон рев оборвался. Я уставился на Пенни, почему-то на миг вообразив, что теперь смогу рассмотреть ее получше. Она рассмеялась так заразительно, словно я в третий раз пришелся обо что-то лбом.
– Да брось, старик, не переживай! – сказала она с дружеской снисходительностью. – По крайней мере, сейчас колоться не собираюсь, но все же спасибо! Словом, можешь успокоиться. Все живы-здоровы и ничего не капает!
Я все думал, что бы ответить, как вдруг над нами нависла тень Роя:
– Как вы, ребята? Я бы уже предложил двигать отсюда, если не возражаете.
Тут я обрел дар речи. Я сказал:
– Пошли!
Света у стойки было чуть побольше, чем в остальном помещении. И пока Сильвия допивала свой стакан, какой-то маленький и волосатый молодчик повернулся лицом, и я увидел, что он в темных очках. Я инстинктивно подался вперед, заслоняя его от Роя, даже не успев еще сообразить, как далеко, памятуя о случае на углу Сент-Джонс-роуд, может завести Роя в данных обстоятельствах неравнодушие к обладателям темных очков. Я дернулся, при этом наступив на ногу Пенни и толкнув Сильвию так, что у нее из стакана чуть не выплеснулось содержимое.
– Эй, ты что, того! – крутанулась она ко мне, выплеснув остальное уже без моей помощи. – Уже набрался, что ли?
– Дорогая, этого быть не может, – авторитетно заявил Рой. – Даггерс не набирается никогда. Это противоречит его сути.
– Ага, такому только волю дай!
– Простите! – сказал я. – Я нечаянно. Простите, Пенни!
– Ничего, старина, – сказал Рой, – в этом говенном мавзолее ни черта не разглядишь! Пошли-ка на выход!
Рой посматривал на меня через плечо, а я семенил за ним, повторяя или предугадывая его движения, но вместе с тем не забывая заслонять собой молодого парня в темных очках.
– Послушайте, может, вам нехорошо? – Рой подался вперед, чтобы рукой отодвинуть занавеску, с интересом наблюдая за моим смещением в нужную сторону. – Вы как-то несколько…
– Здесь очень душно!
– Какой же я осел! Совершенно забыл, как здесь гнусно. Хотя, по правде говоря, тут стало даже гнусней с тех пор, как я здесь был. Но кормят неплохо, по крайней мере раньше кормили. В «Походной кухне» к обеду подавали неплохое скампи, гамбургер и салат, – сообщил Рой, обрисовав скупыми штрихами тот самый набор, который (он, видно, запамятовал) выдавал в свое время как пример самой отвратительной пищи.
Светопреставление позади возобновилось и, когда мы добрались до первого этажа, неслось уже со всех сторон. Я ожидал, что на улице уже непременно густая тьма, может, уже и звезды на востоке начнут бледнеть в преддверии рассвета, но оказалось, еще и солнце не заходило. Беленькие кафе и магазинчики, торговавшие бандитским снаряжением, чередовались с мрачными заведениями, выставлявшими себя бистро и бутиками. Девушки шли впереди: Пенни – как бы разглядывая прохожих, Сильвия – пялясь на витрины магазинов.
– Гляжу, вы налаживаете контакт с малюткой Пенни? – сказал Рой.
– Да, все в порядке, – говорить о Пенни сейчас мне как-то не хотелось.
– Она станет покладистей, увидите. Все ее выдрючивание просто поза, не больше. Сплошная видимость!
– Не слишком ли авторитарно судите? А как же ее новый взгляд на мир? Тоже сплошная видимость?
– Да какие у нее особенные взгляды! Вот у Сильвии действительно взгляды!
– По-вашему, Пенни для современной молодежи не типична?
– Боюсь, в основном нет.
– Но откуда вам знать?
– Бросьте, она – моя дочь!
– Уж это точно.
Мы обогнули угол и направились к огромному черному автомобилю, стоявшему у тротуара. Боковым зрением я ощутил, что кто-то сидит за рулем, и сжал Рою локоть.
– Неужели Гилберт?
– Черт побери, да нет же! Возьмите, Даггерс, себя в руки! Нанятый шофер и взятый напрокат автомобиль. Всего на вечер. Для удобства передвижения.
Рой усадил меня сзади меж двух девиц, а сам сел рядом с шофером. Мы тронулись. Пенни демонстративно повернулась ко мне спиной и отодвинулась подальше: не хватало еще коленками стать на сиденье. Я взглянул на Сильвию, от которой на этот раз пахло морковкой, и произнес, как мне показалось, вполне нейтральным тоном:
– Не знаете, куда мы едем?
– А чего вы так нервничаете?
– Что значит нервничаю?
– То и значит. Послушаешь вас – вам все нужно обо всем знать наперед. Что ни возьми, вам важно, чтобы во всем был пла-а-а-н!
– Я просто спросил…
– К вашему сведению, нельзя научиться понимать суть, если всегда все знаешь заранее! Нельзя видеть то, что сейчас, каким оно было вчера. Невозможно, если хотите знать, удержать все на своих местах. Все непременно должно меняться. К вашему сведению.
Рой кивнул пару раз – то ли в поддержку, то ли в такт автомобильной тряске, с рессорами был явный непорядок. Я попытался представить, какие они с Сильвией ведут беседы, но тут же бросил эту попытку. Уже во второй раз за последние пару месяцев мне вдруг открылись возможные достоинства Восьмой симфонии Брукнера. Между тем Сильвия продолжала:
– Ведь это спятить надо, чтобы переживать, если что-то с чем-то не сходится! И это вы называете жить? Ничего, кроме уверенности, что сегодня – то же, что вчера, и на прошлой неделе, и в прошлом году? Да разве вы живете! Вы чувствовать не способны! Да с таким, как вы, честное слово, противно было бы дело иметь. Вас и не потянет никуда и ни с кем, если придется вести себя не так, как вы привыкли!
На этом ее демонстрация нового мировоззрения окончилась; проехав примерно полмили, мы остановились. Как и у Пенни в «Блиндаже», манера говорить Сильвии совершенно не соответствовала содержанию ее речи: в тоне Сильвии слышалась забота, волнение, сочувствие, истинное стремление уберечь ближнего от опасности, предлагая верные средства. Однако весь ее потенциал был потрачен вотще, по крайней мере в отношении меня. Не проявляя избыточной активности, я вписался в конец рыхлой очереди, двигавшейся в направлении каменного крыльца и исчезавшей в глубине огромного кирпичного здания. Кругом было множество красочных объявлений, иные весьма старые и ужасающего качества.
– Это бинго? – полюбопытствовал я у Пенни.
– Да вот же, глядите! Дурацкая борьба.
Я хотел было ей заметить, что она, видимо, изволит шутить, но совершенно не мог подыскать выражений, чтобы изложить это попроще, и снова, вот уже не в первый и не в последний раз за этот вечер, забормотал что-то себе под нос. Развитие наших отношений застопорилось, и я взглянул на Роя: станет ли он организовывать нам почетное проникание внутрь или же демократически предпочтет, чтобы мы отстояли очередь за билетами? Я склонялся к первому варианту, поскольку лицезрение борьбы, сколь бы замечательной и исключительной она ни была, никак не могло считаться грандиозным событием, за которое необходимо сперва заплатить. Более приличествующей по размаху мне представлялась метро – автобус – пешая прогулка до Ковент-Гарден, затем места в середине первого яруса на премьере «Отелло» в новой постановке, после чего ужин с шампанским в «Савой-гриль». Однако я оказался не прав: парами мы прошаркали до кабинки билетера. Я шел в паре с мрачной Пенни. Но стоило Рою вытащить бумажник, как Сильвия заявила, что никуда идти не собирается.
– Да ну, дрянь допотопная! – заявила она, засовывая кулаки в карманы своего жилета без пуговиц и до колен. – Развлечение для папочек и мамочек, занудство!
Это явно расстроило Роя. Было также явно, что во всем этом деле его не так расстроила перспектива препирательства, перемены планов и т. п., как то, что он неверно угадал, чего именно хочет Сильвия и что, собственно, составляло солидную толику ее мировоззрения в целом. Рой, непонятно почему вдруг очень напомнив мне сильно повзрослевшую Клодетт Кольбер или Жана Артюра в мужском костюме, но распустившего на данный вечер волосы, принялся убеждать Сильвию, что зрелище крайне увлекательное, просто класс и все такое, однако получалось у него плохо. Я что-то вставил в его поддержку, слишком поздно сообразив, что лучше б мне заклеймить данный вид спорта как вульгарный, безнравственный, новомодный, непредсказуемый. Но вместо того чтобы просто уйти, Сильвия удвоила свои протесты. Стоявшие в очереди сзади нас заволновались; я их прекрасно понимал. Тучная дама в желтой шляпке, похожей на феску, не слишком скандально призвала нас либо двигаться вперед, либо выйти из очереди. Вынув из карманов руки, Сильвия мигом повернулась к ней и, сузив глаза, процедила сквозь зубы:
– А ты заткнись! Заткнись, ясно?
В ответ посыпалось: да понимает ли она, с кем говорит, да кто она такая, да как она смеет и всякие другие непростые вопросы, в ответ на которые Рой тараторил что-то невразумительное.
– Ради бога, пошли отсюда, – сказала Пенни, – иначе влипнем в дурацкую разборку! Да и зрелище это – фигня сплошная. Я по телевизору видела. Какие-то «рычаги», захваты, броски – канадец один объяснял. Ведь всем ясно – результат заранее предрешен. Детский сад какой-то. Ну же, пошли отсюда! Я есть хочу!
Блеснув талантом не тратить слов понапрасну и элементарно заткнув рот даме в желтой феске приказом «Заткнись!», Сильвия повернулась к нам как раз на последних словах Пенни.
– Ладно, ладно, ладно, – произнесла она с некоторым раздражением, при этом слегка улыбнувшись, – раз уж вам так хочется! Но предупреждаю: как только надоест, немедленно уйду!
В фрагментах гипсовой лепнины, щербатым бордюром окаймляющей верх одной из стен, а также в облупленных, покрытых закопченной позолотой люстрах, которые никто не удосужился почистить, угадывались приметы былого облика этого заведения в виде театра-варьете или допотопной киношки. Здесь повсеместно виделись благодатные для социолога наслоения всевозможных веков, классов и рас, разве что не осталось следов старшего поколения земельной аристократии. Мы заняли свои места у ринга, Пенни – справа от меня, Сильвия слева, Рой слева от Сильвии. Первая встреча была объявлена как международная в среднем весе между малым из Суиндона с немецкой фамилией и другим малым из Болтона с польской. На мой взгляд, боролись они со знанием дела: обмениваясь звучными, как крокетной битой по мешку с цементом, тумаками; описывая чистый полукруг, били друг друга наотмашь в шею; выставив живот вперед, падали со всего маху на одно колено – и при этом каждый раз поверженный при счете девять, шатаясь, но готовый к борьбе, оказывался на ногах. В перерывах борцы, при звуке колокола вмиг отрешившись от зверства, по-рыцарски обменивались рукопожатиями.
– Звездные мальчики! – произнес Рой в конце четвертого раунда.
Поскольку девицы и бровью не повели при этом восклицании, я переспросил Роя, что он имеет в виду.
– Чистый спорт! Честная игра! – припечатал он. – Специально подзадоривают публику, готовят к предстоящей мясорубке.
Девушки одновременно фыркнули, обменялись взглядами, отвернулись. Удивившись такой осведомленности Роя, я почти вспомнил некую статью, попавшуюся в одном воскресном журнале пару недель назад. Борьба продолжалась. Под конец то ли немец, то ли поляк поднял то ли поляка, то ли немца, взвалил его себе на плечи, немного постоял, раза три прокрутился вместе с ним на месте, потом довольно аккуратно опустил на ковер противника и стал на него коленом. Звякнул колокол. Некто в смокинге, довольно долго говоривший в самом начале, пробрался на ринг с мегафоном в руке и с неспешной важностью офицера, вернувшегося с поля боя, объявил результат решения судейской коллегии, мол, в результате верчения противника пропеллером и последующего низложения его на лопатки один из борцов одержал верх в решающем раунде, что позволяет назвать его победителем. Последовали кое-какие аплодисменты, к которым благоразумно присоединился и Рой – словно хлопал коллеге-виолончелисту, вполне профессиональному и техничному, однако не отличившемуся особой теплотой исполнения. Для вида и я зааплодировал, затем дал себе установку: успею ли до того, как действие сдвинется с мертвой точки, напеть (мысленно) начало каждой части всех струнных квартетов Бетховена в порядке написания.
Едва я подошел к скерцо квартета для арф (опус 74), как в зале установилось то, что с большой натяжкой можно назвать затаенной тишиной. Но тут же и она была нарушена приступом нечленораздельного воя, раздавшегося откуда-то из угла. Через мгновение группа людей в теннисках и полотняных штанах, один из которых держал наизготове нечто наподобие вил, выволокла к рингу под лязганье цепей и перемежающиеся завыванием крики буквально гигантское существо могучего телосложения. Вслед за этой толпой появился еще один субъект, сравнительно ординарной наружности, с платиновыми волосами и в серебряном плаще с блестками. Каждый из участников выбрался на ринг, первый – в сопровождении нового взрыва воплей и лязганья цепей, а также единичных размахиваний вилами, второй – совершенно добровольно. Также возник со своим мегафоном и ведущий. Поведав публике, что крупнейшие ученые до сих пор спорят, к какому виду отнести данное загадочное существо, тот, в частности, между взрывами по большей части иронического посвиста, произнес примерно следующее:
– В-э-э-э красном-э-э-э углу – весом в восемнадцать-э-э-э стоунов-э-э-э пять-э-э-э фунтов Неч-то-э-э-э с острова-э-э-э Борнео-о-о!
Последовал оглушительный свист, во время которого с Нечто были сняты кандалы и оно, расправив руки и ноги, принялось с непритязательным видом, однако довольно высоко взлетая, скакать взад-вперед по рингу. На нем было что-то вроде набедренной повязки или подгузника, и, можно сказать с уверенностью, такого волосатого существа я в жизни своей не видывал, хотя почти полностью скрывавшее его лицо грубое покрывало, по-моему, почти полностью скрывало также его лысую башку. Я был наслышан уж не меньше Пенни насчет собственно постановочных эффектов профессиональной борьбы, и так же, как и все вокруг, восхитился наличием цепей и вил, но все же был неизмеримо счастлив, что не я стою на ринге против этого Нечто. Какой-то он весь был расхлябанный, и это наводило на мысль, что он может вдруг взять и изменить или начисто позабыть основные векторы той роли, которая ему предназначалась. Он был явно тяжелей своего противника, который, названный Рыцарем Святого Георга, уже отвечал на приветствия из своего, кажется синего, угла; теперь, сбросив плащ, на вид он оказался довольно мускулист.
Ударил гонг. Нечто невнятно забормотало, подтащилось к Рыцарю и ребром руки влепило ему такой удар, что у того не просто с ходу подкосились ноги, но падение случилось так быстро, что я такого не ожидал. Затем с той же быстротой, упершись руками в пол, Нечто из этого положения боднуло поверженного противника головой в живот. Рыцарь взвыл от боли и ярости, но вопль был вмиг оборван Нечто, наступившим противнику на горло. По-видимому, все прошло незамеченным для судьи, так что только после многократного повторения этого приема и при нарастающем недовольстве публики судья, вцепившись в черную шерсть агрессора и действуя коленом в качестве рычага, оттащил его прочь. Судья с пугающей резвостью кинулся обратно, хотя в его адрес последовало одиночное недовольное порыкивание да пара подскоков на метровую высоту. В это время очухавшийся Рыцарь зашел к противнику с тыла и поверг его наземь, подрезав колени мощным ударом, который мог свалить и тиранозавра, после чего принялся выделывать что-то непонятное и ужасное с его рукой. Однако не успел я и глазом моргнуть, как Нечто со страшной силой лбом ударило Рыцаря в лицо, и тот рухнул затылком об пол.
Вот так оно и шло до конца раунда и еще пару-тройку раундов: Нечто все более и более свирепело и совершенно не признавало никаких правил, а судья, на мой взгляд, вмешивался гораздо реже и позже, чем в целом стоило бы, но уж если вмешивался, то довольно активно. В такие моменты Рой начинал глазеть по сторонам, проверяя, как мы реагируем на происходящее; Сильвия ерзала с недовольным видом, однако, кажется, все-таки за борьбой следила; я сидел и радовался, что мы уже не в «Блиндаже» и пока не в очередном подобном же мерзком заведении; Пенни застыла безучастно. Но вот настал момент, когда Рыцарь, функционирование левой ноги которого после того, что той пришлось претерпеть, казалось мне просто чудом, крепко ударил сзади противника в шею, а потом с невиданной дотоле силой двинул коленом ему в челюсть. Потеряв равновесие, Нечто отлетело в сторону и шмякнулось на бок, грохнувшись затылком об пол. Что зрители встретили с явным одобрением, однако уже через мгновение все смолкли, ибо Нечто на счете «девять» поднялось на ноги и устремилось без рыка и прыжков на своего обидчика с совершенно явной, на мой взгляд, нисколько не наигранной угрозой во взоре. Я решил про себя, что этот молодчик гораздо талантливей в мимическом отношении, чем показалось вначале. Пенни вздрогнула, и ее плечо чиркнуло меня по руке.
В мгновение ока Нечто захватило голову Рыцаря левой рукой, зажало локтем, пальцами правой впившись ему в лицо, при этом локоть ерзал вверх-вниз, как у человека, нетерпеливо орудовавшего отверткой. Из утробы Рыцаря стали вырываться громкие протяжные вопли; звучали они вполне правдоподобно, хотя, разумеется, иначе и быть не могло. Я плохо понимал, что происходит. Нечто поворачивалось со своей жертвой так, чтобы судья не видел, как оно над ней измывается, и судья тщетно кружил и кружил вслед за вращавшейся парочкой. Рыцарь завопил с еще большей достоверностью. В криках и свисте толпы уже не чувствовалось прежнего добродушия. Меня охватило неистовое и мерзкое возбуждение, которое, хоть и в меньшей степени, я однажды испытал на Майорке во время первого и последнего посещения боя быков: ощущение физического страха, даже ужаса, в сочетании со сладострастным до одури ликованием: одновременно хотелось, чтоб это прекратилось и чтоб продолжалось. Я почувствовал, как Пенни бедром прижимается ко мне, как ее ледяные пальцы впиваются мне в руку, и понял, что это чистый ужас без всякой примеси возбуждения.
– Ничего страшного! – прокричал я ей в ухо. – Они притворяются! Играют!
С такой трактовкой событий согласиться было сложно, поскольку Нечто, предупредив вмешательство судьи, подхватило его одной рукой и с силой зашвырнуло в угловой столб ринга, а на ринг выбежали оба секунданта и кто-то третий, должно быть какой-то борец, и стали разнимать сцепившихся. Один из секундантов принялся дубасить Нечто по голове деревянной табуреткой, которую предусмотрительно прихватил с собой. Все зрители повскакали со своих мест, возмущенно крича; слева от меня вскочила и Сильвия, призывая Нечто выдавить этому мерзавцу гляделки, причем именно в тот момент я отметил, что Рой если и просчитался, то не совсем, притащив сюда всю честную компанию. Нечто, невосприимчивое к ударам табуреткой и прочими средствами, по-видимому, как раз и пыталось выдавить Рыцарю его гляделки, активно орудуя огромными пальцами в верхней части физиономии противника, хотя, когда перед тобой мелькают чьи-то фигуры, довольно трудно разглядеть, что именно происходит. Радостное возбуждение покинуло меня; я схватил Пенни за руку, сжал. И в этот самый момент я совершенно отчетливо увидел сквозь сплетение локтей, рук, торсов, что большие пальцы этого Нечто находятся вовсе не там, где в страхе рисовало мое воображение: они впились Рыцарю в щеки. Я громко сказал Пенни, повернувшись к ее уху:
– Все в порядке! Я разглядел. На глаза он не покушается. Это он всех разыгрывает. Все в порядке!
Пенни повернулась ко мне, бледная как полотно: чрезвычайно редкий случай для такой здоровой натуры. Рот широко открыт, уголки поникли, глаза затуманены. Я помог ей подняться как раз в тот момент, когда какая-то женщина из заднего ряда ткнула Сильвию в поясницу концом своего зонта, однако развития этих событий я ждать не стал. Вместо этого я взял Пенни за руку и, сразу сделавшись выше и могучей каждого, кто встает на пути, свободно пробивал нам с ней дорогу через толпу орущих мужчин и женщин, к тому времени заполнивших почти все проходы.
В вестибюле мы обнаружили еще несколько зрителей в том или ином состоянии волнения. Служитель в летах встретил нас фамильярным кивком.
– Фантастика! – произнес он мрачно, но не зло. – Каждый раз у него ловятся. Дважды в месяц тут выступает и каждый раз половина зрителей ловится. Половина. А то и все. Надо же! Такого актера, как этот, который Нечто, я в жизни не видал! Ему бы Шекспира играть, а? Думаю, в Стратфорде-на-Эвоне он раз в десять больше бы заработал, чем здесь. Эрни Эдамс зовут. Живет, знаете, вон тут, неподалеку.
Через минуту появился Рой в сопровождении Сильвии, которая с некоторым упрямством встретила идею отсюда уйти, однако очень скоро, едва, наверное, поняла, как и мы с Роем, что вся причина ее желания остаться в желании Пенни уйти, Сильвия сопротивляться перестала, проявив, на мой взгляд, довольно традиционное решение ситуации в угоду более свежим из собственного арсенала. Я снова сидел на заднем сиденье между двумя девушками, испытывая голод, жажду, начальную стадию усталости в мыслях и теле, уже в который раз заново восхищаясь тем, как Рой умеет жить, испытывая едва заметное презрение к самому себе за то, что стал жертвой актерского таланта этого Нечто, ощущая рядом присутствие Пенни – и это присутствие в тот миг казалось мне самым объемным из всех человеческих присутствий, одновременно возникших в памяти.
– И что же там происходило дальше? – спросил я, как только машина двинулась.
– Они все повисли у волосатого на шее, – сказал Рой, – после чего его дисквалифицировали.
– Ах так! Вообще-то я имел в виду женщину с зонтиком.
– Я ей врезала, – сказала Сильвия.
Рой захохотал, не тем глубоким смехом, говорящим, мол, девчонки есть девчонки, но оставлявшим собеседника в неведении, относится ли смех к склонности Сильвии преувеличивать или к ее склонности пускать в ход руки. После некоторой паузы Пенни как бы между прочим спросила:
– А как тот, другой, в порядке?
– Ну, ясное дело, в порядке! – Сильвия, выпятившись вперед, чтобы получше видеть Пенни, говорила тем же заботливым тоном, который не так давно испробовала на мне. – С чего бы это ему не быть!
– Судя по его воплям, сомнительно.
– Милая, это все иг-pa! Разве ты не поняла, а? Сама говорила, когда мы шли. Нельзя все близко принимать к сердцу. Все совсем не так, ясно? Пусть себе дерутся…
Мы втроем дали Сильвии возможность выговориться, пока машина катила в южном направлении, преимущественно всякими переулками. Достойно проявив выдержку и уже полностью осознав, что больше не в силах вынести ни Сильвию, ни ее резонерство, я с риском выслушать очередную лекцию насчет моей страсти все знать заранее все-таки спросил Роя, куда мы в данный момент направляемся.
– Ко мне в клуб!
– Неужели в «Крэгг»?
– Боже, это социалистическое гестапо! Вы думаете, я спятил? – и, не дожидаясь ответа, Рой продолжал: – Это место, где играет музыка и можно потанцевать, если захочется. Вам это необязательно. Там, кроме того, можно поесть.
– Замечательно! Попсовый гуд еж?
– А вы бы хотели в «Штокхаузен»?
– Стало быть, в дискотеку?
Сильвия усмехнулась, сделав большие глаза, как будто я произнес «Воксхолл-Гарденс» или «медвежье логово». Рой более благосклонно пояснил, что теперь это везде зовется клуб, добавив из желания не вызвать во мне боязни общественного порицания, что предлагаемое еще не самое колоритное из заведений подобного рода.
Я решил, что, вероятно, так оно и есть, когда, очутившись где-то к северу от Фуллэм-роуд, мы с Сильвией сходили вниз по лестнице, увитой зелеными электрическими лампочками, мигавшими и абсолютно не источавшими света. Рой, с видом ответственного за борьбу с нарушителями порядка, подхватив Пенни, устремился вперед, наказав нам присоединиться к ним ровно через минуту. В течение этой минуты Сильвия посоветовала мне успокоиться и перестать нервничать, а я пообещал, что попытаюсь. Спустившись, мы уперлись в стеклянную дверь, которая вела в небольшую комнатку, где ничего иного не оставалось делать, как либо, подобно Рою, отсчитать деньги, получить билеты и сдачу, либо, подобно Пенни и какому-то низенькому темноволосому типу, просто стоять в сторонке. Этот последний подошел и, нежно чмокнув Сильвию, сказал: «Привет!», сделав заметную паузу в том месте, где полагалось бы произнести имя. И потом произнес:
– Добрый вечер, сэр! Очень рады видеть вас сегодня у нас.
Что ответить, я не знал, но Рой, сделав маршальский жест рукой, провел нас через очередную стеклянную дверь в следующую комнатку. Тут нас ожидал более широкий выбор действий: отсюда можно было пройти в туалет, или, сняв верхнюю одежду, передать гардеробщику, или же просто постоять. Почти всю дальнюю стену занимала громадная гардеробная с зеркальными дверями и, судя по звукам, со множеством толпившихся внутри людей. Один из двоих или троих темноволосых низкорослых типов, стоявших здесь при дверях, принял билеты из рук Роя и открыл гардеробную. Я ощутил на слух и мало-помалу определил зрительно, что это вовсе не гардеробная, а огромная комната или множество комнат, заполненных людским гомоном настолько, что это походило на гул уличной толпы весьма не маленького городка в будничный вечер. Рой повлек нас внутрь. Взору открылись: полукруглый бар сбоку, чей-то пупок посреди голого живота, в самой глубине сцена с движущимися по ней фигурами в бархате, два патлатых альбиноса, сидевших, держась за руки, на черном кожаном диване, огромное множество ног, по которым я ступал, за которые цеплялся, но в основном обходил, темно-синие электрические лампочки, в лучшем состоянии, чем иллюминация на лестнице, и перемежающиеся бело-красными вспыхивающими огнями, субъект средних лет в грязной, наподобие железнодорожной, робе, методично дергающий рычаг «фруктовой машины»; а также помещение, частично загороженное стеклянными панелями, оказавшееся затем рестораном. Добравшись до него, я уж начал было ощущать некое замедление в стремительном падении настроения, как вдруг со стороны сцены на меня грянула новая волна воя, невообразимого до такой степени, что вмиг стало ясно: ничего подобного я в жизни не слыхал. К нему еще примешивалось обилие механических звуков, в основном металлического свойства. Я пожалел, что слишком опрометчиво отвергал музыкальные произведения, в которых обнаруживается предусмотренное концертным исполнением затишье. Главным образом у Брукнера. Потом у Джона Кейджа. У кого еще? Нильсена? Бузони? Букстехуде? Нет, уж лучше только их произведения и слушать, чем эдак позволять сверлить себе зуб до упора и без всякого наркоза!
Нас провели к столику, стоявшему в самом далеком от сцены углу, где это мракобесие было слышно хоть на сотую долю слабее и который украшали гиацинты из цветного стекла. Рой усадил нас с Сильвией на стоявшие у стены черные кожаные банкетки, а сам с Пенни уселся напротив, вне всякого сомнения продолжая разыгрывать отечески-покровительственную роль по отношению к каждому из нас, хотя и в разной степени. Но в окружающем полумраке, который вызывал в памяти темноту «Блиндажа» и скорее усиливался, чем оживлялся вереницами колдовских огней на тележке со сластями и напитками, я не думаю, чтобы кто-нибудь даже в непосредственной близи мог узнать Роя, – а если бы и узнал, то, огорошенный таким грохотом, даже не успел бы окликнуть и тотчас бы о нем позабыл. Тогда зачем? Зачем все это? Теперь, когда моя услуга воплотилась в реальности, когда была уже (я отчаянно надеялся) больше чем наполовину выполнена, она практически утратила весь возможный первоначальный смысл. Все вокруг укрепляло во мне это чувство никчемности. Как будто кто-то подсыпал мне в мой «Гиннесс» некий галлюциноген, и меня, как выражаются нынешние сопляки, повело.
Время потекло так, словно его внезапно сделалось неизмеримо много. Из полутьмы появилась девица, вся сверху донизу завернутая в кусок шелка длиной дюймов в восемнадцать, не меньше, и протянула нам листки пергамента; по-видимому, меню. Я внимательно вгляделся в свое, протер оказавшейся под рукой салфеткой очки, вгляделся еще раз, и тут до моего слуха донеслись какие-то фразы насчет гарнира, четырех персон и еще соуса из белого вина. Предвижу, что в один прекрасный день тем, кто питается вне дома, если таковые еще останутся, понадобится более углубленное знание азбуки Брайля, а также умение читать с губ. Воспользовавшись мгновением затишья посреди воя, я заказал себе суп, бифштекс и пиво, и свои слова я только и смог расслышать в момент краткого включения человеческих голосов и смеха. Почти соприкасаясь головами через стол, Рой с Сильвией, подобно каким-то легендарным существам, бормотавшим что-то едва различимое, но доступное для слуха, были погружены в любовные постанывания и завывания. Пенни в прямом и переносном смысле была слишком далеко, недоступна для общения: обращаться к ней – все равно что просить взаймы у глухонемой. Появился мой бифштекс и оказался на удивление, если я не утратил на тот момент способности удивляться, отличного качества. Пока я жевал мясо, Рой разражался умеренными громами, выговаривая Пенни за то, что та ничего себе не заказывает, и пытаясь убедить ее это сделать. Втолковывая это ей прямо в ухо, Рой подливал себе еще из совсем недавно полной бутылки скотча, начав с размера аперитива, он плавно перешел к дозам в объеме столового вина. Пенни мотала головой, указывая на тарелку, с которой она сразу по пришествии съела несколько оливок и редисочек. Сильвия повернулась ко мне. Я отметил, что лицо у нее почти правильной круглой формы.
– Невыня-а-сима со своим выпендрежем! И во время борьбы она выступала. Какие мы чувствительные! Что, больше всех надо?
– Может, она просто не голодна?
– Ах, бросьте! – (Повелительная интонация Сильвии вкупе почти со всем, что она сегодня говорила и делала, вызывали сильное подозрение, что она – дочь лорда, не иначе.) – Если вправду сыта, закажи себе полную тарелку и сиди, хоть ни к чему не притрагивайся. Вот как надо, понятно? – Сильвия подалась вперед наискосок через стол и прошипела Пенни: – Что, купилась, Белоснежка? Душа в пятки ушла? Ладно! Погоди, то ли еще будет!
Не поднимая глаз, Пенни снова замотала головой. Я придвинулся к Сильвии:
– Ну почему вы такая базарная стерва?
– Я думаю, потому же, почему вы – пьяненький рыжий очкарик, который в жизни не позволит себе залпом глотнуть огненный ром, и еще вы импотент, и любитель говенных симфоний и фуг, и, ах, первая вариация предваряет тему, и принесите приличный бокал британского пива, и к черту все это, Каррадерс, куда катится современная молодежь, и попрошайка, и баба старая, и неудачник, и прихлебатель, и мелкий воришка, и затравленный, и показушник, и быстренько каждое утро мочалкой потертый, и как можно, Рой, тратить себя на такую шлюху, подумайте о своей жене, Рой, дружище, дружище, и хорошо, я пойду, только не могу сказать, что я одобряю, и мерзкий мертвяк. Попрошу из перечисленного выше вычеркнуть несоответствующее. Если таковое имеется.
Все это было выпалено как из пулемета и без малейшей тени внимания к объекту. Верхняя губа вытянулась в тоненькую, еле заметную ниточку, замерев в таком виде, пока Сильвия молча смотрела на меня. Я был в высшей степени потрясен широтой ее словарного запаса, а также общего кругозора. Скорее всего, большую часть ее речи Рой не расслышал, однако уловил тон, выражение лица и тому подобное.
– Пенни, – сказал он укоризненно, – фу ты, черт, Сильвия! Ну, будет тебе!
Сильвия издала пару характерных для нее прыскающих смешков.
– Фуги я терпеть не могу, – заметил я ей и мог бы еще распространяться дальше, заверяя, что фуга – одно из скучнейших художественных новаторств в глазах современного представителя западной цивилизации, если бы не был почти убежден, что когда-то уже говорил об этом Рою, и если бы ее пылкая речь меня несколько не огорошила, и еще в связи с кое-какими «если бы».
Когда Пенни встала, я стал лихорадочно соображать, как бы поудачней разнять девушек в схватке, сопоставимой только со схваткой между Нечто и Рыцарем, однако Пенни лишь попросила меня пойти с ней потанцевать.
Я замотал головой:
– Я не умею!
– Умеете! Пошли!
Через полминуты мы уже стояли на небольшой танцевальной площадке пониже сцены. Последняя была теперь полностью очищена от исполнителей в бархате, однако громкие звуки знакомого свойства и подобной же силы неслись уже в граммофонной записи. Публика вокруг была лет на пять – десять моложе меня. По большей части партнеры выставлялись скорее поодиночке, чем танцевали друг с другом, движения их напоминали ползанье вверх по канату или увиливание от пули снайпера и проделывались с такой сосредоточенностью, как будто это была всего лишь прелюдия к какому-то значительно более серьезному жизненному испытанию, поджидавшему всех танцующих без исключения. Не успел я по-настоящему осознать, до какой степени мне ненавистно участие во всем этом действе, как Пенни вывела меня на уголок, обвила вокруг себя мои руки, а свои вокруг меня и принялась тереться об меня своим передом. Двигалась она более или менее в такт окружающему гвалту, однако это была единственная ее уступка обстоятельствам. Весьма скоро и явно вопреки всем моим внутренним уговорам мы оба ощутили конкретный результат нашего соприкосновения. Сняв с меня руки, Пенни слегка отступила.
– Так, – сказала она. – Пошли отсюда.
Я повернулся к ней, спиной ко всем остальным:
– Ни шага не сделаю, пока вы не поведаете мне в двух словах, где обитает, чем питается и как применяется в хозяйстве верблюд-бактриан. И что у вас на уме.
– Я хотела вас поблагодарить и собиралась одарить кое-чем, а у меня есть только одно, на что бы вы могли польститься, но мне надо было убедиться, что я угадала правильно. А верблюд-бактриан тут при чем?
– Ладно, дромадер тоже сойдет! Хотя, по правде говоря, может, это одно и то же. Я вас спрашивал еще тогда, у вас дома.
– Тогда я вас отшила. В тот день я была не в себе. Что ж, верблюды так верблюды.
– Поблагодарить за что?
– За то, как вы вели себя во время борьбы. И за то, что она вам не нравится.
Верблюд-бактриан (или дромадер), хоть это был в значительной степени экспромт, сделал свое дело.
– Мягко сказать «не нравится», – проговорил я. – Кому такое может нравиться!
– Ему. Так он себя ведет.
– Он – случай особый.
– Согласна, особый. Теперь вы сможете уйти?
– В общем-то, да. Но прежде чем уйти, придется досидеть до конца.
До конца мы досидели; при этом казалось, мы отсюда не уйдем никогда. Но, проторчав время, достаточное для представления «Мейстерзингеров» в неукороченном варианте и с перерывом на ужин, мы вчетвером наконец уже стояли на тротуаре Парк-лейн и ловили такси – от нанятой машины пришлось отказаться, скорее всего, ради спокойствия Роя в смысле безопасности. Он до ужаса извел меня своей демонстрацией сначала непонимания, потом проблесков понимания, от тщательного взвешивания до окончательного одобрения моего предложения проводить Пенни, доставив ее туда, куда она пожелает. Судя по всему, его представление о моей услуге никак не могло вместить мысль о том, чтоб взять и отпустить меня с ней. Собственно, рассуждая теоретически, разумеется, могло; но разве позволительно простому смертному проводить подобный вечер не иначе как только жертвуя собственными интересами? Подошло такси, и Рой с Сильвией пошли к нему. Я поблагодарил Роя, пожелал ему доброй ночи, он также пожелал мне доброй ночи и сказал, что утром позвонит. Обе девушки молчали, не поднимая глаз.
Наконец после пары брошенных мной в пустоту фраз настал черед сесть в такси и нам с Пенни. Собственно, ее молчание было реакцией на мою недавнюю нерешительность. Я предвидел осложнения у себя в квартире, однако едва мы поднялись, как Пенни принялась раздеваться с быстротой и решительностью спасателя, нацеленного на выручку утопающего. Я все еще ждал неувязок – каких-то дурацких требований, безразличия и наигранной веселости, а то и просто отказа в самый последний момент, – однако опять-таки все прошло чудесно. И хотя груди оказались не так тверды, как мне представлялось, и вовсе не побрызганы быстро каменеющим цементом, все же они были достаточно тверды и вместе с тем мягки. Все остальное также пошло неплохо, и чем дальше, тем лучше. Я не удержался от попытки сравнить Пенни с Вивьен, и мне показалось, что уловил некое различие в их физическом поведении: Вивьен (как подсказывала мне из глубин память) вела себя необузданно и без тени смущения, то же было и в Пенни, но движениям Пенни была присуща неповторимая и естественная прелесть. Я поцеловал ее в ухо и в висок и нежно заурчал:
– Любимая, ты самая…
Пенни отстранилась:
– Послушай, прекрати немедленно! Не желаю ничего подобного слышать! Мерси, не надо мне твоих «мерси»!
– Прости! Я совершенно непроизвольно. Этим многие грешат. Но вовсе не из благодарности. Да и в благодарности я ничего такого не вижу.
– А я вижу! В общем, не хочу, и все. Нежности нашим контрактом не предусмотрены. Если попытаешься снова, я имею в виду нежности говорить, уйду спать на диван или что там у тебя есть. Да, кстати, дружок, чтоб тебе до конца все было ясно: до завтрака я в твоем распоряжении, и это – все. Никаких звонков, никаких писем, никаких цветов с записками. Тут дело не в тебе, просто я так решила. Хочешь чаю?
– Я сам приготовлю. Ты не знаешь, где что лежит.
– Найду. Есть у тебя что-то вроде купального халата? Только не слишком шикарное. Я вечно загваздываюсь, когда ем.
Через двадцать минут, когда я сидел у себя в гостиной и слушал, прикрутив звук потише, пластинку с концертом Вебера для фагота с оркестром, вошла Пенни в моей старой вельветовой пижамной куртке (лучшее, что я смог придумать в качестве замены купального халата), неся поднос, на котором было наставлено гораздо больше, чем заслуживал чай для двоих.
– Разве тебе недостаточно вчерашнего шума?
– Потому я и поставил эту музыку. Ты не против?
– Так ведь уже поставил! Надеюсь, я приготовила достаточно, нашла сардины и еще какой-то ерунды и сотворила бутерброд. Там в клубе у меня кусок в горло не лез. Сам понимаешь, рядом с этой… Тебе бутерброд сделать?
– Нет, спасибо. Просто чай.
– Раньше он водил меня на концерты, а потом проигрывал частями на пластинках и все учил, учил, прямо хоть из дому беги. Теперь он это проделывает со своими птичками. А может, всегда проделывал. Мне ее даже жаль. В какой-то степени. «Слышишь эти тромбоны, правда грандиозно? Слышишь, как он повторяет первую тему из первой части? Слышишь, какой виртуозный фортепьянный пассаж? Слышишь, он переходит на шесть восьмых?» Хоть бы заткнулся!
Подав мне чай, Пенни уселась на кушетке, положив рядышком поднос, и принялась есть; тихонько есть, отметил я. Я вытянул журнал «Музыка, вперед!» и сделал вид, что читаю, так что если ей захотелось бы послушать Вебера, она могла не бояться, что я ее засеку. Я бы сказал, что мне было симпатично желание Роя растолковывать своим девочкам насчет тромбонов. Было что-то комичное, но и не лишенное благородства в том, что он по-прежнему старался разделить с кем-то или внушить кому-то любовь к искусству, что до сих пор он не пришел к печальному заключению, что слушать музыку можно не иначе как в одиночку. И тут в начале самой середины медленной части концерта я заметил, что Пенни прервала на полпути свое тихое жевание бутерброда. Боковым зрением через стекла очков я увидел, как она замерла на кушетке с недожеванным бутербродом в руке. Что-то сперва принятое мной за слезу, но оказавшееся капелькой мармелада, упало на вельветовый борт куртки. Фагот вернулся к изначальной теме, и жевание возобновилось. Ничто так не передается по наследству, как музыкальность; мне показалось, что наверняка, если бы Рой, и мать Пенни, и сама Пенни, и все мы родились бы лет на двадцать раньше, Пенни вполне могла бы быть где-то среди первых скрипок в каком-нибудь известном оркестре, а то и солисткой струнного квартета. Да что там, даже сидеть в задних рядах вторых скрипок в каком-нибудь мрачном провинциальном городишке и то было бы для нее достойней перспективы, какую сулили бы ей через двадцатилетие ее нынешние помыслы. Подобные мысли привели меня в смятение.
Пластинка кончилась. Было десять минут третьего. Мои веки уподобились обветшавшим парусам, но Пенни все сидела на кушетке, уставившись в пол. Я решил рискнуть:
– И все-таки странноватый получился вечер!
– Пошлый абсурд!
– Почему ты согласилась?
– А ты почему? Мне дома не хотелось оставаться. Мне хотелось поговорить. Попытаться что-то объяснить. Не получилось, но я так хотела.
– Объясни мне сейчас.
– Ты не поймешь. Не могу. Не смогу.
– Почему бы тебе не отправиться к матери, не пожить у нее?
Пенни закурила.
– Я с ней порвала отношения. Думала, развод – ее вина. Теперь-то я понимаю, что его, но тогда я не знала. Да и сейчас ее муж не захочет, чтоб я жила у них в доме. Он у нее агент по продаже недвижимости.
– Почему бы тебе не сбежать куда-нибудь с Гилбертом?
– Нет уж, спасибо! Он будет меня постоянно раздражать. Достаточно неудобно, когда кто-то постоянно рядом. Кроме того, я буду беспокоиться, как тут без меня.
– О чем беспокоиться?
– Скажем, известно ли тебе, что он поговаривает, чтоб совсем уйти к этой слизнячке?
– О боже! Нет! – Я испугался так, как если бы узнал, что мне в тарелку подсыпали яду. В голове складывались и рассыпались какие-то вопросы. – У него не все дома! – наконец выпалил я. – Китти знает?
– Я ее не видала. На днях он обронил это вскользь. Но он проговорится, он всегда проговаривается, и тогда начнется такое! А если разразится полный скандал, он, я думаю, уедет.
– Мне кажется, тогда и тебе в самый раз куда-нибудь уехать. Или даже раньше. Куда угодно. Хоть за границу. Вовремя исчезнуть. Это же безумие, оставаться в доме, где Китти зудит с утра до вечера!
– Она везде меня найдет. А как же Эшли, Крис? Да и он придет в неистовство, когда узнает. Еще дом подожжет. Он ненавидит Гилберта. Собственно, в принципе он не против него, но тогда у него появятся основания. Да и я не желаю быть в неведении о том, что происходит. Это и в прошлый раз меня не устраивало. То, что скрывалось от детей. Да, веселенькая комедия тогда получилась!
Я молчал. Она шевельнулась на кушетке, и как будто все в ней наставилось прямо на меня.
– Ты для него не пустой звук. Может, попытаешься его остановить?
Если бы я не был все еще огорошен тем, что она мне сообщила, и, возможно, если бы не так страдал от ее способности скостить мой чувственный опыт на несколько лет, я бы, наверное, удержался и не произнес:
– Так это и есть та помощь, о которой ты просила?
– То, что произошло между нами этой ночью, к этому отношения не имеет! – гневно сказала она. – Это совсем другое. Я сказала уже, такое больше не повторится. Уйду, и все. Никакой демонстрации. Просто так и не иначе.
– Прости! – сказал я, увидев, как вспыхнуло в ней все, даже белки глаз. – Мне бы хотелось помогать тебе во всем, заботиться о тебе.
– Я никому не позволю о себе заботиться. Извини. Я же сказала, дело не в тебе. Ты мне даже нравишься. Немного напыщенный, но, в общем, ничего, вполне.
Ее легкая усмешка напомнила о возобновлении нашего знакомства месяца полтора тому назад. Тут она произнесла с прежней настойчивостью:
– Так ты с ним поговоришь?
– Не знаю, будет ли от этого польза, на которую ты рассчитываешь. Ты же знаешь, что он…
– Так ты поговоришь?
– Да! Да! Поговорю! Как же иначе. Никуда не денешься. Поговорю.
– Спасибо!
Пенни встала, повернулась ко мне спиной, уставившись куда-то в поднос. Я никак не мог придумать, что бы такое сказать из того, что еще не было мне запрещено. Спустя некоторое время она бросила вполоборота ко мне:
– Теперь я бы поспала!
Глава 4
Большой шутник
– Разве может японец сочинять музыку? – воскликнул Гарольд Мирз. – Я настоящую музыку имею в виду, не звяканье кастрюль и сковородок.
– Запросто! То есть, разумеется, не то чтобы запросто, но без особых…
– Абсолютно чуждая нам культура, кухня, напитки, одежда, искусство, образ мыслей – все совершенно иное!
– Изначально, бесспорно, да, но в Японию уже довольно давно проникла западная музыка, и уж во всяком случае он…
– В момент целую культуру не перестроишь.
– Возможно, вы правы, только этот парень живет в Штатах с тысяча девятьсот пятидесятого года, уже с восьми лет, и, значит, теперь прекрасно разбирается в западной музыке. А этот его концерт – весьма и весьма любопытное произведение. Не выдающееся, но любопытное.
Гарольд опустил взгляд в мою рукопись:
– Вы тут пишете, что он почти все время жил в Калифорнии?
– Ну да, а что?
– Но ведь должны же проявиться у него какие-нибудь японские веяния! Хоть колокольчики, что ли.
– Ничего такого я у него не заметил.
– Может, слушали невнимательно? – заметил Гарольд в присущей ему занудливой манере. – Да, и вот еще что… Для чего этот его концерт?
– Как для чего? Для оркестра.
– Это понятно, но какой у него, черт побери, солирующий инструмент?
– Да никакого. Это в некотором смысле концерт…
– Послушайте, если есть концерт, должен быть и солист. Как у Бетховена, у Чайковского, у Шуберта. Даже я это знаю! Словом, проверьте, пожалуйста.
– Нет уж, Гарольд! – сказал я. – Вам надо, вы и проверяйте, и если я не прав, перешлите мой гонорар в Бетховенский фонд для музыкантов.
– Ну ладно, ладно!
Гарольд возобновил чтение рецензии, или, во всяком случае, вновь обратил взгляд к столу. В это утро начальственная ревизия даже такого материала отличалась придирчивостью. Должно быть, Мирз был раздосадован отсутствием моментов, на которые он с готовностью мог бы направить жало своей критики: скажем, похвал в адрес кубинца, виртуоза игры на виоле д'аморе, или баритонального баса из Северной Кореи. Я мысленно принялся прикидывать, после какой рецензии Мирз непременно бы меня выгнал: восхваление новой оперы боливийского композитора, дирижирует которой родезиец, а среди исполнителей – бразильцы, гаитянцы, испанцы и южные африканцы, а также члены общества Джона Берча. Не успел я как следует развить эту тему, как зазвонил телефон.
– Слушаю! – произнес в трубку Гарольд. – Кто-нибудь, проводите ее ко мне, хорошо? – Он повесил трубку и взглянул на меня: – За мной пришла дочь, так что придется на этом прерваться. Справьтесь, как обычно, у Коутса в пять тридцать. И не забудьте проверить эти музыкальные термины.
Я направился в редакцию текущих новостей и в дверях столкнулся с выходившим оттуда низеньким человечком, седым как лунь, но в светло-вишневом костюме, рубашке в крупную клетку и с громадным оранжевым галстуком. В редакции Коутс беседовал с Терри Болсовером, волосатым парнем, катавшим рецензии на попсовый грохот, но при всем этом приличным малым. Я не стал с ходу включаться в их разговор, а задержался у большого окна, выводящего в коридор, испытывая желание взглянуть, что за дочь у нашего Гарольда Мирза. И мое любопытство было вознаграждено с лихвой, ибо менее чем через минуту появился из лифта тип в серой униформе, препровождавший Сильвию из цокольного этажа прямо в кабинет Гарольда. Меня она не заметила.
– Черт побери! – вырвалось у меня.
– Неужто я слышу ругательство из уст, обычно весьма сдержанных? – заметил Коутс.
– Видно, спохватился, что перепутал номер очередного опуса, – сказал Болсовер.
– Хуже! Я только что видел мисс Мирз.
– Зрелище ошеломляющее! – согласился Коутс.
– Попрошу учесть, – вставил Болсовер, – что, судя по слухам, характер у нее почище внешности.
– Это точно. То есть это я знаю наверняка.
Теперь мне не составило труда понять, кого мне напомнила Сильвия при первой встрече в моей квартире. Возникший в памяти образ, prestissimo[4] в страхе унесся прочь под взглядами обоих коллег, с некоторым любопытством взиравших на меня. Тут Болсовер сказал:
– Послушайте, Дуг, раз вы здесь… Кажется, вы большой приятель этого знаменитого дирижера, сэра Роя Вандервейна, да? Я не ошибся?
– Нет, не ошиблись. А что?
Вероятно, при таком совпадении лицо мое исказил ужас. Явно возросшее любопытство Коутса было через мгновение прервано накатившим на него приступом кашля. Болсовер вынул из внутреннего кармана куртки, типа тех, что носили герильерос, листок красного цвета с черным печатным текстом.
– Вы, вероятно, видали это – про концерт «Свиней на улице» во вторник? Так вот, есть еще одно дельце…
– Свиней? Что за свиньи? Я не…
– Ну, так называется одна поп-группа. В основном выступают с музыкой протеста, правда не слишком серьезного, типа того, мол, хочу герлу одну такую, что старика пришила своего; вот и весь протест. Как вдруг они взялись утверждать, будто к тому же и отличные музыканты и способны расширить границы искусства. Тут-то и возник ваш приятель. А я думал, вы тоже такое получили. Держите!
Я взял красную бумажку и прочел (если перевести на удобоваримый язык), что в программе выступления также произведение «Элевации № 9», сочинение сэра Роя Вандервейна, исполняемое им самим в сопровождении группы «Свиньи на улице». Все прочие данные о Рое, за исключением его пола и преданности молодежному движению, здесь были чистым вымыслом. Меня пронзило, что я совершенно позабыл про это его произведение, но острота осознания смягчалась надеждой, что, возможно, Рой собственноручно вычеркнул мое имя из списка обладателей данного документа.
– Ну и что эти «Свиньи»? – спросил я, возвращая листок. – С точки зрения музыкального рынка?
– Да ну, совершеннейшая лабуда! Гитарист, правда, неплохой. Хотя довольно популярны. Полный порядок с менеджментом и свой человек в прессе.
– Ясно. И что я…
– Не согласились бы вы, скажем, спросить у него, могу я перекинуться с ним словом в эти дни до вторника. Насчет того, как к нему пришла идея сочинения, что именно поп-музыка может почерпнуть из классики, каковы перспективы развития музыки, всякое такое. Словом, чтоб я не с улицы ему звонил?
– Стоит вам поделиться с ним своими намерениями, и он будет ваш столько, сколько захотите. Но я его предупрежу.
– Спасибо, Дуг! Я вам, честно, очень признателен.
Болсовер ушел. Коутс разговаривал по телефону. Когда он повесил трубку, я спросил:
– Альберт, вы позволите короткий звонок?
– Да звоните сколько угодно!
– Это старику Вандервейну. Не знаю, известно ли это вам, но Гарольд затаил на него зуб. Причем без особых оснований.
– Мне это неизвестно, однако об основаниях можно догадываться. Так что?
– Я… не знаю, как лучше выразиться, – я и в самом деле не знал, что сказать, – но, подозреваю, Гарольд что-то задумал против Вандервейна. Какую-то пакость замышляет, фальшивую монетку подсунуть, подножку перед финишем подставить, что-то вроде того. Если что такое заметите или как-то услышите, не могли бы дать мне знать?
– Конечно, только, сами понимаете, Дуг, помешать я ничем не смогу!
– Ну да, понимаю, хоть чтоб я смог его предупредить… Хоть так.
– Идет! Что-то вы какой-то не такой. Если бы вас не знал, подумал бы, что с похмелья.
– Да один только вид мисс Мирз! – воскликнул я, предлагая лишь частичную версию истины. – А на кого это я налетел при входе?
– Это наш новый корреспондент по вопросам просвещения.
Теперь у меня появилось два особых или особо неотложных повода, чтобы позвонить Рою, чего мне не удалось сделать с того вечера оказания услуги. В течение прошедших четырех с половиной суток я, надо сказать, стремился к этому без чрезмерной активности. Раза три звонил ему домой, всякий раз попадая на Китти и выслушивая в течение двадцати, сорока и двадцати пяти минут (согласно последовательности звонков) ее бесконечные жалобы, приправленные парочкой упреков в мой адрес, – почему я допустил, что все зашло так далеко, почему не предупредил до того, как все зашло так далеко. В своем щекотливом положении я объяснял, что пытался оказать нужное воздействие на Роя и намеревался все ей потом рассказать, но не получилось. Что во многом соответствовало действительности; при этом говорить, что Сильвия – это чудовище, скорее всего мне не стоило, как и Китти не стоило этого слышать, и я почувствовал облегчение, когда Китти возобновила свои бесконечные жалобы, не спросив, каково, на мой взгляд, нынешнее положение вещей, что вынудило бы меня солгать: мои признания ничего бы, кроме плохого, не принесли. Что же касается Киттиного представления о ситуации, то даже и по истечении восьмидесятипятиминутной в сумме беседы с ней я не мог сказать точно, находится ли Рой в стадии банкета в связи с уходом из семьи, или уже готов прекратить постоянно жаловаться насчет домашних неприятностей, или же где-то в промежуточной стадии. Да, кстати, сам-то он где? Китти весьма горячо обещала, что найдет его и скажет, чтоб он мне позвонил; я сел на телефон и передал подобные же просьбы в клуб «Крэгг», его агентам, в зал, где Рой репетировал Густава Малера, повсюду, где только можно, но безрезультатно. Он явно залег на дно, вне всякого сомнения полагая, что очередная встреча со мной грозит ему тем, что я выскажу свое мнение о Сильвии и о его с ней от-на-а-шениях.
Покинув редакцию, я просидел некоторое время с одним коллегой в «Эль вино», наслаждаясь рейнвейнским и копченой семгой, потом вернулся к себе домой и часть дня провел, погрузившись в свои заметки о Вебере, в машинописный текст, а также мысли по поводу Роя. Мало-помалу я пришел к убеждению, что Пенни, должно быть, все преувеличивает, или, возможно, это я все так воспринимаю. Обычные разговоры о том, чтобы сорваться с этой змеегубой грубиянкой, вполне могут оказаться только разговорами, даже при том, что у Роя всякая мысль, прозвучавшая просто так, может всерьез воплотиться в жизнь, как, например, случилось года два назад с упомянутым, казалось бы, просто так намерением написать марш для демонстрантов против войны во Вьетнаме; слава богу, это произведение не нашло отклика в массах. Кроме того, я решил, что гораздо важней удержать Роя от исполнения «Элеваций № 9», чем от его ухода к Сильвии. Да и осуществить этот замысел было бы гораздо проще: достаточно ему повредить руку по дороге на концерт, как все задуманное им пойдет насмарку.
В половине шестого я связался с Коутсом по телефону и, к огромному изумлению, обнаружил, что мой материал идет в печать без изъятий. Не только к изумлению, но и к умозаключению: редакторская терпимость к моей персоне косвенно означала, что либо Сильвия еще не уведомила отца о своих взаимоотношениях с моим другом Вандервейном, либо это известие было принято благосклонно и уже ни для кого не составляло тайны, либо на землю высадились марсиане. Я решил до завтра отвлечься от этих размышлений. Должна была явиться Вивьен в шесть или около того, как только ее отпустят с работы и как только позволит транспорт. Сейчас у меня было больше резонов, чем один-два привычных, с нетерпением ждать ее появления.
В десять минут шестого раздался звонок в дверь. Через стеклянную панель внизу не просвечивал ничей силуэт, но Вивьен частенько в подобной ситуации отходила от двери полюбоваться на цветы и кустики и тому подобное, высаженные каким-то неведомым тружеником в крохотном палисадничке, и, отпирая дверь, я чуть было не кинулся обнимать оказавшегося на верхней ступеньке Гилберта.
– Вы позволите на две минуты? Мне нужно с вами переговорить.
– Только если на две. Ко мне вот-вот должны прийти.
– Тогда я зайду в любое удобное для вас время.
– Ладно, ничего! Проходите.
Войдя в гостиную, Гилберт выпить отказался, однако согласился присесть, положив на рояль пару книжек в мягкой обложке, которые держал в руках; я подглядел название верхней: «Несущие черный рассвет». Гилберт был хмур и чем-то озабочен, а одежда на нем, довольно приличного вида во время наших двух первых встреч, казалась какой-то поношенной.
– Чем могу служить? – спросил я.
Он очень медленно покачал головой на мое пугающе легковесное отношение ко всей ситуации. Потом вздохнул. Окончив демонстрацию, произнес:
– Положение дел в доме Вандервейнов на грани катастрофы.
– Насколько я знаю, так было всегда. И при этом…
– Должен заметить, что вообще-то это абсолютно не мое дело. Рой волен жить так, как ему вздумается, и поведение остальных членов семьи меня тем более не касается. Однако судьба Пенни мне отнюдь не безразлична. Необходимо, просто крайне необходимо, чтоб она как можно скорее бежала из этого дома. На ней губительно сказываются царящие там напряжение и отрицательные эмоции.
– Я вас понимаю. Но мне кажется, уговорить ее уйти из дому не так-то легко.
– Я уже месяца два пытаюсь это сделать, но безуспешно. Сначала она сказала, что нет денег и жить нам негде, что истинная правда, но то был лишь предлог. Неделю назад меня известили, что Совет по делам искусств готов выделить мне грант для завершения моей «Лондонской сюиты». Если расходовать разумно, нам бы на двоих вполне хватило до выхода книги в свет. А один мой приятель готов уступить нам свою квартиру недели на две, по крайней мере. Но Пенни наотрез отказывается.
– Так. Но не будете ли вы так добры, ближе к делу? Как я сказал, ко мне…
– Мне нужна ваша помощь!
– Ах вот что… – «Веселенькое дельце! – подумал я про себя. – Правоверные христиане!» У меня возникла мысль немедленно бежать отсюда, не дожидаясь, пока Гвинет Икбаль из квартиры ниже этажом, а равно и большинство населения округи не вздумают обратиться ко мне за неотложной помощью. – Чем же я могу вам помочь?
– Поверьте, мистер Йенделл, если бы у меня было к кому обратиться, кроме вас, я бы непременно воспользовался этой возможностью. Но ее просто нет. Вы единственный из известных мне людей, кто мог бы убедить Пенни уйти из дому.
– Уж если вы не способны сдвинуть ее с места, не понимаю, как я могу изменить ситуацию.
– Вы – белый, мистер Йенделл. – Гилберт просто констатировал это как факт, без тени осуждения или упрека, что можно было бы ожидать с его стороны. – Вы с Пенни люди одной культуры. Значит, вы в некотором смысле способны знать и понимать ее так, как я даже и мечтать не могу. Возможно, вы отыщете доводы, каких мне не найти. Вы можете оттолкнуться от ваших общих с ней традиций. Вы знаете ее семью. Прошу вас, попытайтесь. Бедняжка пребывает в крайнем отчаянии. Да и я, признаться, тоже.
– Не думаю, что она станет меня слушать.
– Мне кажется, станет. Пенни с удовольствием вспоминает, что было здесь между вами в прошлую субботу ночью.
– Да что вы говорите? Вы что, выдали ей на это разрешение?
– Не то чтобы выдал. Дело не в этом. Пенни всегда поступает по собственному усмотрению. Единственное, на что я могу претендовать, это чтоб она отвечала правдиво на мои вопросы. Видите ли, я обладаю значительным на нее влиянием во всем, кроме такого достаточно важного момента, как наш совместный уход. Влиянием, которое… Скажите, ведь вы находите ее привлекательной?
– Да, нахожу.
– Как я от нее узнал, Пенни вам заявила, что отношения, возникшие между вами, не должны возобновиться. Мне кажется, я мог бы содействовать ее отказу от этого решения, в разумных пределах. Скажем, однократному или двукратному.
– Помилуй бог! – небрежно бросил я. – Насколько я вас знаю, это совершенно не в ваших правилах.
– Вы меня знаете весьма поверхностно. Хотя частично я с вами согласен. Но как я уже сказал, я в отчаянии, а отчаявшиеся люди способны на странные поступки. Я, мистер Йенделл, практически на пределе.
– Вы уже довольно долго живете у Вандервейнов, мистер Александер.
– Да, в этой удручающей обстановке.
– Я не только это имел в виду. Хорошо, я поговорю с Пенни, только вы должны это организовать. Я не собираюсь уговаривать ее меня выслушать.
– Согласен! Большое спасибо.
– На вашем месте я бы немедленно съехал от них, с Пенни или без Пенни.
Раздался звонок в дверь. И буквально через мгновение зазвонил телефон. Я сказал Гилберту, чтоб он, уходя, впустил того, кто пришел, и чтоб связался со мной, когда возникнет надобность. Он сгреб свои книжки и удалился. Я снял трубку. Это был Рой.
– Привет Даггерс, старый паскудник, как жизнь? – произнес он с глубокой задушевностью, характерной для человека, делающего передышку к вечеру, чтобы затем надраться до буйства.
– Хорошо, спасибо! Как там мисс Мирз?
– Ну, она… Что такое? Кто вам рассказал?
– Никто. Я видел ее в редакции, когда она направлялась на встречу с отцом.
– Ясно. Так вы не… хотя, ясное дело, нет. Ладно. Так или иначе, вы знаете. Мы еще к этому вернемся. Послушайте, Даггерс, прошу прощения, что пропал из вашего поля зрения, но у меня дел было по горло, тут и старина Гус, и королевская комиссия, и та же самая мисс Мирз.
– А что за королевская комиссия?
– Мне кажется, я вам рассказывал. Бесконечные дискуссии, в основном о том, о чем дискутировать во время предстоящих дискуссий. Сами знаете. Один старый идиот из…
– Хоть на какую тему?
– Тему? Вы имеете в виду дискуссию? Э-э-э, видите ли, это все как бы вокруг проблем молодежи, всякая такая говорильня. Да ну, старые, отсталые взгляды, но ведь кому-то надо…
– Словом, им бы сообразить и обратиться к вам за помощью?
Он выдал сочный, но короткий смешок:
– Именно! Скажите, вы завтра к обеду свободны? Хорошо бы вместе поесть, выпить и потрепаться. Есть у меня парочка тем для обсуждения.
Я решил не спрашивать Роя, является ли Пенни одной из тем для обсуждения, чтобы не намекать ему, что она может стать центральной фигурой в нашем завтрашнем разговоре, и не дать, таким образом, ему возможности подготовить свои дымовые завесы и диверсионные вылазки. Потому я просто сказал, что предложение замечательное и что завтра где-то примерно в четверть первого готов подскочить в Куин-Александра-холл, где Рой репетирует с Новым Лондонским симфоническим оркестром. Повесив трубку, я подумал, что, должно быть, Рой так обходителен со мной потому, что безупречно снисходителен к самому себе; и, как ни странно, будь его снисходительность направлена в другую сторону, результат был бы совсем иной.
Где же Вивьен? Задержалась на пороге, чтобы дать отпор обвинениям Гилберта в белом превосходстве, колониализме и фашизме? Нет, вот она, одновременно и строгая, и желанная в своем форменном костюмчике, с полотняной сумкой того же оливково-зеленого цвета и при том же символе авиакомпании. В сумке, я знал, ее ночная рубашка и халат, а также некий туалет, которым она собирается поразить меня со временем. Мы приветствовали друг друга братским поцелуем, ничего более она не позволяла себе или мне при встрече, даже в преддверии постельной оргии. Вечер был теплый, однако щека у Вивьен оказалась прохладной.
– Меня впустил кто-то из пакисташек, живущих внизу.
– Вообще-то он не пакисташка, он из Вест-Индии, и шел он от меня.
Вивьен сняла свою пилотку и принялась снимать жакетик, потому мне пришлось слегка напрячься, чтобы вслушаться в то, что она говорила:
– Мне тоже показалось, для пакисташки он слишком черен. Он что, твой приятель?
– Не то чтобы мой. Он приятель дочки Роя Вандервейна.
– Ах так! Значит, он не против?
– Не против! Мало того, он на самом деле очень даже за.
– Я имела в виду: не против того, что у его дочки черный приятель.
– Ну да, ну да… – Теперь только до меня дошло, почему я сразу не согласился, что Гилберт – пакисташка с нижнего этажа, не вдаваясь в подробности: не хотел лишать себя удовольствия послушать рассуждения Вивьен, охотно комментировавшей любой сюжет или ситуацию. – Рой прогрессивен буквально во всем. Он за расовую интеграцию и все такое прочее.
– С чего это белой девице вздумалось заиметь черного приятеля?
– А что тут такого? Хотя я уловил твою мысль. В данном случае, мне кажется, был расчет, что папаша станет протестовать.
– Брось, ради этого не заводят приятелей! И к тому же ты сказал, что отец полностью за.
– Ну да, ну да… – снова повторил я, давая себе передышку, чтобы осознать, что мне ничего не мешает заставить ее замолчать сейчас и включить по-новой, только несколько позже. – Чаю не хочешь?
Хотя, должно быть, вопрос не был для нее неожиданностью, Вивьен заморгала и чуть ли не вспыхнула. Этот вопрос являлся первой строкой определенного ритуала, скорее всего, непонятного для непосвященных, целью которого было подвести нас обоих к постели без риска уязвить ее чувствительность неловким словом или поступком. Теперь, как и ожидалось, Вивьен в задумчивости подняла голову, прищурилась, сказала, что, пожалуй, но только не сейчас, и направилась в спальню с видом некоторого любопытства, какое отличает взгляд репортера местных новостей во время вечерней прогулки. Все шло как обычно, пока я не притворил за нами дверь спальни, и необычно – еще немного после. Затем ситуация изменилась до неузнаваемости. Теперь если у меня и была задача, так это сдерживать Вивьен до тех пор, пока сдерживать уже не имело смысла; этот этап я преодолел успешно. То, во что все вылилось, длилось несколько дольше допустимого. В значительной степени по инициативе Вивьен, а не моей, что потом она сама извиняющимся тоном признала. Я ей простил, когда она сладострастно уверяла, будто ей было так хорошо, что она никак не могла остановиться.
Но когда Вивьен оделась, демонстрируемый ею наряд подействовал на меня удручающе. В основном он представлял собой нечто привычно-благопристойное – то есть бесформенно-безвкусное и столь заурядное, что глаза бы не глядели. Как частенько и раньше, я все пытался определить цвет, однако меня заклинивало где-то в безымянном пределе между коричневым и лиловым. Вивьен пыталась оживить свой наряд блестящим зеленым пояском, зеленым шарфиком иного оттенка, какой-то зеленой, уже третьего оттенка, ленточкой в волосах, но исправить положение могли бы разве что ожерелье из ссохшихся черепов и кольцо, продетое в нос. Я надел костюм. Попивая бьянко с содовой в гостиной, она небрежно бросила:
– У тебя кто-то еще был, да?
– Да. В субботу. Как ты догадалась?
– По тому, как ты смотрел на меня перед тем, как мы… начали. Обычно ты, по крайней мере, меня видишь, а сейчас мне не показалось. Она тоже хорошенькая?
– Да, как ты. То есть не как ты, хорошенькая, и все.
– И такая же умница?
– О боже! Нет.
– И так же хороша? – Она бросила в сторону спальни пламенный и, по ее представлениям, явно похотливый взгляд.
– Я бы не сказал.
(Скорей всего, это была ложь, но я не позволил скоропалительной восторженности овладеть собой после первой же ночи.)
– Тогда зачем она тебе?
– А в то воскресенье и вчера я на тебя смотрел?
– Возможно; я не обратила внимания. Вероятно, ты старался за собой следить. Зачем она тебе?
– Ну… Не обязательно быть такой же хорошенькой и такой же сексуальной, как ты, можно просто считаться и хорошенькой и сексуальной. Притом была поздняя ночь. Притом в какой-то мере проявила инициативу она.
– Судя по всему, она уже со многими проявляла, да?
– Понятия не имею. Думаю, что с немногими.
– И когда ты с ней в очередной раз встречаешься?
– Сомневаюсь, что это еще когда-нибудь произойдет, – сказал я, и это была чистейшая правда, хотя я не смог не удержаться, чтоб не намекнуть на более возвышенную причину своего сомнения, а не на вполне определенный отказ Пенни лично мне, так сказать, и еще Гилберту, который попробует вмешаться.
– По-моему, она моложе меня.
– Незначительно, но, если бы ты не спросила, мне не пришло бы в голову сравнивать.
– Кто она? Чем занимается?
– Она дочь Роя Вандервейна.
– Опять он! Хотя почему «опять», ты вечно при нем. Ну и дела! Так этот черный тип явился свернуть тебе шею?
– Нет, он просил помочь ему в одном деле.
– Выходит, он малый без затей?
– Послушай, к чему нам эти разговоры? Я ведь не спрашиваю, как у тебя с тем другом! Судя по твоему описанию, он мне в подметки не годится, ведь ты и сама призналась, да пусть он хоть в сто раз умней и лучше в постели, какой бы он ни был, но он с тобой спит, поэтому с твоей стороны просто несправедливо интересоваться моей личной жизнью!
– Нет, как раз очень справедливо! Вот если бы я принялась досаждать тебе, выкидывать всякие номера, выяснять отношения, пытаться заставить тебя с ней порвать – тогда бы да. Но я ведь ничего такого не сказала, верно? Не вышла за рамки здравого смысла.
– Да, с тобой нельзя не согласиться.
– Благодарю. Тот мой друг несколько умней тебя и почти так же хорош в постели, – сказала Вивьен, уже второй раз за вечер навязывая мне эту информацию.
– Ясно. Но мне по-прежнему твой интерес к моим делам непонятен.
– Нет и не надо! Все, хватит об этом. Больше я на эту тему не заговорю и не желаю, чтобы ты считал, будто это меня волнует, даже если я молчу.
Надо сказать, она сдержала слово, отказав себе даже в скудной доле будничной нормы угрюмой озабоченности, пока мы обедали у Берторелли на Шарлотт-стрит, потом смотрели триллер, в котором действие происходит на атомной подводной лодке и который я предпочел венгерскому фильму о жизни Листа, казавшийся ей более для меня подходящим, а также на протяжении дальнейших событий этой ночи. И все же мне бы так хотелось, чтоб последних ее фраз в разговоре о Пенни не было, потому все во мне тревожно напряглось, когда за завтраком Вивьен спросила:
– Кстати, Дуг, ты в понедельник очень занят?
Я вытащил свой календарик:
– Я бы сказал, частично. Но мне ничего не стоит переиграть. А разве ты вечером не навещаешь отца?
– Ну да, хотя я подумала, может, нам поехать вместе? Он частенько о тебе спрашивает.
– Чтоб втроем провести вечер?
– Ну да, я подумала, что могла бы заскочить за тобой сюда к шести, чтобы потом, – продолжала она, глядя в окно, – вдвоем отправиться примерно в четверть седьмого.
– Чудесно! Звучит заманчиво.
Я вышел победителем из традиционного сражения, не позволив Вивьен мыть после завтрака посуду, проводил ее, помыл посуду, написал одно письмо и погрузился в безделье до тех пор, пока три коротких звонка не возвестили об уходе на работу возражавшей против моей игры на рояле бухгалтерши Гвинет Икбаль, которая жила внизу. По этой причине я немедленно сел за инструмент, хотя и знал, что также возражавший против моей игры Фазаль Икбаль сидит дома и просидит еще с час или больше, занимаясь бог его знает чем. Однако он был более терпим к моей игре, поскольку я возражал – и, как мне казалось, имея больше оснований, – против вибрирующих завываний, перемежающихся взрывами громких щелчков, которые Фазаль имел обыкновение производить с помощью некоего принадлежавшему ему прибора и которые я терпел.
Я проиграл весь бетховенский опус № 109 сначала частями, а после чашки кофе весь целиком. По завершении сказал себе, что, может быть, Икбали вовсе не так уж привередливы. С прилежным усердием руки следовали за мыслью, однако мысль текла слабо и вяло, позволяя глазам брать на себя львиную долю ее обязанностей. Я сказал себе, что моя излюбленная отговорка: из меня не вышло пианиста-солиста из-за упорного нежелания моего учителя фортепиано воспрепятствовать моему переключению на духовой инструмент и уходу в духовой оркестр, – была лишь отговоркой, не более. Что говорить, бренчание на фортепиано сохранилось как связующее звено с прошлым, однако в будущем стоит ограничиться клавиатурой пишущей машинки, что принесет более определенные и осязаемые результаты.
К половине двенадцатого я решил, что с меня хватит, и вышел из дому в надежде, что какой-нибудь королевский кортеж, или спортивное мероприятие, или же одновременный приток в центр Лондона по какой-то таинственной, типа миграции леммингов, причине дополнительно десятка тысяч автомашин позволит мне убить хотя бы минут сорок пять из оставшегося времени. Ни черта подобного, как сказал бы в данном случае Рой. Как обычно в таких ситуациях и происходит, большая часть горожан устремилась в то утро по кольцу, а большая часть оставшихся уже отбыла на побережье Ла-Манша. Водители автобусов, на которые я садился и пересаживался, демонстрируя натиск и удаль, прорывались через светофоры на последнем мигании желтого, выруливая в самые удобные для движения ряды и устремляясь вокруг Марбл-арч и Гайд-парка с такой неистовостью, будто иначе им грозило увольнение. Без двух минут двенадцать я поднимался по ступенькам в Александра-холл. В вестибюле тип с маленькой головкой и в Униформе с непонятной враждебностью ринулся вперед, преграждая мне путь. Практически немедленно меня признав, он в лице поменялся, изобразив опять-таки непонятное радушие.
– Репетиция в самом разгаре! – уведомил он меня.
– Да, я так и понял.
Головка у швейцара как-то ужалась до размеров половины головного убора:
– Там и так уже сидят больше десятка.
– Что ж, в компании веселей!
– Фамилия?
Идентифицировав меня с третьего захода после «Как-как?… Рэндалл?…», малый, испытав некое внутреннее затруднение, решился все же не подвергать меня обыску и пропустил. Я сел примерно в последней трети зала, как было предписано его акустикой. Стоя на возвышении перед партитурой с лежавшей там дирижерской палочкой, Рой был без пиджака, его рубашка с длинными рукавами цвета фламинго, отделанная рюшем, очень даже пришлась бы по вкусу Вивьен. Оркестранты чутко ему внимали.
– Прежде всего, гобой! – говорил Рой. – Попрошу до самого начала следующего такта не обрывать ту половинку. В целом по этой части: деревянные духовые уже звучат гораздо лучше, я бы сказал, отлично, однако хотелось бы чуточку сочнее звук у третьего и четвертого кларнетов и чуть пригасить у первой флейты. Струнные в целом, постарайтесь чуть побольше теплоты! Напевнее. Знаю, знаю, столько всякой хреновины говорится вокруг напевности, и, боюсь, она не лишена смысла. С удовольствием сказал бы иначе, но лучше слова не подберешь. Только не надо считать, будто здесь только и нужно играть напевно. В таких масштабных произведениях вы должны регулировать темп сами, хотя бы немного сдерживайте темп, иначе к моменту финала полностью выдохнетесь. Отлично, теперь пройдем всю часть от начала и до конца. Все готовы? Превосходно!
Рой отпил из стакана, который его недоброжелатели сочли бы наполненным водкой, но я знал наверняка, абстрагируясь и от «Элеваций № 9», и от Сильвии, что там была именно вода. После это Рой поднял палочку и запустил в действие оркестр.
Исполняемая часть была первой частью Первой симфонии: мне в значительной степени повезло, ведь это мог оказаться гораздо более пространный, насыщенный, объемный, многомерный, тяжелый, неспешный, протяженностью на целых полчаса фрагмент из Второй или Третьей. Благодаря внезапно возникшему у композитора приступу лаконизма, прослушивание заняло чуть более пятнадцати минут. (Справедливости ради замечу, что в аналогичной ситуации Вебер вполовину сократил бы подобную часть и до четверти оркестровую группу, зато произведение у него было бы во много раз выразительней.) Едва музыка перешла в вялотекущее русло, я предпринял некоторую попытку отделить ее от того, как она интерпретировалась и исполнялась, однако у меня это всегда плохо получалось с произведениями, внесенными мною в список второстепенных. Сперва помимо собственной воли я слушал, как громада малеровской посредственности воплощается Роем вместе с Новым Лондонским симфоническим. Искусственная суета переходила в некое веселье; взвывания рожков и деревянных духовых обретали какую-то деревенскую прелесть; трубный глас и барабанный бой несли в себе угрозу; даже эта чудовищная кукующая темка несла гораздо больше, нежели решимость великого композитора показать всему миру, что в тот период он неуемно восторгался таким музыкальным интервалом, как чистая кварта.
Окончание было довольно-таки слабым, как, впрочем, почти весь Малер; кроме того, можно было бы высказать упрек виолончелям за некоторую шероховатость в самом начале, но в целом исполнено было на весьма приличном уровне, ближе к отличному второразрядному, на том редком и возвышенном уровне, на который Рой был, бесспорно, способен поднять этот оркестр во время концерта, и на котором, как я с облегчением констатировал, по-прежнему оставался и сам Рой. Прочие слушатели – не компания бунтарей, этих явных микроцефалов, а всякие друзья исполнителей – были того же мнения. Во всяком случае, они аплодировали. Как и я.
– Чертовски здорово! – сказал Рой. – Всем спасибо! Очень близко к идеалу. Уже вот-вот половина первого, можно было б и закончить пораньше на полчасика. Все трудились чертовски напряженно и в это утро, и последних пару дней, поэтому, если нет особых возражений, я бы предложил и сегодняшнюю дневную репетицию отложить. Идет? В таком случае понедельник, десять часов утра. Еще раз спасибо!
И вскоре Рой шел ко мне по проходу со словами приветствия, застегивая на ходу свой свободно облегавший пальтообразный пиджак. Я чуть было не впал в уныние от этой мгновенной отмены дневной репетиции и стал убеждать себя: дескать, только что восторгался его высокими результатами, что вообще бы следовало мне прекратить вмешиваться не в свое дело, да и никого мое мнение абсолютно не интересует. Хотя, как сказать. Вовлечение в дела Роя означало для меня превращение в его сообщника, или в заботливую тетушку, или в то и другое одновременно.
Мы вышли и стали спускаться по ступенькам. За последние два дня погода поменялась и наверстывала упущенное, затянув небо серой моросью и запуская шквальные ветры. Один такой порыв вздыбил и разметал волосы Роя.
– Пожалуй, Даггерс, я бы предпочел какое-нибудь местечко неподалеку. Где-нибудь поближе, если вы не против.
– И чтоб поменьше народу. Нам надо многое обсудить.
– Да ну вас! – вильнул в сторону Рой. – Не стану ничего обсуждать, пока не приму граммов сто скотча. А там посмотрим.
– Мне казалось, это вам надо со мной поговорить.
– С чего вы взяли?
– Сами мне сказали по телефону.
– Неужели? Ах да. Пустое, ерунда. У нас уйма времени. Ну как мы там в зале, славно навели шороху?
Пока мы шли извилистыми переулками в какую-то харчевню или столовую, я излагал Рою свои впечатления от репетиции. Внутри обстановка являла некую смесь викторианского и эдвардианского стилей, нисколько не отдавая бесцветностью айлингтонской пивной, но отразив пугающую приверженность детали: голый дощатый пол, повсюду покрытый тонким слоем пыли, в баре стеклянные панели и зеркала с гравировкой, столы с (возможно) мраморным верхом и (возможно) со станиной ножной швейной машинки в качестве ножки. Усатый официант в бархатном камзоле цвета сливы и в панталонах из тика принял заказ: мне – легкое пиво, Рою – две большие порции виски.
– Что ж, отрадно, что вам понравилось, старина, – произнес Рой, отпивая. – Мне и самому показалось, что звучало отлично, однако, доживете до моих лет, уверяю вас, будете постоянно волноваться, остался ли еще порох в пороховницах. У меня лучше получается, если меня воодушевить.
– Может, вы и правы. Но по-настоящему вас нужно как следует отрезвить. Я про «Элевации номер девять», про «Свиней на улице» и про весь этот срам! Нет-нет, Рой, я собственными глазами видел программку и все такое. Что за номера вы откалываете? Вы, в вашем положении! Когда ваше место…
– Что за эрозия свободы личности! Как бы я хотел, чтоб вы сумели пробиться на волю из душной клетки, в которой бытует мнение, что после смерти Брамса музыка кончилась! Вы же не можете утверждать…
– Неправда, все прекратилось с Шёнбергом и додекафонической музыкой, если не считать отдельных мастеров, которые сумели…
– Даггерс, не заводитесь!
– Ладно, извините. Но скажите, в чем смысл, в чем для вас смысл приобщения ко всей этой попсовой… дребедени? Знаю, слышал отговорку «мое личное дело», или, может, это имеет отношение к стоячим воротничкам и Фрэнку Синатре? Пусть так, но ваше дело – музыка! А что у них за дело, я знать не знаю и знать не хочу; я знаю единственное – это не музыка! Так вот, меня интересует, почему именно вы, а не кто другой? Чем вы объясните свое желание стать таким, как они? Как нам всем прикажете это воспринимать? Если вы скажете, что все это лишь смеха ради, все закроют на это глаза. Все, кто вам близок, закроют на это глаза Те, чье мнение вам дорого. Или к которому следует хотя бы прислушаться. У меня просто нет…
– Давайте посмотрим на это так: жизнь меняется, и очень быстро, так быстро, что просто невозможно определить, что какой примет оборот. Ладно, я готов согласиться, просто в порядке дискуссии, что весь стиль поп весьма посредствен в музыкальном отношении. Но что значит «в музыкальном отношении»? Отношение к музыке тоже меняется. Приходится устремлять взгляд за пределы всех дерьмовых определений, которые были нам навязаны с детства. В эпоху позднего капитализма должны найтись…
– К дьяволу поздний капитализм! – Я понял, что мы подошли к узловому моменту в нашем споре, тому самому, который уже давно будоражил меня, выплескиваясь из тайников моего сознания, подошли много раньше, чем следовало бы, но что поделать. – По-моему, на самом деле вы только и стремитесь, что промылиться к молодежи в жопу!
Рой от души громко расхохотался; он позволял каждому обрушиваться на себя с какими угодно нападками, что составляло одно из привлекательнейших и опаснейших свойств его натуры:
– Промылиться в жопу! Ах, мистер Йенделл, ах, сэр, по части выражений у вас явный талант! Ну да, именно, мне кажется, в какой-то степени ваши слова не лишены смысла, ведь то, что я могу взять у молодых, больше-то взять и негде.
Я ощутил, как мышцы лица у меня напряглись до боли.
– Нет, я вовсе не про то, что говорил вам насчет нового способа видения, – продолжал Рой, являя, на свой манер, образчик недюжинной интуиции и памяти. – Если правильно себя повести и если к тому же повезет, то юнцы могут дать человеку моего возраста такое, что ему и в самом деле нужно. Стоп! Я говорю о безграничном восхищении. Смею вас заверить, это вещь весьма ценная.
– От Пышки-Кубышки вы имеете то же, и в избытке! Я-то думал, для вас предпочтительней то же, но с долей критики. Назовем это обоснованным восхищением.
– Ну да, это тоже неплохо, я знаю, подобное свойственно вам и еще одному-двум моим знакомым, и я чертовски благодарен, честное слово, одна мысль об этом окрыляет меня, когда начинает казаться, будто я, несостоявшийся композитор и посредственный скрипач, завершаю свой век дерьмовым дирижером, только, видите ли, Даггерс, старина, дело-то в чем, ведь вовсе не ваша вина, что вы – это вы, а не десяток девчонок девятнадцатидвадцати лет со своими парнями.
– Ах вот что! Но парни-то тут при чем, не пойму?
– Да просто так, для компании. Девчонка может доставить массу хлопот, потому что хочет уложить меня в постель, потому что меня показывают по телевизору, или потому что я сэр Рой, или потому что считает, что может вытянуть из меня платиновый браслет, хотя такие уже почти не в ходу в наши дни, к ним утрачен интерес, теперь никто не отличит платину от пластика. Черт!.. Так вот, мальчишки-приятели не тащат меня в постель, поэтому отношения между нами строятся на в широком смысле беспристрастной основе. Я становлюсь как бы героем в их глазах. Я понимаю, что я не совсем герой, но мне нравится, как у нас с ними складывается. Вот почему я мылюсь в жопу к молодежи. Учтите, меня привлекают их взгляды и все, что за этим стоит. А это все-таки немало.
Помолчав, я спросил:
– Ну а Сильвия? Она тоже дарит вас безграничным восхищением?
– В гораздо большей степени, чем вы можете представить, учитывая ее поведение вечером во время нашего недавнего выхода. Хотя, по правде говоря, нет, не слишком. Совсем нет. Я, признаться, сам не понимаю, почему она… Наверное, ей просто нравятся пожилые мужчины. Видите ли, среди молодежи такое бывает. И все же это хорошо, что она не питает ко мне безграничного восхищения. С ней мне даже думать об этом не хочется.
– Рой, я хочу с вами поговорить о Сильвии.
– А что, собственно? На какой предмет?
В это мгновение какой-то невидимый знаток момента запустил пластинку или пленку, и тут зазвучала в фортепианном исполнении на высочайшей скорости и при звуке до отказа танцевальная мелодия двадцатых годов, то бишь эпохи превалирования стандартов, пусть не запредельно агрессивных, но способных повергнуть в смятение человека, в чьих ушах еще не отзвучал грохот двух-трехдневной давности. Рой достиг дверей даже раньше меня. Но как тогда он выносит весь этот напор истошного воя, называемого «поп»? Ведь он должен быть гораздо восприимчивей к подобной грубятине, чем я, или чем, скажем, большинство прочей непросвещенной публики. Или это новый способ слышать? Нет, быть такого не может! Во всяком случае, с музыкантом его масштаба.
Вслух я сказал:
– И куда теперь? – ощутив, что произнес это с легким раздражением.
Я не был убежден, что смогу вынести очередной, пусть даже в дневное время, поход под водительством Роя незнамо куда.
– Подхватим Сильвию в каком-нибудь из бутиков, – бодрым тоном бросил Рой, – потом пообедаем в «Болоньезе». Поблизости от Рыцарского моста.
– О боже!
– Возьмите себя в руки, Даггерс! Будьте мужчиной. Ничего-ничего, справитесь. Ну а уж если почувствуете, что невмоготу, можете с воплем сорваться прочь. Не понимаю, что вас не устраивает. Вы ей нравитесь. Она считает, что вы большой шутник.
– Откуда вы взяли?
– Я вполне понимаю вас. По-вашему, она довольно странно выражает к вам свое отношение, но просто вы не подозреваете, какая она бывает, если ей и в самом деле кто-то противен. К тому же вы вроде собирались со мной о чем-то поговорить.
– Собирался. – Любопытство уже одержало верх над сопротивлением, какие бы аргументы я в подкрепление последнего ни приводил. – Ладно! – Обнаружив, что мы передвигаемся довольно быстрым шагом, я добавил не слишком пытливо: – А где ваш автомобиль?
– Временно выведен из строя, – снова бодро ответил Рой.
На этот раз его тон навел меня на мысль, что автомобиль, возможно, занят или полностью сожжен кем-то, кого Рой в данный момент не был склонен упоминать: либо Гилбертом, либо Пенни, либо Крисом, либо Китти, либо Эшли. Кем-то из его домашнего окружения.
Мы поймали такси. Вместо того чтобы сесть рядом со мной на заднее сиденье, Рой втиснулся на одно из откидных, укрепленных внизу на перегородке между нами и водителем, и уселся на нем по-мальчишески, вероятно демонстрируя этим равнодушие представителя межкультурного слоя ко всякому комфорту. Я спросил:
– Вы пригласили меня, чтобы приятно пообщаться за обедом или же по-прежнему считаете, что я вам необходим в качестве камуфляжа? А то я подумал, что вы уже готовы сорвать маску и предстать пред очи общественного мнения?
– С чего это вы взяли?
– Со слов Пенни. О ней мы потом поговорим. Вы действительно подумываете оставить Китти и жить с Сильвией?
– Да, старина, между нами говоря, я к этому склоняюсь.
– С ума сошли!
– Верно, по-моему, так считают все. На мой взгляд, в этом есть доля истины.
– Она чудовищна!
– Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Случается, что я и сам это чувствую. Есть что-то мне непонятное. Скажем, она ничем не же лает заниматься.
– Ничем? Я думаю, она практически ничего и не умеет…
– Вот именно, вроде того чтобы стоять у плиты, готовить обед, убирать квартиру, стелить постели. В первую же проведенную у нее ночь я убедился, что у нее дома нет никакой еды, кроме капли скисшего молока и нескольких весьма скромного вида печеньиц, которые можно гнуть туда-сюда, как воск. Так вот, выходить нам нельзя, как вы понимаете, чтобы нас не увидели вместе, потому кончилось все тем, что мне пришлось… кончилось?… нет, началось все с того, что я отправился покупать мясо, овощи и все прочее. И должен заметить, бутылку скотча. Когда я все это приволок, она вообще отказалась готовить. Наотрез. Пришлось мне чистить картошку. Треклятое занятие! Словом, я вышел снова и купил сандвичей, и готовый картофельный салат, и шинкованную капусту, а потом мне пришлось мыть тарелки, ножи и вилки, чтобы ими можно было пользоваться, и все это нести к ней в постель.
– А как она справляется в ваше отсутствие?
– Либо соседка помогает, либо она ходит в кафе.
– И вы собираетесь бежать из семьи, чтобы жить с таким сокровищем?
– Ну да! Во всех прочих, во многих других отношениях мы чудесно провели тот день. Я могу нанять кого-нибудь, чтобы покупать продукты, готовить и заниматься хозяйством во время нашего отсутствия. Честно говоря, именно это обстоятельство и перевесило все другие в моем решении уйти к ней.
– Ясно. – Мне также было ясно, что пока моя тактика натиска встречает уверенный отпор. – Полагаю, вы учитываете наличие такого фактора, как Гарольд Мирз. Он и до того вас не слишком жаловал. Стоит ему узнать, что вы намерены жить с его дочерью, – если он до сих пор этого не знает, – думаю, скандала вам не избежать.
– Да пошел он на хрен со своим скандалом, подумаешь! Что он может сделать? Велит этому, кто там у него подписывается «Джон Ивлин», накатать заметку типа «один недавно удостоенный дворянского титула престарелый дирижер трахается с несовершеннолетней дочкой одного видного деятеля с Флит-стрит»? Если он обосрет меня, тем самым он обосрет и ее. А если следовать принципу «ворон ворону глаза не выклюет», то и остальные газеты заткнутся. Это я уже наперед просчитал.
– Мирз какую-нибудь пакость выкинет!
– Чтобы вмешаться в мою личную или творческую жизнь, он сперва должен уволить вас, взамен же не получит никого, кроме всякой околомузыкальной швали, пишущей… Простите, Даггерс, я хотел сказать, вам лично цены нет, в то время как его газетка вас не стоит, вы поняли? Этим говнюком Гарольдом Мирзом меня не запугаешь!
– У меня на сей счет иное мнение. – Мне снова приходилось маневрировать. – Заткнутся газеты или нет, а слухи все равно поползут, и довольно быстро. Неужели вам будет приятно, если ваши знакомые и миллионы простых почитателей станут считать вас лопухом? Примутся осуждать? Насмехаться? Даже молодежь!
– Конечно, не будет приятно! Хотя слишком и не огорчит. Во-первых, потому что я сам считать себя лопухом не буду. Кинозвезды, да и не они одни, постоянно увиваются за куда более молоденькими, и ни одну собаку это совершенно не волнует. Разве вы не видите?
– Тут не только в возрасте дело. Вы собираетесь решиться на нечто ужасное. Что будет с Китти? А что будет с Пенни? И что будет с Крисом? И с Эшли?
– Согласен, Эшли – это проблема Тут следует обдумать какие-то обоюдные условия. И не думайте, что судьба остальных меня вовсе не волнует!
– Нет, я именно так думаю, ведь вы собираетесь уходить, совершенно не думая о тех, кого оставляете! Почему бы вам все-таки не остаться, выговорив себе возможность сколько хотите встречаться с Сильвией на стороне?
– Нет. Все это уже было, хватит. Мы почти приехали!
Такси, постепенно сбавляя скорость ввиду скопления транспорта при подъезде к Гайд-Парк-корнер, устремилось по Гроувенор-гарденс. Откуда-то спереди понеслись трескучие и грохочущие звуки, там что-то сносилось, или возводилось, или выкапывалось из земли. Еще чуть-чуть, и мне придется снова орать, как тогда, но мы уже подъезжали к кварталу модных магазинов, и я рисковал упустить свой шанс.
– А раз хватит, почему не бросить вообще? И что значит хватит? Слушая вас, можно подумать, будто последние года два вы только и делали, что сражались в джунглях. Нет уж, раз на то пошло, хватит праздно смотреть, как вы делаете больно другим людям! Уверен, что Китти постоянно твердит вам: лучше б вам ее пристрелить, чтоб навсегда с этим покончить, и тому подобное! Конечно, ее можно понять, если вспомнить, как ведет себя голодная собака, которой мясник позабыл кинуть кусок мяса. Но, возможно, время от времени вы отдаете себе отчет, что вытье до побоев не служит надежной гарантией от побоев и что без вас для Китти и в самом деле все будет кончено. У нее больше не останется, черт побери, никого, кроме Эшли, этого маленького чудовища, каким он сделался в значительной мере из-за вашего же идиотского воспитания, позволяющего ему всегда делать все, что заблагорассудится, потому что если вы его одернете, то потеряете для него всякий интерес, а этого вы никак не можете себе позволить, не так ли? Пенни с Крисом презирают вас за ваше поведение, однако это вовсе не означает, что они вас не любят или что не смогут снова полюбить. Но если вы уйдете к Сильвии, они никогда вам этого не простят. И это именно так! Вы понимаете или нет? Мне с трудом удавалось перекрикивать уличный грохот, однако Рой слушал внимательно, не сводя с меня глаз и время от времени кивая. И тут меня почему-то резануло при виде его на откидном сиденье: в этой неудобной, даже намеренно нелепой позе он походил на слушателя, примостившегося на жестком стуле или на табурете в момент, когда наставлявший его собеседник сидит развалясь на пухлом сиденье с дорогой обивкой. Так вот почему он выбрал это сиденье, чтобы нарочито продемонстрировать свою второстеденность, свою физическую зависимость от читающего ему нотацию, показать, с каким вниманием слушает, – все это было совершенно противоестественно для наших с ним отношений. Мне же при этом, а может, и не только при этом, отводилась особая роль поднести ему горькую микстуру и проследить, чтоб он принял ее не морщась, как подобает мужчине. Он срежиссировал, чтоб ему конкретными доводами против его намерений помогли понять, как глубоко он завяз в своем романе, до того как он уйдет и свои намерения осуществит. И теперь я понял, в чем состоит для него истинный смысл моих услуг, по крайней мере на данный момент: удостовериться, что я, вытерпев Сильвию в течение добрых шести-семи часов кряду, потом мог бы выступить свидетелем обвинения на показательном суде против Роя, где Пенни предстоит участие не в виде или не только в виде приманки для меня, но и в качестве личной подстраховки для него, чтобы показать, что даже в такие тяжелые для себя дни он заботится о ней, пытается пристроить к надежному и серьезному старине Даггерсу.
Я был настолько увлечен своими мыслями, что не сразу услышал его слова:
– Я прекрасно все понимаю. Видите ли, мои семейные отношения, я хочу, чтоб вы это поняли, достигли агонии. Мне придется примириться с тяжелой участью Китти в этом деле. В какой-то степени судьба детей, Пенни и Криса, меня волнует больше. Но у них впереди вся жизнь. Мне же осталось не так много, поэтому они вряд ли долго будут упорствовать в своей непримиримости. Если повезет, я доживу до шестидесяти. В свое удовольствие. Я не собираюсь доживать свой век в ореоле святоши, возлюбленным мужем и любимым отцом, воплощением чистой совести – все эти идеалы мне противны и слишком поздно к ним стремиться, – при этом не имея возможности жить как заблагорассудится и ни перед кем не отчитываясь, без птенчиков, без виски, без этой гонки с места в карьер. И могу воспринять критику лишь того, кто, оказавшись в моей ситуации, поступил иначе. И никакой иной.
Я слушал его, и никак не мог придумать, что мне ему сказать, кроме как намекнуть на роль поздней стадии капитализма во всей этой неразберихе, чего все-таки решил не делать. Такси сделало поворот от больницы Святого Георга. Рой сказал, закуривая:
– Что бы там ни было, предлагаю вам дружеский обед.
– Идет. Вы не будете против, если я подъеду завтра и навещу Китти?
– Нисколько. Я бы это приветствовал.
– Решено. И когда вы собираетесь отчаливать к Сильвии?
– Через пару месяцев. Когда разделаюсь с Гусом Малером, а ей исполнится восемнадцать. Да, Даггерс, не могли ли бы вы оказать мне маленькую услугу? Это не займет у вас много времени.
– Я готов.
– Вон там, почти напротив, магазин мужской одежды. – Он впился в меня умоляющим взглядом. – Может, заскочите и купите мне парочку трусов? Размер средний, тип боксерский. Ну или любые, какие у них есть. Не ломайте голову.
Будучи на этот счет наслышан, я не возмутился, не рассмеялся, и уже через пару минут стоял посреди магазина, который, помимо товаров, был наполнен шумом поп-музыки. Обслуживавший меня малый глянул из окна через занавеску, подавая мне сдачу:
– Вон там, по-моему, сэр Рой Вандервейн стоит!
– Да что вы говорите?
– Точно. Он здесь часто околачивается. За птенчиками стреляет, ага! Моя сестрица как-то оказалась вместе с ним на одной вечеринке. Уболтает в пять минут и – трахаться!
– Как вы сказали?
Малый помотал рукой на уровне ширинки.
– Ага. Кто бы мог подумать! Благодарю. Всего хорошего.
Я вернулся на ту сторону улицы, делая глаза Рою, в тревоге озиравшемуся по сторонам.
– В чем дело?
– В каком смысле?
– Почему у вас такое лицо? Что случилось?
– Послушайте, парень из магазина вас узнал!
– Да неужто? Ну и что из этого?
Трусы перешли из рук в руки, как в более зловещей ситуации копии ракетных чертежей от одного тайного агента к другому, после чего обоих косит очередь из проезжающей мимо машины в эпизоде, вслед за которым идут титры фильма. Передав трусы, я ответил:
– Не знаю. Что из этого выйдет, я не знаю.
– Так-то лучше! Ну же, старина, разве все это не смешно? Разве не повышает тонус?
– Как вы сказали? Ведь я специально обращаю ваше внимание, чтобы вам…
– Согласен, такие штуки, как конспирация, способны понизить тонус, но уж если вдруг повышают, так повышают! И к вам это тоже относится. Все на пользу. Расширяет мировоззрение.
И снова, едва переступил порог, как мне показалось, бутика, я окунулся в дикий рев. Единственная комната размером с корт для игры в сквош, при этом с низким потолком, освещалась скудным, проникавшим сквозь плотные занавески дневным светом, а также некими напоминавшими электротостеры приборами, прикрепленными к стенам на уровне человеческого роста. Благодаря им можно было выхватить взглядом из полумрака то чей-то стоячий воротничок, то поясную пряжку, то чью-то ногу, то чей-то затылок. Наверное, Рой собирался отыскивать Сильвию на ощупь или по запаху, на ощупь даже скорее всего, так как никакой дезодорант не смог бы нейтрализовать миазмы, исходившие от скопища тел. Кроме того, было нестерпимо душно. Я держался поближе к дверям, не переставая доблестно сражаться с толпой, чтобы не проглядеть, если Рой будет возвращаться назад. Время шло. Мое нынешнее состояние, стертое, но все же подобие того, в котором я оказался во время бесконечных мытарств в тот вечер оказания услуги, я воспринимал сейчас как состояние ребенка, приведенного взрослыми в музей или оказавшегося на экскурсии в огромном старом доме: ощущения скуки и неловкости сливались, образуя третье, солипсическое отчаяние, возрастающую и, по-видимому, необратимую утрату веры, будто существует еще что-то помимо окружающего меня в данный момент – чай, домашнее задание, телевизор, школа, игра в крокет, каникулы, – а то, что было, казалось не иначе как адом. Чтобы придумать себе хоть какое-то занятие, я сконцентрировался на попытке не дышать.
Из полумрака выделился Рой и с ним что-то похожее на Сильвию. Приблизясь к дверям, я увидел, как на фоне солнечного света перед Роем возникла фигура, как мне показалось, мгновенно атаковавшая его кулаками и спереди, и с боков; однако Рой выбрался на улицу, избежав увечий. Когда подошла моя очередь, оказалось, что эта процедура – обыск, проводимый со знанием дела и вполне цивильным методом. Данная мера предосторожности, сама по себе поразившая меня своей необычностью, могла бы, на мой взгляд, проводиться с большим успехом, а то и не проводиться вовсе при наличии дополнительного освещения. Но по здравом размышлении я понял, что потенциальные покупатели подобного магазина никогда бы не переступили его порога, если бы сразу отметили наличие такого препятствия, сводящего на нет их шансы что-нибудь умыкнуть.
– Хорошо бы в «Калькуттской темнице» не звучал этот поп, – сказал Рой, едва мы двинулись по тротуару.
– Да? А мне казалось, вам нравится! – заметил я.
– Если группа приличная, то да. А эта нет.
Сильвия, которую короткая черная кожаная куртка, высокие черные сапоги и широкий пояс из цепей с навешенными на него брелоками (или чем-то еще) величиной с амбарный замок делали похожей на исполнительницу роли тюремщицы в модном мюзикле пятидесятых, не проронила ни слова.
Она продолжала молчать на всем пути в ресторан, и пока мы рассаживались там, а также пока Рой отлучался на пару минут, вероятно, поменять трусы. Я огляделся. Буквально все здесь – стены, мебель, даже то, во что были одеты официантки, – отличалось поразительной оригинальностью, необычностью, чуть ли не отдавало экзотикой. Я даже не сразу как-то понял, что это ресторан, что здесь есть столы и стулья, что одни посетители заказывают напитки и всякие блюда, и им их приносят, а другие расплачиваются и получают сдачу. Как это не вяжется с Роем, подумалось мне. Может, он предпринял вылазку в обратном направлении, экспедицию в Старый Свет, как если бы белый, прижившись среди туземцев, решил наведаться в город, проверить, остались ли там еще, скажем, магазины и автобусы.
Но разговор на эту тему так и не зашел. Разговора вообще как-то не получилось. Рой спросил, о чем я сейчас пишу, и я сказал, что о симфониях Гайдна и сонатах Моцарта, а потом сказал, что Терри Болсовер хочет взять у него интервью. Последнее заинтересовало Роя в большей степени, чем обе первые темы вместе взятые. Я спросил, чем занимается он, и он сказал, что собирается отказаться от заказа написать музыку к фильму о Ричарде Втором.
– Почему? – спросил я.
– Ну, видите ли, автор сценария – один тип из правых. Прославляет монархию и все такое прочее.
– А-а, понятно!
На протяжение всего этого диалога Сильвия не выдала ни единого звука, по крайней мере голосом, ибо при всяком движении она оглушительно гремела и звякала цепями, – куда до них самым изысканным браслетикам Вивьен! Официантка принесла нам горячее и удалилась нелепой походкой вразвалочку. Глядя ей вслед, Сильвия впервые за все это время произнесла:
– Почему эта идиотка так жутко двигается?
– У нее что-то с бедром, – сказал Рой. – Кажется, туберкулез. Это хозяйская дочка. Я их тут всех знаю.
Сильвия продолжала с полным ртом, жуя спагетти:
– Так почему же хозяин ничего не сделает?
– Он делает, только, очевидно, в подобной ситуации не так-то много можно сделать.
– Из этой конюшни, должно быть, кучу денег выколачивает. Это же видно, лет десять на ремонт ни пенса не потратил. – Она жевала и глотала, как во время конкурса «Кто быстрее всех съест»; возможно, соседке по квартире не пришлось накормить ее завтраком. – Почему бы ему не отложить чуть-чуть на лечение дочкиного бедра или что там у нее?
– Он уже выложил все, что у него было, на несколько операций здесь, в Швейцарии и в Америке, – как бы походя заметил Рой, – и до сих пор еще не расплатился с долгом.
Это могло бы, казалось, закрыть тему, однако Сильвия так не считала. Она пожевала еще некоторое время и сказала:
– Значит, на этом увял? Что же, не хватило мозгов поискать где-нибудь нормального врача? Скорее всего, и не пытался. Так, слегка посорил деньжонками для успокоения совести.
Это был чистейший нравственный вандализм в своей вполне зрелой форме, тот самый, который в иных сферах может воплощаться в виде зверского избиения старушек, если кругом никто зверски не избивает старушек, или стрелять в тушащего пожар пожарного, если никто не стреляет в тушащего пожар пожарного. И это еще не все. С еще большей очевидностью, и именно в силу удаленности от обсуждаемой темы, я осознал, почему Сильвия так привлекательна для Роя: она – наглядный воплотитель поступков, которые он сам, хоть и хочет, не смеет совершить; как бомбометатель для либерала, слишком почтенного, и трусоватого, и утонченного, и старого, и слишком пережитка капитализма, чтобы смириться с существованием бомбы. И – или.
Не произнеся больше ни слова, Сильвия поглотила спагетти, встала и удалилась. Я кинул взгляд на Роя.
– Молодая! – сказал он.
– Рой, забудем все, о чем мы спорили! Ведь это вовсе не так уж важно. Можете вести себя как оголтелый эгоист хоть всю оставшуюся жизнь, все это пустяки. Каков Рой Вандервейн как муж, отец, и любовник, и тому подобное, касается только Роя Вандервейна и очень узкого круга лиц, а лет через пятьдесят об этом никто и не вспомнит. Каков Рой Вандервейн как музыкант – касается только музыки, и это будет интересно много дольше. Ради Христа, бросьте вы это дерьмо, свои «Элевации номер девять», сосредоточьтесь на Малере. Это ваша работа. Это ваше призвание.
– По-вашему, музыка важней, чем секс? Да ну вас к богу в рай, Даггерс…
– На мой взгляд, очень даже да! По мне, лучше быть монахом, но в мире музыки, чем безотказным жеребцом, но без нее. Для меня тоже секс не последнее дело, и, может быть, я не слишком точно выразился насчет монаха и жеребца, только не в этом суть. А суть в том, что музыка важней, чем сексуальная жизнь Роя Вандервейна.
– Послушайте, старина, ей-богу, я никак не могу взять в толк, что ужасного в таком крохотном пустячке, как «Элевации номер девять»! Послушать вас, так прямо…
– Куда подевались остальные восемь?
– Ах, да это выдумка! Я хочу сказать, остальных просто не существует. Есть у «битлов» одна запись – хотя вас это не интересует. В общем, это просто некий каламбур. Ну, господи, элевация, девять дюймов.
– Полагаю, вы будете объяснять это публике в день премьеры? Или же приметесь демонстрировать…
– Ну конечно! Но я по-прежнему не понимаю, чем это вас так…
– Вы оскверняете… вы, такая известная личность, столь высокочтимая, причем по заслугам, вы способствуете осквернению такого высокого искусства, как музыка! В момент, когда она переживает такие трудные для себя времена, когда творят всякие типа Кейджа и Буле. Вы наносите удар прямо с тыла. Что говорить, подобрали нужный момент, сейчас самое время и подходящая ситуация, чтобы то, что вы сочиняете, пришлось в какой-то мере по вкусу всем, чего музыке, основанной на джазе, не удавалось после множества попыток. Но если только ваше барахло придется всем по вкусу, значит, вы погубите самое музыку!
– Подумаешь, носитесь со своей мелодикой как с бесценным сокровищем! Ведь новое – это просто трюкачество, веселая возня. Ах, если бы вы хоть раз смогли увидеть все в ином ракурсе!
– Веселая возня, которая погубит музыку! Хорошо, пусть я переусердствовал насчет того, что всем по вкусу. Но вы и в самом деле помогаете превратить музыку в забаву, в какую-то пустышку, как и то, во что они все одеваются, как театр, где актеры нагишом, как «люди-цветы», как экологическое искусство и прочее. А это позор! И для такого, как вы, в первую очередь. Потому что вы знаете большее. Вы можете рассказывать о том, что именно вам так приятно в безграничном восхищении, я не сомневаюсь, теперь вы получите его в полном масштабе, только все ваши коллеги и все ваши истинные друзья станут вас презирать! И я в том числе. В первую очередь я!
Рой мрачно налил себе еще вина и взглянул на меня; я покачал головой. Потом он снова взглянул на меня с кривой ухмылкой, которую я прежде у него не замечал, однако смысл уловил без труда. Он переваривал очередную дозу горькой микстуры, с моей помощью испытав омерзение к тому, что уже безоговорочно вознамерился совершить.
– Пожалуй, я все-таки выпью вина, – сказал я.
Он налил мне, становясь все мрачней.
– Она просто так взяла и ушла?
– Нет-нет, – сказал Рой. – Просто так она никогда не уходит. Только дав совершенно ясно понять, что сейчас намерена уйти. А вот и она!
– Пошли! – сказала, появляясь, Сильвия.
– Присядь, выпей кофе! – сказал Рой.
– Пошли! – Она одарила его гримасой, адекватной в исполнении гадким почерком призыву: «В постель!»
Рой поднялся. Я заявил, что на сей раз плачу я, и вытащил бумажник, однако Рой сказал, что сегодня запишут на его счет, а в следующий раз, пожалуйста. При выходе Сильвия толкнула под локоть какого-то человека, сидевшего за столиком у прохода, и он плеснул кофе на пачку сигарет, лежащую на столике, а Рой извинился. Мы шли к Рыцарскому мосту, накрапывал легкий дождик, и Сильвия прибавила шагу. Машины еле текли сплошным потоком.
– Тут мы такси никогда не поймаем, – сказала Сильвия.
– Пойду взгляну, где остановка автобуса, – предложил я.
– Вот! – сказала Сильвия, указывая пальцем.
Это был не автобус, а свободное такси, и оно действительно медленными толчками приближалось параллельно тротуару, на котором мы стояли. Рой махнул водителю. Аналогичный жест сделал одновременно с ним маленький смуглый человечек, возможно индус, который стоял ближе к такси, чем мы. В этот момент машины двинулись с места, и такси, проигнорировав индуса (с удивлением вытаращившего глаза), проехало мимо и притормозило рядом с нами.
– Почему вы не остановились перед тем парнем? – спросил Рой водителя.
– А мало ли, – ответил тот с выговором простолюдина. – Может, он мне лучше понравился.
– Но он же цветной!
– Так вы раньше подошли. Я считал, что это твое право, мужик!
– Немедленно развернитесь и подъезжайте к нему!
– Еще чего, тут разворачиваться не положено. Ладно, садишься или нет?
– Да полезай ты, идиот паршивый! – сказала Сильвия. – Не знаю, как тебе, а мне некогда!
– Я не желаю…
Словно мы все утро репетировали, Сильвия лягнула Роя под зад, я подхватил его прямо под мышки, она рванула дверцу, я плюхнул его на сиденье, Сильвия нырнула следом, и такси отъехало.
– Пока! – выкрикнула она из окошка, махнув рукой. – Большое спасибо! Привет!
Глава 5
Как скала
Как я узнал на следующее утро, позвонив и напоровшись на Гилберта, машина Роя быстро оправилась после жестокого недуга; Гилберт же сообщил мне с легким и в то же время нескрываемым удовольствием, что ее владелец укатил на ней в Лондон и, следовательно, придется мне от метро добираться пешим ходом. На вопрос, как там обстоит дело с такси, Гилберт все в том же ключе сказал, что прямо у самого выхода из метро имеется местный пункт вызова такси, однако, как подсказывает его опыт, там всегда заперто. Опыт Гилберта сработал безупречно. Я отправился пешком через весь городок с боязнью, что вот-вот разразится ливень, однако небеса, хотя и продолжали сохранять свинцовую окраску, решили до поры попридержать свою влагу. Люди на улицах, в том числе и молодежь, выглядели вполне нормально. Расценив это как непостижимо благоприятный знак, далее путем самоанализа я выявил, что подсознательно рисовал в своем воображении страшную картину перевоплощения городка со времени моего последнего посещения в некий Ройтаун, с толпами молодежи на тротуарах и проезжей части, курящей наркотики, тренькающей на гитаре, клеймящей устаревшую мораль и окликающей друг друга: «Эй ты, христианин почтенный!» Но даже если такое и было, это не бросалось в глаза.
Я свернул у автопарка с витриной, уставленной «бентли» и «роллс-ройсами», направился мимо мрачноватой лужайки, испятнанной лужами, и пересек какую-то площадь, где в зданиях богаделен вокруг церкви размещались заведения, названия которых были изображены на отражателях, доступных освещению автомобильными фарами, и с металлическими фигурами на верхушках столбов при воротах. Это, пожалуй, было гораздо больше в стиле моего Ройтауна. Подходя к резиденции Вандервейнов, я, похоже, заметил Гилберта в окне второго этажа, однако, приглядевшись, я никого там не увидел. Ступив на двор, я, как и прежде, услышал доносившиеся из кухни рычание и лай Пышки-Кубышки; она возникла передо мной в прихожей, узнала и принялась вилять хвостом, часто фыркая, как и подобает собаке почтенного происхождения. Откуда-то появилась Китти с объятиями. После того как мы прошли в гостиную, она со свойственным ей темпераментом произнесла:
– Дуглас, дорогой, как это мило, что пришли!
– Ну, проветриться никогда не помешает! Как поживаете?
Китти изобразила мужественно-конвульсивную улыбку, вызвавшую у меня чувство раздражения и одновременно жалости.
– Ах! Знаете ли… – ответила она с наигранным надрывом беспечности. – Живем потихоньку. Надо ведь как-то жить! Может, хотите пива или чего-нибудь еще?
– Нет, благодарю! Пейте без меня.
– Я уже выпила.
В этом можно было не сомневаться: приняла солидный бокал жуткого пойла, любимого виски, разбавленного водой, и, судя по всему, не один. Ее одежда, как и вся окружающая обстановка, носила налет беспорядка, однако весьма продуманного художественно: халат или платьице-халат на Китти было старенькое, слегка поношенное, но чистое; косметика довольно небрежная, но все же в тот день она ею воспользовалась; вокруг фаянсовая посуда, наполненные доверху пепельницы, вазы с увядшими цветами и вынутые из конвертов пластинки, но вместе с тем внушительного вида часы в застекленном футляре показывали точное время, а на ковре я не заметил крупных или свежих пятен. На данный момент Китти вместе с домом переживала легкий период запустения, не более того.
Она поймала мой взгляд.
– Уборщицы перестали ходить, а я все никак не могу подобрать новых. По-моему, я здесь уже всех перепробовала. Гилберт – чудо, но не может же он делать все!
– Так они с Пенни пока еще здесь? – рискнул я спросить.
– Ну да И в данный момент. Они постоянно здесь. По-моему, это для вас не новость.
– А как Эшли?
– Он в школе.
– Да что вы? И как его успехи?
– Успехи? – Китти была явно озадачена.
– Простите, я только…
– Теперь он большую часть времени проводит там. Стал гораздо послушней, чем был. Мы придумали новую систему. Если он идет в школу, то по возвращении домой его ждет подарок.
– Какой подарок?
– Ну, разумеется, что-нибудь приятное. То, с чем ему нравится играть.
– Вы имеете в виду, скажем, миномет, или огнемет, или…
– В своем доме, Дуглас, мы не признаем никаких милитаристских игрушек!
– Простите, нечаянно вырвалось. А чья это идея насчет подарка?
– Эшли.
Из всех пришедших на ум междометий я выбрал то, которое выражало принятие мной полученной информации. Параллельно с маленьким спектаклем насчет возмущения милитаристскими игрушками Китти вошла в привычный для нее навеянный кино образ офицерской вдовы, демонстрируя при этом такое самообладание, о котором буквально никто и никогда даже мечтать не мог, и так далее. Я решил про себя, что когда-нибудь все-таки надо начать, и спросил:
– Так что у вас новенького?
Она вновь перешла на беспечный тон:
– Как, вы не слыхали? По-моему, уже знают все! Мой муж меня бросает. Он решил сбежать из дома с молоденькой.
– Возможно, у него это еще на стадии Байрейта? Ну, как бы еще не развилось до конца…
– Нет, все гораздо серьезней! Он приучил себя не жить в роскоши.
– Рой вернется! Он ее долго не вынесет. Такое человеку не под силу.
– Вернется, чтобы сорваться опять! Отыщет какую-нибудь с такими же… соблазнами. Нет, он не вернется! Это не в его правилах. Не думайте, что я так говорю от отчаянья! Я – свидетель подобного много лет назад. Господи, он – человек, и ничто человеческое ему не чуждо! А разве это не человеческая потребность – избрать себе новый путь в будущее, вместо того чтобы вновь возвращаться долгим путем назад, в то прошлое, что ты когда-то оставил? Вы не возражаете, если мы выйдем на воздух? Мне начинает казаться, что атмосфера этого дома действует на меня угнетающе.
Я и сам, в меньшей степени, чем она, но уже начал испытывать сходное чувство, потому поспешил поднять вверх раму центрального высокого окна, и мы с Китти по очереди, пригнувшись, выбрались наружу. На небе слегка развиднелось. Мы направились вперед к лужайке, и тут явилась Пышка-Кубышка, вылетев из-за угла разваленной теплицы со старым сандаликом в зубах. Бросив его неподалеку, она принялась с бешеной силой на нас кидаться, сопровождая прыжки тоненькими повизгиваниями и порыкиваниями; затем, на сей раз уже с лаем, она что есть духу припустила к зарослям рододендронов, привлеченная каким-то существом или движением листвы. В глаза бросились лысые пятна в этом месте лужайки.
– Это все из-за кедров, – сказала Китти. – Из-за иголок или чего-то там еще. В общем, губит траву. Ничего нельзя с этим поделать.
– Вы сумели привлечь кого-нибудь ухаживать за садом?
– Да нет как-то. Немного стрижет траву Кристофер, потому что ему нравится ходить с косилкой. И пару раз Рой приглашал компанию студентов, но они вместе с сорняками выпололи массу культурных растений. Как бы то ни было, сейчас это уже не имеет значения, верно? Пусть у нового владельца голова болит.
– Господи, неужели вы уже решили продавать дом? Ну а если…
– Мне необходимо переехать в другое место. Ах, здесь столько всего произошло! Слишком много сказано такого, что нельзя ни исправить, ни зачеркнуть. Столько лет прожито. Нет, я сама так решила. Рой не прочь, чтоб я жила здесь сколько захочу. Как я уже говорила, ничто человеческое ему не чуждо.
Мне показалось, что в ее последних словах я уловил отзвук логики значительно более высокого трагедийного звучания, чем это было свойственно уже закрепленному ею уровню драматургии, и торжественно кивнул. В это время из-за густой зеленой самшитовой изгороди возникла небольшая компания, направлявшаяся к нижней лужайке. Я узнал Кристофера Вандервейна и Рут Эриксон. Двое других были мне незнакомы; один молодой человек нес в руках фотоаппарат, и что-то похожее болталось у него через плечо. Мы с Китти постояли возле огромной куртины роз, весьма логично перемежавшихся с чертополохом, как бы представляя собой иллюстрацию из книги об англо-шотландских взаимоотношениях.
– Что теперь с ним будет? – спросил я, кивнув в сторону Кристофера.
– Не знаю. То же самое и с Пенни. Очевидно одно: ни он, ни она не пожелают прислушаться к советам.
– И вообще не станут слушать кого бы то ни было.
– Им ничего сказать нельзя; все отлетает как от стенки. – Скрестив кисти, она не без труда обхватила пальцами манжеты своего платья-халата, взглянула на меня, помолчала, снова продолжала: – Дуглас, дорогой, у меня ничего уже в этом доме не осталось! Ничегошеньки, совсем!
– У вас есть Эшли.
– Я не могу с ним справиться. Это достаточно трудно в отсутствие Роя. Надо постараться кого-нибудь подыскать в дом, чтоб за Эшли присматривал. Вот над чем придется мне, так или иначе, поломать голову. Но только и всего. Любовника у меня нет, и я не думаю, что после всего этого он мне нужен. Я совершенно ничего не умею делать, я не музыкант, не писатель, не актриса, даже быть секретаршей или машинисткой и то не смогу. Для меня существовал только Рой и его мир. А теперь… теперь этого нет. Я – ничто! Ничто!
– Вы не должны так говорить!
Возможно, мои слова невольно напомнили Китти что-то. Потому что внезапно ее глаза, до того широко раскрытые и затуманенные, сузились и сверкнули.
– Вот и Рой так говорит. Неужто вы не верите мне, Дуглас? Не верите тому, что я рассказываю о своем состоянии?
– Ну конечно же верю, – произнес я как можно убедительнее, не соображая, верю ли в действительности и насколько.
– Может, и верите. Вы, как Рой. По-моему, вы оба верите, но не очень; это все из-за моей манеры рассказывать вы мне не очень верите. Или вам просто не нравится, как я говорю. Скорее всего, я говорю так, только когда измучена, когда сердита или когда что-то не выходит. Я все понимаю, но никак не могу остановиться. Мне бы всегда отделываться фразами «я сыта по горло», «пошло все к черту», «какой мерзавец» и тому подобное, тогда при всякой такой ситуации все встанет на свои места, и вы оба мне поверите. Только мне уже поздно переделывать себя! Видите ли, Дуглас, вплоть до того момента, когда обрушивается несчастье, я даже мысли о том, что может случиться ужасное, не допускаю.
– Я понимаю, – сказал я и поцеловал ее в щеку.
– Спасибо вам! – Она на мгновение прильнула ко мне. – Вы милый. Вы такой милый!
– Никакой я не милый. Не сделал ничего, чтобы вам помочь. Не смог придумать ничего, чтобы изменить ситуацию, а что до того, чтоб попытаться его удержать, хотя бы попридержать от задуманного шага, ну да, я попытался, наверное, раз или два, но даже…
– Ничего не поделаешь! Все кончено. И вы этого не можете не чувствовать.
– Я и сам не пойму, что чувствую.
– Словом, мне просто придется с этим смириться. Какой бы горькой ни была правда Во всяком случае, надо пережить это в одиночку, я в этом убеждена. Иного не дано. Вам удалось убедить меня, что такое возможно, даже для такого человека, как я. Вы возродили во мне веру в жизнь.
Наверное (подумал я без особой неприязни, но не без раздражения), гораздо полезней для нее, если б я, наоборот, погасил в ней эту веру. И в то же самое время мне стало стыдно за то, что я попустительствовал Рою. И я сказал:
– Хотел бы как-то помочь вам практически!
Тут выражение ее глаз снова резко переменилось:
– По правде говоря, я собиралась просить вас о крохотной услуге, если вы не возражаете.
– О чем, о чем?
– Это почти не отнимет у вас времени. Всего лишь короткий телефонный звонок. Туда, где, кажется, живет эта особа. Хочу убедиться, что это именно ее номер телефона. Просто узнать, дома ли она. Это секунда, Дуглас! Сами же сказали, что меня понимаете!
В устремленном на меня взгляде я прочел первые слабые проблески упрека, но слабые не настолько, чтобы не заподозрить шквала упреков, уже готовых выплеснуться наружу. Я подумал, что для иных душевная боль – всего лишь дополнительное орудие воздействия на ближнего, наряду с обвинениями, угрозами, истериками и еще бог знает какими средствами. Мы с Китти одновременно развернулись и направились к дому.
– Как вам удалось узнать номер? – спросил я, выбрав наугад из явившейся моему жадному взгляду полной тарелки разных вопросов.
– Велела Гилберту выведать у Роя. Скажем, под предлогом, что Рой может понадобиться в экстренной ситуации.
– Какой, например?
– Я предоставила Гилберту выдумать.
– Так почему бы ему не позвонить?
– Он не станет. Для него это вмешательство в чужие дела.
– А телефон выведывать – не вмешательство?
– Нисколько, я имею право его знать. Но если туда позвонит Гилберт, это будет вмешательство.
– И что вы хотите, чтобы я сказал?
– Ах, какая разница, это несущественно! Просто чтоб подтвердить, что это ее номер. Вы ведь знаете ее голос, не так ли?
– Знаю.
– Ну вот и еще одна причина, почему не звонит Гилберт!
– А если ее нет дома? То есть если телефон верен, но просто в данный момент ее нет дома, ведь такое может быть?
– Тогда попробуйте позвонить позже.
– А если она дома?
– Тогда я пойму, что она дома. Что это ее номер. И смогу кое-что предпринять, скажем, написать ей письмо и высказать все, что о ней думаю.
– Значит, вам известно ее имя? Но почему бы вам просто не позвонить ей и не спросить, не она ли у телефона? А если писать – адрес надо знать, не телефонный же номер! Хотя она все равно не станет письмо читать.
– Ничего подобного, станет! Вы, очевидно, очень плохо знаете женщин. Что вы, она будет его читать, пока не выучит, стерва, все наизусть, только после этого выбросит и сделает вид, что знать ничего о нем не знает. Или запрячет куда-нибудь для сохранности. Даже, возможно, позвонит сюда и, услышав женский голос, вмиг положит трубку, чтобы я не узнала, кто звонит.
– Эта непохожа на других женщин, да и как без адреса писать письмо!
– Непохожа? О, не верьте этому, дорогой мой! Все мы, женщины, из одного теста. Гилберт узнал телефон для меня – но не спрашивайте как.
– Ну, если предположить, что человек имеет под рукой телефонный справочник и знает расположение букв в алфавите, это нетрудно.
– В справочнике, Дуглас, ее телефона нет. Но Гилберт все-таки умудрился выяснить адрес; он просто чудо, знаете ли. Вам до него далеко.
– Сожалею, – сказал я, бросая на телефонный аппарат злобный взгляд, так как мы уже стояли в коридоре. – Какой номер?
С быстротой снайпера Китти, ни слова не говоря, извлекла бумажку из кармана своего платья-халата, видно, заведомо исключив, что наше совместное продвижение к цели может иметь предварительный или неконкретный характер.
– И что мне сказать?
– Я же говорю, что в голову придет. Просто убедитесь, что подошла она.
– Угу, понимаю, я понял. Ну да! Скажу, что в голову придет.
Я потянулся к трубке. Китти не сводила с меня глаз, манерно сцепив перед собой руки, как отпетый нечестивец во время брачной церемонии. Оставив всякую надежду на то, что она уйдет, и даже предпочитая видеть ее перед собой, чем слышать, как она дышит в трубку параллельного аппарата в соседней комнате, я набрал номер. Шансы попасть не туда были, безусловно, весьма велики, включая большую вероятность нарваться на номер, по которому сообщают точное время, или на кошерную лавку в Бронксе, включая возможность вообще не услышать гудков, мгновенно встроиться в разговор между психиатром и его пациентом и тому подобное, не говоря уже о большой вероятности, что абонент на том конце не уплатил за телефон, что дома нет ни Сильвии, ни ее соседки, что Сильвия удивит меня какими-то новыми фокусами. Тем не менее я даже не слишком удивился, когда после двух гудков трубку на дальнем конце подняли, и топорное пиликанье на скрипке ударило мне по барабанной перепонке. В трубке раздался женский голос.
– Фред дома? – спросил я.
– Что? Да говорите же громче, черт побери!
– Фред дома?
– Катись ты в жопу!
Я положил трубку на рычаг и сказал Китти:
– Это она!
– Спасибо, милый Дуглас! Теперь мне пора. Пойду переоденусь. Найдите Гилберта и скажите, чтоб через час заказал мне такси к «Двум пивоварам». Мы с вами пройдемся туда пешком. Вы ведь не возражаете, чтоб пообедать в пабе? Поверьте, это очень приличное место. Они все готовят по собственным рецептам. Зачем, чтоб у нас за спинами все время маячили Крис с Пенни и все прочие? Потом у меня будут дела в городе, а таксист отвезет вас куда скажете. Я сейчас.
Я почувствовал, что у меня вот-вот, как от сильного удара, отлетит назад голова, но удержал ее на месте:
– Гилберт сказал, что здесь у вас такси достать невозможно.
– Достанет, если захочет. Непременно скажите, что это для меня.
Китти удалилась вверх по изгибу лестницы, а я не успел у нее спросить, как найти Гилберта; но через мгновение он и сам показался на пороге одной из комнат. В пупырчатом пиджаке и брюках из какого-то замысловатого твида он по-прежнему имел помятый вид, как и пару дней назад. Был сдержан. Согласился удовлетворить просьбу насчет такси с некоторой долей раздражения, как не отвечавшую его высокому призванию. После паузы он сказал:
– Не будете ли добры прямо сейчас зайти к Пенни? Я сказал, что вы приехали. Она наверху, вторая комната слева. Я был бы вам чрезвычайно признателен.
– Если она сделает попытку меня турнуть, сопротивляться я не стану.
– Такого не случится.
И верно. Пенни в свободном алом балахоне, с бледно-желтой косынкой и в простых сандалиях, поразительно своим видом напоминая иллюстрацию из Библии викторианской эпохи, стояла спиной к окну с видом на большую поляну, отороченную вдали полосой деревьев. Я ожидал было застать ее валявшейся на незастеленной кровати среди окурков марихуаны и пустых бутылок из-под кока-колы и был слегка поражен опрятным видом ее комнаты, пока до меня не дошло, что здесь обитает и Гилберт. Хотя опрятность не совсем точное определение: комната своей недостаточной, невзирая на наличие кое-какой мебели, заполненностью напоминала пустоватый гостиничный номер, куда Пенни только что вошла, но вещи ее еще не внесли.
– Привет! – сказал я. – Как дела?
– Отлично.
Ее глаза казались если не голубее, то, во всяком случае, громадней обычного. Не сводя с меня глаз, она быстро подошла к постели, взметнув за собой штору, и взялась за покрывало.
– Зачем это? – невольно вырвалось у меня.
– Ну вот тебе на! Есть кровать, есть я, есть ты, и больше ни-ко-го, мы одни. Что значит «зачем»?
– Так уж «никого»! А как же Гилберт, Китти и бог его знает кто тут еще у вас в доме! Мне лично не кажется, что мы одни.
– На двери есть задвижка. Хотя, разумеется, согласно правилам номер восемьдесят два пункт «це» Общества Фу-ты-ну-ты-боже-мой, джентльмен не должен прикасаться к леди, если данная леди, демонстрируя бесстыдство, сделает первый шаг.
– На днях ты сделала первый шаг, и я позволил себе даже больше, чем прикоснуться.
– Ну и в чем же дело? О чем спорим?
– Тебя на это Гилберт подбил! – сказал я, попутно удивляясь, до чего нагло и неубедительно это звучит.
– Чего ж тебе беспокоиться? Не хочешь, так и скажи! Смелее!
Едва я спросил «зачем», Пенни отняла руки от покрывала и теперь стояла, слегка отвернувшись и вроде бы глядя в окно на дальние деревья. Мой взгляд задержался на ее одеянии в духе «чад Израилиевых», в особенности на верхней его части, ввиду бесформенности которого невозможно было определить, кто под ним: ребенок, гетера, прабабушка? Я понял, почему Пенни так оделась, обнаружив объяснение своей странной пассивности: ведь до сих пор я не только не стянул с Пенни ее хламиду, но даже не порывался этого сделать. И снова непроизвольно ляпнул:
– Можно подумать, только я не хочу! Господи, о чем я!.. Прости меня, пожалуйста! Черт! Я хотел сказать, что в данной ситуации ни мне, ни тебе, нам обоим это не нужно, но именно в данной ситуации! Скажи Гилберту, что я весь в переживаниях из-за своей подруги. Он поймет.
– Любишь ты, чтоб была причина!
Она шагнула вперед, поцеловала меня и склонила голову мне на плечо, намеренно выгнувшись, чтоб ее тело не коснулось моего. Мы оба тяжело вздохнули. Мне показалось, будто передо мной только что, уложившись в полторы минуты, пронеслась вся «Травиата». Где-то в небе послышался рокот пролетавшего самолета, и немедленно Пышка-Кубышка отозвалась тявканьем на нарушение ее воздушного пространства. Пенни, снова вздохнув, отпрянула от меня. Спросить ее, сказал ей Гилберт или нет: «Как только он явится, переспишь с ним, поняла?» – и сказала ли она ему в ответ: «Да, Гилберт, непременно Гилберт!»? Не буду! А жаль. Какая досада: чем интересней вопрос, тем очевидней, что задавать его нельзя! Я пытался ответить на свой вопрос сам: ну конечно же так и было! Что казалось таким очевидным, таким явным, железобетонным, ясным как дважды два. Ну конечно же так не было. А как похоже звучит! Но почему?
– Может, перейдем к разговору? – спросила Пенни. – Ведь и это имелось в виду, верно?
– О да! Я должен был попытаться уговорить тебя уехать отсюда и поселиться на какой-то квартире.
– Ах вот оно что! Это ведь он тебя надоумил, да?
– Нет-нет! Это Гилберт.
– Какая разница, никуда я отсюда не уеду.
– Не сходи с ума! В этом доме сплошные несчастья, и ничего в нем не изменится, Нет, что я говорю, изменится, но только к худшему. Станет еще невыносимей, еще… ужасней. Сделай так, как советует Гилберт. Ему единственному в этом доме можно доверять!
– Ты серьезно? Хватит, зря теряешь время. Как и все остальные. Я никуда не уеду, по крайней мере до будущего Рождества. Это он хочет, чтобы я уехала.
– И он. Человек может быть прав, даже если мотивы его неверны!
– Только не он!
– Господи, да и мотивы не сплошь неверны! Он и в самом деле хочет, как может, уберечь тебя от всего этого; надо отдать ему должное. Он же не собирается выгонять тебя!
– Пусть только попробует!
– По-моему, ты этого и ждешь!
Она сурово взглянула на меня и снова уставилась вдаль. Я сказал ей в спину:
– Пенни, может, ты позволишь мне…
– Я уже сказала, никто меня не заставит! Ты говорил с ним? Сам знаешь о чем.
– Да, пытался…
– Но у тебя ничего не вышло?
– Не вышло.
– И все же я не могла тебя об этом не попросить. Ничего, переживу! Когда ты явишься в следующий раз, буду намного приветливей. Не такая пришибленная. Возьму себя в руки.
Едва я вышел из дома, как на крыльце, словно оповещенный тайной телесистемой, появился Гилберт и направился ко мне.
– Итак, вы ни на йоту не продвинулись. Это можно заключить по краткости вашего пребывания у нее.
– Боюсь, вы правы, – сказал я в надежде, что с очередным коммюнике о срыве переговоров выступлю не раньше чем часа через два.
– Теперь вижу, что совершил промашку. Но в жизни приходится прибегать к любым средствам. Уверен, вы понимаете.
– Конечно. – Как человек, способный понять многое, я смекнул, что меня ждет куча всякой информации. – Простите, что не смог вам помочь.
– Вам не в чем себя упрекнуть. Все это классический случай по Фрейду, девочке необходимо внимание отца. Рой от этой роли отказался. Я по характеру на эту роль не гожусь. Собственно, я этих качеств лишен. Мужчина в отношении с женщиной способен выступить в одной, максимум в двух ролях, то есть в роли мужа, брата, друга, ну и так далее. Я могу быть только любовником, а изредка – другом.
– Да, ясно.
К этому моменту он, казалось, вполне освободился от замкнутости. Почти по-приятельски мы прошлись до угла двора, где виднелся амбар с допотопным флюгером на крыше. Все равно злой ветер перемен развеет всякую возможность преображения этой постройки в лабораторию музыки. Я подумал, смогут ли Китти, Эшли, Кристофер, Рут, Пенни и Гилберт продолжить здесь свое существование; я зрительно представил, как рушится этот дом от запустения, в пламени пожара, под натиском буйной растительности. Даже Гилберт, решил я, не сможет предотвратить ни одно из этих бедствий.
– Что вы собираетесь предпринять? – спросил я его.
У него, будто в едком раздражении, задрожали щеки:
– А что тут предпринять? Наверное, буду продолжать попытки. Но придет время, наступит момент, когда надоест. Невозможно оставаться бескорыстным всю жизнь.
– Вы правы. Однако, надеюсь, у вас хватит терпения подождать пару недель или сколько еще может потребоваться ей, чтоб пойти на уступки.
Гилберт уже было открыл рот, чтобы ответить, как вдруг дверь, выходящая на веранду, хлопнула. Я увидел Китти, вырядившуюся в брючный костюм бутылочно-зеленого цвета, темно-лиловую, с рюшами, блузку, длинные перчатки, в руке что-то весьма напоминающее слегка уменьшенный пляжный зонт – не забыть бы упомянуть ловко замазанный тоном подбородок. Я пялился на нее, пораженный быстроте, с которой она сумела так преобразиться, в то время как Китти наставляла Гилберта насчет прихода Эшли из школы, насчет дневного кормления Пышки-Кубышки и всего такого прочего. Она проделывала все это живо и без малейшей застенчивости, вернее, лишь с той долей застенчивости, какая допустима и характерна для женщины, не теряющейся в присутствии мужчин. За все время, пока мы шли пешком к закусочной (средь прочих домов проходя мимо приюта для престарелых, из окон которого престарелые с презрением на нас косились), пока обедали в компании коневодов и лавочников, пока ехали в такси через Хендон, Суисс-коттедж и дальше, Китти ни разу не впала в прежнюю демонстрацию своей стойкости. Болтала что-то несущественное насчет мытарств Кристофера в его университете, насчет общего рынка, насчет намерения снова обратиться к теории Успенского, а также насчет того, когда я соберусь познакомить ее со своей девушкой. Я был близок к тому, чтобы счесть этот идеально гладкий отрезок нашего общения продолжением уже знакомой наигранности, как вдруг до меня дошло: все это потому, что на самом деле я, как бы Китти себя ни вела, вообще не испытываю к ней ни доверия, ни сочувствия. Прямо скажем, негоже для того, кого считают другом. Тогда я попробовал настроиться иначе, но это предприятие у меня не двинулось, поскольку Китти затеяла действия, отражавшие ее попытку собраться с силами.
– Что такое, Китти?
– Дуглас, дорогой, не подумайте, пожалуйста, что я сумасшедшая, но все-таки можно попросить вас еще об одной малюсенькой услуге?
– Какой? То есть конечно можно!
– Я абсолютно не сомневаюсь, что вы человек в высшей степени ответственный, надежный и достойный доверия, но мне, глупой, было бы гораздо спокойней, если бы вы взяли на себя труд еще раз набрать этот номер, чтобы совершенно окончательно убедиться, что, ну, вы понимаете, именно она подошла к телефону. Чтобы я, видите ли, могла быть абсолютно уверена, что мое письмо к ней попадет.
– Ах, ну да, конечно!
Через пару минут, стоя в телефонной будке где-то у пруда Бейсуотер, я в очередной раз проговорил свой текст насчет Фреда, получив точно такой же ответ, как при первой попытке. Вешая трубку, я обратил внимание, что номер телефона-автомата и тот, по которому я звонил, имеют общий коммутатор, явив тем самым триумф наблюдательности, что могло бы обернуться отнюдь не триумфом, случись это в те давние времена, когда коммутаторы обозначались буквами, а не цифрами и местонахождение их ничего не стоило определить. Эта, как и прочие проблемы, повергла меня в раздумье. Возвратившись в такси, я сказал Китти:
– Все в порядке, она дома. Только я поеду с вами.
– Как скажете, дорогой, ведь у меня никаких особых дел, только заехать к портнихе.
– Возможно, она не в норме, а если и в норме, не исключено, вам потребуется поддержка.
– Вы имеете в виду портниху?
– На эту портниху вам следовало бы заранее выделить побольше времени. Здесь вам и свидетель может потребоваться. Далеко это отсюда?
– Через две улицы. Замечательно, что вы оказались так предусмотрительны!
– Что вы, собственно, намерены там делать? – спросил я Китти, после того как она отдала распоряжения шоферу.
– Ну, прежде всего, хочу на нее взглянуть. Увидеть своими глазами, что за сокровище доставило всем нам столько бед. Потом попытаюсь ей объяснить, что она натворила, чтоб та поняла, – вы же знаете Роя, он вполне мог ей сказать, будто у меня миллионы и все такое прочее. Если я смогу объяснить…
– Насчет взглянуть, это вам удастся, в отношении всего прочего весьма и весьма сомневаюсь. Впрочем, желаю удачи!
В моем мозгу образ Сильвии так прочно ассоциировался с помойкой, что я нисколько бы не удивился, подходя к ее жилью, если бы столкнулся здесь на улице с буйной поножовщиной, или с ребятней, мочившейся прямо на крыльце и потягивавшей сигаретки с наркотиками, или с валявшимися там и сям на ступеньках потребителями денатурата. Так или иначе, но мы с Китти благополучно миновали коридор, уставленный цветами в горшках, и вошли в лифт.
– Шестая квартира, – сказала Китти, взглянув в какую-то бумажку и нажимая кнопку. – Нет, знаете ли, этот Гилберт – просто чудо! Ему бы в самую пору заделаться секретарем какой-нибудь значительной шишки, вместо того чтоб валять дурака с… Хотя и здесь, я убеждена, он в высшей степени на уровне и, надеюсь, это доставляет ему удовольствие.
Китти вся как-то подобралась: порозовели щеки, распрямились плечи, она приготовилась идти напролом, чем бы это для нее ни закончилось. Когда мы вышли из лифта, Китти уверенным шагом направилась к нужной двери и эффектным жестом нажала кнопку звонка. Изнутри грянуло разбойничьим посвистом, затем постепенно перешло в горестный вой, и тут дверь открылась. С порога на нас мрачно взирала Сильвия.
– Привет, Сильвия! – бодро сказал я, делая шаг вперед и поддерживая при этом Китти за локоть. – Я как раз проходил мимо и решил, как говорится, заскочить, посмотреть, как ты живешь, ну вот, решил и думаю, а не познакомить ли тебя, раз уж подвернулся случай, с одним человеком, о котором ты, должно быть, наслышана. Вот леди Вандервейн!
Один-ноль в мою пользу: я вошел, подталкивая перед собой обеих дам в комнату, которую с определенной натяжкой можно было бы назвать гостиной, так как здесь явно принимали пищу, спали и занимались прочими видами разной деятельности, хотя для данной комнаты такое определение все-таки казалось опрометчивым. Это могла быть и музыкальная гостиная, если бы граммофон, гремевший, заглушая все звуки, кроме исторгавшегося им пронзительного воя, был бы все-таки приспособлен для воспроизводства настоящей музыки. К моему огромному удивлению, Сильвия подошла и прикрутила звук потише.
– Вам чего? – спросила она.
Китти спокойным, как ей казалось, тоном принялась излагать то, что намеревалась, Сильвия опустилась на валик кушетки. Последняя, как почти вся мебель вокруг, казалась одновременно и новой, и какой-то помятой, как будто, едва эту мебель привезли, кто-то прогулялся по ней в футбольных бутсах. Кроме того, мой взгляд отметил несколько плакатов по стенам (в том числе один огромный, неплохо полиграфически исполненный, с изображением голой задницы), картонную коробку, вмещавшую, по-видимому, штук сто электрических лампочек, блюдо со множеством монеток достоинством в один или три пенни, и еще я ощутил преобладание вокруг запаха, который уловил еще при первой нашей встрече с Сильвией. Сейчас на ней самой не было ничего, кроме длинного, со множеством пуговиц, домашнего халата. На вид довольно чистого.
– Я взываю к вам! – К этому моменту Китти снова впала в свою обычную патетическую манеру. – Это – последнее, что мне осталось. Бороться с вами я не могу, предложить мне вам нечего. Единственное, что я могу, это умолять вас понять, какое несчастье вы приносите четверым ни в чем перед вами не повинным людям.
– Это кто же такие?
– Двое детей Роя, наш общий ребенок и я.
– Его вы в этот круг не включаете?
– О нем не мне судить.
– Уж это точно! Так вот, судя по тому, как он описывает свою домашнюю жизнь, я бы сказала, ему до вас до всех как до лампочки, не понимаю, почему мне должно быть иначе.
– Это не так! – вмешался я. – Он…
– Прошу вас, Дуглас! – оборвала меня Китти.
– Отвали! – припечатала Сильвия.
Обе произнесли это походя, не поворачивая головы.
– И нечего хорохориться, леди Вандервейн! Нечего передо мной королевой выставляться! Не перед телекамерой. Говорите нормально, если можете. Что там у вас еще?
Китти тут же поубавила свой царственный тон:
– Хорошо, не вижу для вас оснований заботиться обо мне, подумайте о детях!
– Думаю. С одной я уже встречалась, эта пусть катится ко всем чертям, мне до нее никакого дела нет. Остальных я даже не видела и видеть не желаю!
– Если ничего понимать и слушать вы не желаете, я бессильна!
– Уж это точно! К слову сказать, все я прекрасно понимаю и даже послушать не прочь, только здесь это роли не играет.
– Неужто вам безразлична судьба шестилетнего ребенка, которого бросает собственный отец?
– Так ведь у него же все-таки есть мать! И после ухода Роя вы ему будете нужны еще больше, значит, вы с пользой употребите свое время, верно?
Изобразив достаточно красноречивое, но вместе с тем (как мне показалось) достойное похвалы усилие, Китти совладала с собой:
– Неужели я даже не могу просить вас продолжать… оставаться с Роем, видеться с ним, сколько вам нужно, но только не уводить его, не лишать его семьи?
– Почему не можете? Можете.
– Я очень прошу, я умоляю вас подумать над моим предложением! Два года я делила Роя с его первой женой, и, поверьте, это не так уж плохо. Вы бы могли…
– Да просто вы знали, что побеждаете, – заявила вполне резонно Сильвия. – Если он сейчас ко мне не уйдет, для меня это будет поражение, мне это не подходит. Нет, так не пойдет!
– Ну, умоляю вас! – Китти со слезами на глазах сжимала ручку своего зонта, вселяя в меня страх, что еще немного, и она бухнется на колени. – Пусть он живет у вас и просто навещает нас по субботам и воскресеньям! Скажем, два раза в месяц. Ведь это совсем не так много. Вы бы… вы бы смогли подумать на этот счет?
– Угу. Подумаю.
– О, спасибо, большое спасибо!
– Не за что, не за что! Все, уже подумала. Не согласна!
И Сильвия расхохоталась. Как всякому, кто наблюдал ее больше двух минут, мне вынести такое было довольно легко и я уж был готов к чему-то подобному, но этого смеха Сильвии для меня оказалось достаточно, чтобы я внутренне поклялся себе, прежде чем хотя бы раз усмехнуться на людях, сперва подумать, насколько гнусно это может выглядеть. Китти отпрянула как ошпаренная или как человек, читавший про такое только в книге.
– Вы его любите? – вскричала она.
– Ну, люблю, – сказала Сильвия. – Пожалуй; наверное, да. Насчет любви к людям я не очень, никогда особо не брала в голову, но… думаю, что люблю.
– Вы… вы… вы не способны любить!
– Может, и не способна – тут вы, наверное, правы. А может, и способна. Но все равно, это никакого значения не имеет в данном случае, верно? Какая я ни какая, он предпочел вам меня и потому бросает вас и уходит ко мне, вот и все, и добавить нечего. Он так хочет, и я так хочу, значит, так и будет.
Очередное проявление рассудительности у Сильвии звучало и выглядело вполне естественно, гораздо более естественно, чем когда бы то ни было случалось с Китти. Беспристрастный свидетель их диалога, скорее всего, принял бы в целом сторону Сильвии, не будь он безразличен к родному языку. Однако эта высокая оценка слегка заколебалась, когда Китти произнесла с красноречивой патетикой и в голосе, и на лице, и в стати:
– Нет, в это совершенно невозможно поверить! Теперь, когда я сама увидала, что вы собой представляете, клянусь, я не могу поверить! Что может найти в вас мужчина, обладающий хотя бы толикой здравого смысла, или вкуса, или способности разбираться в людях!
– Китти, ради бога, пошли отсюда! – сказал я.
– Чего проще, – ответила Сильвия, – сейчас покажу!
Сдернув через голову свой халат, она швырнула его на тахту. Под ним оказался лифчик и узенькие, не столь чистые, как халат, трусики; все это также было немедленно сброшено. Лицо Китти изобразило неподдельный ужас. Понятия не имею, что изобразилось на моем. Тело Сильвии не способно было внушить мне мысль о красоте, или здоровье, или сходстве, или несходстве с другими женскими телами, потому что его венчала голова Сильвии с лицом Сильвии и потому что оно принадлежало Сильвии, – мне это было предельно очевидно; единственное, что я заметил (или просто отметил), – это юное тело. Насколько я мог судить, фигура у Китти, пожалуй, почти не изменилась со временем и, если присмотреться попристальней, по всем статьям превосходила фигуру Сильвии; и все же я прекрасно понимал, что в данной ситуации это уже помочь ей никак не могло. Одновременно меня охватила дрожь от ощущения во всем этом чего-то гомосексуального.
– Вот что он во мне нашел! – провозгласила Сильвия. – А теперь вон отсюда, старая каракатица, пока я тебе не наподдавала!
Сильвия двинулась на Китти, та замахнулась на нее своим зонтиком; всякий зонт потенциально опасен, как копье, но малоэффективно использовать его в качестве дубинки. Легко увернувшись от удара, Сильвия сцепилась с Китти. Выйдя из ступора или поборов брезгливое чувство возможного прикосновения к Сильвии, я ринулся их разнимать. Сильвия двинула мне коленом в пах, после чего я примерно на полминуты выбыл из строя, как сквозь пелену слыша шум борьбы и гневные выкрики Китти. Затем – стук упавшего тела. С трудом приоткрыв веки, я увидел Китти в полураспластанном положении, полуприжатой к полу коленями сидящей на ней Сильвии. Действие застыло на этой точке на несколько мгновений, но тут взгляд Сильвии, крутившей по сторонам головой, упал на некий увесистый, из какого-то камня с прожилками и величиной с человечью голову предмет в метре от нее на низеньком столике, с виду похожий на абстрактную скульптуру в форме кома. Она потянулась с колен за этой штуковиной, не давая Китти вырваться. Поднявшись, я сделал шаг вперед и обеими руками схватился за руку Сильвии выше локтя. Мгновенно с силой дернул и резко повернул, после чего отпустил, даже в этих обстоятельствах отметив, что позаимствовал у борца с немецкой фамилией, а также у того Нечто с острова Борнео этот прием, исполненный и тем и другим потрясающе эффектно в тот вечер оказания услуги. Сильвия, совершив боковой перелет через всю комнату, вмазалась в стенку. Не дожидаясь, пока она поднимется на ноги в месте приземления, я, подхватив Китти вместе с ее зонтиком, кинулся вместе с ней из комнаты и из квартиры. Лифт нас ждал.
– Ну как вы?
– Нормально. – Прикрыв внутренние двери, я нажал кнопку нижнего этажа. – Почти. А вы?
– Не знаю. Как я выгляжу?
Китти говорила, как в полусне. Одежда ее была в беспорядке, но осталась цела; волосы умеренно всклокочены, как у безумной; на лбу несколько параллельных неглубоких царапин с уже запекшейся кровью; на левой щеке алели два пятна, побольше и поменьше. Я опустил ладони на ее руки, сжимавшие зонтик.
– Как после небольшой потасовки. Ничего особенного. Что бы вы сейчас предпочли? Чашку чая? Или в дамский туалет?
– Нет, только в машину!
Мы сели в такси. Внутри Китти откинулась на спинку сиденья и принялась вздыхать, в то время как я, держа ее за руку, размышлял о том, что вот уже второй раз за этот день я столько всего пережил за краткий миг, гораздо больше, чем выдается на долю оперных персонажей: куда там хваленые ужасы, навеянные Дракулой и Франкенштейном! Через пару минут Китти принялась приводить себя в порядок. Она двигалась, как в летаргическом сне. Обычно она взвивалась, как гончая, при одном намеке на лоснящийся нос.
– Она сумасшедшая, – бормотала Китти, – это же очевидно, абсолютно, буйно помешанная.
– Действительно, она вела себя довольно странно.
– Нет, вы только подумайте… начала срывать с себя одежду!
– Да, в самом деле!
– Что такое выдумала!
– Вот именно!
– Ведь вы же понимаете, Дуглас, она могла убить меня, если б вы ее не оттащили?
– О нет, сомневаюсь!
– Уверяю вас, она безумна! Она впала в неистовство! Размозжила бы мне голову, если б вы не остановили ее!
Я продолжал в этом сомневаться, однако про себя и без особой убежденности или интереса. Точно так же, про себя, я убеждал себя: как бы ни была омерзительна та сцена в квартире Сильвии и как бы ни были утомительны взрывы Китти на этот счет, мне надо все это пережить, пока Китти, трудившаяся над своим лицом и прической, снова не придет, не прекращая своей болтовни, в нормальное состояние (или, по крайней мере, приблизится к одной из разновидностей ее нормального состояния). Куда Китти постепенно и впрямь возвращалась, голос ее креп, пальцы обретали уверенность, и вот наконец как обликом, так и манерой поведения она в значительной мере приблизилась к той Китти, какой я ее помнил полчаса тому назад. Сперва я был этим поражен, особенно в смысле манеры поведения. Так быстро прийти пусть в относительно нормальное состояние, перенеся такое сильное физическое и эмоциональное унижение, безусловно, стоило недюжинных усилий над собой, в особенности для такой женщины, как Китти. И тут меня осенило: ведь она, по сути, все-таки совершила некий поступок, она дралась, уцелела в схватке с голой обезумевшей девицей, задала работу собственным мозгам, пошла хоть на какое-то действие после долгого периода бездействия: причем в преддверии еще более долгого. И еще я подумал, что, наверное, мало кто из мужчин на нее польстится, пока у нее на шее Эшли, а от него она освободится (если повезет) только лет через двадцать, не меньше, когда ей уже будет за шестьдесят. Хоть бы этот Эшли попал в какую-нибудь катастрофу, но так, чтоб не мучиться или не слишком мучиться. Подобный исход, хоть необязательно такого именно масштаба, и Рою бы не повредил.
– Дуглас, дорогой, куда вас подбросить?
– Пожалуй, домой, крюк совсем небольшой.
– Да-да, это как раз мне по пути! – Эти слова Китти адресовала шоферу.
– По пути куда?
– Домой! Вернее, к дому, где я живу.
Воодушевление после битвы с Сильвией прошло, всю дорогу до Мейда-Вейл я ехал в машине с киноверсией безутешной солдатской вдовы. На прощанье Китти сказала:
– Милый, милый Дуглас, у меня нет слов, чтобы выразить, как я благодарна вам за то, что вы стали для меня таким мощным щитом, надежным, как скала. Я понимаю, что для вас это скука смертная, и все-таки, пожалуйста, приезжайте ко мне почаще! И знайте, не стоит обо мне беспокоиться. Я… со мной все будет в порядке. Я вам обещаю, честное и благородное слово! Как странно, откуда ни возьмись берутся силы, каких, казалось бы, никогда не было.
Поднимаясь по лестнице, я услышал, что у меня звонит телефон и зашагал быстрее, не обнаруживая в себе сил, в наличии которых, клянусь, мне никогда не приходилось сомневаться. Схватив трубку, я услышал на другом конце кашель.
– Альберт! – вскричал я. – Это вы?
– Проклятье! – отвечал Коутс. – Послушайте, Дуг, я по тому делу, насчет которого вы меня просили.
– Насчет нашего пожилого маэстро?
– Вот именно! В общем, пока ничего конкретного сказать не могу, только наш с вами обожаемый говнюк потребовал разведать всю его подноготную.
– Подноготную?
– Ну, черт побери, всякие документы, бумажки, то, что у нас зовется «вскрыть архив». Сдается мне, что ваш дружок первый и последний кандидат в новую скандальную серию социальных портретов под заголовком «Суки-придурки нашего времени». Полагаю, что так, что же еще.
– Спасибо, Альберт! Дадите знать, если появится что-то конкретное?
– Буду рад помочь. В общем, до вторника!
– Да, надеюсь, до вторника!
Глава 6
Почтенный христианин
На следующее утро, в воскресенье, я позвонил Вандервейнам справиться, как там Китти. Собственно, так я решил обосновать причину своего звонка. Подспудным мотивом в значительной мере было избитое, непреодолимое (и довольно-таки вульгарное) любопытство. Примерно так же, как и в предыдущий раз, сначала я услыхал в трубке одновременно и голос Гилберта, и невнятный вой, потом – только один голос Гилберта.
– Китти в спальне, – сказал он. – Она еще не вставала.
– Не тревожьте ее. Как она, нормально?
– Разумеется нет! Нелепо задавать подобный вопрос.
– Я просто спросил. Хотел узнать, не захворала ли она.
– Вопрос, граничащий с бессмыслицей. Быть может, изложите вкратце, какой смысл вы вкладываете в слово «захворала»?
– Ну вот, пошло-поехало! Послушайте, мистер Александер, что вы мне все время демонстрируете то свою правильность, то образованность, то утонченность мышления! Буду признателен, если соблаговолите передать Китти, что я звонил. Если нет…
– Простите, мистер Йенделл, на меня действует напряженная атмосфера, царящая в этом доме. Разумеется, о вашем звонке я доложу. Прошу, не вешайте трубку!
До моего слуха долетели звуки, напоминающие шум ссоры в глубоком подземелье; по-видимому, Гилберт прикрыл трубку рукой. Затем я услышал голос Роя:
– Здорово, старый негодник, как дела? Первым долгом, целы ли ваши яйца? Я слыхал, вчера им здорово досталось! Как это скверно! – Таков был его явно упреждающий пасс, облаченный в форму веселой шутки и сводивший все происшедшее накануне лишь к эпизоду, достойному братского сочувствия, не более.
– Спасибо за внимание! Ничего, они пока на месте. А как ваши?
– Мои зудят, но только как бы в иносказательном смысле. Кажется, Гус Малер меня таки достал. Предстоит на будущей неделе репетировать Восьмую с хором, будь он трижды неладен! Если вы имеете хотя бы малейшее представление о…
Тут Рой принялся пространно описывать свои взаимоотношения с Малером, затем запросил и даже, кажется, выслушал сведения о Терри Болсовере, которому собирался давать интервью. Исчерпав эти темы, Рой без всякого перехода продолжал:
– Кстати, Даггерс…
Уже уловив по интонации, куда его клонит, я потянулся за деловым календариком.
– …Скажите-ка, у вас запланировано что-нибудь на завтра – на середину дня?
– Скажу точно, чего не запланировано: идти куда бы то ни было с вами и с Сильвией!
– Нет-нет, боже упаси! – отозвался он с коротким смешком. – Все дело в том, старина, что ваш приятель Гарольд Мирз предлагает мне с ним пообщаться. По-моему, ему не терпится меня прищучить: звонит вчера вечером и настоятельно призывает встретиться завтра. Собственно, он заручился моим согласием предварительно. Ведь надо же мне сперва удостовериться, что вы на этот час свободны. Ну что? Я как раз собирался вам звонить и тут…
– Я завтра свободен, только с какой стати я там появлюсь? Мирзу это не понравится. Скорей он…
– Понимаю, вам не слишком удобно, но мне так важно, чтобы я выступил не один, а в паре с кем-то из своих. Ради численного перевеса. Шут его знает, что он замышляет.
– Пожалуй, в случае с Гарольдом численный перевес не помешает. Только не думаю, будет ли он…
– Я разделяю ваше мнение о нем. Не волнуйтесь, на самом деле, когда я сказал, что, скорее всего, приду с приятелем, он буркнул что-то вроде – чем больше народу, тем веселее. Шутить изволит, каналья! Думаю, не может не отдавать себе отчета, что этот разговор нужен ему, а не мне, поэтому, улавливая конъюнктуру, я мог бы хоть целую футбольную команду с собой привести, и он при этом даже бы не…
– Как бы Мирз ни стремился к встрече с вами, но такого в жизни б не допустил. Разве что если бы встреча прошла целиком за ваш счет.
– Так он еще и скупердяй? Что ж, примем к сведению! Вот умора, если он собирается прикупить меня за сорок фунтов и альбом с марками в придачу!
– Не думаю, такое не в его духе. И хочу заметить к тому же, с моим присутствием он вряд ли примирится. Представьте, если я вдруг появлюсь…
– Да нет же, я ему сказал, что со мной будете вы, и он, судя по тону, воспринял это с удовлетворением, пусть не с глубоким, но все же довольно ощутимым. Уверяю вас!
– Странно. Мне казалось, один мой вид внушает ему раздражение. Хотя, скорее всего, он ко всем так относится.
– К тому же вы в приятельских отношениях с его дочерью. Послушали бы, как она о вас отзывается. Сами бы стали лучше к ней относиться.
– А она сколько-нибудь догадывается о его замыслах?
– Я не смог вызвать ее на серьезный разговор на эту тему. Собственно, вообще разговора не получилось. Как бы то ни было, я встречаюсь с Мирзом в час дня в клубе «Траншея». Если вы подскочите в «Крэгг» к половине первого, мы примем что-нибудь для поддержания боевого духа и пройдемся пешком до места встречи. Идет?
Я сказал «ну что ж», повесил трубку, стараясь изо всех сил не думать о том, что Рою никак не следовало бы заканчивать завтрашнюю утреннюю репетицию почти на целый час раньше, чтоб встретиться со мной в своем клубе. Не сумев справиться с этой задачей, я вернулся в спальню, где Вивьен, сидя в постели, изучала «Обсервер». На ней была белая ночная сорочка, которая, если пренебречь общей незамысловатостью современного производства, вполне бы сгодилась для Нормы из оперы Беллини, а поверх – розово-зеленая вязаная кофта с помпонами, вещь исключительно в ее духе. Едва я вошел, Вивьен поднесла к губам чашку и отпила остывший (теперь уж явно, вне всякого сомнения) кофе. Этим она хотела показать, что заканчивает свой неторопливый завтрак и знакомится с последними новостями, оставаясь при этом в спальне по чистому недоразумению, равно как и ее облачение свидетельствует, что в постели, в которой находится, она оказалась совершенно случайно. Такая была у нее манера. Но вот, не отрывая широко раскрытых глаз от газеты, как бы не отвлекаясь и в то же время холодно, Вивьен спросила:
– Что, наговорился со своей подругой?
– Это не она. И вовсе она мне не подруга. – В силу, как мне казалось, некой предусмотрительности, стремясь поскорей втиснуться со своим рассказом, как тогда, чтоб меня не забила (скажем) говорливая Сильвия, я уже успел выложить кое-что из событий вчерашнего дня, а также из предшествовавших, – совершив явную и в духе Роя ошибку, на фоне которой все мои дальнейшие уверения насчет возраста Китти, насчет того, что это не мои дела, что это я просто из дружеского расположения, оказались малоубедительными.
– Собственно, она, конечно, подруга, но совсем не в том смысле, который ты в это вкладываешь.
– Так с кем же ты столько времени беседовал по телефону?
– Исключительно с Роем.
– Что ему теперь от тебя нужно?
– Ничего особенного. Пригласил пообедать с ним завтра.
– И ты отказался?
– Естественно, нет! Почему мне надо отказываться?
– Ведь ты же обещал, что мы вместе вечером отправимся к моему отцу.
– Ну и что? Это же вечером.
– М-да! – примерно такова была реакция Вивьен.
– Что значит это «м-да»? Ты придешь в условленный час и застанешь меня здесь трезвого, не обнаркоченного и не позволившего себе никаких сексуальных излишеств.
На что Вивьен не произнесла ни слова в своей вышеупомянутой манере, но все-таки ее реакция была несколько иной, чем несколько секунд тому назад. Подхватив часть «Санди таймс», я стал читать заметку по поводу нищенской и угнетенной жизни народа в Британском Гондурасе. Вивьен продолжала все с тем же вниманием изучать «Обсервер», через некоторое время она сказала:
– Послушай, Дуг, что такое… э-э-э… Даже выговорить не могу. Ну, в смысле…
Отложив чтение про Гондурас, я устремился к Вивьен. Прямой путь к ней был заблокирован подносом с завтраком, а также стулом, на котором он стоял, поэтому пришлось обходить кровать.
– Где это?
– Вот!
Она держала газету как-то странно, опустив низко и придвинувшись к ней вплотную, так что мне потребовалось наклониться и податься вперед, чтобы разглядеть место, на которое она указывала. Придвинувшись таким образом, я обнаружил прямо у себя перед глазами, причем в надлежащем фокусе, проглянувший в проеме распахнутой кофты из выреза ночной сорочки а-ля Норма розовый сосок.
– Псефолог? Это тот, который изучает результаты голосования, – произнес я, несколько запнувшись на последнем слове и снимая очки.
– О, милый…
Остаток дня прошел весьма отрадно. Больше упоминаний о моей подруге не было, эта воздержанность в какой-то степени объяснялась отсутствием моих вопросов о том другом типе. Мы расстались с Вивьен, подтвердив свои планы на грядущий вечер. Я начал свою трудовую неделю с работы над Вебером, развивая то немногое, что успел о нем написать. Не исписав за два часа и страницы, я переключился на описание социального фона – забираясь в отдаленные мистические дебри, – что могло бы мне пригодиться и для аннотирования конвертов к записям сонат Моцарта. Наконец время подошло к середине дня. Я расставил книги по полкам и вышел из дому.
На Мейда-Вейл и по всей Эджвер-роуд было солнечно. Яркое солнце высвечивало сотни девушек, выставляя на обозрение их выпуклую грудь, бедра, лица Такой человек, как Коутс, непременно бы заметил (мне даже почудилось, будто я слышу, как он это говорит), что хорошенькие девушки возникают только на солнце и остается совершенно непонятным, куда они прячутся в остальное время. У меня на этот счет было свое мнение. Во всяком случае, сегодняшний контингент высветился благодаря Рою, и не просто потому, что зрение мое было обострено привычным слиянием в моем мозгу его образа с молоденькими девушками; скорее, вовсе даже не поэтому, так как в этой связи я не заметил ожидаемого увеличения антиамериканских демонстраций или прошотландских призывов. Скорее всего – это был просто-напросто результат тонизирующего воздействия, какое на меня всегда оказывало предвкушение встречи с Роем. Как это несправедливо, рассуждал я, проходя по Пиккадилли, что встречи с более достойными людьми зачастую не оказывают на меня подобного эффекта, а если и оказывают, то противоположный. Хотя, разумеется, без Божьей милости тут не обошлось: вне сферы музыки о достоинствах Роя нечего было и говорить.
Вот и «Крэгг». Ожидая, пока швейцар завершит манипуляции с телефонным селектором в глубине своего отсека, я обнаружил объявление, сообщавшее, что комиссия по закупке вин приобрела некоторое количество бутылок «Дом Периньон» 1959 года и предлагает их членам клуба по цене четыре фунта за каждую, но не более одной дюжины в одни руки. Ниже следовал список желающих воспользоваться этой возможностью с указанием требуемого количества, и возглавляло этот список имя Роя Вандервейна с припиской: «Одна дюжина». Такое выпячивание на первый план невольно меня покоробило, пока я не сообразил, что в конце концов это ведь не газетная рубрика писем в редакцию, где ввиду алфавитного порядка фамилия Роя редко вздымалась выше предпоследнего места в списке подписей протеста против эксплуатации труда иммигрантов в Калифорнии или против предлагаемого повышения цен на школьные завтраки.
В условленное время я обнаружил Роя в его убежище среди подборок «Панча», томов «Кто есть кто», со вскрытой бутылкой шампанского (не «Дом Периньон») и парой стаканов. На нем было некое подобие костюма, но при видимом отсутствии карманов, а привычную для себя манеру каждый раз появляться с волосами на дюйм длинней прежнего он, по-видимому, притормозил, если вообще не пресек. Не была ли эта демонстрация возврата к норме стремлением задобрить Гарольда? Здесь, наверное, не поможет даже облачение в визитку, серый сюртук, белые гетры, а также наличие эбеновой трости.
Вид у Роя был несколько обеспокоенный, однако не мрачный. Пока мы с ним пили шампанское, он спросил, не знаю ли я, какой сюрприз может подкинуть Гарольд. Я изложил ему в общих чертах то, что сказал мне Коутс пару дней назад (и к чему он не смог добавить ничего нового, когда звонил мне за час до моего ухода).
– Неужели Гарольд в самом деле считает, что подобной – вы уж извините, Даггерс, – хреновиной он способен меня прижучить? На мой взгляд, ему отказывает чутье, если он им вообще когда-нибудь обладал.
– Обладал и обладает. А есть ему что откапывать?
– Ну… предыдущий развод, и была, наверное, с тех пор еще парочка моментов. Только все это мне – как с гуся вода. Единственное, что может задеть по-настоящему, это мои отношения с Сильвией, а их, как я уже сказал вам на днях, он касаться как раз и не станет. Разумеется, если не окончательно выжил из ума.
– Такой возможности также нельзя исключать. Поживем – увидим.
– Да ну, все это бред! Уже в сентябре она получит право голосовать – разумеется, это не означает, что она только и ждет, чтоб этим немедленно воспользоваться, – но тогда она сможет сама решать, за кого выходить замуж, – сказал Рой, небрежным, но решительным жестом подливая мне шампанского.
– Если кто и выжил из ума, так это вы, если вспомнить то, что вы сказали мне на днях. Она никак не может выйти замуж за вас, потому что…
– Потому что я уже женат? Как америкашки говорят: «помнится». Противно звучит, правда? Стоит мне попросить, Китти согласится на развод, причем с превеликой готовностью, потому что в этом случае меня можно будет по стенке размазать. Мое внутреннее адвокатское чутье подсказывает, что все дело можно провернуть месяца за четыре. К тому же ожидается поправка к закону, которая вдвое сократит этот срок. Но все-таки…
– Именно все-таки! Ну женитесь вы на Сильвии. А как насчет соблазна – девушки двадцати лет? Как насчет желания бежать от привычной, благопристойной, богобоязненной супружеской любви? Как насчет вызова керосинщика? Как насчет заката жизни?
– Да, все это так. Но для этого…
– Да понимаете ли вы, что ее брачные узы не удержат? Если захочет, уйдет, даже став вашей женой!
– Вот тут я не согласен. Какое-то время ей будет пудрить мозги то обстоятельство, что она – леди Вандервейн, супруга несколько скандального музыканта и диссидентствующего политического деятеля Роя Вандервейна. Не будь всего этого, ее наутро уже б и след простыл. А так, я думаю, у меня в запасе года два, а это чертовски много, сами поймете, когда доживете до моих лет. Но много, пока они не прошли; когда пройдут, покажутся длиной месяца в полтора, не больше; но с нынешних позиций, уверяю вас, два года – это совсем немало.
– Что ж, прекрасно! Но все-таки как насчет девушки двадцати лет?
– Да, это проблема. Верно подмечено. Но если иметь в виду жизненный закат, то с течением времени я удовольствуюсь девушкой пятидесяти лет. Моложе не потяну. Я люблю Сильвию, но еще одной такой мне не вынести.
– Неужто стоит ради двух лет огород городить?
– Кто это может сказать!
– Она – чудовище!
– Да, я знаю. На днях оказались мы с ней в одном дешевом кафе, ну, знаете, где обычно на стойке собирается целая гора монеток, для слепых, что ли; жаль вы не видели этой картины! Набралось там, наверное, несколько тысяч всяких грошиков, внушительная такая горка, так она чуть не все их на пол смахнула. Усеяли весь пол, ноги засыпало почти по щиколотку.
– Это она что, нарочно?
– Ну, трудно сказать! Применительно к ней критерий нарочно-ненарочно как-то не подходит. Потом говорила, будто один из парней за стойкой что-то про нее другому сказал.
– Что же?
– Что именно, она не слыхала, поняла только, что про нее.
– Нелицеприятное!
– Может, и лицеприятное, и это возможно.
– Значит, теперь вы с ней вполне открыто появляетесь на людях?
– Более или менее. Мне кажется, уже нет смысла этого опасаться. Пожалуй, в какой-то мере и никогда не было, но ведь пару месяцев назад я еще не предполагал, какой это примет оборот. Клянусь! Знаете, Даггерс, старина, один из признаков старости заключается в том, что все чаще и чаще делаешь, что тебе не хочется, а то, что хочется, все как-то не получается и не получается. Потому что все меньше и меньше остается вокруг людей, с которыми это хотелось бы делать.
Рой разлил по бокалам остатки шампанского. Я уже представил себе прием по поводу бракосочетания, на который он меня пригласит, и на который я приду, и на котором он будет в визитке (возможно, только без белых гетр) или же, если пожелает, во фраке с крахмальной манишкой, а на этом приеме леди Вандервейн-вторая устроит представление – будет резать торт, запускать кусками торта в гостей, угрожая им при этом ножом. Картина подействовала настолько угнетающе, что у меня иссякли силы на всяческую словесную перепалку с Роем, которой он, по-видимому, с моей стороны ожидал.
Когда мы вышли, я направился было вниз под горку по направлению к клубу «Траншея», но Рой меня остановил.
– У меня машина поблизости, – сказал он.
– Туда пешком быстрей, честное слово!
– Мне бы не хотелось ее здесь оставлять. И кроме того, вдруг она понадобится для стремительного бегства!
Истинная причина столь незначительного изменения в плане действий открылась мне (хоть и не мгновенно), когда, подойдя к машине, я увидел налепленную на заднее стекло полоску бумаги с напечатанным призывом: «Поддержим Родезию!» с припиской тут же, довольно крупно, от руки: «И апартеид в Южной Африке!» Я сразу решил про себя, что лучше объяснений Роя подождать, не задавать немедленно вопросов самому; если понадобится, можно выяснить и позже. Пока Рой вынимал ключи, я заметил аналогичный призыв и на лобовом стекле. Рой нырнул в машину, открыл дверцу напротив себя и надел котелок, лежавший рядом на сиденье. Я по-прежнему вопросов не задавал.
Мы газанули из переулка, где была припаркована машина, со скоростью не меньше сорока миль в час, вынудив резко затормозить какой-то грузовичок и такси. Рой рявкнул клаксоном, крикнул что-то и погрозил кулаком. И продолжал примерно в том же духе при подъезде к Пиккадилли, когда под красным глазом светофора вспыхнул желтый: тут Рой, опустив стекло, принялся орать и еще пуще грозить кулаком пешеходам, мимо которых мы тронулись и которые вовсе, по-видимому, не собирались перебегать улицу у него перед носом, всем своим видом свидетельствуя о готовности оставаться на своих местах. Беспрерывно сигналя, Рой то и дело выруливал из ряда в ряд, а когда мы проезжали короткий отрезок по Дьюк-стрит, такое лавирование, надо сказать, было сопряжено с определенной долей риска. Каждый раз Рой с новой силой обрушивался на пешеходов, стоило ему произвести поворот на скорости, позволявшей ему вычленить из толпы объекты своего возмущения. Однако никто не реагировал на его выпады с раздражением или с беспокойством, разве что с недоумением. В промежутках между всем этим я чувствовал, как Рой бросает взгляды на меня, сидевшего рядом и проявлявшего живой интерес ко всему, за исключением его фокусов. Когда мы остановились у светофора на Джермин-стрит, я стал разглядывать витрины магазина «Фортнам и Мейсон», а Рой принялся сигналить. Он прекратил это занятие, завидев полицейского, который, подходя к нам, оглядел (как мне показалось, с легким отвращением) наклейку на переднем стекле и, заглянув в раскрытое окошко Роя, сказал:
– Будьте добры, сэр, подъехать к тротуару!
Я уже приготовился к тому, что вместо обеда грядут долгие препирательства с представителем власти, однако Рой молча повиновался приказу.
– Как вижу, сэр, вы довольно нетерпеливы.
– Да, прошу прощения, я тороплюсь на чрезвычайно важную встречу!
– Этот светофор, насколько мне известно, переключается только особым электромеханическим устройством, а не сигналом автомашины. Позвольте, сэр, ваши водительские права!
Рой без звука вручил свои права полицейскому. Тот изучал их некоторое время, причем как-то задумчиво, будто собирался запечатлеть этот момент в памяти на всю жизнь, затем вернул Рою:
– Я так и думал, что вы – сэр Рой Вандервейн. Несколько раз видал вас по телевизору. Так вы поняли, что нарушаете правила уличного движения?
– Да, начальник, я понял и прошу меня извинить.
– Что ж, можете следовать дальше, но я бы советовал вам в дальнейшем не злоупотреблять сигналом. Сами понимаете, как-то не укладывается в образчик примерного вождения!
– Вы правы! Благодарю.
Мы двинулись дальше с умеренной скоростью. Когда выруливали на Сент-Джеймсскую площадь, Рой скинул свой котелок и произнес:
– Проклятый фашист!
– Чего ж вы ему этого не сказали?
– Только потому и отпустил меня, что одобряет эти гнусные лозунги!
– Так и сказали бы ему, что он проклятый фашист!
– Не сказал только из-за предстоящего обеда. Если бы не обед, непременно бы сказал! Хотя, наверное, нет, не знаю. В нас с детства вбивают почитание к властям, и оно переходит в рефлекс. Условный рефлекс.
– Плюс к тому трусость.
– Да, не без этого, конечно! А, ладно, пока не время бросать открытый вызов системе. Своеобразная тактика, – сделал он выразительное лицо, – на текущий момент это лучшее средство.
– Тактика?
– Ну, в социалистическом лагере! Демонстрация от противного. Притворяетесь, будто вы такое же дерьмо, как и те, с кем вы не согласны, или как те, которые у власти. Идея не нова, но, по-моему, такую параллель провожу я первый. Надо поставить этот вопрос перед исполкомом «Антирасистской солидарности». Достаточно просто кинуть здесь посреди клубного царства свою тачку с определенными лозунгами, чтобы, себе на пользу, вызвать озлобление некоторых лиц.
Рой припарковал свою тачку в нескольких метрах от того места, где она стояла в тот день, когда мы заходили с ним в «Крэгг», в тот самый день, когда Пенни попросила меня о помощи. Помощь! Что за причуда! Когда мы направились в сторону улицы Пэлл-Мэлл, я сказал:
– На мой взгляд, большинству из тех, кто проходит по этой площади, наверное, лестно было б узнать, что некто, могущественный обладатель подобного автомобиля, думает так же, как они.
– Подобная публика способна замечать только то, что у них непосредственно под носом. А зачастую не видят даже и этого.
– Ах так!
– И кстати, для вашего сведения, чтобы иметь такой автомобиль, особого могущества не требуется.
Несвойственная Рою злость говорила о том, что я попал в самую точку. Отлично. Что ж, отличненько! Может, Рой и в самом деле свихнулся? И как бы в ответ моим мыслям (вернее даже, я бы сказал, именно в ответ и именно в свойственной ему убеждающей манере) Рой, едва мы начали переходить улицу, внезапно принялся распевать одну из своих препротивных песенок:
Это пение, исполняемое molto largamente,[5] продолжалось вплоть до нашего перехода на противоположную часть улицы, где и привлекло внимание одного маститого советолога, спускавшегося по ступенькам Клуба путешественников. Рой помахал ему рукой и для пущей выразительности схватился свободной рукой за машущую, придавая размаху большую амплитуду.
– Очередной фашист хренов! – весело бросил он мне, частично проясняя смысл своего пения и помахивания, возможно, как ту самую демонстрацию от противного, а может, нечто большее, скажем, выдрючивание, чтобы унять, развеять, отринуть внутреннюю тревогу. – Подумать только, – прибавил он в том же ключе уже на пороге «Траншеи», – сколько фашистов и подонков проходило под этими сводами!
– По-моему, «фашист» и «подонок» в целом понятия взаимозаменяемые.
– Неужели? Вы растете! Именно так! Ах, черт, какое отличное шампанское в «Крэгге»! Способствует совмещению фашистов и подонков нашей эпохи.
Мы вошли в зал, в несколько раз превосходящий площадью дом, половину которого я занимал, – роскошный, в классическом стиле и вместе с тем отдающий церковным величием зал, напоминавший помещение для оргий во дворце какого-нибудь императора на заре христианства. Мужчины в костюмах спокойных тонов устремлялись нестройными рядами по двое и по трое по мраморному полу вперед к помятого вида жестяной тележке, с которой неспешно отпускались напитки. Вслед за Роем я направился в хвост этой очереди.
– Может, лучше сначала узнаем, здесь ли он? – предложил я.
– Да ну, к черту! Его ведь инициатива. Пусть сам нас ищет.
Что Мирз и сделал, подойдя к нам, когда мы находились на полпути к тележке. Сначала раскланялись они с Роем, потом мы с ним. Наклонив голову второй раз, Мирз воспользовался этим движением, чтобы, не поднимая ее, тут же взглянуть на часы.
– Как бежит время! – заметил он. – Прямо-таки ничего невозможно откладывать на потом. Столько накапливается дел. Не возражаете, если мы выпьем за столиком?
– Нисколько, так даже лучше! – сказал Рой. – Но, если можно, я хотел бы сначала принять стаканчик здесь.
– А вы? – повернулся ко мне Гарольд.
Он ошибался, если рассчитывал, что Рой подчинит свое желание несогласному большинству, как ошибался, ожидая, что я хотя бы в малейшей степени отступлю от своих принципов.
– Пожалуй, я тоже пропустил бы здесь один.
– Вы хотите сказать, что будете пить и здесь, и за столиком?
– Именно так, если не возражаете!
Произведя очередной, более замедленный наклон головы, Гарольд быстрыми шагами отошел в противоположный угол зала.
– Неплохо сыграно, Даггерс! Первый раунд за нами!
– Вы считаете, что стоит его дразнить без особых на то оснований?
– Разумеется. К тому же основания все-таки есть.
Мы взяли свои напитки, однако наша победа носила чисто формальный характер. Лишь только мы их взяли, снова явился Гарольд, отклонил предложенную ему порцию, заплатил за нас и молча отступил в сторонку. И хотя Рой упорно сопротивлялся, развлекая меня всякими россказнями по поводу музыкантов и разных других лиц, которых Гарольд не знал даже по именам, все-таки ровно через десять минут мы все трое уже были в обеденном зале. Примерно половину его занимал стоявший в центре стол, сплошь заставленный блюдами с холодными закусками, к которым не просто не притрагивались, но которые вообще казались некой неприкосновенностью, вроде епископских яств на празднике урожая. Обойдя все это великолепие, мы присели за столик в углу под огромным, в полный рост, портретом какого-то герцога или иного вельможи, который если и не был фашистом, то уж во всяком случае в целом смотрелся отпетым подонком. Нас ждало меню, а рядом с тарелкой Гарольда лежал блокнотик для заказов с копиркой и шариковой ручкой наизготове. Уверенной рукой он взялся за ручку, принялся что-то выводить в блокнотике, бормоча (так сказать, на публику, а не себе под нос):
– Салат из помидоров. Бифштекс и пирог с печенкой. Мозги с фасолью.
Я заметил, что все перечисленные блюда обозначены на вставленном в меню листочке, где значился в виде комплексного обеда весь этот, на мой взгляд, до крайности дешевый набор. Я сказал, что возьму то же, и Гарольд, соответственно, запечатлел это в записи. Рою выбор блюд стоил значительно больших трудов: хмурясь и тряся головой, эту манеру он, по-видимому, перенял от собственной жены, Рой изучал меню. Наконец сказал:
– Пожалуй, салат из помидоров. И… наверное, утка под апельсиновым соусом. И еще зеленый салат.
– Три салата из помидоров! – пометил Гарольд в блокнотике. – Утка и… Откуда вы ее взяли?
– Да вот же! – Рой с некоторым нажимом ткнул пальцем в порционные блюда.
– Ах, здесь! Ага. Значит, утка, – произнес Гарольд, ненатурально изображая из себя страстного вегетарианца. Он и не старался что-либо записывать.
Рой махнул перед собой рукой, как бы ставя финальную точку:
– Простите, передумал, ничего?
– Да ради бога!
– Хочу целого омара, только, пожалуйста, холодного и фаршированного, скажем, икрой. И, как я уже сказал, зеленый салат.
– Меня исключительно время заботит. Все это не смогут приготовить быстро, как, скажем, бифштекс и пирог с печенкой.
– Пусть принесут отдельно омара и икру, не стоит утруждать ребят на кухне собственно фаршировкой. Пусть принесут как есть, я сам все сделаю.
Тут Гарольд сдался. Внешне он и глазом не моргнув удовлетворил просьбу Роя немедленно принести двойной коктейль из шампанского, и без особого нажима выступил с предложением заказать графин «шабли». Рой заявил, что от дешевых белых вин у него изжога и заказал из перечня вин какое-то с длинным названием. Все это Гарольд воспринял при явном отсутствии как положительных, так и отрицательных эмоций, собственно в его обычном, лишенном всякой реакции на события стиле, что, по всей вероятности и не нам на пользу, укреплялось его уверенностью в победоносности тайного оружия, которое он припас против Роя. Еда и питье были принесены необычайно скоро, что свидетельствовало либо о необычайно высоком качестве обслуживания, либо о тщательно отработанной Гарольдом системе запугивания. Пока Рой выскребал свою икру, Гарольд дарил его столь выразительным взглядом, что я сразу же получил ответ на изначально затруднительный для себя вопрос насчет многолюдности здесь, в подобного рода закрытом заведении. Если Роя можно будет удержать от всяческих демонстраций, впадения в буйство, может, даже физических нападок на своего более слабого противника, тогда все сойдет благополучно; если же нет, то именно здесь, как нигде, в переполненном обеденном зале клуба «Траншея», распущенное поведение Роя дорого ему обойдется. Помимо воли я почувствовал прилив уважения к Гарольду: он понимал, насколько фальшивы утверждения Роя насчет его презрения к обществу, которое нас окружало. Гарольд разлил нам вина, затем, не сводя глаз с Роя, вынул из нагрудного кармана свернутые листки машинописной рукописи, однако не торопился их разворачивать.
– Теперь перейдем к делу. Как приятель вы для моей дочери не подходите и еще более не подходите ей в качестве мужа. Я предлагаю прекратить первое и не доводить до второго. По причинам, в которые я вдаваться не намерен, моя дочь вышла из-под моего контроля. Возможно, лет десять тому назад, до окончательного распада семейных уз и канувших вместе в ними всяческих обязательств и понятий о послушании и тому подобном, я сумел бы положить конец всему этому вздору и удержать ее. Теперь же, куда бы я ее ни отправил, она все равно вырвется и вернется к вам. И все это из-за вас и таких, как вы. Единственное место, где она оказалась бы в безопасности, то есть в относительной безопасности, хотя бог его знает, чем это обернется при всех идиотских воплях насчет виновности общества и того, что нельзя проявлять жестокость к несчастным детям, ведь они свободны делать все, что им…
Тут Гарольд осекся, потом продолжал:
– Я всерьез подумывал, не отправить ли ее в тюрьму. За хранение марихуаны. Это вам не шуточки. Но даже если она не выберется оттуда, заплатив десять шиллингов штрафа и выслушав напутствие недели две повоздержаться от этих дел, если это ее не очень затруднит… Словом, все это коснется вас. Небольшой скандал. Это нанесет вам некоторый ущерб, что само по себе даже весьма желательно, но тогда ваши отношения будут преданы огласке, и, значит, я не смогу ни на вас, ни на нее воздействовать. Поэтому…
– Совершенно не согласен с вашим утверждением, будто я ей не подхожу! – проговорил Рой с полным ртом. – Я, черт побери, смогу заботиться о ней во много раз лучше, чем вся эта мелюзга – все эти сопляки, с которыми она носилась до того, как мы встретились. Возраст тут никакой роли не играет. Просто на ваше представление о счастье Сильвии накладывается ваша неприязнь к моим политическим взглядам, а это…
– Мне противны ваши политические взгляды, вернее, та бредовая мешанина, которую вы именуете политическими взглядами. Я в курсе, как вы извращаете факты. Как продаете нашу страну России. Но не в этом дело. Вы совершенно не тот человек, который нужен моей дочери. Ей нужен стойкий, рассудительный, надежный, умеющий владеть собой, выносливый мужчина. Вы же…
– Бросьте! Так к какому делу вы хотели перейти?
– У меня при себе примерный текст статьи о вас, которую я готов опубликовать в своей газете, если через сорок восемь часов, начиная с этого момента, вы не прекратите всякие отношения с моей дочерью. Позвольте, я ознакомлю вас с содержанием. – Гарольд развернул отпечатанную на машинке рукопись: «Отцы и дети».
– Да в гробу я это видал!
– «Известные личности нашего времени глазами своих детей».
Рой прекратил жевать.
– «Девиз моего отца – любить только себя», – говорит двадцатилетний Крис Вандервейн, сын сами понимаете кого. Далее – краткий обзор ваших достижений на музыкальном поприще, а также политических взглядов. Не делайте каменного лица! Тут все без обмана. В нем нет необходимости ввиду последующего материала. Пожалуй, мы несколько акцентируем внимание на вашей приверженности молодежи, на том, с каким пониманием и симпатией вы к ней относитесь. Так ведь и вы это подчеркиваете. Да, кстати, я показывал текст юристам. Фразы три их слегка покоробили, но ведь это пока только черновой вариант. Можете сами просмотреть, чтоб окончательный вариант выглядел убедительно. Ну вот, теперь перейдем к вашему дому и к его нынешним обитателям: Пенни Вандервейн, двадцати четырех лет, сожительствует с литератором из Вест-Индии по имени Годфри Александер, двадцати четырех лет…
– Гилберт Александер! – поправил Рой. – Можно мне еще бренди?
Гарольд сделал пометку в рукописи:
– Благодарю! Ах, бренди? Да-да, разумеется! Закажем, когда перейдем в кофейный зал. Может, хотите сыр или пудинг?
– Нет, спасибо! Только бренди.
Мы с Роем подождали у дверей, пока Гарольд тщательно пересчитывал сдачу у стойки.
– Он просто прощупывает почву, Даггерс! Действовать он не посмеет.
– Будем надеяться, что вы правы. Сдается мне, что посмеет, если приспичит.
– Но это же черт знает что такое!
– Но отмахиваться от этого никак нельзя.
– Ну и дерьмо!
В кофейном зале было не так многолюдно, однако все же вполне достаточно народу, чтобы удержать Роя от необузданных порывов, хотя, судя по нему, об этом он даже не помышлял. Мы подыскали очередной уголок, на сей раз с возвышавшейся над нами огромной скульптурой премьер-министра из давно усопших. Статуя была из особого белого камня, так что премьер-министр вышел побеленным с головы до ног. Принесли кофе, а также массивный бокал, в котором бренди было не больше столовой ложки. Рой мгновенно его выпил.
– Итак! – сказал Гарольд, закуривая бугорчатую манильскую сигару и разворачивая рукопись. – «То, что мой отец тянется к молодым, не так уж удивительно, поскольку это в его духе. Его самого взрослым никак не назовешь. Ведет себя, как десятилетний ребенок или даже еще хуже. Не могу сказать, как в смысле музыки, я про это ничего не знаю и знать не хочу, но во всем остальном он никого и ничего, кроме себя, не признает. Он как Эшли, мой сводный брат, которому шесть лет и который сущий чертенок. Если тотчас не дать, чего он требует, Эшли принимается орать на весь дом, и никто даже не пытается его остановить. И, знаете, мой отец ничего плохого в этом не видит. Ради того чтоб Эшли утихомирить, все время задаривает его дорогими игрушками.
Интервьюер: «И что же думают по этому поводу остальные члены семейства?»
«Моя сестра того же мнения, что и я. Отец всегда позволял нам делать все, что вздумается, и нам это нравилось, пока мы не поняли, что ему так просто спокойнее. С мачехой своей мы не очень ладим, но на самом деле слишком винить ее нельзя. Просто она выжила из…» Нет, здесь придется вырезать! «Он, отец, постоянно вертится около молодежи, чтобы самому чувствовать себя молодым и думать, что не отстал от жизни. Пытается говорить, как они, и это смешно. Воображает, что они считают его своим, а они просто не знают, как от него отделаться. Думает, им льстит, что с ними такая знаменитость, а им на это наплевать. Ну а все его политические взгляды – чистая показуха. Как можно жалеть вьетнамских крестьян и при этом закатывать приемы с шампанским, где прислуживают всякие типы в белых фраках и разливают его гостям? Не понимаю, чем он лучше богачей из Испании и Греции с их дворцами! Однажды я его об этом спросил, и он сказал, что я все не так себе представляю, одно дело – общество, в котором мы живем, а другое – какую ты в нем позицию занимаешь. У него всегда все не так. По-моему, богатым нечего соваться не в свое дело и надо дать возможность студентам и рабочим изменять общество и все, что в нем есть.
Интервьюер: «Если я правильно понял, вас бы больше устроило, если бы ваш отец был человеком с устойчивыми викторианскими убеждениями?»
«Нет, я этого не скажу. Этого я тоже не одобряю. Такие люди наделали много зла, построив капиталистическое общество с его структурой власти. Но они все это делали ради империи, ради правящего класса и ради своей религии, не просто для себя. Не только для себя». Ну вот, с основным я вас ознакомил! Пусть не стройно, не слишком гладко, но, мне кажется, это дает кое-какое…»
– Вы не посмеете напечатать это, Гарольд! – сказал я. – Ваши юристы, должно быть…
– А вас никто не спрашивает!
– Сколько вы собираетесь заплатить Крису, если он это подпишет? – спросил Рой.
– О, пока мы это не обсуждали! По его словам, он рад возможности выговориться таким образом!
– Дайте-ка! – протянул Рой руку.
Но, заметив, что рука дрожит, немедленно опустил ее на скатерть.
Гарольд передал ему рукопись:
– Разумеется, вам стоит над этим поразмыслить! У меня в редакции копий достаточно. Но, предупреждаю, время не ждет. В данный момент я серьезен как никогда. Всего хорошего!
– Какое коварство! – заметил я Рою, когда мы вышли на улицу.
– Да, признаться, я тоже сражен.
– Нет, я в юридическом смысле! Он просто блефует. Он не посмеет нанести вам подобный удар!
– Уже нанес.
Я удержался от заверений, что это можно пережить. Но переживет ли Рой, если такая статья действительно будет напечатана, вот в чем вопрос. Очередной вопрос – действительно ли Гарольд ее напечатает, как угрожает. В пользу этого говорило одно важное обстоятельство: непосредственный владелец газеты, некий старый и больной лорд, вот уже пять лет как жил на Мальте и последние года два, если верить Коутсу, предпочитал «Таймс» в качестве ежедневной газеты. Гарольд же, по моему мнению, принадлежал к той весьма немногочисленной группе людей, которые по своим убеждениям и темпераменту готовы без всякого колебания пойти на любой скандал, огласку, крушение личных планов и перспектив, что неизбежно, или возможно, или естественно могло последовать за обещанной им публикацией. Собственно, в данный момент я не мог припомнить не единого человека подобного склада, кроме Роя.
Подходя к площади, Рой бросил взгляд налево, вгляделся попристальней и вдруг издал душераздирающий вопль, как герой фильма, пронзенный навылет копьем. Хрупкая фигурка Гарольда в ладно сидевшем желтовато-коричневом твидовом костюме двигалась через улицу по направлению к нам. Мы прибавили шагу.
– Почему этот кусок дерьма нас преследует?
– Да нет, не преследует, – сказал я. – Просто, видно, где-нибудь рядом припарковался.
– Если я не уступлю, у него не будет оснований напечатать это!
– Почему? Будут – месть!
– Вы ведь только что сказали, он блефует!
– С тех пор я уже успел передумать. Газетчики, если только они не боятся потерять престиж, не прочь опубликовать пасквиль. А в данном случае это увеличит рост подписчиков. Вы только представьте, какие факты всплывут, если дело дойдет до суда! Предположим, вы выиграете процесс, положите себе в карман, скажем, двадцать тысяч фунтов, но к чему вам они, если во всем остальном вы жестоко пожалеете о том, что предали дело огласке! Это Гарольд прекрасно понимает. Возможно, он как раз и надеется, что вы предъявите иск.
– Мальчишка столько наговорил! О боже! Послушайте, старина, вы не подскочите со мной в «Крэгг»? Хочу еще бренди. Можете просто посидеть, пока я буду пить.
– Ну конечно!
На тротуаре рядом с автомобилем Роя стоял полицейский. Приглядевшись, я узнал того самого полицейского. Он был примерно моего возраста, с жесткими пучками усов по щекам. Еще я заметил, а может, мне показалось, что машина как-то неестественно низко опущена к тротуару.
– Боюсь, сэр Рой, в ваше отсутствие произошла маленькая неприятность. Кто-то проколол вам покрышки. Судя по всему, ножом.
И он указал на дюймовый прорез в резине. Из-за согнутой спины полицейского в поле зрения возник Гарольд, вышагивавший на расстоянии примерно пятидесяти футов от нас. Подавшись вперед, Рой, слегка согнув колени, привстал на носки в позе человека, вот-вот готового ринуться на обидчика.
– Ах, гнусные недоноски! Как такую падаль земля носит! Что это им, игрушки? Нашли забаву! «Эй, глянь, Сид, ишь какую, блин, тачку заимел, блин, толстопузый, во, во, давай, блин, ножик свой, ща мы ему, блин, вмажем! Га-га-га! Пш-ш-ш-ик – и пор-рядок!» Воистину, бездна интеллекта и остроумия!
В непосредственной близости от нас остановилась в полуобъятии на бродяжий манер юная пара, он – в утратившей форму черной велюровой шляпке, из тех, что носила его тетушка, с ее же цветастым шелковым платком, повязанным поверх своего головного убора, она – в безрукавочке чуть ли не из фольги и в штанах с заплатками. Гарольд подошел к автомобилю, стоявшему через один от машины Роя, и вынул ключи. Полицейский сочувственно кивал:
– Да, сэр, уж тут приятного мало! Только вот вам не кажется, что эти наклеечки, они, как бы это сказать, могут воздействовать подстрекательски? Хотя, понятно, я никого не оправдываю!
Рой, который, заметив Гарольда, наблюдал, как тот долго возится с замком, вдруг резко крутанулся, рявкнув на парочку и махнув рукой с плеча, что (к моему облегчению) послужило ей сигналом удалиться, после чего снова повернулся к полицейскому:
– А где были вы, когда здесь творился этот массовый разгул? Разумеется, высчитывали, кто на сколько метров нарушил линию парковки!
– Нынче, сэр, такие штуки не в ведении дорожной инспекции. Я делал свой обычный обход и только за минуту до вашего появления оказался на этом месте. Сожалею, что пришел слишком поздно и не сумел предотвратить прискорбный акт вандализма.
Произнося это, полицейский в первый и в последний раз кинул на меня взгляд. Я бы не сказал, что его поведение во время обеих наших встреч, а также теперешнее выражение лица внушали сомнения насчет его явной неприязни, а то и желания поддразнить Роя тем обстоятельством, что представитель закона может позволить себе спокойно взирать, как протыкают шины у известной личности, носителя чуждых воззрений. Тоном несколько более официальным полицейский добавил:
– К тому же учтите, место здесь специфическое: Лондонская библиотека, молодежный клуб «Карлтон». Никогда не знаешь, какая тут может оказаться публика.
Гарольд завел машину. За все это время он ни разу не удостоил нас своим вниманием. Рой поднял голову и весь как-то сжался; я понял, о чем он подумал. Потом он спросил полицейского:
– Вам нужно от меня что-нибудь? Ну, заявление в трех экземплярах, или заглянуть в медицинскую карточку, или…
– Нет, сэр! Просто хотел узнать, чем могу помочь…
– Пожалуй, не можете. Ничем!
Полицейский почтительно коснулся пальцами шлема и отошел.
– И что же теперь делать? – спросил я.
– Черт побери! Что делать… Вернемся в «Крэгг», заставим швейцара разбираться со всей этой ерундой. Затем, как и предполагалось, выпьем бренди. Ну, или я выпью. Хотя если изъявите желание, милости просим! По правде говоря, если взглянуть под нужным углом, вся эта история с покрышками весьма вдохновляет. Ведь говорил же я вам, что кое-кого это может разозлить! Что доказывает: даже и в самых респектабельных районах не истлел еще живой дух… Такси!
Глава 7
Вилка Коупса
– Кстати, сколько ему лет? – спросил я Вивьен вечером.
– Знаешь, это странно, но он никогда не говорит. И не говорил. Но, по-моему, шестьдесят с чем-то, что-то вроде того.
– И он живет один?
– Да, уже девять лет, с тех пор как умерла мать. Но мы, то братья, то я, навещаем его каждую неделю. Поодиночке, чтобы ему растянуть удовольствие. Обедает он в пабе, а на неделе по утрам к нему ходит женщина, готовит, так чтоб он мог вечером разогреть. И еще убирает в доме.
– И чем же, собственно, он все время занимается?
– Ну, разная его деятельность среди верующих заполняет все утро вплоть до обеда. Кроме того, он любит музыку. Во всяком случае, ему нравятся Гилберт и Салливан,[6] еще венские вальсы, ну и тот, кто написал «Веселую вдову».[7] Хотя для тебя это, наверное, не музыка.
– Почему же, музыка! Многое из этого весьма недурно.
– В своем роде. Ведь ты же именно так считаешь?
Последнее замечание я счел для нее нехарактерным.
– Ну да, если угодно! Но даже если так, почему не считать это музыкой?
– Хотя бы потому, что почти все из того, что все считают музыкой, ты музыкой не считаешь.
За исключением времени, проведенного нами в моей спальне примерно час назад, сегодня Вивьен пребывала в гораздо большей хмурой озабоченности, чем ей полагалось по понедельникам. Вместе с тем чувствовалось, что она искренне старается взбодриться, не допуская, чтоб все шло как идет и чтоб я сам с этим разбирался. Это было для меня ново. Однако наш автобус, третий, на который удалось сесть, остановился на требуемой остановке раньше, чем я успел все это обдумать, и я тут же обо всем позабыл, залюбовавшись знакомой (и неизменно возбуждающей меня) энергичной походкой Вивьен, когда мы шли по тротуару, а также незнакомым и очаровательным шелковым табачного цвета брючным костюмом, в котором она оказалась.
– Отсюда пешком всего пара минут.
– Вив, какой на тебе прелестный костюм! Новый?
– Да, сегодня купила. Невероятно, ты впервые в жизни сделал мне комплимент насчет одежды!
– Прости, но я…
– Ради бога! – Вивьен взяла меня под руку. – Знаешь, когда в первый раз кого-нибудь привожу, мне вечно как-то не по себе, понимаешь, как все пройдет. Обычно кончается благополучно, но я постоянно заранее переживаю.
Здесь было бы вполне уместно задать вопрос, почему она решила вести к отцу меня, однако теперь, как и всегда, когда встает проблема подобного рода, я совершенно не мог придумать, как бы сформулировать свой вопрос, чтобы он не повлек за собой сначала реакции типа «какого черта» и завершающего шлейфа типа «ради бога, не надо». Потому я просто спросил:
– А ты того другого типа водила?
– Какого?
– Ну, того. Сама знаешь.
– А! Так, ненадолго.
– Но, я думаю, задолго до того, как решила повести меня?
– Да! Он в большей… он как-то серьезней подошел к этому вопросу, чем я ожидала от тебя.
– Пожалуй, это понятно.
Мы шли мимо ряда маленьких домиков с садиками за глухими оградами и с витражными панелями на парадных дверях. Вивьен подвела меня к одному из них и нажала кнопку звонка.
– Я полагаю, он знает, что мы спим с тобой? – неожиданно спросил я.
– О, мне кажется, да!
– Кажется?
– Он никогда не спрашивает, а я никогда не рассказываю. Вообще не рассказываю, не только про тебя. Но мне кажется, он знает. Должно быть, знает.
– Ну и чудесно!
Дверь отворилась, и маленький, коренастый человечек впустил нас в дом. Он был лысый, с коротко стриженной бородой, которая (образ мгновенно и четко выстроился у меня в мозгу) обрамляла его безусую физиономию. Увиденное вкупе с тем, о чем мы только что обмолвились с Вивьен, немедленно навело меня на мысль, что на самом деле она решила таким образом вбить клин между мной и тем другим типом. Но вот я уже упрекал себя за то, что приписываю ей такой типично, даже вульгарно вандервейновский ход. И тем не менее не раз за этот вечер на меня вдруг накатывало подозрение, что передо мной специально нанятый Роем актер, получивший задание завлечь, втянуть меня обманным путем в очередную махинацию.
– Как поживаете, мистер Коупс?
– Очень рад снова вас видеть! Хотя разве вы… Вы не…
Тут старичок принялся что-то выделывать щеками и подбородком, обычному постороннему ничего не сказавшее бы, однако, на мой взгляд, с достаточной убедительностью свидетельствовавшее, что он связал мое появление с образом того другого типа, чем поверг меня в некоторое разочарование и недоумение: неужто мое сходство с этим неизвестным было не столь отдаленным? Но тут я вспомнил, как Вивьен говорила, что он всего на дюйм ниже ее, а значит, на целых восемь ниже меня, и снова повеселел. Хотя, может, у нее имеется еще один другой тип?…
– Нет, папа, это мистер Йенделл, Дуглас Йенделл, – сказала Вивьен, как всегда пытаясь предотвратить возможное «Рэндэлл» и тому подобное у тех, с кем меня знакомила.
– Понял, понял, Вивви! Не волнуйся, детка! Проходите в дом, что мы тут стоим! Давайте-ка взглянем, что бы нам такого выпить.
Мы прошли в комнату, по-видимому кабинет, с открытым шведским бюро, пишущей машинкой, почтовыми весами, со множеством справочников – или чем-то в этом роде; стены были сплошь увешаны картинками, свидетельствовавшими о пристрастиях хозяина. Я отметил репродукцию «Света мира» Хольмана Ханта, фото епископа Кентерберийского, одного известного американского евангелиста, одного негритянского священника и еще кого-то, очень сильно напоминавшего Семюэля Весли, потом литографическое изображение Гайдна (по-видимому, в момент создания «Сотворения мира»), какие-то манускрипты, свитки, иллюминированные рукописи.
На все это помахав рукой, мистер Коупс заметил: «Для всеобщего обозрения!» – и повел нас к карточному столику под грубым розовым сукном, на котором стоял серебряный поднос с графином и тремя бокалами. Он немедленно разлил и подал нам напиток.
– Не слишком хорош, правда? – едва мы отпили, спросил он (на что я про себя согласился). – Называется кипрский шерри. Более точное определение, пожалуй, кипрский изюмовый чай с добавлением спирта. Они замачивают изюм на солнце в резервуаре с водой, и то ли он сам начинает бродить, то ли они кладут какую закваску – точно не скажу, – только после этого процеживают и добавляют спирт. Но изумительно полезный напиток! Слыхали, что у них там творится? Сегодня в газете.
Ему пришлось пояснить, что он имеет в виду уже не изготовителей кипрского шерри, а правительство при исполнении обязанностей. Те то ли одобрили, то ли рассмотрели вопрос о повышении цен, а может, о повышении заработной платы. Мистер Коупс пояснил, что не питает интереса к политике и никогда не питал, но считает, что нашей стране, очевидно, не хватает диктатора, разумеется, не злодея, а такого, который сложит с себя полномочия правителя, как только необходимый период военной диктатуры себя изживет. На вопрос, каковы, по его мнению, могут быть результаты этого периода, если все пойдет как надо, мистер Коупс отвечал, что восстановятся единство и добропорядочность, причем самыми справедливыми методами, без всякого выпячивания отдельных классов или групп: предприниматели-спекулянты, равно как и забастовщики с агитаторами, будут засажены за решетку, цветные землевладельцы вместе с цветными арендаторами – высланы из страны, студентов-бунтовщиков и хулиганствующих болельщиков футбола будут отстреливать поодиночке на улицах. В установившейся подобным образом атмосфере обмена мнений обсуждение таких проблем, как аборт или гомосексуализм, скорее всего, само по себе упразднится.
Поприсутствовав несколько минут в нашем обществе, Вивьен удалилась на кухню. Мистер Коупс подлил мне в стакан и произнес кротко, в присущей ему манере:
– Думаю, не ошибусь, мистер Йенделл, если скажу, что вы, вероятно, спите с малюткой Вивви?
Этот вопрос застал меня буквально врасплох. Быть может, я встретил бы его куда достойней, будь он (этот вопрос) задан чуть позже, в обстановке, смягченной присутствием Вивьен, если бы этому хотя бы предшествовало некоторое покашливание и если бы еще не были так свежи в моем мозгу идеи о насаждении добропорядочной жизни путем военной диктатуры. Но сейчас я услышал, как произношу, прямо-таки выпаливаю, следующее:
– Нет-нет! Вы ошибаетесь! Ничего подобного!
– Ничего подобного? В таком случае у вас, должно быть, имеется другая или другие молодые особы из вашего окружения, с которыми вы спите, не так ли?
– Нет! Разумеется, нет! Что вы!
– Нет? Тогда, возможно, вы предпочитаете иметь дело с родственным вам полом? Должен признаться, глядя на вас, никогда бы не подумал…
– Господи, о чем вы!
– Ну, тогда остается только предположить, что вы находите уединенное удовлетворение в тайных пороках, от которых нас пытаются оградить еще со школьной скамьи?
– Я… как вы могли подумать!
– Так-так. И давно вы встречаетесь с Вивви?
– Месяца четыре.
Тут мистер Коупс резко дернулся, как будто его легонько ударило электрическим током:
– И сколько же вам лет?
– Тридцать три года.
– Ясно. Послушайте, мистер Йенделл, наверное, я слишком старомоден, только мне никак не кажется нормальным, что здоровый и физически развитый молодой человек, как вы, имея дело со здоровой и физически развитой девушкой, как Вивви, способен до такой степени подавлять в себе естественные потребности.
– Я приму это к сведению, – сказал я, с тоской отвлекаясь на мысль, что там в данный момент поделывает Сильвия.
– Я называю свой прием «Вилка Коупса»! – Тут мистер Коупс зашелся тихим довольным смешком, как смеются над потешным домашним животным. – Чем-то напоминает игру в шахматы. Стоит вам ответить «нет» на первый вопрос – а вся хитрость состоит именно в том, чтобы вынудить вас ответить сразу отрицательно, – и тогда единственный для вас шанс свести игру вничью – это ответить утвердительно на второй вопрос и потратить оставшееся время на описание того, как высоки ваши чувства к Вивви. У одного посетившего меня субъекта именно так получилось. По-моему, он говорил, что работает в каком-то издательстве. Но это – случай совершенно исключительный. Должен отдать вам должное, мистер Йенделл, вы шли на проигрыш, не теряя достоинства. Должно быть, вам все нипочем. Наверное, Вивви именно это в вас и нравится. Она любит таких, кому все нипочем. Можете курить, если хотите! В последние годы, – продолжал он, – Вивви приводила ко мне много молодых людей, всех не перечесть. Один даже был в летах, по-моему, вы даже знаете его имя. Разумеется, не женат. Но и не разведен. В то время Вивви было двадцать два, не больше. Я решительно против него восстал. Во-первых, слишком большая разница в возрасте, а во-вторых, я вообще не доверяю мужчинам, которые до сорока не женятся и не имеют детей. Я сказал об этом Вивви, ну и все.
– Что, она перестала с ним встречаться?
– Она перестала его ко мне водить, а это кое-что да значит. Не думаю, что у нее столько свободного времени, чтобы встречаться с тем, кого она хотя бы изредка ко мне не приводит. Сами знаете, мужчин она любит. Не будем обсуждать почему, но я никогда особо не задумывался, как она устраивает свою жизнь. Тут можно предположить три варианта. Либо она и не собирается спать с теми, кого приводит ко мне, либо с одними спит, с другими нет, либо спит со всеми. Правда, бывало так, что она кое-каких приводила регулярно в течение года или дольше, только они у нее в основном больше чем на пару месяцев не задерживаются. Так вот, если она не желает спать ни с кем, значит специально выбирает таких, которые готовы встречаться с ней, просто потому что им нравится с ней общаться. Но чтоб в наши дни продержаться в течение десяти лет, подбирая парней по такому принципу, – это требует от девушки особой исключительности. А Вивви особо исключительной вряд ли назовешь. Что и подводит меня к мысли о втором варианте. В этом случае гораздо сложней все точно определить, но я обратил внимание, что обо всех, кого она приводит, Вивви отзывается в одной и той же манере и ведет себя с ними одинаково. Этого для меня вполне достаточно. Вивви рассказывала, что ваша работа связана с музыкой. Я сам очень даже музыку люблю.
Я уже начал избавляться от чувства неловкости, внушенного мне «Вилкой Коупса», благодаря общему доброжелательству ее изобретателя, и у меня окончательно отлегло от сердца, когда он принялся рассказывать мне о виденной им (и мной) телевизионной постановке оперы «Иоланта». Затем последовало обсуждение правомерности модернизации либретто оперетт, сюжеты которых были злободневны для своего времени. Посредине этой дискуссии вошла Вивьен. Она взглядом спросила: «Ну как?» – и я ей взглядом же ответил: «В порядке!»
– Мне все время кажется, что заслуги Гилберта явно преувеличиваются, – заметил я мистеру Коупсу, но, перехватив взгляд его дочери, свидетельствовавший, что меня повело несколько не туда, поспешно добавил: – Однако в лучших своих произведениях он проявляет большой талант и фантазию!
– Рад, что вы так считаете! Знаю, теперь его модно ругать, только мне старик очень даже симпатичен. Может, потому, что я к нему давно привык и многое знаю наизусть. Разумеется, я согласен, что Салливан в этой паре занимает более значительное место. Кстати, Вивви, как дела? Увенчались ли твои попытки успехом?
Судя по всему, Вивьен восприняла это как осведомление насчет ужина, который, кстати сказать, уже ждал нас в соседней комнате. Это была кухня в старомодном смысле этого слова, но по виду совсем другая: ни настенных часов, ни кресла-качалки, ни кошки – ничего такого я в ней не обнаружил и сделал предположение, что, живя дома один, мистер Коупс кормится с подносика в своем кабинете. Заметив, как я, собравшись сесть, вдруг заколебался, он махнул мне:
– Давайте садитесь! Конечно, могу специально для вас прочесть молитву… Я произношу ее, только когда оказываюсь за столом с каким-нибудь духовным лицом. Хотя, по правде говоря, даже и в этом случае не произношу. Я уже давненько открыл для себя неписаный закон. Если человеку под тридцать, ну а в наше время, скажем, лет тридцать пять, совершенно ни к чему этот ритуал. Он становится старомодным. Я бы сказал, нельзя смешивать понятия модный ритуал и современный ритуал, но это так, к слову. Затем к середине жизни, годам к пятидесяти, человеку требуется что-то вроде благословения свыше. Но и при этом сам ритуал продолжает считаться старомодным. Вы не представляете, как часто мне страшно хотелось понять, почему те, которые старше, именно так думают, а не иначе, но при этом всегда казалось, что спрашивать их об этом как-то неловко. Не знаю, поймете ли вы меня.
– Да-да! – отозвался я с душой. – Прекрасно понимаю!
Суп был из красивенького пакетика или аналогичного вида жестянки, пирог с рыбой, изготовленный профессиональным кулинаром, был подогрет вполне искусно. Разлив по стаканам крепкий портер неизвестной мне марки, мистер Коупс принялся распространяться по поводу американской и русской программ исследования космоса. По мнению мистера Коупса, развитие обеих, пожалуй, шло недостаточно быстро и без особого блеска, ну а неспособность Великобритании самостоятельно запустить на орбиту хотя бы один приличный спутник он считал просто национальным позором. Мистер Коупс заметил, что понимает, какие огромные средства расходуются на такие проекты, но все же считает, когда откроется новая дорога в космос и до соседних планет можно будет долететь всего за несколько недель, расходы, необходимые для запуска человека на Марс в космическом корабле, можно будет покрыть и даже перекрыть, урезав траты населения практически на все; одновременно с этим необходимо, прежде всего в силу моральных соображений, отменить подоходный налог.
– Я что-то не понимаю, откуда в таком случае будут поступать наличные деньги? – заметил я.
– Как откуда? Налоги! Автомобили, телевидение, табачные изделия, напитки, всякая домашняя техника. Абсолютно все, что связано с обслуживанием автомашин. По сути, от всего, за что люди платят. Продукты питания. Таким образом все будут охвачены!
– При такой системе вам и впрямь не обойтись без диктатора.
– Вот именно! Достаточно вдуматься, и это становится ясно само собой. Судя по вашему тону, вы не слишком верите в реалистичность такого плана. Но как бы было прекрасно для всех, если бы такую систему запустить в действие!
– Вы хотите сказать, какой бы это повлекло научный прогресс?
– О нет! Научный прогресс меня нисколько не волнует! Не в этом дело. Грандиозность самого чуда, вот что! Скажите-ка, Дуг, вы читаете научную фантастику?
– Наверное, это глупое объяснение, но мне приходится столько слушать музыки, что не остается времени даже читать, что я сам пишу, не говоря уже о книгах!
– Да-да, я понимаю, но при всем к вам уважении я бы порекомендовал вам хоть изредка заглядывать в подобную литературу. Она более убедительно, чем я, объяснит, покажет вам, сколь грандиозную идею чуда я пытаюсь развить и тому подобное. Эта идея с каждым годом становится все более и более насущной, по мере того как человечество все меньше и меньше волнует религия. Вот вас как сильно она волнует?
Повторение или случайное совпадение? Секс посредством (или внезапным прорывом из-под) диктатуры, религиозность, стоящая за разоблачением космических странствий. Можно не сомневаться, я был свидетелем вполне вызревших политических убеждений: еще немного, и детсадовское прошлое станет ключом к источникам и сумме моего дохода, а случайно оброненное мною слово об исчезновении части выкупа за легендарного царя Атагуальпу немедленно явится поводом для обвинения в психопатической наследственности. Между тем мне предстояло ответить на заданный вопрос, тем более что Вивьен, вместо того чтобы послать отцу взгляд «Да, ладно тебе, папочка!», на который я рассчитывал, развернулась в своем кресле, устремив на меня полный нежного выжидания взгляд.
– Вы уж извините, но, боюсь, об этом я никогда особо не задумывался!
– Не стоит извиняться и пугаться, если говоришь правду! Говорите, никогда не задумывались? Вы хотите сказать, совсем никогда? – произнес мистер Коупс донельзя кротко.
– Ну… может и…
– Но ведь ты понимаешь, что нашим миром все не ограничивается? – сказала Вивьен. – Я же знаю, у тебя масса чего сказать на этот счет. Скажи что-нибудь! Так надо.
– Не понимаю зачем?
– А ты когда-нибудь пытался? Понять зачем?
Тут мистер Коупс впервые за все время нахмурился, но не с укором, а в раздумье:
– Мне кажется, между собой вы не раз эту тему обсуждали, правда?
– Нет, папочка. Ни разу.
– Ни разу? Но это прямо-таки удивительно!
– Просто как-то разговор не заходил, – сказал я, чувствуя себя слегка припертым к стенке. – И я бы не сказал, что это уж так удивительно. Уж не до такой степени, во всяком случае.
– Нет, удивительно, я бы сказал, в смысле статистики, – заметил мистер Коупс, – если сравнить конспективно два последних столетия с двумя последними десятилетиями. И, даже изучив данные за более короткий отрезок времени, я беру на себя смелость утверждать, что цифры, в целом по стране, а не только в юго-восточной ее части, будут свидетельствовать не в вашу пользу. Я бы не взялся говорить за весь остальной мир. Однако прошу вас, продолжайте!
Я совершенно не понимал, почему и что я, собственно, должен продолжать, но тем не менее продолжал:
– Просто я живу себе день за днем, как и многие, что бы они о себе или о других на этот счет ни говорили, – в общем, живу, как все, кого я знаю и вижу, кроме, быть может, горстки пророков и тому подобной публики. И потому, мне представляется, то, что мы говорим себе и своим друзьям о себе, не так-то уж и важно.
– Ну почему же! В конце концов это естественно – думать и разговаривать о том, как ты живешь. Я бы назвал это в самом буквальном смысле свойством человечества. Было бы смешно, если бы солдат вовсе не думал и не говорил о войне, правда? Скажите, много ли вы знаете моряков, которые не думают и не говорят о море?
– Ведь надо же во что-то верить! – вставила Вивьен, в лице и голосе которой уже не ощущалось прежней теплоты. – Каждый должен верить.
Стараясь держаться легко и непринужденно, я сказал:
– Сейчас ты скажешь, что тебе совершенно все равно во что, лишь бы во что-нибудь!
– Предположим, да! На самом деле нет, но предположим, и что?
– Ну, господи, ведь тебе не все равно, фашизм это или коммунизм! Или власть цветов, или всеобщая любовь, или что там еще…
– Я не имела в виду какую-нибудь глупость или что-то агрессивное. Я говорю о чем-то разумном. Я думала, ты понимаешь.
– Ладно, прости, но все равно мне кажется…
– Очень-очень даже вероятно, – вмешался мистер Коупс, – что каждый, кто хоть что-нибудь сделал на земле, во что-то верит, и я под «чем-нибудь» имею в виду не обязательно нечто знаменательное, просто что угодно. И точно так же, пожалуй, очень-очень вероятно, что тот, кто сделал просто что-нибудь, – просто человек, две руки и две ноги. Но я, кажется, снова вас перебил.
– Нет-нет, не перебили, мистер Коупс! Я уже полностью исчерпал свои возможности рассуждать на эту тему. Хотя, признаюсь, не так уж много их имел.
Единственная остававшаяся у меня в запасе возможность включала мою веру в самое веру во что-то разумное, а также мысль о том, насколько разумным должно быть это «что-то», чтобы иметь право считаться разумным, однако я умолк. То же весьма скоро сделали два других моих собеседника. После чего Вивьен сказала, что пойдет приготовит кофе, а мистер Коупс повел меня опять в свой кабинет, где налил два стакана портвейна.
– Я знаю, Дуг, вы человек непьющий, но это не означает, что я не должен предлагать вам ничего стоящего. Конечно, это не бог весть что, но это все-таки портвейн, настоящий, не какая-нибудь подделка. Недурной на вкус, правда? Ну а теперь, поскольку я вами завладел на пару минут, хотелось бы воспользоваться этим и попросить вас, если сможете, прояснить для меня кое-какие вопросы.
Он сел по ту сторону камина, где зеленый бумажный веер частично заменял отсутствующую решетку, и пристально, довольно долго, в том смысле, что овладел мной всего на пару минут, глядел в одну точку на противоположной стене, где висела кошмарная репродукция самой по себе кошмарной картины «Esse Homo» Гвидо Рени. Напитавшись от нее в достаточной мере духовным озарением, мистер Коупс произнес:
– Как все это назвать? Неужто наша страна катится к полной нравственной распущенности?
– Нет, я сомневаюсь! – возразил я, чуть было не упав со стула от облегчения. – Честно говоря, этот вопрос меня не очень заботит, но я бы сказал, что у нас пока по-прежнему в чести традиции, уважение к семье, дисциплине, ко всему подобному, и мы не безнадежны. Возможно, вы слишком близко принимаете к сердцу то, как некоторые ведут себя на юго-востоке Англии?
– Верно подмечено. Возможно, я вижу все это с прицелом на далекое будущее. Вы подумывали о том, чтобы жениться на Вивви? Нет, я не имею в виду каких-либо серьезных намерений с вашей стороны – об этом я спрашивать не могу, это меня не касается, – скажите просто, приходила ли вам такая мысль в голову?
Теперь, прочно сидя на стуле, я мог спокойно ответить на этот вопрос:
– Пожалуй, нет. Честно говоря, не думаю. Но к самой Вивьен это никакого отношения не имеет, это мои проблемы. Просто… когда видишь, стольким людям приходится расхлебывать…
– При всем уважении к вам, Дуг, в мире столько замечательного, о чем вы и думать не думаете, на что у вас не хватает времени. Научная фантастика. Религия. Идет или не идет страна к нравственной распущенности. Жениться или не жениться на Вивьен или на ком-нибудь еще. Надеюсь, вы со временем откроете для себя множество иных интересов. Кроме музыки и тому подобного. Некоторые, насколько я знаю, сделали музыку единственной и важнейшей частью своей жизни. Бах, Моцарт, Мендельсон. Ну и в результате они… А, вот и мы! Какая ты умница, Вивви!
Вошла Вивьен и подала нам кофе, даже не взглянув на меня. Пока мы пили кофе, мистер Коупс посвящал меня в то, чем занимаются его сыновья, вежливо следя за тем, чтобы я не упустил главного в нагромождении всяких подробностей. Он показал мне несколько фотографий старшего и его семьи и, пока я их разглядывал, рассказывал Вивьен о том, как вчера навещал их в Илинге. Я изучал множество моментальных снимков всяких празднеств, сперва развлекая себя попытками найти черты Вивьен или ее отца у ее брата или маленьких племяшек, однако ничего похожего не углядел. Должно быть, и в том, и в другом случае возобладали материнские гены. Что ж, почему бы и нет?
Под конец мистер Коупс сказал, что с самого раннего утра ему предстоит встреча с архиепископом, и потому, если это позволительно, он желал бы нас выставить. Что, разумеется, было его правом; так как я отказался от обратной поездки в автобусе в пользу такси, мистер Коупс, успешно дозвонившись, вызвал его для меня. Мы расстались сердечно. Подъехавшее такси оказалось без поперечной перегородки и с шофером, абсолютно не обладавшим ни познаниями в географии, ни каплей сообразительности, так что по этим обеим причинам нам с Вивьен не удалось обменяться и парой фраз вплоть до самого приезда ко мне домой. Была уже половина двенадцатого. Вивьен сказала, что приготовит чай. Я пошел вслед за ней на кухню.
– Ты сердишься?
– Немножко. Вернее, сердилась. Теперь прошло.
– За что?
– По-моему, ты вовсе не высокого мнения о моем отце, так ведь?
– Что ты говоришь, Вив! Это верно, пару раз он меня поставил в тупик, так ведь такая у него манера! Мне показалось, он замечательный старикан! Очень любопытный тип.
– «Старикан», «любопытный тип»! – Вивьен накрыла электрический чайник крышкой и вставила штепсель в розетку. – Ну, вот оно самое и есть!
– Я решительно не понимаю, о чем ты!
– Тут ты весь! Это все, что ты способен о нем сказать! Тебе было неинтересно с ним общаться.
– Это не совсем так. О чем только мы с ним ни переговорили, и во всем, что ему хотелось, я принимал участие. За исключением, может быть, разговора о твоих братьях, но кто я такой, чтобы принимать участие в обсуждении их дел?
– Да ты вовсе не разговаривал с ним, ты его подстрекал, чтоб он все говорил и говорил и чтобы ты мог потом сказать, какой он замечательный старикан, и какой он немыслимый старый чудак, и невообразимый старый хрыч, и просто потрясающий дед! Ты так же и ко мне относишься, я это чувствую!
– Что ты говоришь! Неужели я когда-нибудь назвал тебя старой хрычовкой?…
– Ну не хрычовкой, но я тебе смешна. Недотепа, чокнутая, с приветом, рехнутая. Это не нарочно, просто потому что я такая и есть, такая родилась на свет. Чудачка, охрюда, кулема! Ты как в телеэкран на меня пялишься. Будто я клоун!
Я снял крышку с чайника:
– Это верно, бывает, ты мне кажешься смешной, даже когда ты об этом вовсе не подозреваешь. Но я никогда не считал тебя ни глупой, ни нелепой, ни жалкой. А это значит, что ты мне вовсе не безразлична; ты ведь и сама это понимаешь. Всякий, кто бывает смешон не просто так, а нарочито, превращается в посмешище, причем в омерзительное посмешище, если это к тому же и женщина. По крайней мере, я так считаю. Что же касается мужчин – тут тебе судить. Ты ведь не станешь говорить, что я не бываю смешон просто так?
– Не стану!
Выяснилось, что я воспринял ее ответ с менее легким сердцем, чем ожидал, но, по крайней мере, мне удалось сдержаться и не спросить, при каких обстоятельствах и до какой степени я бываю смешон просто так.
– Ну вот видишь!
– Но я же не веду себя, будто только это в тебе главное!
– Господи, да не считаю я, будто в тебе только это главное! Ты ведь сама знаешь, что я в тебе считаю главным. И не единственным, а главным!
– Что же? – спросила она, явно смягчившись.
Я уже было хотел рассказать ей, что именно, как вдруг закипел чайник. Вивьен выключила его рассеянным жестом и сказала мирным тоном:
– Знаешь, Дуг, иногда после такого позднего чая я не могу заснуть. А ты?
– Да, иногда и со мной такое бывает!
Не глядя на меня, Вивьен потянулась к выходу из кухни:
– В конечном счете чай ведь должен бодрить, а вовсе не успокаивать!
– Вот именно! – согласился я, заинтригованный этим новым поворотом ее привычного ритуального чаепития по ночам. – Оказывается, в нем кофеин.
– Правда?
– Ну да! Говорят, в чашке чая больше кофеина, чем в чашке кофе. Правда, любопытно?
– О, милый…
После я пошел и заварил чай, но мы оба заснули до того, как кофеин успел оказать на нас свое действие.
Глава 8
«Свиньи на улице»
Настал вечер, когда должны были исполняться «Элевации № 9». Я договорился встретиться с Роем пропустить стаканчик у «Крэгга» в половине девятого, чтобы затем проводить его в концертный зал, а вернее, в приспособленное под него трамвайное депо к югу от реки, последние пару лет служившее площадкой для множества ярчайших новаторских действ, манифестаций против господствующей системы, а также скандальных происшествий. Обычно строго соблюдаемый ритуал Роя перед каждым выступлением включал легкий ранний ужин в обществе Китти, двух или трех его оркестрантов с женами или мужьями и т. п., а также одного-двух близких друзей. Сегодня вечером соблюдение подобной традиции было исключено по целому ряду причин. Потому, как я смог убедиться воочию, придя и присоединившись к Рою, сидевшему в своем уголке, отсутствовали и другие привычные приметы: вместо строго предписанного по традиции, причем не в виде соло, а в дуэте с закуской, бокала вина рядом с локтем Роя стоял бокал с жидкостью цвета жженого сахара, по-видимому виски. Я с облегчением заметил (едва лишь успел осмотреться) в непосредственной близи от Роя его скрипичный футляр. Хотя бы в этом он остался верен традиции: никому, ни гардеробщику, ни официанту, ни какого бы то ни было ранга администратору, Рой ни на миг не доверял свою скрипку.
– Привет, Даггерс! Предлагаю выпить шампанского! Вам то есть. Вы ведь его любите, не так ли? Это единственное из чтимого вами, что, собственно, можно назвать питьем. Чем, вы говорите, обычно закусываете? Бутербродом, а еще?
– Нет, спасибо, я дома плотно поужинал и пил чай.
– Ах ты, боже ты мой, плотно поужинал, чай! Ветчина, русский салат, сладкие пикули, консервированные персики, пирог со сливами и чай, чай, чай! Я же говорю, каждому по потребностям!
Мне показалось, что Рой уже изрядно пьян. Пока он общался с официантом, я развлекал себя мыслью накачать его виски до такого состояния, чтобы он не смог выйти из клуба или хотя бы взойти на сцену, однако в корне пресек эту идею. Отправляться предстояло меньше чем через полчаса, и, даже если времени осталось бы раз в десять больше, я вряд ли смог бы упоить его так, чтобы затолкать под один из соседних столиков.
– Как жизнь? – спросил я, едва отошел официант.
– Давненько не слыхал я, черт побери, такого идиотского вопроса! Жизнь идет. Что ей сделается?
– Как Сильвия?
– Ну это еще куда ни шло! Куда ни шло. Насколько я знаю, отлично, а практически не знаю ни насколько. Не видал и не слыхал ее уже почти… Только нечего радоваться раньше времени, старичок! Вынужденная перегруппировка сил. Пока мы, вернее, пока я не выработаю какого-нибудь противоядия против мелких пакостей вашего приятеля Гарольда Мирза.
– И как, есть прогресс?
– Не-а! Ни малейшего. По сути говоря, почти нет. Предваряя ваш вопрос, замечу, все прочие участники остались на прежних позициях. Ах да, я пытался воздействовать на юного Кристофера! Предлагал все, что тот пожелает, в обмен на отказ опубликовать интервью. Кстати, а вы бы смогли? Смогли бы убедить юнца отказаться публиковать материал, который вы же ему и подсунули? Будь я проклят, если знаю, как это сделать! Словом, к согласию мы не пришли. По правде говоря, в последнее время у нас с ним не слишком ладятся отношения. С остальными – нормально. Ну… не считая Гилберта. Как всегда, неприступен, как скала. Теперь часами гуляет где-то, бродит по лесам, далеко за выгоном. А что там можно увидеть, кроме деревьев и сексуальных маньяков? Знаете, временами я спрашиваю себя, смогу ли я стать таким, как все, когда и девушка двадцати лет, и это «вниз», и тому подобное как бы уже перестанут существовать? Вполне возможно, что окажешься, краснея, в полной растерянности со своим хозяйством перед девчонкой восьми лет. Или, предположим, на том этапе появится мальчишка восьми лет. Уверяю вас, пока нет никаких таких признаков, но кто знает! Надеюсь, если привыкнуть, будущая жизнь покажется вполне приятной: дыши свежим воздухом, гуляй, любуйся природой-матерью на каждом шагу и немножко шпионь за влюбленными парочками, встреча с которыми вновь воспламенит память минувших лет. Как романтично! Хотя январь, уверяю вас, пора невеселая.
Вот так он разглагольствовал до тех пор, вернее, уже и после того, как нам принесли шампанское, тарелку бутербродов с копченой семгой и еще один виски брюнетной масти. Я усердно сдерживался от усердного сдерживания какой бы то ни было реакции, когда Рой принялся лить принесенное виски в остатки старого, однако я, должно быть, переусердствовал, потому что он, ледяным взглядом уставившись на меня, сказал:
– Освободимся от произвола заданного ритма! Если изрядно не поддам к выходу на эту публику, ничего хорошего у меня не получится!
– Справедливо! В конце концов это же не выдающееся музыкальное событие!
– Боже, любой шум выдаем за искусство! – почти выкрикнул Рой, кстати, в очередной раз подтверждая, что гораздо более враждебен к нынешним новаторствам в музыке, если, как сейчас, возбужден и утратил бдительность, хотя, когда трезв, читает всем мораль о необходимости шагать в ногу с новыми веяниями. – Хорошо б и вам там попробовать… Ведь там совсем другая публика! Никаких этих жалких… У них ухо не приспособлено для восприятия нюансов в исполнении, которые привыкли улавливать вы. Или я. В иных условиях. Как вы думаете, что этому кретину надо?
Кретином оказался глазевший на нас швейцар, который явился сообщить Рою, что с ним по телефону желает побеседовать мистер Гарольд Мирз. Рой попросил меня посторожить его скрипку, я пообещал, и он поспешил вниз. Когда минут через пять Рой вернулся, я уже был несколько больше, чем до посещения клуба, осведомлен, кто кем был лет сорок тому назад. Вид у Роя был озадаченный, при том что хмельной.
– Что ему нужно?
– Я с ним так и не говорил. Какой-то тип, с трудом продираясь через собственный жуткий кашель, все выяснял, действительно ли я сэр Рой Вандервейн, а вдруг я его бабушка, после чего весьма долго объяснял, что звонит из дома мистера Мирза. Буквально вдалбливал. Ну а потом этот непонятно кто сказал, что мистера Мирза куда-то позвали, но он будет через минуту. – Все еще стоя Рой принялся с молниеносной скоростью поглощать бутерброды, одновременно прихлебывая виски, чтобы легче заглотнуть, затем продолжал: – Я получил подробнейший отчет о том, как им удалось меня разыскать. Что надо мистеру Мирзу? Неизвестно, но мистер Мирз скоро подойдет и сам лично все сообщит. Я подождал немного, потом мне надоело, и я повесил трубку. Полагаю, это его способ подбодрить меня перед выступлением. И все же не понимаю, почему мерзавец не соизволил лично со мною говорить! Очень странно.
– Позвоните ему сами через пару минут. У меня где-то при себе его домашний телефон.
– Да ну его к шутам! Мне нужно сделать одно дельце, которое никто за меня сделать не может, после чего надо двигаться. Надеюсь, с Сильвией все в порядке.
– Если бы с ней случилось что-то серьезное, они бы не устроили этот цирк. Просто ему захотелось вас подразнить. Не берите в голову.
– Стараюсь.
Я бы сказал, трамвайное депо распростилось с последним трамваем явно не вчера, поскольку рельсы уже были выворочены, а обе смотровые ямы заполнены (судя по всему) жестянками и битыми бутылками, при этом ничья рука даже символически не посягнула на плотный слой копоти, покрывавший сплошь каждый квадратный дюйм крыши, хитросплетение балок и голые кирпичные стены. Последние были отчасти скрыты под широкими полосами дерюги и мешковины, как бы окружавшими занавесом все строение с четырех сторон, – с целью ли смягчить влияние ветров, или из соображений лучшей акустики, или являясь частью декорации, определить было трудно, а спрашивать я не стал. Сцена, представлявшая собой невысокое деревянное возвышение, незавершенное и рискующее рухнуть, была заполнена дергающимися человекообразными существами, сжимавшими в руках музыкальные инструменты или микрофоны в окружении проступавшего из глубин электронного оборудования, по мощи достаточного, чтобы произвести термоядерный удар ограниченного действия. Тот, кто еще не утратил слуха, как мне кажется, не станет в здравом уме стремиться навстречу оглушительному реву, хотя именно нечто подобное неслось мне прямо в уши из динамиков, и с каждым новым после паузы взрывом оттуда меня снова и снова охватывал кошмар, пока наконец рев не грянул неизбывным потоком. То, чем я пытался дышать, казалось каким-то жидким, текучим газом, я бы даже сказал, некой желеобразной массой, колышущейся туда-сюда, словно под ударами огромной невидимой пинг-понговой ракетки. Пахло теннисными тапочками, волосами, плавленой изоляцией, и было невыносимо душно.
При том что помещение имело вид в высшей степени несовместимый с присутствием людей, все же те, кто здесь оказался, – пятьсот, тысяча зрителей? – видно, торчали тут уже не одну неделю. Не то чтобы все сплошь только и валялись тут и там, стояли, бродили, общались друг с другом, потихоньку занимались любовью, принимались танцевать, что-то покупали, что-то продавали, варили пищу и одновременно не то чтобы все сидели рядами на разложенных складных стульях, внимая действу, за которое хотя бы некоторые заплатили деньги. Повсюду валялись пластиковые сумки, радиоприемники, частично или полностью скинутая одежда, разноцветные газеты непривычного формата, куски материи, служившие одеялами, или палантинами, или и тем и другим одновременно, а также уже основательно скопившиеся горы всякого мусора. Кое-где можно было встретить и нормальное человеческое лицо: журналиста, родителя кого-то из выступавших или случайно завернувшего сюда пьяницу.
Подошел дегенерат-потомок Карла II и увел куда-то Роя. Девушка, предусмотрительно выбранная мной в качестве гида, подвела меня к концу ряда или некоторому ответвлению от него, и тут я заметил Терри Болсовера, чья физиономия среди толпы волосатой братии явилась радостным отдохновением для глаз. Рядом с ним я углядел свободный стул.
Моя сопровождающая произнесла довольно четко и даже, кажется, не переходя на крик:
– Можете пересесть поближе, если хотите!
– Нет, спасибо! – проорал я. – По-моему, все, что мне надо, я и отсюда услышу!
– Что вы сказали?
– Все в порядке!
Сидевшие, пристроившиеся на корточках, лежавшие между проходом и Болсовером не сделали ни малейшей попытки пошевельнуться, чтобы уступить мне дорогу, хотя воспринимали без раздражения, когда я толкал, наступал на кого-то, спотыкался о чей-то сапог или набитую сумку. Болсовер обернулся, увидел меня и довольно выразительно сдержал хохот, которого все равно бы никто не услышал. Я придвинул стул поближе и принялся протирать запотевшие очки.
– Вы здесь по заданию газеты или просто в качестве моральной поддержки приятелю? – спросил он, растягивая рот так же энергично, как только что моя сопровождающая: вне сомнения, навык профессиональный, наверное, сродни имеющемуся у рабочих-литейщиков и докеров на военной судоверфи. Отвечая, я попытался воспроизвести ту же манеру:
– Пожалуй, ради моральной поддержки! Насчет газеты пока неясно.
– Угу! Вы уж потерпите, это скоро кончится, потом будет потише.
Я вопросительно поднял брови.
– Да этот уж вроде собрался закругляться, как вдруг потянуло на повтор. Для такого три раза – максимум. Ну вот, сейчас конец!
Я взглянул на сцену. Молодой человек, по всей вероятности производивший своим ором наибольший шум и одновременно выделывавший телом движения, имитирующие совокупление, вдруг принялся сотрясаться, как видно от страданий под воздействием яда, возможно впрыснутого ему с помощью паяльной лампы; зрелище по-своему было впечатляющее.
– Ну, вот и все, – сказал Болсовер.
Он оказался прав. Но то, как выступление было встречено, слегка меня изумило: я не услышал ни единого вопля, ни единого посвиста – ничего, кроме некоторой доли привычных завываний, никакого грохота, то и дело взрывавшегося в ушах, просто относительно умеренный гвалт, не более чем на званом коктейле, когда пьют по второму заходу, вполне естественный здесь и во время гудежа, доносившегося со сцены. Я рассудил, что незачем приходить в особый восторг, если просто слышишь привычное уху: стоит ли буйно радоваться капанью воды из подтекающего крана или устраивать стоячую овацию гремящему бидонами молочнику! Рискнув, я обнаружил, что можно разговаривать с Болсовером почти не напрягаясь – словно в купе скоростного поезда:
– А много еще номеров перед Роем?
– Номеров? А, понял… Нет, эта группа еще одну композицию отыграет, и пойдут «Свиньи на улице» со своей… ну, этой их, Дуг, той что заняла последнее место в хит-параде! После ваш приятель исполнит вместе с ними свое произведение. Но все-таки будете вы писать про это в газету?
– Гарольд хочет, чтоб я написал. Говорит, читателям, должно быть, любопытно познакомиться с двумя различными мнениями об одном и том же выступлении. Но мне что-то это не улыбается.
– Во всей Англии не найдется и десятка читателей, которые читают, что пишете вы или что пишу я.
– Боюсь, вы приуменьшаете. Хотя нечто подобное и я ему сказал, но он ответил, что все ерунда: читателям это по-прежнему интересно.
– Кажется, до меня дошло. Можно мне потом позаимствовать ваши познания в классике? Не хочу вдаваться в подробности, не мой жанр, просто чтоб не брякнуть pizzicato, если речь идет о семи четвертях. Аналогично могу предложить вам помощь в своей области.
– Благодарю!
– Когда брал у него интервью, старина Рой показался мне славным малым. Дает понять, что ты просто блеск, верно? Какой вопрос ни задай, умеет повернуть так, будто я знаю раз в десять больше него.
– И даже в музыке?
– Вы про классику? В чем-то да. Типа того, что он знает-то больше, но разве, черт побери, такой звезде, как я, это интересно? Подтекст: я – что-то вроде знахаря, а вы – крупнейший американский ученый со всякими там компьютерами. Он что, всегда так себя ведет?
– Нет, только временами.
– Когда я ходил в молодежный клуб, был там у нас один священник… Ну вот, снова завели! По правде говоря, дерьмо редкое! Для меня никакого интереса, а уж для вас…
Следующий отрезок времени вызвал в памяти ночь, когда я довольно тяжело заболел ангиной. В бреду мне являлись один за другим четкие, зримые видения, каждое из которых – отражение событий минувшего часа, нескольких часов, всего дня, я то и дело просыпался в холодном поту, в ужасе или в смятении, но неизменно с мыслью, что долгожданное утро все ближе и ближе, хотя с момента последнего пробуждения проходило всего минуты две. И здесь, в этом огромном и грязном трамвайном депо, казалось, мысли мои ныряли и неслись, нанизывая все, что мне виделось или вспоминалось соразмерно любым временным протяжениям, но только не застывшим стрелкам моих часов. Стоило зажать пальцами уши, становилось еще невыносимей. И я вздохнул с облегчением, едва откуда-то возникло чувство, что я уже однажды пережил подобное, хотя и не так остро, еще в том самом «Блиндаже», в начале вечера оказания услуги. И именно появление Пенни вывело меня из подобного состояния.
Едва я стал мысленно сосредоточиваться на ней, как те, кто был на сцене, прекратили свои занятия и начали расходиться. Гвалт возобновился, уже сделавшись несколько громче. Сидевший рядом со мной Болсовер с озабоченным видом пару раз занес что-то в свой не вяжущийся с обстановкой изящный блокнотик. Один за другим на сцену стали выходить, вероятно, те, что именовались «Свиньи на улице». Их вид мгновенно вызвал у меня острое ощущение: если бы мне пришлось выбирать, уж я бы в качестве судей для себя скорее предпочел объединенный нацистско-советский трибунал, чем эту банду; после чего они уже перестали меня особо интересовать. Человек в возрасте между двадцатью и шестьюдесятью, в парике с волосами по самые плечи, изготовленном, похоже, хотя и необязательно, из тонкой серебряной проволоки, и в сплошь переливающихся одеждах проскрежетал во всех динамиках каким-то вкрадчивым лязганьем. И снова грянуло со всех сторон.
Пенни. Когда я в ряду всех этих событий принялся думать о ней, то обнаружил, что мой ум переключился с высшей на самую медленную скорость. Я даже с трудом вспоминал, как Пенни выглядит. Я напрягал память, но едва передо мной начинал вырисовываться и четко устанавливаться ее образ, как тотчас окружавшая действительность выбивала его из фокуса. В конце концов я уцепился просто за мысль о Пенни и не ослаблял свою хватку: непременно ей позвоню и попытаюсь пригласить к себе, пока Гилберт предпринимает очередную прогулку на лоно природы. Попутно всплыла другая мысль, имевшая отношение к тому, что недавно произошло или было мне сказано и что вызвало к жизни первую мысль, но соло ударных начисто все разметало.
После нескольких ложных обрывов грохот наконец стих. Человек в серебряном парике вышел вперед и произнес нечто несуразное и (на мой взгляд) до огорчения несообразное с Роем, который в этот момент вышел на сцену со скрипичным футляром. Окружавший нас гул усилился, приобретая кое-какие черты восторженного приема, но, по-моему, в восторге присутствовал элемент иронии. Кажется, то же показалось и Болсоверу.
– Публика какая-то непонятная собралась, – заметил он. – В той группе, которая выступала первой, двое гитаристов гомики, это всем известно. Те, кто впереди, все время орали им что есть силы. Не понимаю, чего они поднавалили.
– Рой не гомик.
– Ясное дело!
– Тогда чем он их привлек? Возрастом?
– Угу! – кивнул Болсовер, как бы говоря этим междометием, что это всего лишь доля истины, а о другой он предпочитает умолчать.
– Ах так!
В это время с веселой ухмылкой, которую больно было видеть, Рой вынул из футляра скрипку и смычок, отложил в сторону футляр и с ходу приготовился играть. Я не помню, чтоб он хоть раз выступал без обязательного, пусть несколько поспешного, подстраивания инструмента. Внутри у меня оборвалось. Ему все безразлично. Или же, возможно, – слегка подкорректировал я, – Рой рассудил, что, кроме него, меня и еще, возможно, пары присутствующих критиков-профессионалов, никто из публики даже не заметит, если где-то прозвучит на каких-нибудь полтона ниже или выше. Гул утих до уровня, характерного для стадиона в момент ожидания выхода футбольной команды, – по здешним стандартам наступила относительная тишина.
«Свиньи на улице», подравняв ряды, в несколько заходов выдали на фоне рокота и боя барабанчиков-бонго то, что, по-видимому, считалось у них аккордами. Рой вскинул смычок – обозрев его, как мне показалось, удивленным взглядом, – и, едва угомонились «Свиньи на улице», провел им по струнам. Смычок скользнул, издав вместо привычного звука только скрипучий писк, подобный писку амбарной крысы. Что вызвало общее недоумение на сцене; вокруг – нарастание гула.
– Чертов микрофон! – сказал Болсовер. – Надо же, какая невезуха! Хотя еще можно…
– Думаю, не в этом дело. По-моему, кто-то подгадил ему смычок. Каким-то жиром или маслом смазали. Тут кто угодно…
– Твою мать! – прогремел усиленный микрофоном голос Роя, опровергая высказанное Болсовером мнение на его счет.
Публика восприняла это с радостью. Ей также понравилось и то, что Рой поспешно вынул другой смычок, а также то, что он с той же поспешностью убедился в непригодности и этого, а также то, что немедленно внедрился малый в серебряном парике, и вообще все то, что происходило на сцене. Больше всего это пришлось по нраву особо выделенной Болсовером публике из передних рядов. Увидев, что Рой призадумался, я готов был угадать хотя бы одну из охвативших его мыслей: слишком поздно отлавливать по телефону кого-либо из знакомых скрипачей, просить привезти смычок в такую даль – большинство где-нибудь на концерте или просто в гостях. И тут Роя осенила некая мысль, что именно, угадать я не мог. Отвернувшись от микрофона, Рой кинул назад:
– Слабо по-быстрому любой, хоть басовый?
Тип в серебряном парике бегом рванул куда-то со сцены. В последующие минуты гул постепенно нарастал, становясь в целом все враждебней. В какой-то момент Рой снова повернулся к микрофону, и я испугался, что он хочет обратиться к публике с обличением враждебной сути буржуазного общества или, возможно, призовет публику спеть хором что-нибудь революционное, однако Рой передумал, следуя более глубоко укоренившейся в нем традиции, и продолжал стоять, глядя поверх голов толпы с бесстрастностью, достойной восхищения. В конце концов вернулся тип в серебряном парике, неся с собой, как я определил, смычок от контрабаса. Приняв его у типа, Рой важно кивнул «Свиньям на улице».
– Но, черт побери, – воскликнул Болсовер, – он же вдвое короче!
– Рой прекрасно управится и с этим. Сами знаете, профессионал. Да к тому же смычок не такой уж…
«Элевации № 9», начавшись снова, на сей раз продолжились. Я поставил перед собой чудовищную задачу – слушать все, что звучит на сцене: хлопающие звуки бонго, завывания ситара, бахающие по голове глухие удары бас-гитары, а также obligatto Роя. Все началось с одного пассажа, который хоть и представлял некоторую трудность даже для исполнителя с надлежащим смычком, но от слушателей особой искушенности не требовал, – пожалуй, современник Брамса вполне мог бы на это время отлучиться по малой нужде. Однако примерно к тому моменту, когда этот слушатель должен был возвратиться на место, «Свиньи на улице» отодвинулись, так сказать, на второй план, и характер скрипичной партии преобразился. Вообразив (как мне показалось), что к этому времени публика, возможно, уже примирилась со скрипкой, Рой решил продемонстрировать себя как многопланового новатора. По крайней мере, такое вполне было вероятно. И тогда он принялся, по-прежнему вполне чисто лишь для неискушенного уха, выделывать вариации на заданную тему в духе, или около, того джазового стиля, который, что даже мне было известно, отжил свое уже лет тридцать тому назад, примерно когда Рой кончал университет. Я вспомнил, как однажды, уступив его уговорам, прослушал полдюжины заезженных пластинок одного джазового скрипача той поры, американца с итальянским именем, и сейчас, как мне показалось, уловил в игре Роя пару знакомых фразовых поворотов. Даже если бы специально искал, ломал себе голову – лучшего доказательства того, как глубоко застряло в музыкальном сознании Роя полное неприятие всего, что именуется современной поп-индустрией, я найти бы не смог. А это уже кое-что!
Возможно, слушатели вокруг испытали, на свой примитивно-топорный лад, примерно то же, что и я: возможно, и им все, исполнявшееся теперь Роем, просто показалось глубоко чуждым. Во всяком случае, внезапное нарастание шума вокруг отвлекло мое внимание от сцены, и тут я увидел, что центральный проход, где до того наблюдалось легкое снование взад-вперед, как на деревенской улице в относительно активный утренний час, теперь забит людьми, неспешно, но целеустремленно двигающихся в одном направлении: к выходу. Я же возобновил слушание. Исполнение, видимо, подходило к кульминации: звуки скрипки взмыли и задержались на самой высокой ноте, «Свиньи на улице» выдали очередной набор так называемых аккордов и даже затянули что-то весьма смахивающее на доминанту, что в классике – сигнал аккомпанементу сходить на нет, тогда как солист со всей виртуозностью исполняет каденцию.
Я почувствовал, как у меня запылали щеки. Вся эта дичь привела меня в ярость – многие ли из застрявших внутри этой помойной кучи способны оценить «остроумие», «пикантность» такого эксцентричного финального приема или хотя бы не освистать его, при том что свищут беспрерывно? Но случилось самое ужасное: пассаж с молниеносными зажимами двух струн, в который Рой вложил все свое мастерство и что было сделать достаточно трудно даже с помощью скрипичного смычка и дьявольски сложно при помощи контрабасного, прозвучал естественно, безупречно, легко. Боже мой, подумал я, неужто он не видит, что всей этой публике плевать на то, что трудное можно сделать легким, что трудное вообще существует в той или иной форме, – ведь эти любят и видят только легкое!
Не одарив меня трелью в верхней октаве, что в классическом произведении возвещает о вступлении аккомпанемента, Рой, мгновенно воссоединившись со «Свиньями на улице», почти в полной тишине завершил свою композицию. Отдаленный гул свидетельствовал о вытекании остатков публики из зала, где осталось лишь несколько человек, в том числе и мы с Болсовером. «Элевации № 9» завершились полным провалом. Я, с такой страстью этого желавший, ощутил внезапную пустоту и чувство всепоглощающего краха.
Болсовер закурил сигарету:
– Ну и как вам, понравилось хоть чуть-чуть?
– Нет! Все это… Нет, нет! А вам?
– Нет! Придется вставить кое-что в свой отчет, но немного. Могу позвонить вам, если материал пройдет. Во всяком случае, встретимся в редакции!
Мы поднялись и пошли вдоль ряда опустевших стульев.
– Ладно! Всего наилучшего, Терри!
– Послушайте, Дуг, я бы на вашем месте позаботился побыстрей вывести отсюда маэстро. Тут много всяких темных личностей околачивается. Такие мне знакомы по фестивалям: чуть что – в драку. Наш маэстро фигура явно неординарная, может привлечь их внимание.
– Пожалуй, пойду разыщу его! Спасибо!
Когда я наткнулся на Роя в дальнем углу сцены, уже повсюду гасили свет и разбирали оборудование. Он в компании с типом в серебряном парике и еще одним или двумя из «Свиней на улице» стоял молча, задумчиво у низенькой дверцы, через которую (как нетрудно было себе представить) некогда проходили рабочие в комбинезонах и с инструментами, чтобы приступить к ремонту и оснастке трамваев. Рой со скрипичным футляром в руке бросил мне с деланной усмешкой:
– Ну вот, старина! Я и говорю, был дан шанс, я же предпочел поражение.
– Видимо, так.
– Не волнуйтесь, не собираюсь вас пытать, что о моем выступлении думаете. Это подождет, как и все прочее. Как бы то ни было, теперь мне известно мнение большинства.
– Серость поганая! – буркнул кто-то.
– Да овцы они, овцы! – подал голос еще один. – Стоило одному встать, все следом потянулись.
– Пошли отсюда! – сказал я Рою.
– В самом деле, пошли! Хорошо бы где-нибудь выпить и потолковать. Всем доброй ночи! Искренне благодарю и прошу меня извинить!
Последовали рукопожатия, протесты в ответ на его извинения, а также реакция в духе Роя, после чего мы с ним вдвоем почти в кромешной тьме направились вдоль стены к главному входу, напротив которого Рой припарковал свой автомобиль.
– Знаете, Рой, мне очень жаль, что все так…
– Прошу вас, Даггерс, сейчас ни слова, если вы не возражаете! Ни единого слова, пока не выберемся отсюда в какое-нибудь относительно приличное место.
Мы вышли на площадку перед входом, где толпились группками, переговариваясь между собой и расходясь, люди. Мой взгляд мгновенно выделил высокого молодца в кожаной куртке, отделанной замшей, который, резко повернувшись к компании своих дружков, сказал им что-то и вышел с ними нам наперерез.
– Ба, да это сэр Рой Вандервейн! – воскликнул предводитель. – И вон его старая, дрянная скрипка. А ну, ребятишки, гады-подонки, рванем-ка у него скрипочку!
И он изобразил некий условный, как в балете, хватательный жест в направлении скрипичного футляра; условный или нет, но я все же снял свои очки и засунул их в нагрудный карман пиджака. Рой нервно дернул плечом.
– Ну че, ну не в кайф пошло, ясное дело, – произнес Рой в панибратской манере и с наипоганейшим выговором. – Куда деться, всем не потрафишь!
– Пойдемте, Рой!
– Но все же «Свиньи» нормально сбацали, а?
– Да пошел ты! – огрызнулся парень в куртке. – А ну, давай ее сюда!
На сей раз он и впрямь вцепился в футляр, двое других схватили Роя за руки. Еще двое кинулись ко мне. Не успел предводитель отпрыгнуть с футляром в руках, как я двинул ему в ухо, отчего он тут же рухнул на колени, но, к несчастью, футляр со скрипкой грохнулся об асфальт. Кто-то ударил меня головой в живот, и меня согнуло пополам. Чье-то колено, метившее мне в физиономию, угодило в ключицу, причем с такой силой, что меня опрокинуло навзничь. Падая, я ощутил, как вокруг расползается тишина. Не успел я подняться на ноги, как увидал чей-то нацеленный в меня ботинок; я схватил эту ногу, крутанул, но она выскользнула у меня из рук. Очередной удар ногой пришелся. мне в спину, но несильно; наверное, решил я, кто-то прошел сквозь зону нанесения телесных повреждений. Тут я поднялся на ноги и кое-как вступил в сражение по крайней мере с двумя нападавшими. Среди пыхтения, шарканья ног по асфальту, треска расщепляемого дерева, внезапно слух пронзил чудовищный звук, показавшийся мне воплем человека, ударившегося головой об асфальт. Затем послышался шум бегущих ног. Кто-то лягнул меня в челюсть, и все кончилось. Чья-то рука обвила меня за плечи:
– Вам помочь? – спросил испуганный голос, принадлежавший молодому парню в голубоватом вельветовом костюме.
– Нет, спасибо!
Далеко во тьме исчезали бегущие фигуры; среди них я разглядел по крайней мере одного полицейского. Совсем близко от меня лежал скрипичный футляр, отдельно – сорванная с него крышка и расколотый на куски, кое-где держащиеся струнами, страдивариус Роя. Две девушки склонились над неподвижно лежавшим Роем. Вдалеке кто-то кого-то окликал. Вокруг нас начинала собираться толпа.
Глава 9
Тот другой тип
– Ты уверен, что уже чувствуешь себя нормально?
– Да, клянусь, Вив, вполне. Парочка синяков и только.
– В газете это выглядит совсем иначе! – Голос Вивьен в трубке звучал недоверчиво, как будто она подозревала меня в том, что я из оскорбленного самолюбия или ввиду появления финансовых перспектив утаиваю от нее перелом позвоночника.
– Да ну, ты же знаешь этих газетчиков! Что касается меня, то я просто устал. Пришлось иметь разговор с полицией, потом бог знает сколько времени проторчал в больнице, пока врачи не убедились, что у Роя не проломлен череп, только после этого я попал домой.
– Значит, все-таки он вполне оправился после всего! – На сей раз в тоне Вивьен подспудно как бы угадывалось, что она считает череп Роя железным, каковы в глазах общественного мнения черепа гуляк, позеров и тому подобных личностей.
– В какой-то степени. Удар по голове может возыметь множество непредсказуемых последствий. Пока его абсолютно здоровым еще не признали. Состояние удовлетворительное, так мне сказали по телефону, я только что звонил в больницу. Собираюсь попозже к нему заскочить.
– Примерно когда?
– Когда немножко соберусь с силами. Наверное, к одиннадцати. А что?
– Я думала, может, мы вместе пообедаем?
– Отлично. Зайти за тобой в агентство?
Мы условились, что я зайду за Вивьен в четверть первого, а провожу обратно к четверти второго. Это было не самое удобное и не самое продолжительное время для ее обеденного перерыва, но мы редко встречались в середине дня, к тому же в тот вечер нам предстояла традиционная встреча, однако я предвкушал возможность как можно раньше поделиться с ней событиями вчерашнего вечера, а также и тем, что могло ожидать меня в больнице. Перед выходом у меня оставалось еще время, чтобы привести себя в порядок. Что я и сделал без особого напряжения, побрившись в темпе adagio sostenuto[8] вместо обычного allegro con brio,[9] слушая музыку (только те пластинки, которые я уже прорецензировал, ни одной Вебера или его современников, чтобы совершенно исключить всякий намек на работу), немного подремав и погрузившись в раздумья о судьбе малеровских концертов Роя.
День был туманный и душный. Я исходил испариной, когда в мрачном вестибюле больницы пытался найти кого-нибудь, способного объяснить, к кому обратиться, чтобы узнать, в какой палате лежит Рой. В конце концов, многократно вызывая недоумение, а пару раз получив отпор, я столкнулся с одной средних лет дамой в сером, которая прежде всего спросила, не репортер ли я. Я сказал, что нет, назвался, услышал вопрос, не тот ли я самый, что был с сэром Роем, когда его привезли, ответил утвердительно, получил интересующую меня информацию, после чего мне пришлось пройти множеством лестниц.
Рой оказался в отдельной палате и сидел в постели с газетой в руках и в какой-то белой, криво сидевшей на голове нахлобучке. В остальном он выглядел вполне нормально.
– Старина Даггерс, родной вы мой!
– Ну как вы, Рой?
– Точь-в-точь как моя скрипка, старина! Они… – Щеки у него дрогнули. – Хотя едва ли стоит об…
Он осекся, у него перехватило горло. Я испугался, что он разрыдается, и если бы это произошло, и я бы не смог удержаться от слез.
– Но можно найти другую, – сказал я.
– Других не так уж много. Вы, вероятно, слыхали, в этой последней войне четыреста с лишним было уничтожено. И даже если бы этого не произошло, все равно было б немного. Ну да, я, конечно, отыщу себе другую, но только это будет уже совсем не та. Знаете ли вы, что я с этой старушкой прожил почти тридцать лет? Свой первый концерт на ней играл! Поистине была боевая лошадка Макса Бруха![10] Тем не менее отвечаю на ваш вежливый вопрос: у меня пять швов, ни о каком сотрясении мозга речи нет, завтра меня выпишут и еще сколько-то после этого мне предписано отдыхать. Последнее можно проигнорировать – необходимо думать о Гусе. Джордж – это руководитель Нового Лондонского симфонического оркестра – репетирует с ними сегодня и завтра, но уже послезавтра утром я должен как штык стоять у дирижерского пульта.
Я кивнул. Рой взглянул на меня с усмешкой и медленно покачал головой.
– Отличная работа, Даггерс! Чем именно мазали?
– Маслом. Отличным, новозеландским. Я не ожидал, что у нас в такое выльется. Думал, вы поймете сразу, едва начнете подстраивать скрипку или даже раньше. Простите, что так…
– Что вы, такое волнующее зрелище! Правда, это был для меня в какой-то степени сюрприз. По зрелом размышлении. Не подозревал, что вы на практике так далеко способны зайти со своими принципами.
– Мне казалось, я просто обязан что-то предпринять!
– Весьма похвально! И как же, вы прямо там в клубе мазали, у всех на виду?
– В туалете.
– Нет, просто интересно. Что ж, пожалуй, вы зря потратили время.
– Зато все слышал и видел!
– Нет, я имею в виду, если так можно выразиться, реакцию критики. Читали утреннюю «Орбиту музыки»? Весьма оперативно отозвались.
Я взял у него свернутые газетные листы. «Скрипач и дирижер Рой Вандервейн прокладывает новый путь в музыке!» – уведомлял кого-то Барри и далее заявлял, что, невзирая на некоторые технические неувязки, на непросвещенную аудиторию, а также на прискорбное событие, состоявшееся после концерта (см. с. 3), лично он счел для себя за большую честь присутствовать при рождении такого-то, такого-то и этакого новшеств, которые, несомненно, являются предвозвестниками чего-то грандиозного. Ближе к концу Барри, демонстрируя свою просвещенность, приводил ошеломляющее сравнение вчерашнего выступления Роя с первым исполнением Первой симфонии немецкого композитора Людвига ван Бетховена, освистанной публикой.
– Испугался, что его обвинят в консервативности! – сказал я. – Как все они.
– Все, кроме вас. Да, есть еще заметка покороче в «Летучей мыши». Хотите взглянуть?
– Спасибо, нет!
– Ваш материал появится в пятницу, верно?
– Да.
– Стало быть, есть время для более взвешенной оценки?
– Да.
– Вам все это показалось чистым дерьмом, ведь так?
– Так. За исключением вашего исполнения.
– Благодарю! – Рой слегка откинулся на подушки. – Словом, сами видите, это вовсе не провал, как нам всем сперва показалось. Учтите, события прошлого вечера многому меня научили. Ошибочно было выставлять это в виде своего камерного концерта. Молодежь меня знает прекрасно и почти не знает «Свиней на улице». В следующий раз надо дать им поиграть побольше. Пусть будет что-то типа квартета или квинтета с соло-гитарой.
Нудное чувство недоверия охватило меня:
– Как это в следующий раз?
– Фу-ты, ну-ты, Спиро Агню! Неужто вы думаете, что я полностью умоюсь после всего-навсего одного негативного приема? Никто и никогда не сможет…
– Да уж куда там, конечно, вы выше этого! – сказал я, подступая ближе к нему. – Просто легко представить, как в следующий раз или через раз кто-нибудь из этих молодцов выкрутит вам к чертям левую руку, чтобы внушить, что здесь вот, в этом месте, в самый раз бы запустить вибрафон или тенор-сакс. Вчерашний вечер, как я погляжу, многому вас научил! Да вы не извлекли самого главного урока, который иной, наверное, застолбил бы себе на всю оставшуюся жизнь! Вы просто-таки не способны…
Тут я оборвал себя, поскольку в палату кто-то вошел. Заметив краешком глаза что-то белое, я тут же решил, что это, должно быть, медсестра или еще кто-то из медицинского персонала, но оказалось, это Сильвия в длинном пальто, одновременно походившем на пиджак низкорослого судьи игры в крокет, а также робу совсем даже не низкорослого маляра-профессионала, в том смысле, что оно ей было достаточно велико, во всяком случае, могло таким считаться, с точки зрения того самого вырождающегося меньшинства, к которому я внезапно почувствовал себя причастным. Волосы Сильвии были опрысканы чем-то клейким, причем во время пребывания в аэродинамической трубе, – иного объяснения их внешнему виду на данный момент я не смог подыскать; веки замазаны темно-зеленым. Она решительно направилась к Рою и тут, смею надеяться, надолго разразилась потоком ласк, перемежавшихся с шептаниями. Я удалился к окну и стал разглядывать жилищный массив: красный кирпич с обводами из белой штукатурки, маленькие балкончики, на одном – громадный белый пес метался взад-вперед, как тиф в клетке.
– Почему он здесь? – услышал я за спиной вопрос Сильвии.
– Будет тебе, Сильвия! Даггерс пришел меня навестить.
– Уже навестил, так ведь?
– Нет, почему она здесь? – спросил я, поворачиваясь. – Конечно, если мне будет дозволено об этом спросить. Насколько я знаю, Гарольд положил конец вашим отношениям.
Рой рассмеялся своим сочным смехом и взглянул на Сильвию с любовью и восхищением:
– Мы решили, что скорее мы положим конец всем его усилиям положить конец, верно, любимая? Мы, Даггерс, предпринимаем некоторые контрмеры, и, судя по тому, что я только что узнал, они гораздо действенней, чем просто шанс ему отомстить. Мы оставляем все как есть.
– Все как есть?
– Да, все как есть, – сказала Сильвия. – В общем, мы с ним будем жить вместе, и ничто и никто не сможет нас остановить.
– Ах так.
С выражением крайней серьезности и решительности Рой произнес:
– Так что вы там говорили, Даггерс, по поводу вчерашнего вечера?
– А что тут говорить? Тем более сейчас.
– Почему? Я весь внимание.
– Хотите убедить себя, что прислушиваетесь к каждому моему слову, и вы должны допустить, положа руку на сердце, что в какой-то степени я оказался прав, но это лишь факт, с которым вам просто придется смириться, хотя скоро вы обо всем позабудете.
– Вон отсюда, – сказала Сильвия, которая, по всей вероятности, оценила хотя бы тон, с которым я все это произнес. – Вон отсюда и из нашей жизни. Ты просто зану-у-уда поганая! Чтобы духу твоего тут не было!
– Да катись ты! – сказал я.
Сильвия двинулась вокруг кровати прямо на меня с тем самым видом, с каким атаковала Китти. Я схватил со столика графин с водой.
– Только подойди, сейчас ты у меня искупаешься!
– Ну-ну, любимая, не дури!
Одно из двух восклицаний на нее подействовало: Сильвия уселась на кровать ко мне спиной. Рой потянулся и взял ее за руку.
– Валяйте, Даггерс!
– Ладно! Только я не понимаю и никогда не пойму, как после того, что произошло вчера вечером, могла прийти вам мысль воссоединиться с этой вашей красавицей! Да не нужны вы им; они уяснили всю несуразность вашего выступления. И, видит Бог, дали вам это понять…
– Да ну вас к черту, это была всего лишь шайка грязных хулиганов! Жалкое меньшинство! Этого добра везде полно. Не хотите же вы сказать, что именно они представляют целое…
– Именно, хочу! Ведь никто даже не попытался вмешаться! Разве не так? Стояли и глазели, потому что они…
– Люди вообще не имеют привычки вмешиваться. Это повсюду так.
– Нет уж, когда этим надо, они вмешиваются! Чуть что, немедленно пускают в ход кулаки! Как у них там, соперничающие банды юнцов!
– Послушайте, Даггерс, вам в самом деле стоит предъявить свидетельство о рождении, чтоб я убедился, что вам не шестьдесят пять! Не вся молодежь состоит из соперничающих банд! Если где такая банда и заведется, они держатся поближе к своим домам. Ну а, боже мой, если уж возникнут у нас под боком, то и развернуться-то не успеют! Вы городите несусветную чушь!
– Ладно, пусть я горожу чушь! Только факты говорят, что эти молодчики на деле осуществляют то, что у иных в замыслах! Частично – я хочу сказать, не все они агрессивно к вам относятся, однако могу поспорить, что подавляющее большинство симпатии к вам не питает. Вчера вечером, мне казалось, они начали сбегать потому, что им скучно было слушать. Все это, конечно, так, но главная причина все-таки, мне кажется, в том, что у них поехали мозги. При виде того, как человек довольно пожилой, настолько, что явно знает и умеет много больше них, выставляет себя перед ними напоказ. Это все равно как если б их родная тетка устроила стриптиз прямо у них на глазах. «Не твоя это роль, папаша, и не мылься!»
Сильвия разинула было рот, но Рой, вероятно сжав ей руку, заставил ее умолкнуть. – Он по-прежнему вот уже целую минуту не сводил с меня взгляда с полным и неприкрытым вниманием человека, сосредоточенного на собственных мыслях. Я понимал, что говорил и буду говорить только для того, чтобы впоследствии успокоить себя, что высказал все, что хотел, подобно тому как и Рой скажет себе, что он выслушал все, что хотел, и тем не менее я продолжал:
– Хотите честно, чего я ожидал после вчерашнего? После того как ваша пьеска провалилась, вас самого вздули, а вашу скрипку разбили в щепки, что равносильно надругательству над любимым детищем? Ведь так все было, Рой? После этого я честно ожидал, что вы поклянетесь больше никогда и ни за что во все это не влезать, никакого поп-искусства, никакой молодежи, никаких новых веяний в том или этом, – но все же через месяц или два все равно потихоньку приметесь за старое. Но оказалось, буквально на следующее утро вы снова вынашиваете свои кошмарные планы, и в том же направлении! Это ужасно! Вы все стремительней катитесь вниз. Единственное, на что я надеюсь: вы не успеете скатиться настолько, чтобы опорочить свое собственное имя и опозорить оркестр, репетирующий Малера! После всего этого я советовал бы вам отправиться куда-нибудь подальше, скажем в Калифорнию, где никто про вас ничего не знает и никто ничего не поймет. Все, я пошел! Ах да…
Спохватившись, я вытащил из кармана пиджака маленькую бутылку скотча и поставил на столик у кровати.
– Ну, Дагтерс, черт побери, это прямо-таки королевский подарок! Большущее спасибо!
– На вашем месте я бы ее припрятал. Что ж, всего хорошего вам, идиот паршивый! И удачи! Вам обоим.
Выйдя из палаты, я поспешил в глухой закоулок коридора и там принялся пинать стенку ногой, а также еще пару раз врезал по ней кулаком, приговаривая:
– Ах распиздяй, мудило, дерьмо собачье!
Тут до меня донеслись дребезжащие звуки приближающейся из-за угла тележки, и я, рванув по лестнице вниз, вскоре вновь оказался на улице среди уже знакомой мглистой духоты. До встречи с Вивьен у меня оставалось еще три четверти часа, однако, теоретически говоря, мне было бы сейчас в самый раз напиться или рвануть куда-нибудь в бордель. Я принялся гулять по Гайд-парку, думая о том, чего я не успел сказать Рою и что имело отношение к Китти, и Пенни, и Эшли, и вообще, но понимая, что все равно бы ничего не помогло. У Мраморной арки я сел в автобус, потом сошел с него, обнаружив, что так-таки не в силах избавиться от своих мыслей. В этом смысле, за неимением лучшего, бродить пешком по тротуарам, заполненным людьми, мне казалось легче. Я подошел к агентству авиакомпании в восемнадцать минут первого, подхватил Вивьен и повлек ее через дорогу в одну их тех дешевых закусочных, где вино отпускается стаканами, а пиво – только особой, бог его знает какой, горстке любителей.
Мы ели скампи со шпинатом, и я рассказывал Вивьен все, что со мной произошло, и на последние эпизоды она реагировала с выражением, на мой взгляд напоминавшим ее знакомую угрюмость вкупе с озабоченностью в умеренном варианте, но с преобладанием озабоченности. Я объяснял это тем, что Рой ей никогда не нравился. Затем, принявшись за яблочный пирог со сливками, Вивьен произнесла:
– Послушай, Дуг, мне надо тебе кое-что сказать! Я, по-видимому, выхожу замуж за Гилберта.
Я чуть не поперхнулся яблоком.
– За кого, за кого?
– За Гилберта Александера. Этого парня из Вест-Индии. Ты его знаешь.
– Я-то его знаю, но даже не подозревал, что его знаешь ты! То есть не подозревал, что ты с ним знакома. И когда это случилось?
– Когда мы встретились у твоих дверей.
– Так это же одна минута!
– Ее оказалось вполне достаточно, чтобы он со мной поздоровался и спросил, не соглашусь ли я как-нибудь пойти с ним что-нибудь выпить, но я сразу сказала, что нет, а он сказал, ну, это понятно, но, может быть, я запишу ему в книжечку свое имя и номер телефона, и уже держал наготове свою ручку, собственно, даже не дал мне сообразить, как ему лучше отказать.
– Да, но ведь это было всего лишь на прошлой неделе, в прошлый…
– Ну, пока мы еще не собираемся вступить в брак. Хотим только устроить помолвку.
– Кто в наше время устраивает помолвки!
– Гилберт говорит, что у него на родине так принято. То есть перед тем, как вступить в брак. Да и у нас так принято. И не думаю, что этот обычай уже отменен.
– Твой отец знает?
– Да, я водила Гилберта к нему в гости вчера вечером. И чтобы ты ничего такого не подумал, папу вовсе не смущает, что Гилберт чернокожий.
– А я и не подумал ни о чем таком!
– Ах, Дуг, не притворяйся, конечно подумал! Если хочешь знать мое мнение, то, по-моему, основная проблема чернокожих вовсе не в том, что у них черная кожа. Кто бы стал обращать на нее внимание, если бы все они так не носились со своими предрассудками! Сам цвет очень даже мил. И на самом деле он даже не черный, не совсем черный. Да даже если б и черный, это может быть очень красиво. Но самое неприятное у большинства чернокожих, это их негроидная внешность: огромные вывороченные губы, широкие носы и тому подобное. Только Гилберт совсем не такой: он похож на темнокожего англичанина Потрясающе!
– Я бы не сказал, что это основание, чтобы выходить за него замуж.
– Нет конечно! Просто мне нравится такой тип мужчины. По характеру, я хочу сказать. Он вмешивается в мои дела. Велит делать одно и не велит другое.
– Да уж, мужчина с характером!
– Вот именно!
– Мне казалось, мы все прошли через этот этап.
– Оказывается, не все!
В этот момент нам принесли кофе, и я тут же выманил счет. Из прошлого вечера возникло воспоминание, а с ним и объяснение: я думал тогда о Пенни решительней прежнего, подспудно предчувствуя коренной и неблагоприятный (лично для себя) поворот в судьбе Вивьен. Но все же мне еще трудно было в это поверить.
– Все это вовсе не означает, что я хочу, чтобы мной все время управляли, – пояснила Вивьен. – Но если тебе кто-то нравится, необходимо время от времени внедряться в его жизнь. Это естественно. Кое в чем я внедряюсь в его жизнь. Скажем, он немного психует из-за своего цвета кожи, ну а я стараюсь, чтобы это ему в жизни не мешало.
– Послушаешь тебя, вы с ним по крайней мере полгода как вместе.
– И мне так кажется. Мы вместе провели весь вчерашний день.
– Так ты брала выходной? Ничего подобного раньше с тобой не случалось.
– С тобой – нет. Ты никогда об этом не просил. И еще вот что я хочу сказать. Ведь у меня отвратительный вкус – в одежде, во всем, правда? Ну, ответь же честно, Дуг! Теперь уже можно.
– Это верно.
– Но ты мне этого никогда не говорил, потому что не проявлял себя как мужчина с характером. Ни во что не вникал. А Гилберт мне сразу все честно сказал. Он просмотрел весь мой гардероб и отобрал вещей пять, не больше, которые я могла бы носить, при этом полностью отказавшись от остальных. То же с моими украшениями и всем прочим.
Мы помолчали, потом я спросил:
– А все-таки зачем тебе эта помолвка?
– Ну, чтоб сразу освободиться от того бородатого типа.
– А теперь от меня?
– Надеюсь. Хотя, Дуг, дело в том, ты ведь знаешь, как я люблю совмещать, потому что мне нужно много, ты ведь знаешь, потому что я немножко…
– Слишком сексуальная?
– Мне кажется, да. Словом, Гилберт не одобряет того, что я люблю совмещать. Считает это декадансом. Он утверждает, безотносительно, с ним я или нет, что все равно не изменит на этот счет своего мнения, и я ему верю. И даже, по сути дела, с ним согласна. Поэтому наша помолвка продлится три месяца, и, если за это время я ни с кем его не совмещу или не буду чересчур страдать без совмещения, тогда мы с ним поженимся.
– Понятно.
Я опять помолчал, потом произнес, как мог наиболее сердечно:
– Надо полагать, эти ребята в своем деле большие мастера, ведь так? Ведь у них, должно быть, прямо скажем, есть чем…
За все время наших взаимоотношений Вивьен смеялась довольно часто, но в основном, как мне казалось, по причине веселого настроения или же в ответ на какую-нибудь шутку с бородой, в кино и так далее; теперь ее смех звучал совсем иначе:
– Подумать только, ты заговорил об этих вещах! Нет, это многих интересует. Девушек, например. Гилберт утверждает, что за ним увивается целая туча, потому что догадываются, что… ну, ты понимаешь. Если хочешь знать, – покраснев, она уставилась в свою кофейную чашечку, тихонько хихикнув, – у него точно такой, как у тебя, только черный!
Я отсчитал официантке деньги.
– Ну, если так, могла б помолвиться и со мной!
– Могла бы, только ты мне ни разу не предложил, и я всегда знала, что ты этого никогда не сделаешь. Наверное, я и к отцу тебя водила для того, чтобы навести на эту мысль. Хотя ведь у тебя есть Пенни, правда? Гилберт мне все про это рассказал. Он от нее ушел, можешь занять его место. Или она займет мое.
Я молча обдумывал ее слова. Техническая перестановка и с той и с другой стороны, безусловно, исключалась; перспектива некоего романа с Пенни казалась мне привлекательной, но какой-то несообразной, как будто мне кто-то бесплатно предлагал роскошную новую стереосистему.
– Гилберт считает это отличной идеей. Ему не хочется, чтобы она оставалась совершенно одна. Его очень беспокоит ее судьба.
– Видно, не слишком, раз он способен ее бросить!
– Ну, это же не прямо сейчас! Просто он считает, что ты сможешь ее потом слегка утешить. Мне пора, Дуг!
После этих завершающих холодных фраз ее поведение на улице снова сделалось значительно теплее. Вивьен взяла меня под руку.
– Завтра к шести папа пригласил кое-кого из друзей и соседей, нечто вроде неофициального торжества и помолвки. И торжество неофициальное, и помолвка. Ты смог бы прийти?
– Да зачем я вам там нужен, тебе и Гилберту?
– Ну как же! Мне – потому что мы с тобой не чужие, а ему – потому что, как он считает, он перед тобой очень виноват.
– Виноват передо мной?
– Ну как же, ведь он увел у тебя девушку, разве не так?
Я увидел перед собой ее ясные карие глаза и плотно сжатые губы.
– Ну да, ну да, виноват! Но скажи ему, что я не сержусь.
Мы остановились на краю тротуара как раз через дорогу от ее конторы, оказавшись между пешеходами и движущимся транспортом.
– Так ты придешь завтра?
– Там посмотрим! – сказал я. (Посмотреть мне надо было, дома ли Пенни и можно ли с ней увидеться завтра вечером, когда в результате посещения этого неофициального торжества и т. п. я смог бы оказаться почти на полпути к ней по линии метро «Норт-Вестерн».) – Если смогу, зайду.
– Так не забудь! Не беспокойся, я сама перейду через дорогу: давай простимся тут. Разумеется, я не имею в виду окончательно, а… ну ты понимаешь!
– Ну да, разумеется!
– Спасибо, что ты всегда был такой милый!
– Да какой уж там милый!
– Не спорь! Спасибо за все, что ты мне сейчас не сказал и чем не испортил мне настроение! Слыхал бы ты, что наговорил мне тот тип, который с бородой. Сам был в кусках, и я в кусках! Думаю, ты можешь себе представить!
– Думаю, что да.
Мы обнялись и на ходу поцеловались. Она отвернулась, и выражения ее глаз я не видел, но рот ее утратил прежнюю жесткость. Ее фигурка, подтянутая в форме оливкового цвета и обретшая силу, которой я прежде в ней не замечал, уверенно двинулась к противоположному тротуару, после чего, поспешно махнув мне от подъезда рукой, Вивьен скрылась в здании.
Я вернулся к себе домой и написал то, что полагалось для газеты: половину материала – о новой, готовящейся к постановке опере, половину, причем более объемную, – об «Элевациях № 9».
Глава 10
Теперь все свободны
– Неужели все было так ужасно, как вы пишете? – спросил Гарольд.
– Ну да! Просто хуже не придумаешь. Я уж не говорю о том, как он использовал классику, чтобы…
– Насколько мне известно, все прочие отзывы исключительно благоприятные.
– Вовсе нет! Сегодняшний «Хранитель» весьма зло прошелся насчет случившегося.
Гарольд перевел свой взгляд с моей рукописи на еще какой-то машинописный текст, лежавший рядом с ней у него на столе:
– «По поводу этого образчика… попсовой музыки, за которую юнцы голосуют руками и ногами, и только лишь из чувства профессионального долга я не стану вдаваться в подробности… мешанина стилей никогда не приводит к сенсации… сидение разом на трех стульях». Так пишет этот юноша Болсовер.
– Я знаю, он был…
– Я специально направил туда вас двоих, чтобы отразить одно событие с двух различных точек зрения, а получилось, что вы оба придерживаетесь одного и того же мнения.
– Это не совсем так. Мы, исходя из различных точек зрения, решили независимо друг от друга и по разным причинам, что никакой ценности это произведение не представляет.
– Но это мнение расходится с общей оценкой! Мы уже беседовали как-то с вами об опасностях излишнего оригинальничанья. Независимость независимостью, но неужели нельзя найти здесь некий компромисс? Скажем, в смысле техники исполнения или чего-либо еще в этом роде?
– Нельзя же говорить о технике в отрыве… Нет, Гарольд, не думаю, что вам и Терри удастся убедить что-нибудь изменить!
– Ладно, ладно!
– Ведь вы же его не выносите! Я имею в виду Роя.
– Я главный редактор газеты! Кстати, как он?
– Сегодня его должны выписать из больницы.
– Весьма прискорбно это слышать. Уж если врачи занялись его мозгами, должны были их ему вправить! И все же, в целом, дурь ему слегка повыбило.
Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства я ощутил в голосе Гарольда некоторую теплоту, и, тут уж действительно впервые, он задержал свой взгляд непосредственно на мне. Кажется, приподнялась завеса над очередной крохотной тайной: я был включен тогда в список приглашенных на званый обед в клуб «Траншея» вовсе не случайно, а вполне намеренно, чтобы мог лицезреть собственными глазами поражение своего приятеля.
– Вы его совсем не знаете, – сказал я. – Вам не…
– Единственное, что вы можете для меня сделать, – Гарольд снова втиснулся в свою глухую раковину, – так как я не желаю иметь с ним никаких отношений, скажите ему, что он победил. Больше я ни во что не вмешиваюсь.
Я стоял и ждал, имея все основания надеяться, что Гарольд в своей обычной манере устного потока сознания отметит-таки, что мое любопытство удовлетворено.
– То, что произошло, оказалось почище, чем статейка, которую я грозился напечатать. Должно быть, тут они вдвоем потрудились. Ни одна газета не взялась бы это печатать, а «Проныра Том» – это не газета? Помните, что они в прошлом году устроили тому актеру, причем тот не получил с них ни гроша? Даже если вы выиграете, им нечем с вами расплачиваться. Можете искать себе другое место.
– Ну да, могу себе представить, – сказал я, восприняв последние слова как легкое обобщенное выражение всяческих мытарств, связанных с попыткой возбудить тяжбу против «Проныры Тома».
– Нет, вы не поняли! Это вы… ищите себе другое место!
– Ах так!
– Я вам выпишу чек на месячный оклад и вышлю на ваш адрес.
– Благодарю! Ну вот и еще один удачный способ досадить Рою. Хотя и не слишком удачный.
– Лучше, чем ничего. Но это еще не все. Всему свое время. Мне ваша писанина не требуется. Как вам известно, я с самого начала был против вашего зачисления к нам в газету.
– Нет, Гарольд, впервые слышу! Вы уверяли, что как раз ваша была идея!
– Чушь, вам это приснилось! Итак, всего наилучшего!
Придя в редакцию, я поделился с Коутсом и Болсовером своими новостями.
– Как дерьмо он настолько многогранен, что остается только снять шляпу перед его изобретательностью! – припечатал Коутс.
– Да, увольнять одновременно и меня ему уже как бы не так интересно, – заметил Болсовер. – Скажите, Дуг, вам он здорово подгадил?
– Ни в малейшей степени! Вполне могу переключиться на небольшую колонку в «Дисках и слушателях». И еще у меня контакты с фирмой «Бранденбург Рекорде». Хотя все-таки противно.
– Пошли-ка в «Руно», угощаю пивом! – предложил Коутс.
– Я уж и так вам должен. И не один раз.
– Присоединюсь к вам, как только будет одобрен мой материал, – сказал Болсовер.
– Я все сделал как надо тогда вечером? – спросил меня Коутс в зале «Руна».
– Все отлично! Благодаря вам мне как раз хватило на все времени.
– Я боялся, он догадается, что это розыгрыш, и повесит трубку. Ну, и как у вас все потом образовалось с вашей затеей?
– Все прошло, как было задумано.
– Так это же просто замечательно!
– В какой-то степени можно сказать, что да.
Домой я вернулся примерно к трем часам, порядком накачавшись пивом с сосисками, и уселся играть «Вариации» Брамса – Генделя. После одного-двух фальстартов исполнил произведение в стремительном темпе и с большим чувством, хотя и непривычно часто для себя попадая мимо нот. «Ладно-ладно, – думал я, погружаясь в дремоту на своей кушетке, – Шнабель[11] в свое время еще не так мазал». К пяти я уже выпил чаю с тостом, принял ванну и приоделся, и наконец после долгого пути быстрым шагом, поездки в метро, а потом еще пути покороче быстрым шагом я оказался у дома Коупса в самом начале седьмого.
Мистер Коупс собственной персоной, обряженный в пиджак в розово-белую полоску, вызывавший в памяти допотопные музыкальные комедии из сельской жизни, встретил меня и препроводил в свой кабинет. Там уже маячило около дюжины гостей выше среднего возраста, некий грубоватый подбор типажей, державших в руках бокалы с каким-то непонятного вида питьем. Я заметил Гилберта, беседовавшего лицом к лицу с жестикулирующим служителем Церкви. Потом из-за чьей-то спины вынырнула Вивьен, одарила меня сестринским поцелуем и представила своему (старшему) брату с невесткой, их я сразу узнал по фотографиям, а также какой-то молчаливой толстухе, по-видимому тетке. Вивьен немедленно снова куда-то скрылась, и ее место занял мистер Коупс, вручивший мне небольшой стаканчик, наполненный жидкостью, от которой я мысленно попытался с некоторым успехом отогнать сходство с анализом мочи, взятым у тяжелобольного. Подошел мистер Коупс в сопровождении человека, которого по виду вполне можно было принять за исполненную шаржистом левой ориентации карикатуру на отставного майора и которого действительно кто-то назвал «майор».
– Интересно, Дуг, что вы скажете! Это в какой-то степени мое личное изобретение.
Под немыми взглядами пяти присутствовавших я, упредив буквально на долю секунды ожидаемые прожекторы и барабанный бой, принял в себя содержимое стаканчика. Жидкость оказалась одновременно и сладкой, и горькой, и эти два ощущения ни в малейшей мере не сливались воедино, и был в ней некий сильный привкус чего-то, даже отдаленно не напоминавший ни один из известных мне напитков, какая-то смесь жареных каштанов с камфарой, при этом напиток слегка пузырился и был тепловат на вкус.
– Любопытно, – произнес я.
– Любопытно? До ужаса лаконичное словцо, не так ли? Сегодня мы бродили по этнографическому музею; было очень любопытно. Шампанское из Испании, «Ангостура» и что-то в этом роде, плохо помню. Так вот, по-моему, «любопытно» – это именно то самое слово. Видали, как выступал на днях тот тип из Замбии, а? Или из Малавии…
Поскольку мистер Коупс смотрел на меня, пришлось ответить мне:
– Нет, кажется, не видел.
– Вот-вот, уверяю вас! Наш премьер-министр был хуже Гитлера! Клянусь! Это наш-то премьер-министр!
– Да, но надо же было ему это сказать, – вставил Коупс-младший, – про внутреннее потребление! Не стоит воспринимать все так серьезно.
– Мы с Южной Африкой замышляем массовое уничтожение черного населения Африки!
– Вот-вот, давно бы так! – произнес майор на кокни с таким немыслимым привыванием, что даже мне тут же захотелось спросить название полка, в котором он служил.
– Нет, вы шутите! – воскликнул Коупс-младший.
– Да какие тут, черт побери, шутки, парень! Обезьяны они, обезьяны и есть!
– Вы уж извините нашего майора, – сказал мистер Коупс, – он у нас немножко реакционер! Лично я считаю, что самое большее, что мы себе можем позволить, это ввести туда опять свои войска и превратить их снова в колонии. И, знаете ли, они нам за это спасибо скажут! Я исхожу исключительно из их собственных интересов. Наш майор иного мнения. Скажите, Дуг, вы бы свою дочь за чернокожего отдали?
– Отдал бы, если бы ей захотелось.
– Вот, в этом-то вся и соль!
– Уж я бы, если б у меня была дочь, – буркнул майор, – скорей заставил бы ее корову грамоте учить!
– Ну-ну, майор! – Мистер Коупс поднес было свой бокал к губам, но снова быстро опустил вниз. – Ну что вы, что вы, тут спорить глупо, верно? В наши дни детей не остановишь. Хотя все же кое-какие методы воздействия еще имеются. Но не для меня. Я определенно хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за чернокожего – кстати, он сейчас здесь, – и скажу вам почему!
– Послушай, папа, может быть, в другой раз?…
– Я могу повторить это многократно, детка! Я уже высказал свое мнение Гилберту. Вот как я рассудил. Дочь моя действительно так решила, так как она достаточно умна, чтобы предвидеть всякие осложнения, и так как она всегда отлично ладила и со мной, и со своими братьями, и вообще, и так как она никогда своим родным не пеняла, что имеет то, что имеет. А значит, она приняла решение не просто чтоб мне что-то доказать, или, как утверждает майор, чему-то научить, или просто всем назло. То есть я хочу сказать, что она не демонстративно так поступает. И этого мне вполне достаточно. А теперь прошу меня извинить, примусь наполнять наши кубки!
Его порыв был, по-видимому, неоправдан, если иметь в виду, что все бокалы в поле зрения были полны по крайней мере на три четверти, и все же, взявшись за глиняный кувшин, мистер Коупс принялся за дело. Налитые кровью глаза майора сверкнули на меня. Произведя неторопливые подергивания головой и плечами, он проблеял:
– Видите ли, я не то чтобы из вредности наседаю на этого малого. Дело в том, что с этим народцем у меня связано немало бед. Помнится, я однажды…
Безупречно вовремя уловив ситуацию, что завидно отличало ее от всех известных мне женщин, Вивьен подошла ко мне как раз в этот момент и, взяв под руку, увлекла к двум своим молоденьким сослуживицам. Это было весьма кстати, чего нельзя было сказать о внезапном их, всех трех, устремлении к трем особам из разряда тетушек, хотя последующее появление машущего руками священнослужителя, который махал руками и когда слушал (при этом ничего не говоря), и когда говорил сам, слегка изменило ситуацию. Выдержав его общество минуты три, я высвободился, распрощался с мистером Коупсом и увлек Вивьен в уголок под портрет Гайдна.
– Вив, я пошел!
– Но ведь ты только что приехал, мы даже не сумели с тобой… Ладно, я тебя провожу! Подожди секундочку!
Когда мы с ней вышли на крыльцо, к нам присоединился и Гилберт. Теперь я уже не заметил и следа небрежности в его одежде, характерной для последних наших встреч: передо мной был Гилберт, каким я его увидел впервые, элегантный, подтянутый. Вместе с Вивьен в ее новом брючном костюме они, безусловно, смотрелись парочкой в самый раз для традиционного фото на память.
– Вивьен сказала, вы на меня не сердитесь, – начал Гилберт, – и все же я должен вам выразить свою глубокую признательность. Мне хотелось об этом вам сказать.
– Благодарю, только, право, не…
– Видите ли, если б не вы, мы бы с ней не встретились. Кроме того, вы приняли столько участия в судьбе моих друзей Вандервейнов.
– Боюсь, без особого успеха.
– Так или иначе, вы были им во многом поддержкой. Если хотя бы сможете помочь Пенни, это удвоит мое чувство благодарности к вам. Быть может, будете сообщать мне, как там' она.
– Да-да, разумеется!
– Непременно навещайте нас, когда мы окончательно устроимся. Всего хорошего, до скорого, Дуглас!
– Да-да, всего хорошего, Гилберт!
Мы пожали друг другу руки, затем без всякой поспешности или колебания Гилберт повернулся и исчез в глубине дома. Вивьен смотрела на меня молча, растирая между большим и указательным пальцем головку цветка лаванды, сорванную ею среди кустов, росших вдоль стены.
– Что же это он не привел сегодня никого из своих, гм, приятелей? – спросил я просто так.
– Сказал, что трудно выбрать таких, кто умеет бы себя пристойно вести. – Голос Вивьен звучал так же равнодушно, как и мой. – Понимаешь, он не хочет мусолить тему расовых барьеров и всего такого прочего. В этом смысле он сильно изменился.
– Неужели?
– Знаешь, Дуг… когда я тебе рассказала вчера про него и ты при этом не устроил мне сцены, не стал ничего изображать, я тогда сказала, какой ты милый… в общем, действительно, это было так мило с твоей стороны, но, видимо, это оттого, что тебе все до ужаса безразлично, верно? Ну да, конечно, я тебе нравилась и все такое прочее, и ты сам видишь, что я не злюсь и не огорчена, просто я хочу знать правду. Ты не настолько был в меня влюблен, чтобы попытаться меня удержать, да?
– Я был очень огорчен, что нам приходится расставаться, я и по-прежнему…
– И все-таки?
– Что тут поделать, только не думаю, что надо разубеждать человека, если он решил.
– Потому что каждый всегда знает сам, что ему нужно, и не хочет, чтобы другие навязывали ему свое мнение? Я тоже так думала. – Вивьен сорвала еще один цветок лаванды. – Ты ведь сейчас к Пенни едешь, да?
– Да.
– Как ты думаешь, сумеешь, как Гилберт просил, помочь ей?
– Не знаю.
– Ты, конечно, можешь наплевать на то, что я тебе сейчас скажу, Дуг, только если ты и в самом деле хочешь помочь кому-нибудь выбраться из тяжелого положения или просто вообще хочешь кому-нибудь помочь, ты должен обязательно что-нибудь делать, принять близко к сердцу, какое-то время только об этом и думать, ну да, ни о чем другом, чтоб это стало для тебя самым главным, пока все не образуется или не убедишься, что совсем ничего нельзя поделать.
– Гилберт и впрямь пытался как-то помочь Пенни и, судя по всему, успеха так и не добился.
– Это верно, но я и не говорю, что всегда, когда по-настоящему пытаешься, все обязательно получится. Просто хочу сказать: если не пытаться, ничего и не будет. Он, по крайней мере, хотя бы пытался.
– Несомненно!
– Ты уж прости, но я только о тебе все последнее время и думаю, наверное, это ужасно? Какое счастье, что ты не устроил мне никакой сцены, и одновременно – какое разочарование! Просто такой ты с женщинами, верно? А теперь уходи – мне надо возвращаться к гостям. Возможно, позвоню тебе через пару недель.
Мы снова дружески обнялись и расстались. Тема насчет помощи или отсутствия помощи близким упала в благодатную почву. В разное время ко мне за помощью обращались Рой, Китти, Пенни и Гилберт. Количество предоставленной мною помощи – нуль. Единственная с моей стороны результативная помощь состояла в убеждении Терри Болсовера по телефону, что в его статье по поводу «Элеваций № 9» нет музыковедческих ляпсусов. С другой стороны, а вероятней всего, все с той же, я прямо-таки не мог отцепиться от самопровозглашенного принципа не разубеждать людей делать то, что им хочется. Исключение: задержание на пару минут профессионального и публичного посрамления Роя.
Эти и подобные же невеселые рассуждения переполняли меня до тех пор, пока я не вынырнул из тьмы «Норт-Вестерн-Лайн» наверх, в тихие и безмятежные сумерки, и немедленно накатило чувство тревоги и легкого возбуждения перед мыслью о встрече с Пенни. К тому времени, как я проходил вдоль пруда, над которым кружил ястреб, еще более сильное возбуждение начисто вытеснило чувство тревоги. Миновав высокие, в мой йенделльский рост, заросли крапивы, я вошел во двор. Через мгновение из кухни послышался лай Пышки-Кубышки.
Я прошел в дом через застекленную веранду и увидел шедшую мне навстречу Пенни. На ней было алое хлопчатое платье без всякого намека на стиль или моду, и она была явно очень и очень рада видеть меня, хотя и казалась несколько усталой. Я поцеловал Пенни, услышав при этом какие-то странные звуки, приближающиеся из кухни. Они знаменовали появление Пышки-Кубышки, передвигавшейся не в обычном своем темпе, а с трудом и на трех лапах. Задняя с наложенным на нее эластичным, кажется, бинтом как-то странно торчала вбок и на заду белели полоски пластыря. Псина приподнялась, обнюхала меня и вовсю завиляла хвостом.
– Что с ней такое?
– Что-то сломалось или сместилось. Сама точно не знаю.
– Но это поправимо?
– Врач сказал, насчет лапы вряд ли. Теперь так и будет скакать на трех.
– Как это произошло?
– Наверное, Эшли… Меня тогда не было дома, должно быть, он пнул ее ногой. Заявил, что пыталась его куснуть.
– Она в жизни никого не укусила!
Я присел на корточки и погладил шелковистую головку собаки, чувствуя себя так, будто что-то гнетущее вторглось ко мне посреди моей жизни и помыслов, что-то исключительно важное, непоправимое, словно много лет назад я принял фатальное, ошибочное решение и только теперь понял, сколько бед оно мне принесло.
– Она уже такая старенькая! – как бы в утешение проговорила Пенни.
– Ну да, да…
– Не надо винить Эшли!
– Как это, не надо! А уж родителей его надо тем более! Кстати, где он сам? Судя по всему, отсутствует?
– Да. Китти увезла его на несколько дней.
– В сопровождении двух десантников-отставников из морской пехоты?
– В сопровождении няньки; они отправились погостить у подруги Китти, у той восьмилетняя дочка и тоже нянька. Это рядом с Брайтоном.
– Четверо против двоих! Пожалуй, им надо бы следить, чтобы животные там калечились с разумной частотой. Хотя бы по одному в сутки.
– Прекрати! Хочешь выпить?
– Да-да, пожалуйста! А Рой об этом знает?
– Тебе скотч с водой?
– С водой! Рой об этом знает?
– Знает, он ужасно огорчился и устроил Эшли страшный нагоняй.
– И этим все кончилось!
– Ведь ты же знаешь, что папочка и Китти стоят насмерть против рукоприкладства в отношении детей!
– Как же, как же! Еще кто-нибудь есть в доме? Кристофер, его девушка?
– Уехали в Нортэмптон.
Мы направились по коридору, уставленному штабелями картонных коробок, пересекли холл, где я увидел гору старых газет и еще одну гору, побольше, по-видимому из старых игрушек, и прошли в гостиную. Тут все оказалось на удивление в полном порядке, хотя по виду нельзя было сказать, что все пребывает в неприкосновенности. Я заметил что-то на этот счет Пенни, когда она принесла мне мой бокал.
– Просто я живу здесь, – ответила она. – Здесь и у себя в спальне. Все остальные комнаты мне как бы и не нужны. Правда, за исключением кухни. Я даже вполне управляюсь одна.
– Неужели тебе одной в этом доме не одиноко?
– Нет, нисколько. Мне нравится. Я совершенно никуда не выхожу: тут у меня столько дел. Я знаю, надо бы навестить папу в больнице, но, когда позвонила, мне сказали, что у него все в порядке, наверное, это ужасно, но ведь его довольно скоро выпишут, а у меня было столько дел, вот я и не пошла. Я думаю, ты его навещал?
– Навещал. У него все в порядке, по крайней мере в смысле здоровья. А чем ты все время занята?
– Ах, да так… – Она как-то искоса, смутившись, взглянула на меня. – Читаю и… много всяких дел.
Я заметил на столе рядом с пустой пепельницей и вазой со свежесрезанными розами тоненькую брошюрку знакомого мне формата. Я вскоре разглядел, что это изданная Би-би-си книжечка Дениса Мэтьюза о фортепианных сонатах Бетховена. И потом увидел, что первый том этих самых сонат стоит на пюпитре рояля и открыт на менуэте № 1. И тут же, хотя и с явным запозданием, спросил:
– Что случилось?
– Ты о чем?
– Даже с твоей речью. С твоим выговором. Ты и держишься совсем иначе. Может, ты влюбилась, в чем дело?
Пенни рассмеялась: и смех был какой-то другой, без всякого намека на сарказм.
– Да нет, не в том дело! Это как-то не в моем духе.
– Тогда в чем же? Ты теперь такая умиротворенная. Счастливая.
– Да, так оно и есть. Все очень просто. Прибегла к сильному средству.
– Ты имеешь в виду алкоголь?
– Нет, Дуглас. Наркотик.
– Неужели героин?
– О, не надо так пугаться! Ну да, именно он. Ты даже не представляешь себе, что это такое. Собственно, можешь посмотреть на меня и убедиться.
– Но тому, кто употребляет героин, останется жить не больше двух лет! Так сказал один мой знакомый доктор.
– Это-то самое в нем и привлекательное! Ничто не длится вечно, в том числе и вся эта ужасная морока с браком, рождением детей, с воспитанием. Никто от тебя ничего не ждет.
– А как же Бетховен? Ведь он вечен!
– Я этого уже не узнаю. Я никогда не буду пригодна для этой жизни. Всегда надо знать свой потолок. Свой я определила и потому могу устроить свою жизнь соответственно. Немногим такое удается.
– Пенни, иди наверх, собери чемодан и едем ко мне, позволь мне о тебе заботиться!
Она рассмеялась снова:
– Помнишь, я тебе однажды сказала, что никто меня не способен выдержать? Во всяком случае, я это помню! Это единственное, что во мне не изменилось. И тебе с этим не справиться. Спасибо за приглашение, но ты ведь не огорчишься, правда? Ты ведь не думаешь, что сможешь то, чего не смог Гилберт?
Я уставился под ноги на свежевычищенный пылесосом ковер:
– Твой отец знает?
– Не думаю. Пожалуй, со временем ему станет известно. Но и он тоже ничего не сможет изменить. Зачем ему? У него теперь своя жизнь. Знаешь, Дуглас, то, что он ушел к этой девице, один из лучших поступков в его жизни. Для всех, не только для него. Теперь мы все свободны.