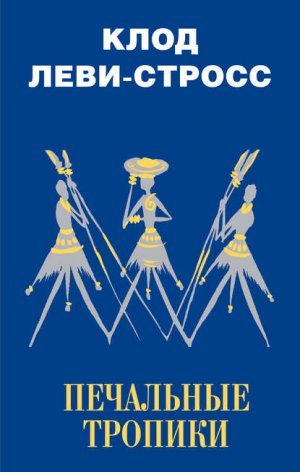
Книга, которую Вы только что открыли, впервые вышла в свет во Франции почти тридцать лет назад, но до сих пор не утратила интереса для самых разных групп читателей. Тому, чье внимание она привлечет, надо иметь в виду, что перед ним не полное, а значительно сокращенное издание сочинения Клода Леви-Строса. Дело в том, что его автор не только этнограф-индеанист, но и теоретик, создатель так называемой французской школы структурализма.
Редакции географической литературы издательства «Мысль», исходя из своего профиля и учитывая интерес традиционного круга их читателей, публикуют главным образом те главы книги «Печальные тропики», которые носят географический или этнографический характер. Живо и непринужденно рассказывает в них автор о городах, сельских местностях и природе Бразилии. Большое место в книге занимают описания нескольких племен бразильских индейцев (кадиувеу, бороро, намбиквара, тупи-кавахиб), изучавшихся Леви-Стросом в годы, непосредственно предшествовавшие началу второй мировой войны.
Многое из увиденного произвело на него грустное впечатление, печальным показалось будущее индейцев, и сама книга получила название «Печальные тропики». Она принадлежит к этнографической классике и до сих пор часто упоминается в работах по латино-американистике и теории этнографической науки.
Думается, что это произведение, впервые выходящее в русском переводе, с интересом и пользой прочтут не только географы и этнографы, но и все, кому хотелось бы знать, каким был Южно-Американский континент несколько десятилетий назад, как жило его население, особенно коренное. В конце 30-х годов Леви-Строс был профессором университета в городе Сан-Паулу. Этнографические материалы, собранные им в 1935–1938 годах, легли в основу не только «Печальных тропиков», но и многих его сугубо научных работ.
Можно только удивляться, какой огромный фактический материал сумел собрать Леви-Строс во время своих в общем-то недолгих полевых исследований. Вот некоторые из опубликованных им на их основе статей и книг: «Война и торговля у индейцев Южной Америки» (1942 г.), «О некоторых чертах сходства в структуре языков чибча и намбиквара» (1948 г.), цикл работ, посвященных индейцам тупи-кавахиб, намбиквара, правобережья реки Гуапоре, верховьев реки Шингу в многотомном справочнике по южноамериканским индейцам (1948 г.), «Семейная и социальная жизнь индейцев намбиквара» (1948 г.).
Перечислены лишь работы, непосредственно касающиеся отдельных групп южноамериканских индейцев. Но едва ли не еще более широко материалы об индейцах, особенно по их мифологии, используются Леви-Стросом в его теоретических сочинениях, таких, как четырехтомник «Мифологические», включающий тома «Сырое и вареное», «От меда к пеплу», «Происхождение застольных манер», «Голый человек» (1964–1971 гг.).
Первую из этих книг известный бразильский этнограф Герберт Бальдус назвал самым глубоким и полным анализом мифологии индейцев Бразилии. Мифы южноамериканских индейцев и этнографические материалы о них Леви-Строс широко привлекает и в других произведениях общего характера, в основном для того, чтобы подкрепить доминирующую в его теоретических построениях идею противопоставления природы и культуры, не забывает он этой темы и в «Печальных тропиках», тесно связывая ее с характеристикой структуры индейских обществ, с представлениями самих индейцев о жизни, о мироздании.
Вообще надо заметить, что теоретические воззрения Леви-Строса ощущаются во многих местах книги, и прежде всего там, где он обращается к социальной организации тех или иных индейских племен. Главное для автора — формальная структура взаимоотношений, неизменная и существующая как бы вне истории. Анализируя ее, Леви-Строс не раз на протяжении книги описывает доклассовые общества индейцев, например мбайя-гуайкуру, и при этом пользуется категориями классового феодального общества. Мы читаем о королях и королевах, сеньорах и крепостных у индейцев, находившихся на первобытнообщинном уровне!
С такой интерпретацией индейских обществ не могут согласиться не только представители марксистской школы в этнографии. По сути дела ее не принимает никто из современных индеанистов. Самое ценное в книге — факты о жизни бразильских индейцев в годы, предшествовавшие второй мировой войне.
С той далекой поры в Бразилии многое изменилось. В послевоенные годы и вплоть до недавнего времени страна переживала период быстрого экономического развития. Валовой национальный продукт рос в среднем на 6 % в год. Благодаря высокой рождаемости стремительно увеличивалась и численность населения. С 1940 по 1980 год она возросла втрое — с 40 миллионов до 120 миллионов человек (в округленных цифрах).
В результате этого примерно со второй половины 60-х годов в Бразилии резко возрос интерес к экономическому освоению и заселению мигрантами из других частей страны ранее слабо освоенных северных и западных территорий, именно тех, которые служили убежищем для остатков некогда многочисленного индейского населения. Дополнительным стимулом для этого, по словам бразильской печати «марша на север», стало стремление защитить национальные богатства окраинных областей от фактического захвата их иностранными, прежде всего североамериканскими, монополиями, активно действующими в Амазонии в последние десятилетия.
Чтобы связать эту область с остальной частью Бразилии, были построены и строятся сейчас многие тысячи километров, автомобильных дорог. Они проходят по землям, на которых живут или жили к началу строительства свыше 30 индейских племен, и среди них — упоминаемые в «Печальных тропиках» намбиквара. По обе стороны каждой дороги выделяются широкие стокилометровые зоны для сельскохозяйственной колонизации. Крупнейшая из дорог — Трансамазонская магистраль «разрезала» территорию племени намбиквара, нарушив межплеменные связи.
Строительство дорог сопровождается созданием крупных про-: М'ышленных и сельскохозяйственных (особенно скотоводческих) комплексов в Серра-дос-Каражас между реками Шикгу и Арагуая, в Рондонии, Мату-Гросу и других северных и западных штатах и федеральных территориях. Коренное население насильственно переселяется из районов, предназначенных для экономического освоения, на земли, малопригодные для ведения традиционного хозяйства или принадлежащие другим племенам. Более того, и в первой половине XX века, и в последние десятилетия было известно немало случаев прямого истребления индейских племен бандами наемных убийц, состоящими на службе крупных скотоводов, различных колонизационных обществ и т. д.
Как отмечал в одной из своих работ известный бразильский этнограф и прогрессивный общественный деятель Дарси Рибейро, в первые годы XX века на индейцев, противившихся захвату их земель, охотились как на диких зверей. Целые племена уничтожались бандами профессиональных охотников на индейцев. Эти банды находились на жалованье у правительств штатов или различных колонизационных обществ. Еще более драматичным, по мнению названного исследователя, было положение племен, находившихся в «мирном сосуществовании» с бразильским обществом. Уже не способные защитить себя, они подвергались всякого рода насилиям. Их сгоняли с земли, если она представляла малейшую экономическую ценность, принудительно и практически бесплатно заставляли работать на латифундистов и других представителей бразильского капитализма и т. п. Вопиющие факты геноцида отмечались и относительно недавно. Например, в Мату-Гросу в 60-х годах было убито большое число индейцев бороро, в Пара — кайяпо. В тот же период избиения индейцев неоднократно устраивались и в Рондонии.
Жизни многих индейцев были унесены эпидемиями болезней, занесенных пришлым населением. В результате всего этого численность коренного населения Бразилии резко сократилась. По некоторым оценкам, в текущем столетии она снизилась в несколько раз и в настоящее время едва ли достигает более 150 тысяч человек.
Целый ряд индейских племен, и среди них упоминаемые в книге Леви-Строса тупинамба, обитавшие на атлантическом побережье Бразилии, исчезли с лица земли. Потому-то так ценны наблюдения Леви-Строса, проведенные в годы, когда культура бороро или намбиквара была гораздо меньше затронута внешними влияниями, чем теперь.
«Печальные тропики» Леви-Строса не научно-популярное, а научно-художественное произведение. Поэтому в нем, естественно, нет общей характеристики индейского населения Бразилии, нет и систематизированного рассказа о его судьбе. Между тем знакомство с ними позволило бы лучше оценить приводимые Леви-Стросом этнографические описания, представить себе общую картину жизни и истории бразильских индейцев. Тем читателям, которые разделяют это мнение, мы адресуем своего рода введение в этнографический мир Бразилии.
Распадаясь по своей языковой принадлежности на группы родственных племен, индейцы Бразилии в XIX–XX веках расселялись по территории страны в основном следующим образом. Ара-ваки образовывали (и образуют) наиболее компактную однородную группу на северо-западе Амазонии, по берегам рек Риу-Негру, Япура и Путумайо. Карибы живут главным образом к северу от Амазонки и к востоку от Риу-Негру, а тупи-гуарани занимают область к югу от этой реки. В прошлом они жили вдоль всего атлантического побережья Бразилии. Племена языковой семьи жес живут в бассейне рек Токантинс — Шингу на севере страны и в бассейне рек Тиете — Уругвай на юге, мбайя-гуайкуру расселены на западе Бразилии вблизи границы с Парагваем, пано обитают на юго-западных притоках Амазонки — Укаяли, Жавари, Журуа.
Есть и более мелкие языковые семьи, такие, как тукано, яноама и другие. Отдельные индейские языки остаются неклассифицированными или определяются как изолированные.
Основой традиционного хозяйства большинства индейцев Бразилии является подсечно-переложное земледелие в сочетании с рыболовством, охотой и собирательством. Важнейшие возделываемые ими сельскохозяйственные культуры — маниок, кукуруза, тыква, в некоторых районах — бананы. В настоящее время ведение традиционного хозяйства во многих районах страны дополняется работой по найму.
По территориальному размещению, некоторым особенностям культуры и степени затронутости европейским влиянием современн ных индейцев Бразилии принято объединять в несколько этнокультурных ареалов.
Индейские племена, живущие к северу от реки Амазонки, включаются исследователями в североамазонский ареал. В целом для индейцев этого ареала типичны высокая степень аккультурации (взаимовлияния культур различных племен) и, как следствие этого, значительная схожесть культур. Чаще всего однотипна и их традиционная социальная организация.
Почти все индейцы ареала, за исключением племен крайнего запада, живут небольшими соседско-семейными общинами, насчитывающими обычно не более 60–80 членов каждая. На западе ареала существуют или существовали в недавнем прошлом родовые общины.
Значительная часть индейцев ареала живет вне зоны интенсивной капиталистической колонизации. Некоторые племена на севере штата Пара избегают любых контактов с неиндейским населением. По уровню сохранения самобытной культуры североамазонский ареал подразделяется на несколько подареалов. Так, один из них совпадает с федеральной территорией Амапа, областью интенсивной капиталистической колонизации. Большинство живших здесь в прошлом индейских племен давно вымерли, ассимилировались или были уничтожены. Здесь сохранились лишь четыре группы индейцев: паликур, карипуна, галиби-марворно и галиби. Почти все индейцы этих групп двуязычны, и у них мало что осталось от традиционной культуры.
Другой подареал включает северную часть штата Пара, а также часть штата Амазонас и федеральной территории Рорайма до реки Риу-Бранку на западе. Живущие здесь индейские племена апарай, урукуяна, ваяна, пианакото-тирио сравнительно изолированы от влияния неиндейского населения. Многие племена подареала еще не имели с ним прямых контактов. Одно из них, племя арарау, селения которого расположены в междуречье Жатапу и Випи. Оно, как и другие подобные ему племена, в основном сохранило старую культуру и продолжает пользоваться каменными орудиями. В отдельный подареал выделяется район лесов и саванн к северу от Риу-Негру. Подавляющее большинство живущих здесь племен принадлежит к языковой семье яноама.
Кроме вышеназванных в североамазонском ареале принято выделять еще три подареала: саванны к востоку от Риу-Бранку, бассейн правых притоков Риу-Негру и, наконец, реку Путумайо. В саваннах живут таулипанг, макуши и вапишана. Они утеряли значительную часть традиционной, особенно материальной, культуры и в экономическом отношении также тесно связаны с окружающим неиндейским населением. Как правило, они нанимаются на сезонные работы. На правых притоках Риу-Негру — реках Исана и Вау-пес — обитают банива и тукано. На реке Путумайо живут тукуза, расселенные также в Перу и Колумбии.
Второй этнокультурный ареал Бразилии — Журуа — Пурус включает индейские племена или их остатки, живущие в долинах рек, впадающих в Амазонку с юга — от Пуруса на востоке до Жа-вари на западе. Индейцы этого ареала принадлежат главным образом к языковым семьям: аразакской (апурина, паумари, дани и др.) и пано (ямннава, марубо и др.). Некоторые местные племена, такие, как катукина или майо, говорят на неклассифицированных языках. Многие индейцы, живущие на глазном течении рек, заняты в местной экономике. Те же, кто обитает на мелких несудоходных реках, нередко не поддерживают связей с неиндейским населением и продолжают вести традиционное хозяйство. Третий этнокультурный ареал расположен в бассейне реки Гуа-поре. В начале XX века здесь активно велся сбор каучука. В это время, а также в последующие десятилетия были истреблены или вымерли большинство живущих здесь индейских племен. Из сохранившихся же наиболее многочисленны карипуна, намбиквара, па-каас новас. До последних лет, а именно до постройки Трансамазонской магистрали, контакты этих племен с пришлым населением были невелики ввиду малочисленности последнего.
Четвертый ареал включает территорию между реками Тапажос и Мадейра. Индейцы, живущие здесь, в большинстве своем говорят на языках тупи. Они подразделяются на племена мауэ, мунду-руку, паритинтин, апиака и др. Те из них, кто живет на севере и западе ареала, имеют постоянные экономические связи с окружающим неиндейским населением и во многом утеряли традиционную материальную культуру. Лучше сохранилась старая социальная структура. У индейцев южной и восточной частей названного ареала внешние контакты более редки, чем у их северных соседей. Пятый ареал — это область верховьев реки Шингу. Большую часть ареала занимает индейская резервация Национальный парк Шингу. Для живущих здесь индейцев камайюра, ауэто, трумаи, суйя, тшикао и других характерны большое культурное единообразие и экономическая, а также и социальная взаимозависимость между племенами, несмотря на то что они различаются по своему происхождению и языкам. У индейцев резервации искусственно сохраняются традиционная культура и социальная организация. В условиях современной Бразилии это обеспечивает им лучшее выживание, чем у тех индейских групп, чья традиционная культура насильственно разрушается в ходе капиталистической колонизации глубинных районов страны.
Бассейн нижнего и среднего течения реки Шингу, речная сеть Токантинса и Арагуаи образуют территорию шестого ареала, большая часть индейского населения которого говорит на языках семьи жес. Главным образом по языковым особенностям живущие здесь племена подразделяются на три группы: тимбира в долине Токантинса, кайяпо в долине Шингу и акуэ на крайнем юге ареала. Одни из племен ареала, например паракана, до сих пор в своем большинстве уклоняются от контактов с пришлым населением, другие, например бороро, находятся в состоянии этнического распада и социальной деградации в результате захвата пришлым населением исконных индейских земель, что лишает бороро средств к существованию и вынуждает их нищенствовать.
Индейцы седьмого ареала, занимающего бассейны рек Пиндаре и Гурупи, принадлежат к языковой семье тупи. Здесь живут тембе, аманайе, туривара, гуажа, урубус-каапор, гуажажара. В последние десятилетия наблюдался большой приток бразильских колонистов на север и юг ареала, проникновение на индейские земли сборщиков орехов. Традиционная культура более или менее полно сохраняв ется лишь у обитающих в центральной части ареала гуажа и урубус-каапор. Восьмой ареал находится в зоне степей к востоку от реки Парагвай. Здесь живут терана (араваки), кадиувеу (мбайя-гуайкуру) и гуато. Все они в значительной степени утеряли традиционную культуру и социальную организацию.
Девятый ареал — река Парана — занимает земли от южной части штата Мату-Гросу до границ Риу-Гранди-ду-Сул. Здесь живут индейцы гуарани, подразделившиеся уже в колониальную эпоху на три группы: кайюа, мбуа и нандева. Они живут вперемежку с неиндейским населением, а также с индейцами терена на западе и кай-нканг на востоке.
Десятый ареал занимает территорию между рекой Тиете на севере и Риу-Гранди-ду-Сул на юге и включает внутренние районы штатов Парана и Санта-Катарина. Это густо заселенная область, где наряду с бразильцами много неассимилированных европейских, в частности немецких и японских, иммигрантов. Индейцы этого ареала подразделяются на две близкие по культуре и языку группы — собственно кайнканг и шокленг. Они живут в резервациях, сельскохозяйственные угодья которых недостаточны, чтобы обеспечивать индейцам существование за счет собственного хозяйства. Поэтому индейцы систематически работают по найму. Из традиционной культуры они сохранили лишь отдельные обычаи, язык и племенное самосознание.
И наконец, одиннадцатый ареал находится на северо-востоке Бразилии, на территории между рекой Сан-Франсиску и Атлантическим океаном. Здесь кроме бразильского земледельческого и скотоводческого населения живут остатки различных по своему происхождению племен потигуара, шукуру, камбива, атикум, панкарару, фулнио, машакали и др. К настоящему времени почти все эти племена утратили свою территориальную целостность, и индейские селения располагаются чересполосно с деревнями неиндейского населения. Все племена ареала, кроме фулнио и машакали, утеряли свои языки и традиционную культуру. Однако окончательная ассимиляция индейцев ареала сдерживается как антииндейскими предрассудками, распространенными среди местного бразильского населения, так и различиями в социальном положении между индейцами и неиндейцами, обусловленными, в частности, наличием в названном ареале индейских резервационных земель при постах Индейского национального фонда.
То расселение индейцев, о котором мы рассказали, в известной степени отражает размещение индейских племен по территории Бразилии к началу португальской колонизации, то есть к XVI веку. Тогда коренное население насчитывало несколько миллионов человек. К нашему столетию по многим
причинам и в большой мере в результате массового уничтожения и порабощения индейцев страны европейскими завоевателями оно сократилось до 200–500 тысяч человек. Как уже говорилось, многие индейские племена в послевоенные годы вообще прекратили свое существование, а некоторые в значительной степени утратили самобытную культуру.
В начале XX века многие факты о трагическом положении индейцев выявились и стали известны бразильской общественности в результате работы так называемой телеграфной комиссии, возглавлявшейся Кандидо Мариано да Сильва Рондоном, упоминаемым Леви-Стросом. Эта комиссия, прокладывая телеграфную линию через северную часть Мату-Гросу, встретила на своем пути много индейских племен и установила с ними мирные отношения. Тем самым она опровергла широко распространенную в то время в Бразилии легенду о свирепости и кровожадности индейцев, — легенду, использовавшуюся для оправдания истребления коренного населения страны.
Отчеты комиссии привлекли внимание прогрессивных кругов бразильской общественности к судьбам коренного населения. В 1910 году Рондону при поддержке передовых кругов городского населения удалось добиться создания государственной организации «Служба защиты индейцев», которую он и возглавил. Девизом этой организации стали слова Рондона: «Умереть, если нужно, но никогда не убивать».
В начальный период деятельности «Службы зашиты индейцев», когда ею руководили люди, искренне стремившиеся облегчить участь коренного населения, этой организации удалось несколько смягчить тяжелые последствия столкновения индейцев с капиталистическим обществом. Но в то же время проводившаяся «Службой защиты» работа по «умиротворению» индейских племен глубинных районов объективно создавала предпосылки для проникновения в эти районы носителей капиталистических отношений: разного рода предпринимателей, спекулянтов землей, скотоводов, латифундистов и тому подобных, вытеснявших «умиротворенных» индейцев с их исконных земель. Таким образом, деятельность по «умиротворению» непокорных племен вне зависимости от желания тех, кто ее осуществлял, служила прежде всего интересам капиталистического освоения новых районов. Чтобы как-то уберечь индейцев от последствий этого освоения, «Служба защиты» создала более сотни своих постов в районах расселения отдельных племен. При этих постах были выделены земли (составлявшие, как правило, лишь небольшую часть прежних племенных земель) для использования их исключительно индейцами. Иногда такие резервационные земли способствовали консолидации индейских этнических общностей (например, терена, частично тукана), препятствовали их распылению и деэтнизации. Вместе с тем даже в начальный период деятельности «Службы защиты индейцев» эта организация исходила из постулата о неизбежности поглощения индейских обществ национальным. Как справедливо считает известный индеанист Кардосо де Оливейра, политика «Службы защиты индейцев» была направлена на то, чтобы подавить стремление индейских обществ к самоопределению. По существу политика защиты индейцев, осуществлявшаяся названной организацией, носила патронажный и филантропический характер. Идее миссионеров о религиозном «обращении дикарей» как пути к спасению их душ пришло на смену мнение руководства «Службы защиты», что «спасение» индейцев может быть достигнуто посредством технической эволюции их хозяйства и участием в производстве товаров, имеющих коммерческую ценность для бразильского общества. Такая тенденция привела к превращению постов «Службы защиты» в коммерческие предприятия. В результате частых смен руководства «Службы защиты» эта организация с течением времени все дальше отходила от задач защиты интересов коренного населения и все больше превращалась в послушное орудие тех бразильских кругов, которые стремились как можно быстрее очистить вновь осваиваемые земли от индейских племен. Но даже тогда, когда отдельные служащие названной организации действительно стремились защитить своих подопечных от насилий и притеснений, они по большей части ничего не могли сделать, так как «Служба защиты» не располагала ни необходимыми финансовыми средствами, ни юридическими правами для реального выполнения формально возложенных на нее функций.
В середине 60-х годов в ходе подготовки к осуществлению программы освоения глубинных районов страны, о чем уже говорилось выпе, правительство Бразилии сочло целесообразным ликвидировать маломощную и полностью дискредитировавшую себя «Службу зашиты индейцев» и создать вместо нее так называемый Индейский национальный фонд (ФУНАИ). Эта государственная организация формально должна была заботиться об индейцах, с тем чтобы в кратчайший срок превратить их в плотников, строительных рабочих и т. п. В тех же случаях, когда это невозможно или невыгодно, Индейский национальный фонд переселяет индейцев в места, не представляющие интереса для промышленного освоения или сельскохозяйственной колонизации.
Попытка быстро ассимилировать индейцев, превратив их в резерв наиболее бесправной и дешевой рабочей силы страны, совершенно нереальна. Как отмечал несколько лет назад Орландо Вилас-Боас в своем выступлении перед выпускниками университета Бразилиа, фактически те, кто призывает к быстрой ассимиляции коренного населения, видят в существовании индейцев препятствие для развития Бразилии, «темное пятно на сверкающей дороге прогресса, которое надо удалить во имя цивилизации». Однако пионерный фронт Бразилии — серингейрос, гаримпейрос, сборщики орехов, являющиеся наиболее отсталой частью населения страны, не способны ассимилировать коренное население. В южной части Бразилии, в штатах Парана, Сан-Паулу, на юге штата Мату-Гросу на постах Индейского национального фонда живут индейцы кадиувеу, гуарани, кайнканг, давно вовлеченные в национальную экономику, но никто из них не ассимилировался полностью. Все названные племена сохраняют самосознание, язык и остатки традиционной культуры, но они не счастливее своих предков. Терпя неудачу в попытках быстро ассимилировать индейцев, ФУНАИ стремится максимально использовать их как рабочую силу и в результате превратился в государственную организацию по эксплуатации индейцев. При этом для индейцев, работающих на Индейский национальный фонд, предусмотрена минимальная, установленная для данного района Бразилии заработная плата, но и ею они не могут распорядиться сами. Все покупки контролируются, по крайней мере официально, служащими ФУНАИ. В его пользу также отчисляется существенная часть от любых доходов индейцев резерваций. Это так называемая рента индихена, которая формально должна составлять 10 процентов от доходов индейцев, а фактически значительно превышает эту долю. Даже такие благожелательно относящиеся к деятельности ФУНАИ исследователи, как Э. Брукс, Р. Фуэрст, Дж. Хемминг и Ф. Хаксли, в своем отчете о положении бразильских индейцев за 1972 год были вынуждены признать, что рента индихена является скрытым налогом, которым государство облагает индейцев и за счет которого финансируется деятельность Индейского национального фонда. Например, индейцы гавиозс, живущие к востоку от реки Токантинс, работают на сборе бразильского ореха. Его рыночная цена составляла в начале 70-х годов от 60 до 100 крузейро за гектолитр. ФУНАИ платил индейцам за то же количество 17 крузейро, из которых, по утверждению сборщиков, 10 забирал в свою пользу назначенный фондом «капитан» резервации.
Таким образом, ФУНАИ действует не в интересах индейцев, а в целях пособничества экспансии бразильского капитализма. В этом отношении Индейский национальный фонд не отличается от «Службы защиты индейцев» в последний период ее существования. Индейские земли продаются бразильскими властями частным лицам. Например, так была продана большая часть земель индейцев нам-биквара в Мату-Гросу. Продаются даже земли, на которых стоят индейские селения. Служащие же ФУНАИ в своей основной массе не только не препятствуют этому, но, по утверждению известного исследователя современного положения бразильских индейцев В. Хенбери-Тенисона, сами занимаются устранением индейцев с пути «прогресса», часто не зная при этом ни численности индейцев, ни названий племен, ни их точного расселения. Служащие постов Индейского национального фонда сдают земли резерваций в аренду неиндейцам, забирая себе арендную плату. О подобной практике в резервациях индейцев хокленг и кайнканг на юге Бразилии пишет С. Коэльо дос Сантос. При этом индейцы используются арендаторами в качестве батраков за плату ниже гарантированного минимума. Таким образом служащие постов и местные латифундисты совместно эксплуатируют местное население. Нередко Индейский национальный фонд разрешает частным фирмам разрабатывать природные богатства на территории резерваций. В резервации Арипуана, где после «умиротворения» были поселены индейцы суруи, с началом деятельности там частных фирм среди этих племен стали распространяться туберкулез и различные хронические болезни, что привело к резкому возрастанию смертности. А индейцев паракана, по сообщениям бразильской печати, заразили венерическими болезнями сами служащие Индейского национального фонда.
Мы уже упоминали о том, какие губительные последствия для индейцев имеет проведение через территорию резерваций автомобильных дорог. Но это строительство продолжается. Несмотря на борьбу прогрессивной общественности Бразилии против планов строительства автострады в так называемом Национальном парке Шингу, единственной резервации страны, где численность индейцев в последние десятилетия не только не падала, а даже увеличивалась благодаря самоотверженной заботе о племенах района известных всему миру братьев Вилас-Боас, эта дорога, разрезавшая территорию «парка», была построена. Только за три года, с 1972 по 1975, численность крен-акароре, живших в районе строительства, уменьшилась с пятисот до восьмидесяти человек из-за эпидемий, убийства индейцев строителями и тому подобных причин. Остатки этого племени были недавно перевезены братьями Вилас-Боас в отдаленную часть резервации.
Трансамазонская магистраль, прошедшая через резервации не только намбиквара, но и пареси, привела к нарушению традицией? ного образа их жизни, разрыву связей между территориальными группами племен, распространению среди индейцев нищенства и проституции.
В 1974 году анонимная группа бразильских этнографов представила Индихенистскому институту в Мехико составленный ими документ, озаглавленный: «Политика геноцида против индейцев Бразилии». В нем делается вывод, что положение бразильских индейцев сейчас во многих отношениях хуже, чем когда бы то ни было.
Одним словом, в Бразилии продолжается геноцид и этноцид коренного населения, которые были иронически названы X. Берге-сом в статье, опубликованной в одном из кубинских изданий, «ступенями приобщения бразильских индейцев к цивилизации» (конечно, автор имеет в виду капиталистическую «цивилизацию»).
Итак, политика Индейского национального фонда, как и политика его предшественницы «Службы защиты индейцев», не обеспечивает решения индейской проблемы в Бразилии. Те служащие ФУНАИ, кто не согласен с политикой, «в которой корыстные интересы ставятся выше интересов индейцев», вынуждены уходить из этой организации. Покидая ее, один из видных индеанистов-практиков — А. Котрим Нето заявил, что продолжение нынешней политики приведет к полному исчезновению индейцев. Называются даже даты, когда это случится. Многие индеанисты убеждены, что последний индеец исчезнет в Бразилии прежде, чем наступит третье тысячелетие.
Руководство ФУНАИ утверждает, правда, что дело обстоит совсем не так плохо и что в Бразилии в середине 70-х годов насчитывалось 180 тысяч индейцев, из которых около 70 тысяч находилось в сфере деятельности названной государственной организации. Однако эта оценка не подкрепляется соответствующими данными по отдельным племенам и не принимается, пожалуй, ни одним из известных индеанистов. Как отмечает один из лучших знатоков индейской проблемы в Бразилии — Ж. Мелатти, «индейские общности исчезают двумя путями: через ассимиляцию их членов в бразильском обществе или в результате вымирания. В первом случае индейские общности исчезают, но люди, составлявшие их, сохраняются как члены бразильского общества. Во втором — исчезают и общности, и люди. И этот второй вариант встречается гораздо чаще, чем первый».
Уменьшению численности индейцев способствует и практикующаяся в некоторых резервациях стерилизация индеанок под предлогом, что деторождение вредно для здоровья той или иной женщины или что при меньшем числе детей их легче вырастить. Так, в резервации Вануире в штате Сан-Паулу, где живут индейцы кайн-канг, операция стерилизации сделана почти половине женщин бра-коспособного возраста.
В целом на протяжении XX века перестали существовать не менее сотни племен бразильских индейцев. Более точную цифру трудно назвать, так как не всегда ясно, когда речь идет о племени, а когда о его подразделении. В середине века, по мнению весьма авторитетного бразильского исследователя Д. Рибейро, в этой стране сохранялось менее чем полторы сотни племен, причем в некоторых из них было лишь по нескольку членов. В начале 80-х годов столь же компетентный индеанист Кардосо де Оливейра насчитывал 211 племен. В какой-то степени это увеличение связано с обнаружением новых, дотоле неизвестных племен или же остатков племен, считавшихся навеки исчезнувшими. Из племен, неизвестных еще несколько десятилетий назад, можно назвать индейцев шота реки Параны, первые контакты с которыми датируются 1955 годом. Тогда их было сто, а к 1970 году осталось пять или шесть человек. Пока еще не исчезли, но очень сильно сократились в численности тупи-кавахиб, которые упоминаются Леви-Стросом среди племен, находящихся на грани вымирания. Последующие исследования, казалось, подтвердили предположения Леви-Строса. Д. Рибейро в 50-х годах писал об одной из двух групп тупи-кавахиб, а именно об итогапук, как об исчезнувшей. Но позднее они были снова обнаружены. К 70-м годам итогапук вместе с бока-негра, другой группой тупи-кавахиб, насчитывали около сотни человек, избегавших всяких контактов с неиндейским населением. Известны и другие подобные примеры. Можно, как это делают некоторые ученые, не соглашаться с оценкой численности современного индейского населения Бразилии в 50–70 тысяч человек, которую дает В. Хенбери-Тенисон, и считать, что она выше и составляет 100–120 тысяч человек, как, например, полагает Кардосо де Оливейра. Но эти разночтения не меняют той непреложной истины, что численность коренного населения Бразилии быстро сокращается и одно племя за другим уходит в небытие. С этим согласны все, кто изучает индейцев.
Не вызывает споров и то, что подавляющее число бразильских индейцев в значительной степени подверглось влиянию капиталистического общества, чему способствовала в последние десять-пятнадцать лет так называемая внутренняя колонизация глубинных районов страны. К началу 80-х годов примерно лишь 20 процентов общего числа известных племен бразильских индейцев не имели более или менее постоянных контактов с неиндейским населением и жили в сравнительной изоляции от мира капитализма. Подавляющее большинство таких групп обитают в
амазонской сельве, причем не вдоль главного русла реки, а на боковых, часто несудоходных притоках. Труднодоступность многих районов Амазонии способствовала тому, что индейцы до сих пор сохранились в штатах Пара, Амазонас, Акри, Рондония и в федеральной территории Рорайма, где живет 60 процентов общего числа известных бразильских племен. На штаты Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс приходится 22 процента племен, а на северо-восток, юго-восток и юг Бразилии — соответственно 12, 4 и 2 процента. В процентном отношении индейцы составляют ничтожную долю от 122-миллионного населения Бразилии. Но, как замечает Кардосо де Оливейра, ошибочно считать, что индейцы сегодня не имеют в Бразилии заметного политического веса.
В последние годы вопрос о положении индейцев глубоко проник в общественное сознание бразильцев. Теперь никто не скажет, что в Бразилии нет индейцев, как сказал полвека назад Леви-Стросу посол этой страны во Франции. В середине 70-х годов в одиннадцати штатах Бразилии возникли шестнадцать добровольных обществ «Помощи индейцам», «Друзей индейцев» и с иными сходными названиями. Появление этих обществ было следствием нескольких причин: общего подъема демократического движения в Бразилии после долгих лет правления военной диктатуры, увеличения контактов с индейцами в ходе промышленного и сельскохозяйственного освоения бразильского Севера и, наконец, начала политической борьбы за свои права самих индейских племен, главным образом на севере страны. С 1974 по 1981 год состоялось пятнадцать конференций вождей индейских племен. В одной из последних встреч приняли участие 54 вождя и старейшины из 25 племен.
Летом 1981 года на четырнадцатой конференции вождей, состоявшейся в столице Бразилии, был создан «Союз индейских народов» (УНИНД), который будет вести переговоры с правительством, и особенно с Индейским национальным фондом, чтобы добиться выполнения так называемого статута индейца — закона, принятого в 1973 году и призванного охранять права коренного населения. Этим законом гарантируются материальные права индейцев, в том числе на занимаемые ими земли, право на сохранение своих обычаев, на медицинское обслуживание и обучение на родном и португальском языках. К сожалению, за 10 лет, прошедших со времени принятия этого закона, из всех его положений главным образом выполнялось одно — право государства выселять индейцев с их земель во имя «высших интересов нации» и «национальной безопасности». Тем не менее закон служил юридической основой для борьбы прогрессивных сил страны за права индейцев, правда, чаще всего безуспешной. И когда в середине 70-х годов бразильское правительство вознамерилось отменить закон о положении индейцев под предлогом их эмансипации от опеки властей, в защиту названного закона выступили как широкие демократические круги Бразилии, так и сами индейцы. Как заявил один из лидеров «Союза индейских народов» — Сатаре-Моуэ, «ФУНАИ саботирует наши права, записанные в статуте индейца. Мы должны объединиться, чтобы бороться с ФУНАИ за осуществление своих прав». А другой вождь, Паташо, сказал: «Наша борьба — это борьба ради всех индейских общин Бразилии, а не только тех, вожди которых собрались на конференцию».
Исход противоборства индейцев и ФУНАИ еще не ясен, но несомненно, что в Бразилии возникло индихенистское движение в общенациональном масштабе и наступает конец бесконтрольным и односторонним действиям властей в отношении своих подопечных — коренных жителей страны, заселивших ее земли за многие тысячи лет до появления на Американском континенте европейцев. Нынешняя ситуация далека от той, с которой столкнулся Леви-Строс во время путешествий по Бразилии: изменились и страна, и бразильцы, и главный объект внимания писателя — индейцы. Но понять настоящее трудно, а порой и невозможно без знания проин лого, того прошлого, к которому нас возвращает произведение Леви-Строса.
I. Путевые листки
Оглядываясь назад
Моя карьера решилась телефонным звонком в девять часов утра воскресным осенним утром 1934 года. Звонил Селестен Бугле, в то время директор Высшей нормальной школы. Вот уже несколько лет он жаловал меня несколько сдержанным расположением: во-первых, потому, что я не был выпускником Нормальной школы, а во-вторых, — и это главное — потому, что я не принадлежал к его «конюшне», к которой он питал весьма особые чувства. Безусловно, он не смог найти лучшего кандидата, ибо спросил меня отрывисто:
— Вы все еще желаете заниматься этнографией?
— Конечно!
— Тогда выставляйте свою кандидатуру на должность преподавателя социологии в университете Сан-Паулу. Окрестности города полны индейцев, вы посвятите им свои выходные. От вас требуется дать окончательный ответ до полудня.
Слова «Бразилия» и «Южная Америка» значили для меня тогда не много. Тем не менее я и сейчас самым отчетливым образом вижу картины, которые возникли у меня в мозгу вслед за этим неожиданным предложением. Экзотические страны противополагались в моем представлении нашим, а слово «антиподы» приобретало более богатый и более наивный смысл, нежели его буквальное значение. Я бы очень удивился, если бы услышал, что какой-то представитель животного или растительного царства может выглядеть одинаково по разные стороны земного шара. Каждое животное, каждое дерево, каждая травинка должны были быть совершенно иными, с первого взгляда обнаруживать свою тропическую природу. Бразилия представала в моем воображении в виде групп изогнутых пальм, скрывающих здания причудливой архитектуры и утопающих в аромате курильниц. Эта деталь, связанная с обонянием, закралась, по-видимому, из-за того, что звучание слов «Bresll» [1] и «gresiller» [2] бессознательно воспринималось одинаково. Тем не менее благодаря ей — и вопреки всему приобретенному опыту — еще и сегодня я думаю о Бразилии прежде всего как о курящемся благовонии.
Когда я теперь оглядываюсь на эти картины, они уже не кажутся мне такими произвольными. Я узнал, что точность описываемой ситуации выявляется не столько из каждодневного наблюдения, сколько из терпеливого и постепенного отбора, чье зыбкое понятие, навеваемое ароматом благовоний, возможно, уже напрашивалось на применение. Научная экспедиция заключается в большей мере не в том, чтобы покрывать расстояния на земле, а в том, чтобы делать находки на ее поверхности: мимолетная сценка, фрагмент пейзажа, схваченное на лету размышление — только они позволяют понять горизонты, которые иначе нам ничего не говорят.
В тот момент странное обещание Бугле относительно индейцев ставило передо мной другие проблемы. Откуда он взял, что Сан-Паулу, по крайней мере на своих окраинах, — город индейцев? Безусловно, спутав Сан-Паулу с Мехико-Сити или с Тегусигальпой[3]. Этот философ, который некогда написал труд о «Кастовом строе в Индии»[4], ни разу не задавшись вопросом, не стоило ли прежде побывать в стране, не думал, что положение индейцев должно накладывать серьезный отпечаток на этнографическое исследование. Известно, впрочем, что он был не единственным официальным социологом, проявлявшим подобное безразличие, примеры которого продолжают существовать и сейчас. Я был очень удивлен, когда за обедом у бразильского посла в Париже услышал официальное известие: «Индейцы? Увы, мой дорогой месье, вот уже несколько десятилетий, как они все исчезли. О, это очень печальная, очень позорная страница в истории моей страны. Но португальские колонисты в XVI веке были людьми алчными и грубыми. Стоит ли упрекать их в том, что они разделяли общую жестокость нравов? Они хватали индейцев, привязывали их к жерлам пушек и живьем разрывали на части, стреляя ядрами. Вот так и извели всех до последнего. В качестве социолога вы откроете в Бразилии удивительные вещи, но индейцы… и не думайте о них, вы не найдете больше ни одного…» Когда я сегодня возвращаюсь к этим словам, кажется невероятным, что они были произнесены устами одного из людей высшего круга Бразилии в 1934 году. Помню, какой ужас охватывал тогдашнюю бразильскую элиту при любом намеке на индейцев и, в более общем плане, на первобытные условия их жизни во внутренних районах страны, исключая разве что признание крови прабабушки-индианки причиной неуловимо экзотических черт чьего-то лица (о негритянской крови хороший тон предпочитал умалчивать). Индейская кровь бразильского посла не вызывала сомнения, и он мог бы легко этим гордиться. Однако, живя с отроческих лет во Франции, он потерял представление о действительном положении дел в своей стране, чье место в его голове заняло нечто вроде официального и утонченного штампа. Но поскольку некоторые впечатления забыть было невозможно, он, как и другие, предпочитал скорее чернить репутацию бразильцев XVI века, чем рассказывать о любимых занятиях мужчин поколения его родителей и даже времен его молодости, а именно собирать в больницах зараженную одежду умерших от оспы европейцев и развешивать ее вместе с другими «подарками» вдоль троп, которыми еще пользовались индейские племена. Результат был получен блестящий: в штате Сан-Паулу, величиной с Францию, который на картах 1918 года еще объявлялся на две трети «неизвестной территорией, населенной исключительно индейцами», в 1935 году, когда я туда прибыл, не было ни одного индейца, если не считать группы из нескольких семей, размешенных на побережье и продававших по воскресеньям на пляжах города Сантуса[5] так называемые редкости. К счастью, индейцы еще кое-где жили, по крайней мере если не в пригородах Сан-Паулу, то в трех тысячах километрах от него, во внутренних районах страны.
На корабле
Для ученых заря и сумерки — одно явление, и греки думали так же, поскольку обозначали их одним и тем же словом, менявшим смысл лишь в зависимости от того, шла ли речь о вечернем или утреннем времени. Это смешение понятий прекрасно выражает главную идею теоретических построений и странное пренебрежение конкретной стороной вещей. Пусть некая точка Земли непрерывно перемещается между зоной падения солнечных лучей и той зоной, где свет уходит от нее или возвращается к ней. В действительности же ничто не являет собой такого различия, как вечер и утро. Восход солнца — это прелюдия, его закат — увертюра, которая исполнялась бы в конце вместо начала, как в старинных операх. Лик встающего солнца сразу возглашает о погоде, которая затем последует: мрачный и мертвенно-бледный — если первые утренние часы окажутся дождливыми; розовый, легкий, игристый — если будет сверкать ясный свет. Но в смене дня утренняя заря не предрешает ничего. Она дает основание для метеорологического прогноза и говорит: будет дождь или будет хорошая погода. Что касается солнечного заката, то это совсем другое дело. Это законченный спектакль с началом, серединой и концом, нечто вроде миниатюрной картины сражений, триумфов и поражений, которые следуют друг за другом в течение двенадцати часов. Утренняя заря — всего лишь начало дня, сумерки — его повторение. Вот почему люди уделяют больше внимания заходящему, нежели восходящему, солнцу. Рассвет дает им сведения, всего лишь дополняющие показания термометра, барометра; для менее цивилизованных он означает лишь фазы Луны, полеты птиц или колебания приливов и отливов, в то время как закат солнца возвышает людей, объединяя в таинственные конфигурации перипетий ветер, холод, жару и дождь, в которых протекало их физическое существование. Потоки сознания читаются также в неясных созвездиях. Когда на кебе начинают играть краски заката, крестьянин приостанавливает свой шаг на тропинке, рыбак придерживает лодку, а «дикарь»-индеец, сидя у бледнеющего огня, прищуривает глаз.
Воспоминание — великое наслаждение для человека, но только:>:е тогда, когда оно оказывается буквальным, ибо не многие согласились бы заново пережить все выпавшие на их долю тяготы и страдания, о которых они тем не менее любят поговорить. Воспоминание— это сама жизнь, но в другом качестве. Поэтому, когда, солнце склоняется к гладкой поверхности спокойной воды или когда его диск разрезает гребень гор наподобие твердого и зазубренного листа, человек открывает именно в этой быстротечной фантасмагории средоточие непроницаемых сил, испарений и зарниц, неясные столкновения которых он смутно чувствовал в глубине самого себя в течение всего дня. Как видно, сегодня зловещие сражения велись только в душах, ибо незначительность внешних событий не оправдывала подобного атмосферного разгула. Этот день ничем не выделялся. К шестнадцати часам — именно в то время, когда солнце на полпути уже теряет четкость очертаний, но еще сохраняет сияние, когда все смешивается в густом золотистом свете, как бы накопленном намеренно, чтобы замаскировать какую-то подготовку, — наш пароход изменил курс. Никто, впрочем, и не обратил на это внимания, поскольку ничто так ярко не воплощает геометрическое перемещение, как переход в открытом море.
Там нет никакого пейзажа, свидетельствующего о медленном продвижении вдоль широт, преодолении изотерм и плювиометрических кривых. Пятьдесят километров сухопутного пути могут создать впечатление, что вы перенеслись на другую планету, в то время как пять тысяч километров, пройденных в океане, предстают неподвижным ликом, по крайней мере нетренированному взгляду. Ни заботы о маршруте или ориентировании, ни сведения о землях невиданных, но присутствующих за вздувшимся горизонтом-ничто не занимало мыслей пассажиров. Им казалось, что они — «включены внутри сжатых перегородок на заранее определенный срок не для преодоления какого-то расстояния, а скорее для искупления своей привилегии. Их перевозили с одного конца земли на другой, тогда как они и пальцем не шевелили — уж слишком были расслаблены поздним сном и ленивыми трапезами, которые давно перестали приносить чувственное удовольствие и превратились в развлечение, заполняющее пустоту дней.
Впрочем, к чему проявлять какие-то усилия? Хорошо известно, что где-то в глубине этого большого ящика находятся машины, а вокруг них какие-то люди, которые заставляют их работать. К тому же эти люди не обеспокоены тем, чтобы принимать визиты, как пассажиры не обеспокоены тем, чтобы их делать, а офицеры — тем, чтобы демонстрировать одних перед другими. Оставалось лениво волочить ноги по палубе. Матрос, скупыми мазками наносящий краску на вентиляционную трубу, стюарды в голубой униформе, толкающие щетку с влажной тряпкой в коридоре первого класса, — только они служили доказательством равномерного отсчитывания милей по воде, плеск которой неясно слышался из-под ржавого корпуса.
В семнадцать часов сорок минут небо с западной стороны оказалось загроможденным неким сложным сооружением, снизу совершенно горизонтальным, подобно морю, от которого, казалось, оно и оторвалось, поднявшись непонятным образом над горизонтом или отделившись от него невидимой хрустальной пластиной. За его вершину цеплялись и ниспадали в сторону зенита под влиянием некой обратной силы тяжести неустойчивые нагромождения, вздыбившиеся пирамиды, застывшие вздутия в стиле тех резных изделий, которые могли бы претендовать на изображения облаков, но на которые походили сами облака, настолько их вид вызывал представление о полированном и позолоченном рельефе из дерева. Это запутанное скопление, закрывавшее собой солнце, выделялось темными тонами с редкими проблесками в верхней части, откуда вырывались языки пламени.
Еще выше в небе светлые многоцветные полосы разматывались небрежными изгибами, казавшимися нематериальными и состоящими исключительно из светящейся структуры.
К северу основное сооружение становилось тоньше, поднималось цепочкой облаков, а позади него, очень далеко, отделялась более высокая полоса, вскипающая на вершине.
Со стороны, самой близкой к солнцу — все еще невидимому, — свет окаймлял эти выпуклые украшения мощным рубцом. Ближе к северу рельефные формы исчезали, и оставалась лишь сама полоса, терявшаяся в море.
На юге все еще видна та же полоса, но здесь она увенчана громадными облачными плитами, покоящимися подобно космологическим дольменам[6] на курящихся гребнях опоры. Если повернуться спиной к солнцу и посмотреть на восток, можно заметить две громоздящиеся друг над другом группы облаков, вытянутых в длину и разделенных падением солнечных лучей на плоскость воздушного, переливающегося розовыми, сиреневыми и серебристыми отблесками укрепления.
Все это время позади небесных рифов, загромождавших запад, медленно двигалось солнце. Оно опускалось все ниже, и какой-то его луч то и дело прорывал непроницаемую массу или прокладывал себе путь, разрезая облачную преграду на кругообразные секторы, различные по площади и интенсивности освещения. Иногда свет собирался подобно сжатому кулаку, и сквозь облачную муфту виднелись всего лишь один или два сверкающих и напряженных пальца. Или же из туманных пещер устремлялся осьминог.
В закате солнца наблюдаются две очень разные фазы. Вначале светило выступает зодчим. И только затем, когда его лучи становятся отраженными, а не прямыми, оно превращается в художника. Как только оно скрывается за горизонтом, свет слабеет и являет с каждым мгновением все более сложные конструкции. Полный свет — враг перспективы, но между днем и ночью находится место для архитектуры столь же фантастической, сколь и преходящей. С приходом темноты все сооружение складывается подобно чудесно раскрашенной японской игрушке.
Точно в семнадцать часов сорок пять минут наметилась первая фаза. Солнце стояло уже низко, но еще не касалось горизонта. В момент своего появления из-под облачного сооружения оно показалось лопнувшим яичным желтком, залившим светом те части облаков, от которых оно еще не оторвалось. Это изливание света быстро сменилось его отступлением; окрестности сделались матовыми, и в этом пустом пространстве, образованном теперь расстоянием между верхней границей океана и нижней границей облаков, поднимались волны испарений, только что сверкавшие и прозрачные, а теперь резкие и темные. Вначале плоские, они становились все более объемными. Фазу живописи открыла широкая рдеющая полоса, медленно поднимавшаяся от горизонта к небу.
Мало-помалу высокие сооружения вечера отступили. Масса, которая весь день занимала западную часть неба, показалась сплющенной подобно металлическому листу, освещенному сзади огнем, сначала золотистым, потом цвета киновари и наконец вишневым. И вот уже вишневый огонь растворял, травил поверхность и уносил в виде частиц изогнутые, словно в судорогах, облака, которые постепенно исчезли.
На небе появились многочисленные, подернутые дымкой сплетения; казалось, они были растянуты во всех направлениях: горизонтальном, наклонном, перпендикулярном и даже по спирали. Солнечные лучи, по мере того как они угасали (ни дать ни взять смычок, наклоненный или поднятый, перед тем как коснуться нужных струн), поочередно зажигали сначала одно, потом другое переплетение цветовой гаммой. В первый момент каждое из них представало четким, определенным и хрупким, но прочным как армированное стекло. Затем постепенно оно растворялось, как если бы его перегретая пламенем материя, сгущая краски и теряя свою индивидуальность, расстилалась все более тонкой пеленой, пока совсем не исчезла со сцены, давая дорогу новым, только что возникшим переплетениям. В конце концов остались одни лишь неясные краски, переходящие одна в другую. Так цветные жидкости разной плотности сначала располагаются в бокале одна над другой, а затем медленно начинают перемешиваться, несмотря на кажущуюся устойчивость.
После этого стало очень трудно следить за зрелищем, которое, казалось, повторяется с разрывом в несколько минут, а иногда и секунд в отдаленных точках неба. На востоке, как только солнечный диск коснулся противоположного горизонта, внезапно на большой высоте проступили окрашенные в ядовито-сиреневые тона облака, до тех пор невидимые. Это зрелище быстро развернулось, обогащаясь деталями и оттенками, затем начало исчезать справа налево, как бы стираемое уверенным и медленным движением чьей-то руки. Через несколько секунд остался лишь глянцевый сланец неба ниже укрепления из облаков. Их окраска переходила в белые и серые тона, тогда как небо розовело. Со стороны солнца пламенела уже новая полоса. По мере того как ее красные излучения слабели, многоцветье зенита, которое еще не сыграло свою роль, медленно становилось объемным. Его нижняя поверхность позолотилась и вспыхнула, верхушка, прежде сверкающая, окрасилась в каштановые и фиолетовые тона. Все строение предстало как бы под микроскопом: тысячи мелких волокон, словно поддерживаемые скелетом, образовали пухлые формы.
Теперь прямые лучи солнца совсем исчезли. На небе оставались лишь розовый и желтый цвета: креветка, лосось, лен, солома, но и эта неброская гамма тоже рассеялась. Небесный пейзаж возрождался в сочетании белого, голубого и зеленого. Однако кое-где на горизонте еще продолжалась недолговечная и независимая жизнь. С левой стороны незаметная дымка внезапно обозначилась причудливым смешением таинственных зеленых тонов, которые постепенно перешли в красные цвета — сначала ярких, потом темных, фиолетовых и, наконец, угольных тонов. И вот уже нет ничего, кроме неровной линии, оставленной угольным карандашом на зернистой бумаге. Позади небо было в желто-зеленых альпийских тонах, а полоса оставалась непроницаемой, с резким контуром. На западной стороне неба небольшие золотые горизонтальные бороздки еще посверкали минуту, но на севере была уже почти ночь: бугристое укрепление являло собой лишь беловатые выпуклости под известковым небом.
Ничто не кажется столь таинственным, как совокупность всегда одинаковых, но не предсказуемых в своей комбинации переходов, посредством которых ночь приходит на смену дню. Ее печать появляется на небе внезапно, сопровождаемая неуверенностью и тревогой. Никто не способен предугадать, какую форму примет — и только в этот единственный раз — приход ночи. Какая-то непостижимая алхимия превращает каждый цвет в свои бесчисленные варианты, тогда как хорошо известно, что на палитре для этого нужно открыть не один тюбик. Однако возможности ночи смешивать краски безграничны, ибо ее спектакль — феерия: розовый цвет неба переходит в зеленый. Оказывается, я не обратил внимания, что некоторые облака сделались ярко-красными, из-за чего небо по контрасту представляется уже зеленым, хотя на самом деле оно было розовым, но очень бледного оттенка, который не может дольше бороться с чрезвычайно резким свойством нового цвета. Его я не заметил потому, что переход от золотистого цвета к красному вызывал меньшее удивление, нежели от розового к зеленому. Итак, ночь наступает словно обманом.
Вакханалию золота и пурпура ночь начинала подменять их отражением, заменяя теплые тона на белые и серые. На небосводе медленно открылся морской пейзаж из громадного заслона облаков, растягивающихся в виде параллельных полуостровов, — ни дать ни взять плоское песчаное побережье с вытянутыми в море косами — вид, часто открывающийся с самолета, летящего на небольшой высоте и накренившегося на крыло. Эта иллюзия усиливалась последними отсветами дня, которые, освещая под очень острым углом облачные острия, придавали им рельефный вид. Облака стали походить на незыблемые скалы, вылепленные тоже светом и тенями, но уже в другие часы, как если бы светило устало работать своими сверкающими резцами по порфиру и граниту и принялось за немощные воздушные материалы.
По мере того как небо очищалось, на фоне облаков, походивших на прибрежный пейзаж, появились пляжи, лагуны, множество островков и песчаных мелей, заполненных инертным небесным океаном, покрывавшим фьордами и внутренними озерами распадавшуюся пелену. И потому, что небо, окаймляющее эти облачные стрелы, подделывалось под океан, а море, как обычно, отражало цвет кеба, небесная картина воспроизводила отдаленный пейзаж, на фоне которого снова будто бы село солнце. Впрочем, достаточно было взглянуть на настоящее море, находящееся внизу, чтобы отвлечься от этого миража: оно уже не было ни пылающей пластиной полдня, ни грациозной и курчавой поверхностью послеполуденного времени. Лучи света, падавшие почти горизонтально, освещали лишь лицевую, обращенную к ним сторону небольших волн, тогда как другая их сторона была совершенно темной. Таким образом вода становилась рельефной, с четкими тенями, подчеркнутыми углублениями, как в металле. Прозрачность исчезла.
И тогда, как это бывает обычно, но всегда неуловимо и мгновенно, вечер уступил место ночи. Все изменилось. В небе, непрозрачном на горизонте, а выше — мертвенно-желтом и переходящем в синеву у зенита, развеялись последние облака, приведенные в движение окончанием дня. Очень скоро они превратились в тощие, болезненного вида тени наподобие подставок для декораций. Так после спектакля на уже не освещенной сцене вдруг замечаешь убожество, непрочность и недолговечность декораций, понимаешь, что действительность, иллюзию которой им удалось создать, была вызвана не их природой, а каким-то трюком освещения или перспективы. Только что они жили и менялись каждое мгновение, а теперь казались застывшими в скорбной форме посреди неба, готовые слиться с его возрастающей темнотой.
II. Новый Свет
«Ловушка»
В Дакаре мы распрощались со Старым Светом и, миновав острова Зеленого Мыса, достигли того рокового седьмого градуса северной широты, где во время своего третьего путешествия в 1498 году Колумб, взявший верное направление на Бразилию, склонился к северо-западу и каким-то чудом две недели спустя не прошел мимо Тринидада и берегов Венесуэлы.
Мы приближались к зоне экваториального штиля — к «ловушке», устрашавшей мореплавателей прежних времен. Ветры, дующие в двух полушариях, стихают на подходе к этой зоне, таи что беспомощно повисшие паруса неделями не оживлялись ни единым дуновением.
Из-за совершенно застывшего воздуха кажется, что находишься в закрытом пространстве, а не на морском просторе; темные тучи, недвижность которых не нарушается ни малейшим ветерком, опускаются вниз под собственной тяжестью и медленно распадаются на части у самого моря. Своими свисающими краями они подметали бы его гладкую поверхность, будь их инертность не столь велика. Освещенный сквозь них лучами невидимого солнца океан отсвечивает маслянистым и монотонным блеском, отсутствующим у неба, чернильный цвет которого нарушает обычное световое соотношение между воздухом и водой. Запрокинув голову, видишь более правдоподобный морской пейзаж, словно небо и море поменялись местами. По ставшему совсем близким небосклону — настолько пассивна стихия и ослаблено освещение — лениво бродят несколько шквалов — невысоких и расплывчатых колонн, еще более скрадывающих мнимую высоту, отделяющую от моря покрытый тучами небосвод. Корабль среди этих сближающихся поверхностей скользит с какой-то тревожной торопливостью, как если бы ему грозила опасность задохнуться за пределами отмеренного времени, Иногда проходит шквал: приближаясь, он становится бесформенным, заполняет пространство и бичует палубу своими влажными узкими и длинными ремнями. Затем, оказавшись по другую сторону корабля, он вновь обретает зримую форму, одновременно утрачивая звуковую суть.
Море лишилось всякой жизни. Перед носом корабля, прочно и размеренно разрезавшего волны, бьющие о форштевень, больше не просматривался черный бурун, оставляемый стаями дельфинов, грациозно опережающих белопенный бег волн. Горизонт больше не разрезала струя фонтана, выпускаемого дельфином-великаном; из интенсивно синего моря совершенно исчезла даже флотилия наутилусов с их нежными перепончатыми парусами сиреневого и розоватого тонов. Уж не ждут ли нас по другую сторону «ловушки» все те чудеса, что предстали перед мореплавателями прошлых веков? Бороздить девственные просторы океана их влекло не столько стремление открыть какой-либо новый мир, сколько желание удостовериться в истинности событий древности. Они нашли подтверждение мифов об Адаме и Еве, об Одиссее. Когда во время первого путешествия Колумб подошел к берегам Антильских островов, он, может быть, верил тому, что достиг Японии, но еще больше — тому, что нашел земной рай. Четыре столетия, прошедшие с тех пор, не в силах были уничтожить тот громадный разрыв со Старым Светом, благодаря которому в течение десяти или двадцати тысячелетий Новый Свет оставался в стороне от бурных событий истории. Здесь существовало, по-видимому, что-то другое. Я быстро узнал, что если Южная Америка не была больше Эдемом до грехопадения, то она все еще оставалась «золотым веком» по крайней мере для тех, кто имел деньги. Рай для людей, каким он виделся Колумбу, продолжался и одновременно погибал в сладкой жизни, предназначенной одним лишь богачам.
Небо цвета сажи в «ловушке» и ее давящая атмосфера не т®ль-ко очевидные признаки экваториальной зоны. Они как бы олицетворяли те условия, в которых сошлись лицом к лицу Старый и Новый Свет. Разделяющая их угрюмая стихия, мертвый штиль, где злые духи, кажется, так и собираются с силами, служат последней мистической преградой между двумя мирами, еще вчера такими далекими и чужими. Попав из Европы в Америку, первые свидетели не могли поверить, что этот другой мир тоже создан для людей. Континент, едва затронутый человеком, предстал перед пришельцами, алчность которых уже не могла удовлетвориться за счет их собственного мира. Вскоре из-за этого второго смертного греха подверглось пересмотру все: бог, мораль, законы. Одновременно все подверглось противоречивой и реальной проверке, и что-то по праву было отменено. Проверены библейский Эдем, «золотой век» древних, источник молодости, Атлантида, Геспериды, Пасторали и Счастливые острова[7]. Картина более чистого и счастливого человечества (которое, разумеется, таковым не было на самом деле, но представлялось из-за тайных угрызений совести) заставила усомниться в божественном откровении — спасении после смерти. Никогда раньше человечество не переносило столь мучительного испытания, и никогда больше оно не узнает ничего подобного, разве что однажды за миллионы километров от земного шара будет обнаружена еще одна планета, населенная мыслящими существами. Мы хотя бы знаем, что теоретически эти расстояния преодолимы, тогда как первые мореплаватели думали, что вступают в небытие.
Чтобы оценить абсолютный, тотальный, принципиальный характер тех дилемм, решение которых довлело над человечеством в XVI веке, стоит вспомнить некоторые эпизоды. В ту самую Эспаньолу (теперь остров Гаити), где в 1492 году насчитывалось около ста тысяч индейцев и где век спустя их оставалось не больше двухсот человек, погибающих даже не столько от оспы и побоев, сколько от ужаса и отвращения к европейской цивилизации, колонизаторы посылали комиссию за комиссией для установления их природы. Если индейцы действительно люди, следует ли считать их потомками десяти потерянных колен Израилевых? Или монголами, добравшимися туда на слонах? Или шотландцами, прибывшими несколько веков назад под предводительством короля Медока[8]. Были ли они от роду язычниками, или это бывшие католики, крещенные святым Фомой, которые стали еретиками? Не было даже уверенности в том, что это люди, а не какое-то порождение дьявола или животные. Таковым было мнение короля Фердинанда, поскольку в 1512 году он ввез белых рабов в Западную Индию с единственной целью — воспрепятствовать испанцам жениться на индейских женщинах, «которым далеко до разумных существ». У колонистов вызывали скорее недоверие, чем возмущение, усилия Лас Касаса[9], ратовавшего за отмену рабского труда. «Так что же, — восклицали они, — теперь нельзя уж пользоваться и вьючными животными?»
Из всех этих комиссий одна по праву наиболее известная, состоявшая из монахов ордена Св. Иеронима, трогает как тщательностью подхода к делу, прочно забытой после 1517 года в колониальных начинаниях, так и тем, что она бросает свет на настроения умов той поры. В ходе настоящего психосоциологического обследования, выполненного по самым современным требованиям, колонистам предлагали вопросник с целью выяснить, являются или нет индейцы «способными жить собственными трудами, подобно крестьянам Кастилии». Все ответы были отрицательными: «В крайнем случае, может быть, их внуки. К тому же индейцы столь порочны, что и это сомнительно». Доказательства? «Они избегают испанцев, отказываются работать без вознаграждения, а их извращенность доходит до того, что они дарят свое добро, не отвергают своих товарищей, которым испанцы отрезали уши». И в качестве единодушного заключения: «Для индейцев будет лучше стать людьми в рабстве, нежели оставаться животными на свободе».
Последняя точка в этом обвинительном заключении поставлена несколькими годами позже таким свидетельством: «Они едят человеческое мясо, у них нет правосудия, они ходят нагишом, едят сырыми блох, пауков и червей… У них отсутствует борода, а если она случайно вырастает, они спешат ее выщипать» (Ортис. Перед Советом Индии, 1525). Впрочем, в то же самое время и на соседнем острове (Пуэрто-Рико), по свидетельству Овиедо[10], индейцы ловили белых и умерщвляли их, погружая в воду, а затем неделями стерегли утопленников, чтобы узнать, подвержены ли они тлению. Сравнивая эти обследования, можно сделать два заключения: белые прибегали к социальным наукам, тогда как индейцы питали доверие скорее к наукам естественным, и в то время как белые объявляли индейцев животными, вторые предполагали в первых небожителей. При равном невежестве последнее было, безусловно, более достойным людей.
Испытания ума вносят еще большую патетику в смущение души. Все было неизвестным для первых путешественников. В «Облике мира» Пьер де Айи [11] рассказал о недавно открытом и в высшей степени счастливом роде человеческом, состоявшем из пигмеев, макробов и даже безголовых. Пьер Мартир собирал описания чудовищных зверей: змей, похожих на крокодилов; животных с телом быка, но с хоботом как у слона; рыб с четырьмя конечностями, бычьей головой, с тысячью бородавок на спине и с черепашьим панцирем; tyburons, пожирающих людей. А ведь это были всего лишь боа, тапиры, ламантины или бегемоты и акулы (по-португальски tuba-гао). Но все эти надуманные тайны принимались как само собой разумеющиеся. Разве Колумб, чтобы оправдать внезапное изменение курса — из-за чего он не попал в Бразилию, — не сообщал в своих донесениях о необычных обстоятельствах, с которыми впервые столкнулся в этой постоянно влажной зоне: жгучем зное, не позволявшем даже спускаться в трюмы, настолько сильном, что взорвались бочонки с водой и вином, загорелось зерно, а сало и сушеное мясо были спалены за одну неделю. Солнце жгло так немилосердно, что команда едва не сгорела заживо.
Не в этих ли водах Колумб повстречался с сиренами? Хотя, по правде говоря, он их видел в конце первого путешествия в Карибском море. «Три сирены, — рассказывает он, — поднимали тело над поверхностью океана, и хотя они и не были столь же прекрасны, как их представляют на картинах, их круглые лица определенно имели человеческую форму». У ламантинов круглая голова, сосцы на груди; поскольку самки кормят детенышей, прижимая их к себе ластами, такое отождествление не столь уж удивительно для той эпохи, когда хлопчатник собирались описывать (и даже рисовать) под названием дерева с баранами, — дерева, на котором вместо плодов за спину подвешены бараны, с которых нужно было только состричь шерсть.
Когда в «Четвертой книге Пантагрюэля» Рабле, несомненно основываясь на отчетах мореплавателя, вернувшегося из Америки, впервые рисует карикатуру на то, что этнологи называют теперь системой родства, он тоже идет по хрупкому льду, ибо трудно представить себе такую систему родства, где старик мог бы называть маленькую девочку «отцом». Во всех этих случаях сознанию XVI века не хватало элемента, более важного, нежели знание, — научного мышления. Люди той эпохи не были способны воспринимать псе многообразие вселенной. Как, впрочем, и сегодня в изобразительном искусстве какой-нибудь примитивист, понявший лишь внешние особенности итальянской живописи или африканской скульптуры, а не их многозначительную гармонию, не способен отличить фальшивое полотно от подлинного Ботичелли или рыночную поделку от фигурки фанг[12]. Сирены и дерево с баранами — нечто иное и более глубокое, нежели объективные заблуждения: в плане умственном это скорее ошибка вкуса, изъян ума, который — несмотря на гениальность и утонченность, проявляемые в других областях, — был слаб в наблюдении, что вовсе не навлекает порицания, а гораздо скорее вызывает уважение к результатам, полученным вопреки этим пробелам.
Первые слабые огоньки, замеченные Колумбом, которые он принял за побережье, происходили от морской разновидности светящихся червей, занятых кладкой яиц между закатом солнца и восходом луны. Землю он еще не мог видеть. Но теперь я угадываю ее огни в этой ночи, проведенной без сна на палубе в ожидании Америки. Присутствие Нового Света заметно уже со вчерашнего дня, хотя он пока не виден. Берег слишком далек, несмотря на перемену курса корабля, идущего от Кабу-Сан-Агостину до Рио параллельно линии побережья. В течение по крайней мере двух, а может быть, и трех дней мы будем плыть вдоль Америки. О конце путешествия нам возвещают морские птицы: крикливые фаэтоны, тираны буревестники, которые на лету заставляют глупышей выбрасывать из зева добычу. Они отваживаются улетать далеко от суши. Колумб узнал это на горьком опыте, когда еще посреди океана он приветствовал их как вестников своей победы. Что касается летучих рыб, которые выбрасываются из воды посредством удара хвоста о ее поверхность и преодолевают расстояния на раскрытых плавниках (их серебряные блестки повсюду искрятся над синим горнилом моря), то их с некоторых пор стало меньше. Новый Свет дает о себе знать приближающемуся к нему мореплавателю прежде всего ароматом, совершенно непохожим на тот, что представал в его воображении еще в Париже благодаря словесному созвучию. Трудно объяснить это тому, кто не вдыхал этого аромата. Вначале кажется, что морские запахи предыдущих недель уже не циркулируют свободно, а наталкиваются на невидимую стену. Внимание переключается с них на запахи иного свойства, которые невозможно определить на основании какого-либо предшествующего опыта. Лесной ветер, чередующийся с оранжерейными ароматами, — квинтэссенция растительного царства со специфической свежестью, столь насыщенной, что она могла бы повергнуть в состояние обонятельного опьянения. Это поймет только тот, кто совал нос внутрь экзотического, только что взрезанного перца, понюхав сначала в какой-нибудь пивной, затерявшейся в бразильском сертане[13], медовый, черный шнурок табачных листьев — fumo do rolo, забродивших и скатанных в веревки длиной в несколько метров.
Но когда в четыре утра следующего дня Новый Свет возникает на горизонте, его зримый образ предстает достойным его аромата.
В течение двух дней и двух ночей разворачивается громадная горная цепь, громадная, конечно, не по своей высоте, а по бесконечности хаотического переплетения хребтов, в которых невозможно различить ни начала, ни разрыва. На многие сотни метров выше волн: возносят горы свои стены из гладкого камня — нагромождение вьи зывающих и необузданных форм, какие иногда видишь в разведенных волной замках из песчаника и не подозреваешь, что, по крайней мере на нашей планете, они могут обретать такие грандиозные масштабы.
Это впечатление необъятности свойственно всей Америке: его испытываешь всюду, как в городе, так и в деревне. Я ощущал ее на побережье и на плато Центральной Бразилии в Боливийских Андах и Скалистых горах Колорадо, в предместьях Рио, в пригороде Чикаго и на улицах Нью-Йорка. Это улицы как улицы, горы как горы, реки как реки, но откуда же берется чувство потерянности в непривычной обстановке? Попросту оттого, что соотношение между величиной человека и размером явлений здесь разошлось настолько, что обычная мера исключается. Позднее, освоившись с Америкой, почти бессознательно пользуешься той способностью к адаптации, которая восстанавливает привычную связь между понятиями; эта работа проходит незаметно, о ней узнаешь лишь по какому-то щелчку в мозгу, когда выходишь из самолета.
Однако эта врожденная несоразмеримость двух миров проникает в наши суждения и деформирует их. Тот, кто объявляет Нью-Йорк уродливым, является всего-навсего жертвой иллюзии восприятия. Не научившись пока менять регистр, он упорно судит о Нью-Йорке как о городе и наводит критику на авеню, парки, памятники. Конечно, объективно Нью-Йорк — это город, но то зрелище, которое он предлагает нашему европейскому восприятию, измеряется величинами другого порядка, нежели наши собственные пейзажи. Что касается американских пейзажей, то они увлекли бы нас в еще более пространную систему, для которой у нас нет эквивалента. Таким образом, красота Нью-Йорка заключается не в его городской сути, а в его переходе — неизбежном для нашего глаза, едва мы перестаем упорствовать, — от города к уровню искусственного пейзажа, где принципы урбанизма уже не действуют, ибо единственные значимые ценности заключаются в мягкости освещения, изяществе деталей, величественных безднах у подножия небоскребов и тенистых долинах, усеянных, как цветами, пестрыми автомобилями.
После этого я чувствую себя в еще более затруднительном положении, рассказывая о Рио-де-Жанейро, который отталкивает меня, несмотря на свою прославленную красоту. Как бы лучше выразиться? Мне представляется, что пейзаж Рио не находится на уровне его собственных размеров. «Сахарная голова» — Корковадо, все эти хваленые места предстают перед входящим в бухту мореплавателем подобно корешкам, тут и там торчащим в беззубом рту. Будучи почти постоянно окутанными грязным туманом тропиков, эти географические пункты не в состоянии заполнить собой горизонт: он слишком широк, чтобы ими довольствоваться. Чтобы получить полное представление, нужно подойти к бухте с тыла и созерцать ее со скал. Со стороны же моря и из-за иллюзии, противоположной той, что производит Нью-Йорк, природа здесь приобретает вид какой-то стройки. Размеры бухты в Рио не воспринимаются с помощью визуальных ориентиров: медленное продвижение корабля, его маневрирование между островами, свежесть и ароматы, внезапно хлынувшие из лесов, прилепившихся к небольшим холмам, заранее устанавливают нечто вроде физического контакта с цветами и скалами, которые еще не существуют для путешественника как видимые предметы, но уже формируют для него облик континента. И тут снова на память приходит Колумб: «Деревья были такие высокие, что, казалось, касаются неба; и если я правильно понял, они никогда не теряют листьев: так как я видел их такими зелеными и свежими в ноябре, какими они бывают в Испании в мае; некоторые даже цвели, а на других созревали плоды… Куда бы я ни поворачивался, везде пел соловей в сопровождении птиц всевозможных пород».
Америка — континент, который заставляет себя признать. Он состоит из всякого рода образов, которые в сумерках оживляют туманный горизонт бухты. Но для новичка эти движения, формы, огни еще ничего не означают: ни провинций, ни поселков или городов, за ними трудно предугадать леса, прерии, долины и пейзажи; они не передают действий и трудов отдельных, не знающих друг друга людей, каждый из которых заключен в узкий круг своей семьи и своего ремесла. Но все это объединено единым существованием. То, что меня теперь повсюду окружает и подавляет, — это не бесконечное разнообразие вещей и людей, но единая и потрясающая субстанция — Новый Свет.
Гуанабара
Бухта вгрызается прямо в сердце Рио, и с корабля люди высаживаются в самом его центре, как если бы вторую половину — Новый Ис[14] — уже поглотили волны. И в каком-то смысле это верно, поскольку первоначальный город, просто форт, находился на скалистом островке, мимо которого только что прошел пароход и который по-прежнему носит имя основателя форта Вильганьона[15]. Я топчу ногами авениду Риу-Бранку, где когда-то стояли деревни индейцев тупинамба, а в моем кармане лежит сочинение Жана де Лери, настольная книга этнолога[16]. Триста семьдесят восемь лет назад[17], почти день в день, Жан де Лери прибыл сюда с десятью другими жителями Женевы, протестантами, посланными Кальвином по требованию Вильганьона, его бывшего соученика, который отказался от католической веры всего год спустя после своего обоснования в бухте Гуанабара.
Вильганьон — странная личность. Он сменил одно за другим множество занятий и соприкоснулся со всеми современными ему проблемами, сражался против турок, арабов, итальянцев, шотландцев (он похитил Марию Стюарт, что сделало возможным ее брак с Франциском II) и англичан. Его видели на Мальте, в Алжире и в битве при Чересоле[18]. И уже почти в конце своей бурной карьеры, когда он, казалось, посвятил себя фортификационному искусству, после какого-то профессионального разочарования он решается от» правиться в Бразилию. Но и там он строит планы в соответствии со своим беспокойным и честолюбивым духом. Что собирается он делать в Бразилии? Основать колонию и, разумеется, обеспечить свое господство в ней, а в качестве более близкой цели — учредить пристанище для преследуемых протестантов, которые захотели бы покинуть метрополию. Будучи сам католиком, а возможно, и вольнодумцем, он добивается покровительства Колиньи [19] и кардинала Лотарингии. После кампании по вербовке приверженцев обоих вероисповеданий, которую он проводил также в публичных местах среди распутников и беглых рабов, он смог в конце концов 12 июля 1555 года погрузить шестьсот человек на два корабля — смесь пионеров, представляющих все сословия, и извлеченных из тюрем преступников. Он упустил из виду только женщин и продовольствие. Отплытие проходит утомительно. Корабли дважды возвращаются в Дьепп [20], наконец 14 августа они окончательно снимаются о якоря, и тут начинаются трудности: стычки на Канарских островах, испортившаяся вода на борту, цинга. 10 ноября Вильганьон бросает якорь в бухте Гуанабара, где французы и португальцы уже в течение многих лет оспаривают друг у друга влияние. Привилегированное положение в тот период Франции на бразильском побережье поднимает любопытные вопросы. Оно, без сомнения, восходит к началу века, которое отмечено многочисленными французскими экспедициями (в частности, в 1503 году Гонневиля, вернувшегося из Бразилии с зятем-индейцем), почти совпадавшими с открытием «Земли Истинного Креста» португальцем Кабралом в 1500 году[21]. Стоит ли углубляться еще дальше? Можно ли только из факта присвоения именно французами этой новой земле названия Бразилия (засвидетельствованного по крайней мере с XII века в качестве наименования, хранившегося, впрочем, в строжайшей тайне, мифического континента, откуда происходили древесные красители) и наличия многих терминов, заимствованных французами из индейских диалектов без посредничества иберийских языков: ананас, маниок, муравьед (тамандуа), тапир, ягуар, сагуни (обезьяна-прыгун), агути, ара, кайман, тукан, коати, акажу и т. п. — сделать заключение о том, что эта дьеппская легенда об открытии Бразилии Жаном Кузеном [22] за четыре года до первого путешествия Колумба имеет какое-то основание? Правда ли, что на корабле у Кузена находился один из Пинсонов, а именно тот, который ободрял Колумба, когда в Палосе[23] он был как будто готов отказаться от своего намерения? И опять-таки Пинсон командует «Пинтой» в первой экспедиции, и с ним Колумб старается совещаться всякий раз, когда собирается изменить курс. Другой Пинсон [24], следуя курсом, от которого ровно год назад отказался Колумб, достиг Кабу-Сан-Агостину, что обеспечило ему честь первого настоящего открывателя Бразилии и лишило Колумба одного из славных титулов. Если не произойдет чуда, этот вопрос никогда не удастся решить.
На острове посреди бухты Гуанабара Вильганьон основывает Форт-Колиньи. Индейцы его строят, снабжают продовольствием маленькую колонию, но, быстро потеряв вкус давать, ничего не получая взамен, они сбегают, бросив свои деревни. Форт охвачен голодом и болезнями. Вильганьон начинает проявлять тиранический характер — каторжники бунтуют, их истребляют, к тому же возникает эпидемия, она переходит на материк; немногочисленные сохранившие верность миссии индейцы заражены, восемьсот человек умирают.
Вильганьон пренебрегает мирскими делами, он переживает духовный кризис. Общаясь с протестантами, он переходит в их веру, взывает к Кальвину, прося прислать миссионеров, которые наставили бы его в новой вере. Вот так в 1556 году состоялось то плавание, участие в котором принимает Лери.
И тут вся эта история принимает столь странный оборот, что я удивляюсь, как ею до сих пор не прельстился ни один писатель или сценарист. Какой бы это был фильм! Изолированная на континенте, неведомом подобно чужой планете, ничего не знавшая о его природе и людях, неспособная обрабатывать землю для обеспечения собственного пропитания, зависящая во всех своих нуждах от непонятного населения, встретившего пришельцев к тому же ненавистью, осаждаемая болезнями горстка французов (которая пошла навстречу всяческим опасностям, чтобы избежать распрей в метрополии и основать очаг, где могли бы сосуществовать различные верования в обстановке терпимости и свободы) попала в собственную ловушку. Протестанты стараются обратить в свою веру католиков, а те в свою веру — протестантов. Вместо того чтобы, работая, обеспечить себе существование, они недели напролет проводят в безрассудных спорах. Как следует толковать тайную вечерю? Нужно ли смешивать воду и вино для освящения?. Святое причастие, обряд крещения служат темой для настоящих теологических турниров, после которых Вильганьон то обращается в протестантскую веру, то отказывается от нее.
Дело доходит до отправки в Европу эмиссара, чтобы проконсультироваться с Кальвином и отдать на его усмотрение разрешение спорных вопросов. В это время столкновения усиливаются. Возможности Вильганьона на исходе. Лери сообщает, что по цвету его костюмов можно было судить о его настроении и нетерпимости. В конечном счете он поворачивается против протестантов и начинает морить их голодом; те перестают- принимать участие в общей жизни, перебираются на континент и присоединяются к индейцам. Той идиллии, которая складывается в отношениях между ними, мы обязаны шедевром этнографической литературы — «Путешествием в Бразильскую землю» Жана Лери[25]. Конец этого приключения печален: женевцам удается, хотя и не без труда, вернуться домой на французском корабле. Теперь и речи не было о том, чтобы действовать так же, как на пути в Америку, когда они были в силе и весело «снимали сливки», то есть грабили встреченные по пути корабли; на борту воцарился голод. Трюмные крысы и мыши — последние съестные припасы — необычайно поднимаются в цене. Кончается вода. В 1558 году команда высадилась в Бретани, еле живая от голода. Между тем колония на острове распадается в обстановке казней и террора. Ненавидимый всеми, предатель для одних и ренегат для других, страшный для индейцев, напуганный португальцами, Вильганьон отказывается от своей мечты [26]. Форт-Колиньи, которым стал командовать его племянник Буа ле Конт, в 1560 году переходит в руки португальцев.
В Рио я прежде всего стараюсь уловить отклик тех давних событий. Однажды мне это удалось, когда Национальным музеем была организована археологическая экспедиция на участок побережья в глубине бухты.
Катер высадил нас на топком пляже, где ржавело выброшенное морем старое судно. Оно, конечно, относилось не к XVI веку, но тем не менее вносило какую-то историческую соразмерность в просторы, где ничто не отражало хода времени. Далекий город закрыли низкие тучи и стена мелкого дождя, непрекращавшегося с раннего утра. За крабами, кишевшими в черной грязи, и корнями деревьев (по их поводу невозможно сказать, происходит ли развитие их форм в процессе роста или в результате разложения) на фоне леса мокрыми силуэтами выделялись несколько соломенных хижин вне всякой временной принадлежности. Еще дальше в бледном тумане купались откосы горных склонов. Подойдя к деревьям, мы достигли цели своего посещения — песчаного карьера, где крестьяне недавно откопали черепки глиняной посуды. Я ощупываю толстую керамику, бесспорно выполненную индейцами тупи, судя по белому ангобу [27] с красной каймой и тонкому переплетению из черных полос — лабиринту, предназначенному, как говорят, для того, чтобы злые духи заблудились и не добрались до человеческих костей, хранившихся когда-то в урнах. Мне объясняют, что мы могли бы доехать до стоянки, расположенной всего в пятидесяти километрах от центра города, на автомобиле и, кстати, застрять там на целую неделю из-за размывшего дорогу дождя. Это позволило бы нам вплотную приблизиться к прошлому, которому не по силам изменить такое меланхолическое место, где Лери обманулся, возможно, в своих ожиданиях, глядя на ловкое движение смуглой руки, формирующей с помощью смоченного в черном лаке шпателя «тысячи мелких редкостей, таких, как гильошировка[28], и другие забавные вещицы», о значении которых я вопрошаю, держа в руках мокрый черепок.
Мое первое соприкосновение с Рио было иным. Вот я впервые в своей жизни по другую сторону экватора, в тропиках, в Новом Свете. По какому главному признаку смогу я понять, что свершилась эта тройственная перемена? Какой голос оповестит меня об этом, какая нота, дотоле никогда неслыханная, прозвучит в моих ушах? Мое первое наблюдение ничтожно: я нахожусь в салоне. Одетый легче обыкновенного и топча волнообразную черно-белую мозаику уличных покрытий, я замечаю в узких и тенистых улицах, разрезающих главный проспект, особую атмосферу. Переход от жилищ к мостовой не так заметен, как в Европе. Магазины, несмотря на роскошь витрин, выставляют товары даже на улице; кажется неважным, находишься ли ты снаружи или внутри их. Действительно, улица служит не просто для передвижения людей; это место, где они пребывают. Бойкая и мирная в одно и то же время, более оживленная и лучше защищенная, чем наши улицы. Ибо смена полушария, континента и климата привели В данный момент лишь к тому, что сделали ненужным тонкое застекленное покрытие, которое в Европе искусственно создает сходные условия: сначала кажется, что Рио воссоздает под открытым небом известные крытые магазины в больших европейских городах или холл парижского вокзала Сен-Лазар.
Обычно под путешествием понимают перемещение в пространстве. Этого недостаточно. Каждое путешествие одновременно вписывается в пространство, время и в социальную структуру. Любое впечатление поддается определению только путем его взаимного соотнесения с этими тремя осями, а поскольку пространство само по себе имеет три измерения, то, для того чтобы составить о путешествии адекватное представление, потребуется по крайней мере пять измерений. Сойдя на землю Бразилии, я тотчас же почувствовал, что нахожусь по другую сторону Атлантики и экватора и совсем близко к тропику. Об этом свидетельствовало множество вещей: жара, спокойная и влажная, освобождающая от привычного веса шерстяной одежды и снимающая противоречие (которое я обнаруживаю, оглядываясь назад, в качестве одной из постоянных величин моей цивилизации) между домом и улицей; впрочем, вскоре я узнаю, что вместо него тут возникает другое противоречие — между человеком и бруссой [29]. Здесь есть также пальмы, незнакомые цветы, а в витринах кафе — груды зеленых кокосовых орехов, из которых — обезглавив их — вытягиваешь сладкую и свежую влагу. Когда сравниваешь города, разделенные большим расстоянием как в географическом, так и в историческом отношении, различия усложняются еще и неодинаковыми ритмами. Как только удаляешься от центра Рио — который тогда имел подчеркнутый стиль начала века, — попадаешь в спокойные улицы, на длинные авеню, обсаженные подстриженными пальмовыми, манговыми и палисандровыми деревьями, где среди садов возвышаются обветшалые виллы. Тропики выглядят скорее старомодными, нежели экзотическими. О них свидетельствует не растительность, а мелкие детали архитектуры и следы того образа жизни, который напоминает не столько об оставленных позади огромных расстояниях, сколько о незаметном отступлении времени.
Рио-де-Жанейро построен не как обычный город. Расположившись вначале в равнинной болотистой зоне, окаймляющей бухту, он вкрался промеж отвесных холмов, которые сжимают его со всех сторон наподобие пальцев в слишком узкой перчатке. Городские щупальца длиной порой в двадцать — тридцать километров скользят у подножия гранитных образований, склон которых так крут, что никакая растительность не может за него зацепиться. Иногда на изолированной террасе или в глубокой узкой расселине все же умещается островок леса поистине девственного, так как эта местность недоступна, несмотря на ее близость к городу. Когда летишь в самолете среди роскошных растительных ковров, так и кажется, что, прежде чем приземлиться у подножия холмов, он заденет за ветки в этих коридорах, от которых веет свежестью и величавостью.
Город, столь расточительный на холмы, относится к ним пренебрежительно. Шаровидные сферы из гранита, застывшего глыбой, как чугун, излучают неистовый зной, и морскому ветру, продувающему дно ущелий, не удается подняться наверх. Может быть, градостроительство и сумеет решить эту проблему, но в 1935 году место, занимаемое человеком в общественной иерархии Рио, измерялось альтиметром: чем ниже занимаемая им ступенька социальной лестницы, тем выше находится его жилище. Фавелы бедняков вскарабкались на холмы, где чернокожее население, одетое в застиранные лохмотья, изобретало на гитарах те тревожащие душу мелодии, которые во время карнавала спускаются с возвышенностей и наполняют собой город.
Город меняется и в длину и в высоту. Стоит только отправиться по одной из городских троп, изгибающихся между холмами, как очень скоро пейзаж становится пригородным. Я застал на Копакабане[30], позднее ощетинившейся небоскребами, провинциальный городок со своей торговлей и лавочками.
Последнее воспоминание, связанное с Рио, относится к моему окончательному отъезду: отель на скале Корковадо. Туда добирались на фуникулере, наспех установленном среди осыпей и похожем то ли на гараж, то ли на высокогорный приют с постами управления: что-то вроде Луна-парка. И все это для того, чтобы, проплыв вдоль пустырей, грязных и каменистых, которые нередко приближались к вертикали, попасть на вершине холма в небольшое одноэтажное строение имперского периода, отделанное искусственным мрамором и выкрашенное охрой. Обедали там на приспособленной под террасу платформе, выдвинутой над бесконечным скоплением бетонных зданий, хибарок и всяких городских конгломератов; только вместо заводских труб, уместных в качестве границы этого причудливого пейзажа, на заднем плане открывался вид на тропическое море, переливающееся и атласное, с разлившимся над ним безмерным лунным сиянием.
Я возвращаюсь на корабль. Он снимается с якоря и, сверкая всеми своими огнями, проплывает у границы открытого моря, которое, кажется, производит смотр движущемуся одноглазому осколку улицы. Вечером пронеслась буря, и теперь море переливается подобно брюху сытого зверя. Тем временем луну заволакивают обрывки облаков, а ветер разматывает их в зигзаги, кресты и треугольники. Странные фигуры будто освещены изнутри; на черном фоне неба это похоже на северное сияние, приспособленное к тропикам. Время от времени через туманные видения проглядывает кусок красноватой луны, который проходит, вновь появляется и исчезает подобно блуждающему и тревожному фонарю.
Переход через тропики
Тропики, какими они предстают на морском побережье между Рио и Сантусом, все еще подобны мечте. Береговая цепь гор, в одной точке превосходящая две тысячи метров, спускается к морю и разрезает его на островки и бухточки. Языки тонкого песка, окаймленные кокосовыми пальмами или влажными, изобилующими орхидеями лесами, тянутся вплоть до стен песчаника или базальта, которые преграждают к ним доступ со всех сторон, кроме моря. Небольшие порты, отстоящие друг от друга на сотню километров, дают пристанище рыбакам, все еще живущим в домах XVII века. Теперь дома уже развалились, а некогда они были построены из благородного тесаного камня для судовладельцев, капитанов и вице-губернаторов. Ангра-Дус-Рейс, Убатуба, Парати, Сан-Себастьян, Вила-Велья — вот пункты, куда прибывало золото, алмазы, топазы и хризолиты, добытые в minas geraes — «главных рудниках» королевства. Их перевозка через горы на спинах мулов занимала несколько недель. Когда ищешь следы троп, проходивших вдоль хребтов, трудно представить себе степень интенсивности движения: ведь оно обеспечивало специальный промысел, существовавший за счет возврата потерянных животными подков.
Бугенвиль[31] поведал нам о предосторожностях, окружавших разработку и перевозку минералов. Сразу же по извлечении золото должно было поступать в дома Фонда, расположенные в каждом округе: Риу-дас-Мортис, Сабара, Серра-Фриу. Там взимали королевскую пошлину, а то, что причиталось предпринимателям, передавалось им в слитках с указанием на них веса, пробы, номера и королевского герба. Центральная контора, расположенная на полпути между рудниками и побережьем, производила регистрацию.
«Эту контору охраняет пост, который состоит из капитана, лейтенанта и пятидесяти солдат; именно здесь владельцы слитков уплачивают пошлину в размере одной пятой стоимости принадлежащего им золота, а также сбор по полтора реала с человека и с головы рогатого скота или вьючного животного. Половина сбора идет королю, а вторая половина делится между личным составом поста…» Не приходится поэтому удивляться, что караваны, шедшие из рудников и проходившие в обязательном порядке проверку, задерживались и досматривались «со всевозможной строгостью». «Частные лица сдают золото в слитках на Монетный двор в Рио-де-Жанейро, где им выплачивают стоимость его в чеканной монете: обычно это полудублоны достоинством в восемь испанских пиастров. С каждого из этих полудублонов король получает по пиастру за лигатуру и монетный сбор». И Бугенвиль добавляет: «Монетный двор в Рио-де-Жанейро — один из лучших. Он обеспечен необходимым оборудованием, позволяющим выполнять работы с максимальной скоростью. Ввиду того что золото доставляют с приисков одновременно с прибытием из Португалии флотилии кораблей, приходится ускорять темп работы на Монетном дворе, и быстрота, с которой чеканится монета, поразительна».
Еще более строгая система мер ограждала добычу алмазов. Предприниматели, рассказывает Бугенвиль, «обязались давать точный отчет… о добытых алмазах и сдавать их интенданту, поставленному королем для этой цели. Интендант хранит их в круглой, обитой железом шкатулке с тремя замками. Ключи от одного замка находятся у него, от другого — у вице-короля и от третьего — У провадора королевской асьенды. Эта шкатулка вкладывается в другую, которую три упомянутых лица опечатывают своими печатями и в которой хранятся три ключа от первой шкатулки. Вице-король не имеет права проверять ее содержимое. Он лишь ставит все в ящик и, опечатав его, отправляет в Лиссабон. Сундук открывают в присутствии короля, и последний отбирает любые понравившиеся ему алмазы, выплачивая их стоимость предпринимателям по договорному тарифу». От этой интенсивной деятельности, в результате которой в одном лишь 1762 году было перевезено, проверено, отчеканено и отправлено сто девятнадцать золотых арробов[32], то есть более полутора тонн драгоценного металла, не осталось ничего на вновь обретшем спокойствие берегу. Разве что несколько величественных одиночных фасадов в глубине бухточки напоминают о ней. Об их стены, к которым когда-то подходили галеоны, теперь лишь бьются волны. Кажется, что в обширные леса, к девственным бухточкам и крутым скалам изредка спускались с высоты плоскогорий только босоногие индейцы. Как-то не верится, что здесь располагались мастерские, где еще двести лет назад ковалась судьба современного мира.
Пресытившись золотом, мир возжелал сахара, но сахар сам потреблял рабов. Истощение рудников (чему, впрочем, предшествовало истребление лесов, дававших топливо для тиглей), отмена рабства, наконец, растущее мировое потребление — все это толкает Сан-Паулу и его порт Сантус на производство кофе. Золото из желтого, затем белого становится черным. Но, несмотря на перемены, превратившие Сантус в один из центров международной торговли, эта местность сохраняет какую-то необъяснимую красоту. Пока корабль медленно скользит между островами, я испытываю первое потрясение от тропиков. Мы двигаемся по узкому зеленеющему каналу. Протянув руку, можно чуть ли не схватить эти растения, которые Рио держит на почтительном расстоянии, а именно в своих забравшихся на холмы оранжереях.
Местность за Сантусом — равнина, затопленная, покрытая лагунами и болотами, изрезанная реками, проливами и каналами, очертания которых непрерывно размываются перламутровыми испарениями, — представляется той самой землей, которая появилась в начале сотворения мира. Покрывающие ее банановые плантации имеют самый что ни на есть свежий и нежный зеленый оттенок. В течение получаса машина идет среди бананов, скорее растений-мастодонтов, нежели деревьев-карликов, с сочными стволами, которые теряются среди эластичных листьев, шелестящих над рукой с сотней пальцев, выступающей из огромного каштанового или розоватого лотоса. Затем дорога поднимается на высоту восемьсот метров до вершины серры[33]. Как и повсюду на этом побережье, отвесные склоны защитили от поползновений человека девственный лес, такой богатый, что на поиски подобного ему пришлось бы отправиться на север, за много тысяч километров — до бассейна Амазонки. Пока автомобиль скрежещет на поворотах — их нельзя назвать даже «булавочной головкой», такой они закручены спиралью, — пробираясь сквозь туман, который создает иллюзию высоких гор иных широт, у меня есть время поинтересоваться деревьями и другими растениями, проходящими перед взором наподобие музейных экспонатов. Этот лес отличается от нашего контрастом между листвой и стволами. Листва более темная, ее оттенки зеленого цвета напоминают скорее минерал, чем растение, а среди минералов преобладают не изумруд и перидот, а нефрит и турмалин. Стволы же, напротив, белые или сероватые, выделяются на темном фоне листвы наподобие костных останков. Находясь слишком близко к зеленой стене, чтобы обозревать ее общий вид, я изучил главным образом детали. На более обильных, чем в Европе, растениях топорщатся стебли и листья, как будто вырезанные из металла, настолько уверенна их посадка, а их полная смысла форма представляется неподвластной превратностям времени. Со стороны кажется, будто природа здесь совсем другого порядка, чем наша: она обнаруживает более высокую степень присутствия и постоянства.
Однажды я уже испытал нечто похожее. Это случилось во время моих каникул в Провансе, первых после обычно проводимых в Нормандии и Бретани. Вместо растительности, которая так и осталась для меня какой-то неопределенной и неинтересной, появилась совсем иная. Каждый вид приобретал в моих глазах особое значение. Словно из обычной деревни я перенесся вдруг на археологическую стоянку, где любой камень уже не просто составная часть дома, а прежде всего свидетель прошлого. Я с восторгом лазал по камням, повторяя про себя названия растений: чабрец, душица, розмарин, базилик, лавр, лаванда, земляничник, каперсы, мастиковое дерево, каждое из которых не только играет особую роль, но и обладает своего рода «дворянской грамотой». А тяжелый смолистый запах служил одновременно доказательством существования этой растительной вселенной и доводом в ее пользу. Теперь впечатление, которое флора Прованса оставила во мне благодаря своему аромату, производила тропическая флора своей формой. Это уже не мир привычных запахов, не гербарий рецептов и пристрастий, а растительная толпа, подобная труппе рослых танцовщиц, застывших в сложных позициях как будто специально для того, чтобы продемонстрировать наиболее четкий рисунок — недвижный балет, нарушаемый лишь минеральным движением источников.
Когда добираешься до вершины, все снова меняется, покончено с влажной жарой тропиков и с дерзновенными переплетениями лиан и скал. Вместо огромной сверкающей панорамы, которая в последний раз просматривается с бельведера серры до самого моря, в противоположном направлении предстает неровное и голое плоскогорье, словно разматывающее свои хребты и лощины под своенравным небом. Сверху падает моросящий дождь. Ибо мы находимся на высоте примерно в тысячу метров, хотя море все еще близко. На вершине этой стены начинаются горные земли, ряд уступов, первую и самую трудную ступеньку которой образует прибрежная цепь. Плоскогорье мало-помалу понижается к северу и в трех тысячах километрах отсюда падает большими уступами к бассейну Амазонки. Его наклон лишь дважды нарушается линией скал: Серрой в Ботукату, приблизительно в пятистах километрах от побережья, и Шападой[34] — в Мату-Гросу, в полутора тысячах километрах от него. Позднее, только преодолев одну и другую, я снова увижу вдоль больших рек бассейна Амазонки лес, сходный с тем, что цепляется за прибрежный уступ. Наибольшая часть Бразилии, заключенная между Атлантическим океаном, реками Амазонкой и Парагваем, представляет собой поверхность с уклоном, приподнятым со стороны моря: курчавый трамплин бруссы, окруженный влажным кольцом тропического леса и болот[35].
Эрозия опустошила земли, создав какой-то незавершенный ландшафт, однако вину за хаотичный вид пейзажа несет прежде всего человек. Сначала он поднял целину, но через несколько лет истощенная, вымытая дождями почва оказалась негодной для кофейных деревьев. И плантации перекочевали дальше, туда, где земля была еще девственной и плодородной. Между человеком и землей так никогда и не установилась та бережная взаимность, что в Старом Свете лежала в основе тысячелетней близости, в ходе которой они привыкали друг к другу. Здесь земля была осквернена и погублена. Хищническое земледелие завладело лежащим на поверхности богатством и затем ушло дальше, вырвав кое-какие прибыли.
Ту территорию, где хозяйничали первопроходцы, справедливо называют бахромой. Ибо, опустошая почву почти в момент ее распашки, они были обречены занимать только движущуюся полосу, вгрызаясь с одной стороны в девственную землю и оставляя по другую сторону истощенные залежи. Подобно огню бруссы, убегающему вперед за все новой и новой пищей, яркое пламя земледелия за сто лет пересекло штат Сан-Паулу. Зажженное в середине XIX века рудокопами, бросавшими иссякшие рудные жилы, оно переместилось с востока на запад, так что вскоре мне предстояло нагнать его по другую сторону реки Парана. Оно прокладывало себе путь среди поваленных стволов и вырванных из родного гнезда семей.
Территория, которую пересекает дорога из Сантуса в Сан-Паулу, — одна из тех, что с самых давних пор используются в этой стране, поэтому-то она и кажется археологической стоянкой с угасшим земледелием. Сквозь тонкий покров жесткой травы просвечивает остов косогоров и склонов, некогда покрытых лесами. Местами угадывается пунктир холмиков, которыми отмечены бывшие местоположения оснований кофейных деревьев; они выступают над заросшими травой склонами, похожие на отмершие сосцы. В долинах растительность вновь завладела почвой, однако это уже не та благородная архитектура первобытного леса: вырубка зарастает сплошной чащей хилых деревьев. Время от времени мелькает хижина эмигранта-японца, который тщится с помощью архаичных методов возродить уголок земли и заняться огородничеством.
Путешественник-европеец обескуражен подобным пейзажем, который не укладывается ни в одну из традиционных категорий. Нам не знакома девственная природа, наш пейзаж явно подчинен человеку. Порой он кажется нам диким, но вовсе не потому, что действительно является таковым, а потому, что смена произошла в более медленном темпе (как в лесу или в горах), потому, что поставленные вопросы были столь сложными, что человек, вместо того чтобы давать на них систематический ответ, выступал на протяжении веков со множеством мелких действий. Теперь конечные результаты, подводящие им итог, представляются ему со стороны первоначальным свойством. Так называемая подлинная дикость пейзажа проистекает из цепи мероприятий и бессознательных решений.
Но даже самые суровые пейзажи Европы являют собой порядок, в передаче которого Пуссен не знает себе равных. Отправляйтесь в горы: обратите внимание на контраст между засушливыми склонами и лесами, на их расположение ярусами над лугами, на разнообразие оттенков, вызванное преобладанием той или иной породы деревьев в соответствии с местоположением или склоном. Нужно побывать в Америке, чтобы понять, что эта высокая гармония, не будучи стихийным выражением природы, происходит от давно искомых в ходе сотрудничества между местностью и человеком соглашений. А он наивно любуется следами своих прошлых деяний!
В обитаемой Америке, как в Северной, так и Южной (исключение составляют плоскогорья в Андах, Мексике и Центральной Америке, чье более плотное и постоянное население сближает их с Европой), у нас есть выбор между безжалостно укрощенной природой, похожей скорее на завод под открытым небом, чем на деревенскую местность (я имею в виду плантации тростника на Антильских островах и поля в «кукурузном поясе» США), и той другой природой, образец которой я созерцаю в данный момент и которая была занята человеком достаточно долго для того, чтобы он успел разорить ее, но недостаточно долго для того, чтобы его неспешные, неотвратимые деяния подняли ее в ранг пейзажа. В окрестностях Сан-Паулу я привыкал к более суровой, нежели наша, природе, ибо земля здесь не так густо населена и хуже обработана, но тем не менее лишена подлинной свежести: уже не дикая, но и не обретшая новой сути.
Пустыри величиной с целые провинции: человек когда-то недолгое время владел ими, а затем отправился в другие места. Позади себя он оставил истерзанный ландшафт со сложными следами своего присутствия. И на этих полях сражений, где в течение нескольких десятилетий он встречался лицом к лицу с неведомой землей, теперь медленно возрождается однообразная растительность в беспорядке тем более обманчивом, что под ликом фальшивой невинности хранится память об этих
Города и деревни
В Сан-Паулу можно было заниматься этнографией по выходным дням, однако не среди индейцев предместий, как мне опрометчиво обещали, ибо предместья заселены сирийцами или итальянцами. Ближайшая же этнографическая достопримечательность, километрах в пятнадцати, являла собой обыкновенную деревню, в которой белокурые волосы и голубые глаза одетых в лохмотья жителей выдавали их недавнее германское происхождение, поскольку около 1820 года группы немецких колонистов обосновались в тех районах страны, где меньше всего чувствовались тропики. Здесь они в некотором роде растворились и потерялись среди местного бедного крестьянства, но дальше к югу, в штате Санта-Катарина, городишки Жоинвиль и Блуменау по-прежнему хранили под сенью араукарий атмосферу прошлого века. Улицы, застроенные домами с островерхими крышами, носили немецкие названия — здесь говорили только на этом языке. На террасах пивных старики с бакенбардами и усами курили длинные трубки, увенчанные фарфоровыми головками.
Вокруг Сан-Паулу жило также много японцев, но найти к ним подход было труднее. Иммиграционные конторы набирали их, обеспечивали им переезд, временное жилье по приезде, а затем распределяли их по фермам, которые напоминали разом и деревню, и военный лагерь. Тут же находились все службы: школа, мастерские, медпункт, лавки, развлечения. Эмигранты проводили долгие годы в этом отчасти добровольном заточении, возвращая из заработка свой долг компании и складывая накопления в ее сейфы.! Эта компания бралась через несколько лет вернуть их на землю предков, чтобы они могли умереть на ней, либо — если малярии удалось сделать дело раньше — доставить туда их тела. Все это было организовано так, чтобы у пустившихся в рискованное мероприятие людей никогда не возникало чувства, что они навсегда покинули Японию. Нет, однако, уверенности в том, что предпринимателей занимала только финансовая, хозяйственная или гуманная сторона дела. При внимательном изучении географических карт обнаруживалась стратегическая подоплека, которая, возможно, и объясняла сооружение этих ферм. Доступ в иммиграционные конторы, не говоря уже о почти подпольных сетях отелей, больниц, кирпичных заводов, лесопилен, обеспечивающих самостоятельное существование иммиграции, и, наконец, доступ в сами сельскохозяйственные центры был чрезвычайно затруднен. Все это свидетельствовало о некоих замыслах. Распределение колонистов по заранее подобранным пунктам и археологические раскопки, методически проводимые с целью подчеркнуть некоторые аналогии между местными находками и остатками японского неолита, являлись, очевидно, всего лишь двумя крайними звеньями одной цепи.
В самом городе некоторые рынки в населенных простым народом кварталах содержались чернокожими. Точнее, — поскольку этот эпитет имеет смысл лишь в такой стране, где этническое многообразие в сочетании с весьма немногочисленными предрассудками привело к самым сложным смешениям, — среди них можно было выделить метисос — результат смешения белых и черных, кабоклос — белых и индейцев и кафузос — индейцев и черных. Стиль продаваемых на рынках изделий оставался неизменным: сита для маниоковой муки — типично индейской формы —. в виде слабо натянутой решетки из разрезанных бамбуковых стволов, заключенной в рейки; веера для раздувания огня, также унаследованные от местной традиции. Типы вееров представляют интерес, ибо все они предлагают хитроумное решение вопроса: как с помощью плетения превратить проницаемый и неплотный пальмовый лист в твердую и сплошную поверхность, способную при сильном помахивании гнать струи воздуха. Поскольку имеется множество способов решить эту задачу и множество разновидностей пальмовых листьев, можно выявить все возможные формы вееров, а затем собрать образцы, иллюстрирующие эти маленькие технологические разработки.
Существует два основных типа пальмовых веток: листочки либо расположены симметрично по одну и другую сторону среднего стебля, либо они расходятся наподобие веера. Первый тип подсказывает два способа: или отгибать все листочки с одной стороны стебля и плести их вместе, или плести каждую группу отдельно, складывая листочки под прямым углом, пропуская концы одних через нижние части других, и наоборот. Таким образом изготовляются два вида вееров: в форме крыла и в форме бабочки. Что касается второго, он дает множество возможностей, всегда являющихся, хотя и в различной степени, сочетанием двух других, а веер, сделанный в форме ложки, лопатки или розетки, напоминает большой сплюснутый шиньон.
В окрестностях Сан-Паулу можно было собирать сельский фольклор. В майские праздники деревни украшались зелеными пальмовыми ветвями, устраивались памятные по португальской традиции сражения между маврами и христианами; процессии с кораблем из картона; совершались паломничества в отдаленные приходы, дающие пристанище прокаженным. Там в распутных испарениях пинги — водки из сахарного тростника, совсем не похожей на ром, которую пьют неразбавленной или как батиду, то есть смешанной с соком лимона, — чудовищно пьяные и наряженные в лохмотья барды-метисы вызывали друг друга под удары барабана на состязания в сатирических песнях. Существовали также верования и традиции, которые интересно было записать: лечение ячменя на глазу путем прикладывания к нему золотого кольца, разделение всего съестного на две несовместимые группы: еда горячая и еда холодная, а также другие неблагоприятные сочетания: рыба и мясо, манго и алкогольные напитки, бананы и молоко.
Однако внутри штата Сан-Паулу увлекательнее было проследить не пережитки средиземноморских традиций, а своеобразные формы развития зарождающегося общества. Хотя в обоих случаях речь идет о прошлом и настоящем, этнографическое обследование классического типа, имеющее целью объяснить настоящее с помощью прошлого, здесь переходит в свою противоположность: неуловимое настоящее, казалось, воспроизводит весьма отдаленные этапы европейского развития. В латифундистской деревне, подобно Франции эпохи Меровингов[36], рождалась общинная и городская жизнь. Возникавшие поселения не похожи на сегодняшние города, столь банальные, что в них трудно найти отличительные признаки их собственной истории. Они сливаются друг с другом во все более однородной форме, где существуют лишь административные различия. Здесь города, напротив, можно было узнавать (подобно тому как ботаник различает растения по названию, виду и строению), и определять принадлежность каждого к той или иной большой семье городского царства, которое человек добавил к природному.
В течение XIX и XX веков передний край полосы первопроходцев медленно перемещался с востока на запад и с юга на север.
К 1836 году Норте, то есть местность между Рио и Сан-Паулу, была достаточно освоена, и очередь дошла до центральной зоны штата. Спустя двадцать лет колонизация зашла на северо-востоке за Межану и Паулису; в 1886 году она принялась за Араракуару, Алта-Сорокабану и Нороэсте. В этих зонах еще в 1935 году кривая роста численности населения почти совпадала с кривой роста производства кофе, тогда как на старых землях севера падение второй на. полвека опережало упадок первой: уменьшение количества жителей начинало ощущаться с 1920 года, в то время как истощенная земля оказалась заброшенной с 1854 года.
Лишь в больших прибрежных городах — Рио и Сан-Паулу — распространение урбанизации имело, по-видимому, достаточно прочную основу и казалось необратимым. В Сан-Паулу в 1900 году насчитывалось 240 тысяч жителей, в 1920 году — 580 тысяч, в 1928 году эта цифра перевалила за миллион, а теперь она увеличилась еще вдвое[37]. Во внутренних районах городские образования появлялись и исчезали. Таким образом, заселяясь в одном пункте, провинция в то же время пустела в другом. Перемещаясь с места на место, не увеличиваясь при этом в числе, жители меняли свой социальный тип, так что, сопоставляя заброшенные и только еще оформляющиеся города, можно было провести изучение социологических преобразований, совершившихся за чрезвычайно короткий период и столь же поразительных, как в палеонтологии, где они охватывают миллионы веков эволюции организмов.
Покидая побережье, не следовало забывать, что в течение последнего века Бразилия в большей степени просто изменилась, нежели развилась.
В период существования Бразильской империи[38] заселение страны было слабым, но распределялось оно по территории относительно равномерно. Если прибрежные или соседние с ними города оставались хилыми, то города во внутренних районах проявляли большую жизнеспособность, чем теперь. Сказался исторический парадокс, который слишком часто стараются забыть, — общая скудость средств сообщения благоприятствовала развитию лишь самых отсталых городских поселений. Когда в распоряжении людей имелась только лошадь, они испытывали меньше отвращения к путешествиям, длившимся месяцами, а не то что днями или неделями, и отправлялись в такие уголки, куда проникнуть мог только мул. Внутренняя Бразилия жила единой жизнью, медленной, но стабильной. В положенное время расстояния преодолевали по рекам, идя небольшими перегонами, на которые уходило несколько месяцев. Тропы, полностью заброшенные к 1935 году, например служившая сто лет назад тропа из Куябы в Гояс, еще играли роль в оживленной торговле, причем караваны насчитывали от пятидесяти до двухсот мулов.
Если не говорить о самых отдаленных районах, то состояние запустения, в какое пришла Центральная Бразилия в начале XX века, ни в коей мере не отражало первоначального положения дел. Оно оказалось ценой, заплаченной за рост населения и торговли в прибрежных областях, где внедрялись современные условия жизни. В то же время внутренние районы, поскольку развитие там было слишком затруднено, приходили в упадок, вместо того чтобы следовать поступательному движению в замедленном, свойственном им темпе. Так, пароходное сообщение, которое сокращает путь, во всем мире погубило промежуточные, некогда известные порты. Задаешься вопросом, не призвана ли сыграть подобную роль и авиация, приглашающая нас поиграть в чехарду с прежними остановками. В конце концов можно предположить, что механический прогресс заплатит сам за себя тот выкуп, в котором еще гнездится наша надежда, — он возвратит нам мелкую монету одиночества и забвения в обмен на ту близость, наслаждением которой лишил нас в массовом масштабе.
Менее значительным примером этих изменений служили внутренняя часть штата Сан-Паулу и соседние с ним области. Безусловно, и следа не осталось от тех маленьких городов-фортов, учреждение которых в давние времена обеспечивало обладание какой-либо провинцией и которые положили начало стольким бразильским городам на берегу океана или рек: Рио-де-Жанейро, Витория, Флорианополис на острове того же названия, Баня и Форталеза на мысу; Манаус, Обидос на берегу Амазонки или Вила-Вилья-ди-Мату-Гросу. Развалины последнего, периодически захватываемые индейцами намбиквара, все еще существуют близ Гуапоре. В прежние времена это был знаменитый гарнизон капитана ду мату — командующего участком бруссы на боливийской границе, то есть на той самой линии, которую папа Александр VI Борджиа символически провел в 1493 году через еще не изведанный Новый Свет, чтобы удовлетворить соперничающие притязания испанской и португальской корон[39].
Дальше к северу и к востоку обращали на себя внимание несколько шахтерских городов, ныне опустевших, чьи обветшалые памятники — церкви пламенеющего барокко XVIII века — яркой пышностью составляли контраст с окружающим разорением. Бурлившие жизнью, пока разрабатывались рудники, а теперь впавшие в летаргический сон, они, казалось, упорно хотели удержать в каждой выемке, в каждой складке своих витых колоннад, фронтонов с волютами и задрапированных в одежды статуй частичку богатства, породившего их упадок. Ведь за разработку подземных запасов приходилось платить ценой опустошения сельской местности, особенно лесов, древесина которых служила топливом для литейных заводов. Шахтерские города, подобно пожару, угасли на месте, исчерпав запасы горючего материала.
Штат Сан-Паулу воскрешает в памяти и другие события: борьбу, которая велась с XVI века между иезуитами и плантаторами, защищавшими каждые свою форму поселения. Первые хоте-ли вырвать индейцев из естественной среды и, сгруппировав их в поселения под своим началом, внедрить общинный образ жизни В некоторых отдаленных районах штата эти первые бразильские деревни узнаются по своему названию «алдейя» [40] или «миссан» [41], а еще лучше по просторному и функциональному плану: с церковью в центре, господствующей под прямоугольной площадью с утрамбованной землей. Поросшая травой площадь окружена улицами, которые пересекаются под прямым углом и застроены низкими домами, сменившими прежние индейские хижины. Плантаторы-фазендейрос завидовали временному могуществу миссий, которые сдерживали их лихоимство, а также лишали их возможности использовать рабский труд. Они снаряжали карательные экспедиции, после чего и священники, и индейцы разбегались. Этим объясняется странная особенность бразильской демографии — деревенская жизнь, унаследованная от алдейя, удержалась в самых бедных районах, тогда как в других местах, где богатая земля была нарасхват, населению не оставалось иного выбора, как селиться в соломенных или саманных хижинах вокруг дома хозяина, где тот постоянно держал под наблюдением своих арендаторов. Вдоль некоторых железных дорог ввиду отсутствия общинной жизни строители вынуждены были возводить станции произвольно, просто на равном расстоянии, давая им названия в алфавитном порядке: Буаркина, Фелисидади, Лиман, Марилия (к 1935 году компания «Паулиста» дошла таким образом до буквы «П»). Еще и теперь случается, что на протяжении сотен километров поезд останавливается лишь на «ключах» — остановках, обслуживающих какую-то фазенду, собирающую все население: ключ Бананал, ключ Консейсан, ключ Элиза… В некоторых случаях, напротив, плантаторы по религиозным соображениям решали оставить земли приходу. Так появлялось на свет патримонио — поселение, пользующееся покровительством какого-то святого. Когда же владелец плантации решал стать обычным поселенцем или даже оставался плантатором, но жил в городе, патримонио носило светский характер. Тогда плантатор нарекал город своим именем (Паулополис, Орландиа) или же — из политического расчета — ставил его под протекцию какой-нибудь знаменитой личности — Президенте-Пруденти, Корнелиу-Прокопиу, Эпитасиу-Пессоа… Даже за тот краткий жизненный цикл, какой выпадал на их долю, поселения умудрялись по нескольку раз переменить названия, по которым прослеживается их становление. Вначале — это простая местность, известная под прозванием, полученным по имени мелкого землевладения, затерявшегося в бруссе (например, Бататас — «картошка»), либо в связи с обстоятельствами: не хватило топлива нагреть котелок в унылом месте и появилось Фейжан-Кру — «сырая фасоль», или кончилось продовольствие на отдаленном участке, который прозвали Аррос-Сен-Сал — «рис-без-соли». Затем в один прекрасный день некий «полковник» — это звание щедро раздавалось крупным помещикам — решает приобрести влияние благодаря нескольким тысячам гектаров, полученным в концессию. Он набирает, переманивает, загоняет к себе блуждающее население, и Фейжан-Кру превращается в Леополдину, в Фернандополис. Позднее родившийся из каприза и амбиции городок хиреет и исчезает. От него остается лишь название да несколько жалких домишек, где угасает население, подточенное малярией и анкилостомозом. Иногда город приживается. В нем появляется коллективное сознание, которое старается забыть, что город служил игрушкой и орудием одного человека. Население, недавно эмигрировавшее из Италии, Германии и из полдюжины других стран, чувствует потребность иметь собственные корни и начинает искать основы в словарях индейских племен, обычно тупи, которые в его глазах облекают город доколумбовым авторитетом: Танаби, Вотупоранга, Тупан или Ай-морес.
Неудавшийся цикл демонстрируют жалкие остатки расположенных вдоль рек «мертвых» поселений, приконченных проведением железной дороги. Вначале — постоялый двор и склад у реки, где лодочники находили ночью приют, не опасаясь засад индейцев; затем, когда появились мелкие паровые суда, возникли портос-ди-ленья[42], где примерно через каждые тридцать километров колесные пароходы с тщедушной трубой останавливались для заготовки топлива; наконец, основывались речные порты на крайних точках судоходного участка, а в местах, непроходимых из-за порогов или водопадов, — перевалочные пункты.
В 1935 году свой традиционный вид сохраняли лишь два типа городов, в коих оставалась жизнь. Это были поузос, городки на перекрестках дорог, и боккос-ди-сертан — «устья бруссы», где заканчивались караванные дороги. На смену прежним видам транспорта — караванам мулов или повозкам, запряженным быками, уже приходил грузовик. Он шел по тем же дорогам, но из-за плохого их состояния двигался со скоростью, не превосходящей темпа движения вьючных животных; грузовик делал и те же остановки: шоферы в промасленных спецовках встречались там с облаченными в кожу тропейрос — погонщиками скота. Дороги не оправдывали возлагаемых надежд. Происхождение дорог различно. Это были старые караванные пути, которые некогда служили для перевозки кофе, тростниковой и сахарной водки в одном направлении и соли, сушеных овощей и муки — в другом. Время от времени посреди бруссы их перекрывали деревянные шлагбаумы, стоявшие в окружении нескольких хижин, где сомнительный представитель власти в лице крестьянина в лохмотьях требовал плату за проезд. Этим обстоятельством объяснялось появление других, более скрытых путей, которые позволяли избежать уплаты пошлин. Существовали, наконец, дороги для мулов и дороги для бычьих упряжек. На них в течение двух или трех часов подряд часто можно было слышать однообразное и душераздирающее завывание, происходящее от трения оси медленно движущейся повозки и способное, если нет привычки, свести с ума. Античного образца, ввезенные в XVI веке из стран Средиземноморья эти повозки (они не менялись там с доисторических времен) состояли из тяжелого кузова с дышлом и плетеными боковинами, покоящимися непосредственно на оси, соединенной с цельными, без ступиц, колесами. Тягловые животные тратили гораздо больше сил на преодоление скрипучего сопротивления оси кузову, нежели на продвижение вперед.
Все эти дороги возникли весьма случайно как результат того, что примерно в одном и том же направлении двигались животные, повозки и грузовики, которые и выравнивали их. Однако из-за дождей, обвалов или растительности каждый старался проложить себе путь, наиболее удачный в данных обстоятельствах, так что образовалось сложное переплетение рвов и обнаженных склонов, иногда соединяющихся и достигающих в этих случаях сотни метров в ширину подобно бульвару посреди бруссы или же, наоборот, расходящихся на четыре стороны света. При этом никому неведомо, какую из этих нитей Ариадны следует выбрать, чтобы, преодолев за много часов километров тридцать опасного пути, не оказаться затерянным посреди песков и болот.
В сезон дождей дороги, превратившись в канавы с жирной грязью, становились непроходимыми, но первый же преодолевший грязь грузовик прокладывал в глине глубокие колеи, которые спустя три дня благодаря засухе становились твердыми, как цемент. У шедших следом машин не оставалось другого выбора, как попадать колесами в эти канавы и ехать по ним, что было возможно лишь при одинаковом расстоянии между колесами и равной высоте заднего моста у машин. Если же рама сидела ниже, машину внезапно подбрасывало вверх на своде тропы и она повисала на плотном цоколе, который приходилось срывать заступом. А если расстояние между колесами не соответствовало колее, тогда целыми днями случалось ехать с риском опрокинуться в любую минуту, так как колеса с одной стороны находились внизу, а другие висели в воздухе.
Мне все еще памятно одно путешествие, в жертву которому был принесен новенький «форд». Мы решили проехать столько, сколько выдержит машина. Путешествие закончилось в полутора тысячах километров от Сан-Паулу, в хижине семьи индейцев каража на берегу реки Арагуая. На обратном пути передние рессоры лопнули, и мы проехали сотню километров, поставив двигатель непосредственно на ось. На протяжении следующих шестисот километров его поддерживала металлическая пластина, которую согласился выковать деревенский кузнец. Но мне особенно запомнились те часы тревожной езды в наступившей темноте — ибо деревни встречаются редко на стыке штатов Сан-Паулу и Гояс, — когда мы не знали, в какой момент нас подведет та колея, которую мы выбрали среди десятка других. Внезапно в темноте возник городок — поузо, усыпанный дрожащими звездочками — электрическими лампочками, получающими питание от движка. Мы уже несколько часов различали стук этого движка, но ухо путало его с ночными звуками бруссы. Постоялый двор предоставил нам металлические кровати и гамаки, а на заре мы уже катили по главной улице города с его домами и базарами, площадью, занятой торговцами, докторами, дантистами и даже бродячими нотариусами. В ярмарочные дни оживление нарастает: сотни живущих на отшибе крестьян покидают по этому случаю свои халупы и всей семьей пускаются в многодневное путешествие, чтобы раз в год продать теленка, мула, шкуру тапира или пумы, несколько мешков кукурузы, риса или кофе и привезти в обмен на это хлопчатобумажную материю, соль, керосин для лампы и немного зарядов для ружья. На заднем плане тянется плоскогорье, поросшее густым кустарником с отдельными деревцами. Эрозия недавнего происхождения— лес был вырублен лишь полвека назад — слегка прошлась по нему как бы осторожными ударами тесла. Перепадами уровня в несколько метров очерчиваются террасы и обозначаются зарождающиеся овраги. Неподалеку от широкого, но неглубокого водного потока — скорее своенравного разлива, нежели реки с устоявшимся руслом, — две-три параллельных улицы окаймляют обнесенные оградой пышно разросшиеся участки с саманными ранчо, крытыми черепицей и сверкающими белизной своей известковой побелки, еще более яркой из-за коричневого обрамления ставен и блеска ярко-красной почвы. От первых же построек, похожих на крытые санки своими фасадами и большими незастекленными, почти всегда распахнутыми окнами, начинаются прерии, поросшие жесткой травой, до основания объеденной скотом. Организаторы ярмарки завезли до ее начала запасы фуража: ботву сахарного тростника или молодые пальмовые листья, спрессованные с помощью веток или травяных жгутов. Посетители со своими повозками на цельных колесах, обитых по окружности гвоздями, располагаются лагерем на свободном пространстве между этими кубическими блоками. Свежеплетеные перегородки, крыша из бычьих шкур, укрепленная с помощью тросов, служат в пути жилищем, которое здесь дополняется навесом из пальмовых веток или тентом из материи, прикрепленным к задней части повозки. Под открытым небом варятся рис, черная фасоль и сушеное мясо; голые ребятишки бегают между ногами быков, пережевывающих тростник, гибкие стебли которого свисают у них изо рта подобно зеленым струям воды.
Спустя несколько дней все разъезжаются; путешественники рассеиваются по бруссе. Деревня дремлет на солнце, в течение целого года ее жизнь сводится лишь к однодневному оживлению виллас-ду-доминго — «воскресных поселков», пустующих в будние дни. По воскресеньям всадники встречаются на пересечении троп, где обосновалась винная лавочка да стоит несколько хижин. Сцены, подобные предыдущей, без конца повторяются в Бразилии, когда удаляешься от побережья в глубь страны на север или на запад, туда, где брусса тянется вплоть до болот Парагвая или галерейных лесов на притоках Амазонки. Деревни становятся редкими, а разделяющие их пространства все более обширными. Иногда это открытая местность, то есть «чистая» саванна, иногда покрытая кустарником, и тогда она называется «грязная» саванна. Встречаются также серрадо и коатинга — две разновидности лесных зарослей.
В южном направлении, к штату Парана, ландшафты иные: местность возвышенная, а породы — вулканического происхождения. В климате уже заметно постепенное удаление от тропиков.
В этих местах остатки коренного населения, живущего неподалеку от культурных центров, тесно соприкасаются с самыми современными формами колонизации внутренних территорий страны. Вот почему свои первые вылазки я решил совершить в этот район северной Параны. Миновав границу штата Сан-Паулу, проходящую по реке Парана, через двадцать четыре часа добираешься до большого хвойного леса. Лес этот долгое время препятствовал проникновению колонистов и практически оставался девственным до 1830 года. Там встречались лишь группы индейцев, да отдельные первопроходцы, как правило, бедные крестьяне, выращивавшие кукурузу на маленьких расчищенных участках.
В то время когда я приехал в Бразилию, освоение этой области только начиналось. Через лес медленно продвигалась железная дорога. Примерно через каждые пятнадцать километров у кромки расчищенного участка размером в один квадратный километр строили станцию. Со временем она заселялась, а потом становилась городом.
Путешествуя по этим местам верхом на лошади или в грузовике, пользуясь недавно проложенными по гребням гор дорогами наподобие римских в Галлии, невозможно было догадаться, какая здесь шла жизнь. Продолговатые освоенные участки упирались с одной стороны в дорогу, а с другой — в ручей, который бежал по дну долины. Люди устраивались внизу, около воды, а линия выкорчевки медленно поднималась по склону. Поэтому сама дорога, символ цивилизации, оставалась в плотном окружении леса.
Но на дне долин между стволами поваленных деревьев и между пнями уже пробивались первые посадки, как всегда дающие баснословные урожаи на этой терра роса, фиолетовой и девственной земле. Зимние дожди превратят древесные остатки в плодородный перегной и почти сразу же сами смоют его со склонов вместе с перегноем, которым питался вырубленный лес, поскольку исчезли удерживавшие его корни. Через сколько же лет эта обетованная земля обратится в бесплодную и разоренную?
Но пока что эмигранты наслаждались многотрудными радостями изобилия. Не успев даже построить себе дом и деля кров со скотом в дощатом загоне на берегу ручья, они славили эту чудодейственную ниву, чей нрав следовало обуздать подобно дикой лошади, чтобы кукуруза и хлопчатник стали давать плоды, а не уходили в роскошную зелень. Какой-то немецкий земледелец плакал от радости, показывая нам рощу лимонных деревьев, выросших из нескольких зернышек. Этих людей, приехавших с Севера, поражали не только плодородие, но, быть может, в еще большей степени необычные растения, известные им лишь по волшебным сказкам. Поскольку эта местность лежит на границе между тропической и умеренной зоной, разница в несколько метров высоты соответствует заметным климатическим различиям. Рядом друг с другом росли пшеница и сахарный тростник, лен и кофе. Молодые города в этой зоне — Лондрина, Нова-Данциг, Роландня и Арапонгас — появились на свет после решения, принятого группой инженеров и финансистов, так же как веком раньше появилась Куритиба.
Куритиба, столица штата Парана, возникла на карте в тот день, когда правительство решило создать город. Приобретенная, у одного владельца земля была пущена в продажу участками по достаточно дешевой цене, что вызвало приток населения.
В отношении Гоянии отважились на еще большее, вознамерившись на голом месте построить ее как федеральную столицу Бразилии [43].
Примерно на трети расстояния, отделяющего южное побережье от течения Амазонки, простираются обширные плоскогорья, вот уже два века как забытые человеком. В эпоху караванов и речного сообщения их пересекали за несколько недель, направляясь от рудников на север. Таким путем попадали сначала на берега Арагуаи, а затем спускались по реке до Белена. Единственный свидетель этой прежней провинциальной жизни — маленькая столица штата Гояс, которая дала ему свое имя, дремала в тысяче километров от побережья, практически отрезанная от него. На зеленеющей местности, обрамленной капризным силуэтом холмов с колышущимися на них султанами пальм, с пригорков спускались улицы, окаймленные низкими домами. Они пересекали сады и площади, где перед церквами с нарядными окнами — то ли это риги, то ли дома с колокольнями — проезжали повозки. Колоннады, украшения из искусственного мрамора, фронтоны, всегда освеженные штукатуркой, пенистой, как белок, и слегка подкрашенной охрой или кремовой, голубой, розовой краской, рождали в представлении пасторальный стиль испанского барокко.
Река текла между поросшими мхом набережными, местами обрушившимися под тяжестью лиан, бананов и пальм, которые заполнили покинутые участки. Но эта роскошная растительность, казалось, не столько накладывала на них печать запустения, сколько дополняла обветшалые фасады домов молчаливым достоинством.
Уж не знаю, сожалеть ли об абсурдности приговора или радоваться ему — администрация решила предать забвению Гояс, его окрестности, его спуски и его вышедшую из моды прелесть. Он казался
слишком маленьким, слишком старым. Для задуманного грандиозного начинания по строительству столицы требовалось совершенно чистое место. Его нашли в ста километрах восточнее — на плоскогорье, покрытом лишь жесткой травой и колючим кустарником, словно на него обрушился бич, враг всего живого. Туда не вели ни железная, ни автомобильная дороги, разве что тропы, годные для повозок.
На карту нанесли символический квадрат со стороной в сто километров; он соответствовал этой территории резиденции федерального округа, в центре которого должна была вознестись будущая столица. Поскольку естественных препятствий не было, архитекторы получили возможность работать на месте словно на чертежной доске. План города начертили на земле, наметили его периметр, различные зоны внутри его: жилую, административную, торговую, промышленную и ту, что предназначалась для увеселений (она все еще занимает немаловажное место в любом городе; первопроходцев).
Изо дня в день газеты давали объявления на всю страницу. Сообщалось об основании города Гояния, при этом публиковался такой подробный план, как если бы городу насчитывалось лет сто. Перечислялись преимущества, обещанные жителям: система шоссейных и грунтовых дорог, железнодорожный путь, водопровод, канализация и кинотеатры. Если я не ошибаюсь, землю вначале, то есть в 1935–1936 годах, даже предлагали в качестве бесплатного приложения тем покупателям, которые были готовы оплатить издержки на заключение купчей, ибо нотариусы и спекулянты первыми заняли город.
Я побывал в Гоянии в 1937 году. На бескрайней равнине, похожей на пустырь или поле битвы, ощетинившееся электрическими столбами и межевыми колышками, виднелось около сотни новых беспорядочно разбросанных домов. Самый большой был занят отелем — бетонным параллелепипедом, напоминавшим среди этой-плоской местности аэровокзал или небольшую крепость. Его хотелось бы назвать «бастионом цивилизации» не в переносном, а в прямом смысле слова, который тем самым получал в высшей степени ироническое значение. Лишенная всякого изящества постройка являла собой противоположность Гоясу: никакого прошлого, никакой давности, никакой привычки — ничто не заполняло пустоту и не смягчало напряженности. Человек чувствовал себя здесь как на вокзале или в больнице — временным жителем. Лишь страх перед каким-то катаклизмом мог оправдать возведение подобного ' каземата. Кадм[44], цивилизатор, посеял зубы дракона, думая, что на земле, обнаженной и сожженной дыханием чудовища, взойдут люди.
III. Кадиувеу
Парана
Туристы, располагайтесь лагерем на берегах Параны! Или нет, лучше воздержитесь от этого. Оставьте свою грязную бумагу, не поддающиеся уничтожению бутылки и пустые консервные банки для европейских ландшафтов. Там и разбивайте свои палатки. Но за пределами полосы, освоенной первопроходцами, пока не поздно, пощадите стремительные пенящиеся потоки, которые скачут, низвергаются по ступеням, прорытым в фиолетовых базальтовых откосах. Не топчите терпкой свежести густых мхов. Да замедлятся ваши шаги при подходе к необитаемым прериям и густому влажному лесу, где хвойные деревья, разрывающие сплетения лиан и папоротников, напоминают перевернутые к небу наши ели. Это не заостренные к вершине конусы, а, напротив, громоздящиеся друг над другом вокруг ствола шестиугольные подносы из ветвей, которые чем выше, тем все более расширяются, вплоть до последнего, выглядящего как гигантский зонт. Девственный и величественный пейзаж, будто не менявшийся сотни миллионов лет, отделяющих нас от каменноугольного периода. Высотное расположение и удаленность от тропика избавили этот лес от амазонского буйства и, наоборот, придали ему необъяснимую торжественность и стройность. Он выглядит так, словно в незапамятные времена здесь обитала более мудрая и более сильная, чем наша, раса, исчезновение которой сделало доступным для нас этот величественный парк, ныне ставший царством тишины и запустения.
На этих землях, раскинувшихся по обоим берегам реки Тибажи примерно на высоте одна тысяча метров над уровнем моря, я впервые соприкоснулся с индейцами, когда сопровождал в служебной поездке главу одного из департаментов «Службы защиты индейцев».
В эпоху открытия Бразилии вся ее южная часть была пристанищем индейских племен, родственных по языку и культуре и известных под названием «жес». Они, очевидно, ранее были оттеснены индейцами, говорящими на языке тупи, которые уже занимали всю прибрежную полосу и против которых жес боролись.
Отступив, южнобразильские жес поселились в труднодоступной местности, благодаря чему они на несколько веков пережили тупи, с которыми быстро покончили колонизаторы. В лесах южных штатов Парана и Санта-Катарина мелкие группы индейцев продержались вплоть до XX века, а некоторые, быть может, дожили даже до 1935 года. Однако в течение последнего столетия их подвергали столь жестокому преследованию, что они скрылись. Большинство же было взято под контроль и в 1914 году поселено бразильским правительством в нескольких центрах. Вначале делались попытки приобщить индейцев к современной жизни. В деревне Сан-Жерониму, служившей мне базой, прежде существовали слесарня, лесопильня, школа, аптека. Пост «Службы» регулярно получал инструменты: топоры, ножи, гвозди, распределял одежду и одеяла. Лет через двадцать от этих попыток отказались, предоставив индейцам право рассчитывать только на собственные силы. <: Служба защиты» проявила к ним то безразличие, жертвой которого со стороны общественных властей она стала сама (с тех пор ей, правда, удалось частично восстановить некоторый авторитет). Вопреки своему желанию она оказалась поэтому вынужденной прибегнуть к другому методу — призвать местных уроженцев самим проявить инициативу и возвращаться к самостоятельному образу жизни.
Из своего эфемерного знакомства с современной цивилизацией индейцы переняли лишь бразильскую одежду, топор, нож и швейную иглу. Во всем остальном эта цивилизация потерпела поражение. Им построили дома, а они жили на улице. Пытались поселить их в деревнях, а они продолжали кочевать. Кровати они разломали на дрова, спать же ложились прямо на земле. Присланные правительством стада коров бродили где попало, поскольку индейцы с отвращением отказывались от мяса и молока. Деревянные песты, приводимые в движение механическим способом, путем переменного наполнения и опорожнения сосуда, закрепленного на одном плече рычага (распространенное в Бразилии приспособление мон-жоло, которое португальцы ввезли, возможно, с Востока), гнили без употребления, тогда как толочь индейцы продолжали вручную.
Итак, к моему большому огорчению, индейцы с берегов Тибажинг оказались ни «настоящими индейцами», ни тем более «дикарями».
И все же, лишив поэтического налета мое наивное, как у всякого начинающего этнографа, представление об ожидаемых исследованиях, индейцы преподнесли мне урок осторожности и объективности. Хотя цивилизация затронула их гораздо больше, чем можно было предположить, вскоре я обнаружил, что понять их не так легко, как могло бы показаться, если судить по внешним атрибутам. Они в полной мере иллюстрировали социологическую ситуацию (во второй половине XX века ставшую исключением), при которой «первобытным людям» внезапно навязывается цивилизация. Когда же предполагаемая опасность, связанная с ними, была устранена, интерес к ним пропал.
Некоторые старинные традиции индейцев устояли перед влиянием белых. Они, например, по-прежнему опиливали и инкрустировали зубы. С другой стороны, заимствования из современной цивилизации превращали их культуру в оригинальную систему, освоение которой, хотя и было лишено предполагаемой экзотики, послужило для меня школой не менее ценной, чем позднейшее изучение «настоящих» индейцев.
Но главным все же явилось странное нарушение внешнего равновесия между культурой современной и первобытной. Было бы ошибочным забывать о живучей близости прошлого, из которого появлялись традиционные жизненные привычки и навыки. Откуда взялись эти восхитительно отполированные каменные пестики, попадавшиеся в жилищах индейцев вместе с эмалированными тарелками, купленными на базаре ложками и иногда даже с остовом швейной машины? Что это — результат совершаемых в тиши леса торговых обменов с оставшимися «дикими» племенами, чьи воинственные действия закрывали доступ в некоторые области на Паране?
Эти наводящие на размышления атрибуты продолжают существовать как свидетели той эпохи, когда индеец не был знаком ни с постройками, ни с одеждой, ни с металлической посудой. Прежние навыки подсознательно сохраняются в памяти людей. Для получения огня индеец по-прежнему отдает предпочтение вращению или трению двух палочек из мягкого дерева пальмито, а не хорошо ему известным, но дорогим и с трудом приобретаемым спичкам. Розданные когда-то правительством ветхие ружья и пистолеты ныне очень часто бесполезно висят в покинутых домах, в то время как мужчины охотятся в лесу с луком и стрелами, которые они изготовляют так же искусно, как делали это и до знакомства с огнестрельным оружием. Старинные жизненные уклады, лишь завуалированные вмешательством официальных властей, теперь вновь прокладывают себе путь — так же неторопливо и уверенно, как бороздят глубины тропического леса колонны индейцев, движущиеся по узким тропинкам вдали от заброшенных ими деревень, в которых ветшают дома.
Недели две мы передвигались на лошадях по незаметным тропам, пересекая обширные лесные пространства. Нам нередко приходилось продолжать путь и после наступления ночи, чтобы добраться до хижины, где можно остановиться. Не знаю, каким образом удавалось лошадям ставить ноги на твердую землю в этой темноте, совершенно непроницаемой из-за растительности, смыкавшейся над нашими головами на высоте тридцати метров. Помню долгие часы тряской езды иноходью. Когда лошади спускаются по крутому склону, вас бросает вперед и, чтобы не упасть, нужно успеть ухватиться рукой за высокую луку крестьянского седла. По идущему от земли свежему запаху и звонкому плеску мы догадываемся, что перебираемся вброд. Затем, оседая назад и спотыкаясь, лошадь взбирается на противоположный берег. От ее беспорядочных, непонятных в темноте движений создается впечатление, что она хочет отделаться и от седла и от всадника. Обретя равновесие, вам приходится оставаться начеку и, подчиняясь необъяснимой интуиции, еще ничего не видя, вовремя, по крайней мере один раз из двух, втягивать голову в плечи, чтобы не наткнуться на низко растущую ветку.
Вскоре улавливаем какой-то звук вдали; это уже не рычание ягуара, только что слышанное в сумерках. На этот раз лает собака— близок привал. Через несколько минут проводник меняет направление, вслед за ним мы въезжаем на небольшой необработанный участок. Ограда из бревен, расколотых вдоль, отделяет загон для скота. Перед хижиной, сложенной из непригнанных стволов пальмовых деревьев и увенчанной соломенной крышей, суетятся два человека в одежде из тонкой белой хлопчатобумажной ткани. Это наши хозяева: муж, наиболее вероятно португальского происхождения, и жена-индеанка. При свете горящего фитиля, опущенного в бензин, осматриваемся: земляной пол, стол, дощатая постель, несколько ящиков вместо стульев, а в очаге из глины — кухонная утварь: бидоны, пустые консервные банки. Торопливо вешаем гамаки, натягивая веревки через щели в стенах, или же отправляемся спать на улицу под навес, защищающий от дождя собранную кукурузу. Как ни странно, но куча сухих початков, еще не очищенных от листьев, образует удобное ложе; продолговатые, они скользят друг по другу и сообразуются с фигурой спящего человека. Тонкий аромат, травянистый и сладковатый, сушеной кукурузы действует удивительно успокаивающе. Тем не менее на заре пробуждаешься от холода и сырости. Молочный туман стелется по опушке. Быстро возвращаемся в хижину, где очаг освещает постоянную полутьму этого жилища без окон, стенки которого больше похожи на неплотную ограду.
Хозяйка готовит кофе, поджаренный и отливающий чернотой на слое белого сахара, кукурузные зерна, растолченные в хлопья, с ломтиками сала. Собираем лошадей, седлаем их и уезжаем. Через несколько минут струящийся влагой лес смыкается вокруг оставленной позади хижины.
Резервация Сан-Жерониму занимает приблизительно сто тысяч гектаров, с индейским населением в четыреста пятьдесят человек, размещенных в пяти или шести поселках. По статистическим данным, полученным на посту, я смог перед своим отъездом оценить размеры опустошений, причиненных малярией, туберкулезом и алкоголизмом. За последние десять лет общее число новорожденных не превышало сто семьдесят, тогда как только детская смертность достигала ста сорока человек. Мы посетили деревянные дома, построенные на средства федерального правительства; на берегу рек они объединялись в деревни из пяти — десяти очагов. Мы видели и отдельно стоящие хижины, которые иногда строят индейцы: квадратный клочок земли, огороженный стволами пальмито. Связанные лианами стволы прикрывают крышей из листьев, которую прикрепляют к стене только по; четырем углам. Наконец и мы попали под такой навес из ветвей, где рядом с пустующим домом порой живет вся семья.
Жители обычно собираются вокруг огня, который горит днем и ночью. Мужчины, как правило, одеты в истрепанную рубашку и старые брюки, женщины — в хлопчатобумажное платье, надетое прямо на тело, иногда они заворачиваются в одеяло, пропущенное под мышками, а дети ходят абсолютно голыми. Все носят, как и мы в пути, широкие соломенные шляпы, их изготовление — единственное ремесло и единственный источник дохода. Монгольский тип очевиден у представителей обоего пола и любого возраста? небольшой рост, широкое плоское лицо, выступающие скулы, веко; со складкой, желтая кожа, черные прямые волосы, которые женщины носят либо длинными, либо короткими, редкий или отсутствующий волосяной покров на теле. Живут в одном помещении, тут же в золе пекут сладкие бататы. Их вытаскивают оттуда длинными бамбуковыми щипцами и едят, когда придется. Спят на тонкой подстилке из папоротника или на циновке из маисовой соломы, вытянув ноги к огню. Несколько тлеющих углей и стенка из плохо пригнанных бревен представляют слабую защиту от леденящего ночного холода на тысячеметровой высоте.
Из такого единственного помещения состоят дома, построенные индейцами, но и в домах, поставленных властями, также используется только одна комната. Именно в ней, прямо на земле, в беспорядке, вызывавшем возмущение наших проводников-кабокло[45] из соседнего сертана, разложено все богатство индейца вперемежку— предметы бразильской промышленности и местного ремесла. В числе первых обычно топор, ножи, эмалированные тарелки и металлическая посуда, тряпки, иголки и нитки, иногда несколько бутылок и даже зонтик. Утварь тоже примитивна: несколько низких деревянных табуретов, сделанных индейцами гуарани, которые употребляют и кабокло; корзины всех размеров и для всех надобностей, исполненные в технике «перекрестной инкрустации», столь распространенной в Южной Америке. Тут же сито для муки, деревянная ступка, деревянные или каменные пестики, несколько гончарных изделий; наконец, громадное количество сосудов раз личной формы и различного назначения, изготовленных из выскобленной и высушенной тыквы. С каким трудом заполучаешь хоть какой-нибудь из этих жалких предметов! Необходимый дружеский контакт не всегда удается установить и с помощью привезенных нами стеклянных колец, бус и брошек. Для начала знакомства мы распределяем их среди всех членов семьи. Даже предложение заплатить за посуду мильрейсами[46] в количестве, чудовищно не соответствующем ее скромному виду, оставляет владельца равнодушным. «Это невозможно. Если бы сделал ее собственноручно, тогда, конечно, отдал бы, но он сам приобрел ее давно у одной старой женщины, только она умеет изготовлять такие вещи. Если он нам ее отдаст, то чем же будет пользоваться.
Сама «старая женщина», разумеется, всегда отсутствует. Где же она? «Он не знает, — неопределенный жест, — там, в лесу…» Впрочем, что значат все наши мильрейсы для старого, дрожащего от лихорадки индейца, здесь, в ста километрах от ближайшего магазина, принадлежащего белым? Стыдишься, что отнимаешь у этих обездоленных людей даже самый небольшой нужный им предмет, потеря которого кажется им невосполнимой.
Но зачастую дело оборачивается иначе. «Не хочет ли индеанка продать мне этот горшок?» — «Да, конечно, хочет. Но, к несчастью, он не ее». — «А чей же?» Молчание. «Ее мужа?» — «Нет». — «Ее брата?» — «Тоже нет». — «Ее сына?» — «И не его». Горшок принадлежит внучке. Внучка неизбежно владеет всеми теми предметами, которые мы хотим купить. Мы наблюдаем, как их владелица (ей года три или четыре), присев на корточки у огня, полностью поглощена кольцом, которое я только что надел ей на палец. С «барышней» начинаются долгие переговоры, в которых родственники не принимают никакого участия. Кольцо и пятьсот рейсов оставляют ее равнодушной. Дело решают брошка и четыреста рейсов.
Индейцы кайнканг немного обрабатывают землю, однако главными их занятиями являются рыбная ловля, охота и собирательство. В способах рыбной ловли они столь неумело подражают белым, что, должно быть, не получают хороших уловов: гибкая ветка, бразильский крючок, закрепленный небольшим кусочком смолы на конце лески, иногда простая тряпка вместо сети. От охоты и собирательства полностью зависит их кочевая жизнь в лесу, где семьи исчезают на целые недели, добираясь сложными маршрутами до своих, известных только им убежищ. Иногда на повороте тропинки нам встречаются небольшие группы. Они внезапно появляются из леса и тотчас же снова исчезают в нем. Во главе шагают мужчины, вооруженные луком, с который охотятся на птиц, стреляя шариками; на плече — плетеный колчан с метательными снарядами из высушенной глины. За мужчинами идут женщины; все «семейное богатство» они несут в корзине, которую удерживают при помощи перекинутой через лоб матерчатой ленты или широкого ремня из коры. Там же путешествуют дети и домашние вещи. Мы обмениваемся с индейцами несколькими словами, придерживаем лошадей, но они едва замедляют шаг, и в лесу снова наступает тишина. Мы понимаем только, что ближайший дом окажется пуст, впрочем, как и множество других. Как надолго?
Эта кочевая жизнь может продолжаться дни или недели. Сезон охоты, сбора плодов — апельсинов и лимонов — вызывает массовые перемещения населения. В каких укрытиях живут они в глубине леса? В каких тайниках хранят свои луки и стрелы? В домах эти предметы можно увидеть лишь случайно позабытыми в каком-нибудь углу. С какими преданиями, ритуалами и верованиями связана жизнь этих людей?
Огородничество занимает в их примитивном хозяйстве последнее место. Иногда среди леса встречаешь обработанные участки.
Вокруг стеной стоят высокие деревья, окружая несколько десятков квадратных метров, занятых жалкой зеленью: бананами, сладкими бататами, маниоком и кукурузой. Зерно сначала сушат на огне, затем его в ступке растирают женщины, работающие в одиночку или вдвоем. Муку едят прямо так или смешивают с жиром, приготовляя своего рода пирог; эту пищу дополняет черная фасоль. Едят мясо дичи и полудомашних свиней; его всегда жарят над огнем, нанизав на ветку.
Следует еще упомянуть коро — бледные личинки, которые кишат на стволах гниющих деревьев. Индейцы, уязвленные насмешками белых, не признаются в своем пристрастии к этим тварям и энергично отрицают, что едят их. Но стоит проехать по лесу, как увидишь на земле двадцати- или тридцатиметровый след от большой сосны, поваленной бурей. Ее искромсали те, кто искал коро. А когда неожиданно входишь в дом индейца, то успеваешь заметить наполненную этим ценным лакомством чашу, которую торопливо прикрывают рукой.
Нелегко увидеть, как собирают коро. Мы долго, как заговорщики, обдумываем свой план. Один индеец, страдающий лихорадкой и оставленный в покинутой деревне, показался нам подходящим для ознакомления с этой процедурой. Даем ему в руки топор и говорим, что хотим поесть коро. Под ударом топора обнажаются тысячи ходов, проделанных в самой глубине древесины. В каждом из них находится крупное существо кремового цвета, очень похожее на шелковичного червя. Теперь пришла наша очередь. Под бесстрастным взглядом индейца я обезглавливаю свою дичь. Из тела выскальзывает беловатый жир, который я пробую не без колебания: по консистенции и виду он похож на сливочное масло, а по вкусу — на молоко кокосовых орехов.
Пантанал
После такого «крещения» я был готов к настоящим приключениям. Случай мог представиться в течение университетских каникул, которые в Бразилии приходятся на период с ноября по март, то есть на сезон дождей. Несмотря на это неудобство, я намеревался добраться до двух индейских групп. Одна была плохо исследована и, может быть, уже уменьшилась на три четверти — это кадиувеу на парагвайской границе. Другая известна лучше, но все же обещала новые открытия — это бороро в Центральном Мату-Гросу. Кроме того, Национальный музей в Рио-де-Жанейро предлагал мне разведать одну археологическую стоянку, упоминание о которой мелькало в архивах. Она лежала на моем пути, а раньше ни у кого не доходили до нее руки.
С тех пор я часто путешествовал между штатами Сан-Паулу и Мату-Гросу то самолетом, то на грузовике и, наконец, в поезде и на пароходе. Двумя последними видами транспорта я пользовался и в 1935–1936 годах; действительно, упомянутая стоянка находилась по соседству с железной дорогой, неподалеку от конечного пункта — Порту-Эсперанса, на левом берегу реки Парагвай. Не многое расскажешь об этом утомительном путешествии. Компания железных дорог «Нороэсте» доставляет вас сначала в город Бауру, лежащий прямо посреди зоны первопроходцев. Там вы садитесь на «ночной поезд», пересекающий южную часть штата Мату-Гросу. В целом три дня пути в поезде, который отапливался дровами и катил не торопясь, часто и подолгу останавливаясь, чтобы запастись топливом. Вагоны деревянные и в изрядных щелях: проснувшись, вы обнаруживали на лице корку затвердевшей глины, образуемой всепроникающей тонкой красной пылью сертана. Еда в вагоне-ресторане уже обычная для внутренних районов страны: свежее или сушеное мясо, рис, черная фасоль с соусом, куда добавляли для густоты фаринью — мякоть свежей кукурузы или маниока, высушенную и растертую в грубый порошок; наконец, неизменный бразильский десерт — ломтик мармелада из айвы или гуайявы с сыром. На каждой станции ребятишки продавали пассажирам за несколько мелких монет сочные ананасы с желтой мякотью, которые приносили долгожданное чувство освежения. Поезд, пересекая Парану недалеко от станции Трес-Лагоас, въезжает в штат Мату-Гросу. Река разлилась так широко, что, несмотря на уже начавшиеся дожди, во многих местах виднеется дно. Затем начинается тот пейзаж, который станет для меня одновременно привычным, невыносимым и необходимым в ходе моих многолетних странствий по внутренним районам, ибо он характерен для Центральной Бразилии, начиная от реки Параны до бассейна Амазонки. Это ровные и слегка волнистые плоскогорья, бесконечные, уходящие вдаль горизонты, неизменная кустарниковая растительность и время от времени встречающиеся стада зебу, которые рассыпаются при приближении поезда. Многие путешественники допускают бессмыслицу, переводя с португальского «мату-гросу» как «большой лес»: «лес» передается словом женского рода mata (мата), тогда как мужского рода mato (мату) означает кустарник и выражает дополнительный аспект южноамериканского пейзажа. Мату-Гросу — это большая брусса или, точнее, «густые заросли кустарников», и ни один другой термин не подошел бы лучше к этой дикой и печальной местности, монотонность которой являет собой, однако, нечто грандиозное и возбуждающее.
Правда, и слово «сертан» я перевожу как «брусса». Этот термин имеет несколько иную окраску: «мату» относится к объективному характеру пейзажа и обозначает бруссу по контрасту с лесом, тогда как «сертан» касается субъективного аспекта — пейзаж по отношению к человеку, то есть брусса, противостоящая заселенным и обрабатываемым землям; это области, где человек не обосновывается надолго. Слово «блед»[47] в колониальном жаргоне является, пожалуй, его точным эквивалентом. Иногда плоскогорье уступает место поросшей лесом и травой долине, почти что веселой под ясным небом. Между Кампу-Гранди и Акидауаной в глубоком изломе обнажаются пламенеющие скалы серры Маракажу, где среди ущелий, в Корриентес, приютился гаримпо, то есть алмазный прииск. Но вдруг все меняется. Миновав Акидауану, сразу же попадаешь в Пантанал [48] — огромное болото, занимающее бассейн верхнего течения реки Парагвай.
С самолета эта местность кажется обилием рек, петляющих по низинам, выглядит как сеть изгибов и излучин со стоячей водой. Русло реки окружено бледными извилинами, как будто природа колебалась, какой же выбрать для него временный путь. Когда оказываешься на земле, пейзаж становится нереальным. На вершинах небольших холмов, похожих на плывущие ковчеги, находят убежище стада зебу. А на затопленных болотах стаи крупных птиц — фламинго и белых цапель — образуют белые и розовые острова. Разбросанные тут и там рощи веерообразных пальм каранда, чьи листья содержат драгоценный воск, нарушают псевдовеселый ландшафт этой водной пустыни.
Мрачное Порту-Эсперанса остается в моей памяти как самое причудливое место, какое можно найти на земном шаре, за исключением, может быть, Файр-Айленда в штате Нью-Йорк. Теперь мне приятно сравнивать их, поскольку оба они схожи в том, что объединяют в себе самые противоречивые особенности, но каждый в своем ключе. В них нашла выражение одна и та же абсурдность в географическом и человеческом планах, но здесь она комичная, а там зловещая. Не Свифт ли выдумал Файр-Айленд? Это песчаная, лишенная растительности коса, простирающаяся на широте Лонг-Айленда. Она вся вытянулась в длину и не имеет ширины: 80 километров в одном направлении, от 2 до 300 метров в другом. Со стороны океана море открытое, но такое бурное, что в нем не разрешается купаться; со стороны суши оно всегда мирное, но такое неглубокое, что там невозможно окунуться. Время поэтому проводят за ловлей рыбы, которая несъедобна. Чтобы она не оставалась гнить, расставленные на равном расстоянии вдоль пляжей плакаты предписывают рыбакам закапывать ее в песок сразу же, как только вытащат ее из воды. Дюны на Файр-Айленде такие непостоянные и так ненадежно расположены над водой, что другие плакаты запрещают ходить по ним из опасения, что они обвалятся в набегающие волны. Венеция наизнанку, здесь земля текуча, а каналы прочны: чтобы передвигаться, жители Черри-Гроув, поселка, занимающего срединную часть острова, вынуждены пользоваться деревянными пешеходными мостиками, образующими свайную дорожную сеть.
Файр-Айленд производит впечатление веселого фарса, чьей копией, предназначенной для более каторжного поселения, служит Порту-Эсперанса. Ничто не оправдывает его существования, разве что опора моста железнодорожной линии, протянувшейся на полторы тысячи километров через почти необитаемую местность. Отсюда связь с внутренними районами поддерживается лишь по воде, а рельсы заканчиваются над топким берегом, едва укрепленным досками, которые играют роль пристани для небольших речных судов. Здесь нет других жителей, кроме железнодорожных служащих; нет и других домов, кроме тех, где они живут. Это деревянные бараки, построенные посреди трясины. До них добираются по качающимся доскам, которые сплошь пересекают освоенную зону. Мы устроились
в домике, предоставленном в наше распоряжение компанией, — однокомнатной коробке кубической формы, взгромоздившейся на высокие сваи, куда взбираешься по лестнице. Дверь открывается в пустоту над запасным железнодорожным путем; на заре нас будит свисток локомотива, отныне играющего роль нашего личного транспорта. Ночи мучительны: влажная жара, болотные москиты, осаждающие наше убежище, противомоскитные сетки, конструкция которых, тщательно продуманная перед отъездом, оказалась никуда негодной, делают сон невозможным. В пять часов утра, когда локомотив пронизывает паром тонкий пол домика, жара предыдущего дня еще не спадает. Тумана нет. Несмотря на влажность, небо свинцовое, и давящая атмосфера затрудняет дыхание. К счастью, локомотив едет быстро, и мы, сидя на ветру и свесив ноги над паровозным башмаком для очистки рельсов, стряхиваем с себя ночную вялость.
Единственный путь (здесь проходят два поезда в неделю) кое-как уложен через трясину, и с этого непрочного «мостика» локомотив словно норовит каждую минуту сойти. С одной и с другой стороны от рельсов тинистая и отвратительная вода испускает зловоние. А ведь именно эту воду нам придется пить в течение предстоящих недель.
Справа и слева поднимаются кусты, редкие, как во фруктовом саду. На расстоянии они представляются темной массой, тогда как под их ветками отраженное водой небо образует сверкающие пятна. Кажется, что все томится в тепловатой атмосфере, благоприятствующей медленному созреванию. Если бы было возможно провести тысячелетия в этом доисторическом пейзаже и проследить за его развитием, то, без сомнения, удалось бы наблюдать превращение органических веществ в торф, в каменный уголь или в нефть. Мне даже показалось, что по поверхности воды течет нефть, окрашивая ее нежными радужными разводами. Наши рабочие не могли поверить, что мы так мучаем себя и их из-за каких-то старых черепков. Поскольку мы носили пробковые шлемы, эмблему «инженеров», они решили, что археология служила лишь предлогом для более стоящих поисков.
Иногда тишину нарушали животные, почти не боявшиеся человека: удивленная косуля с белым хвостом; стаи эму, небольших страусов, или белокрылые цапли, летавшие над самой водой. По дороге локомотив подбирает рабочих, и они взгромождаются рядом с нами. Остановка на двенадцатом километре; запасной путь кончается, дальше мы идем своим ходом до раскопа. Замечаем его издали по характерному виду окруженного полем леска.
Вода в Пантанале проточная, чего не скажешь по ее виду. Она несет ракушки и тину, собирающиеся в тех местах, где пускают корни растения. Пантанал топорщится этими колючими зелеными островками, где в прежние времена разбивали лагерь индейцы и где теперь находят следы их пребывания. И так мы ежедневно добирались до нашего леска по замощенной деревом тропинке, которую соорудили из шпал, свалейных у железнодорожного пути; мы проводили там изнурительные дни, с трудом дыша и утоляя жажду болотной, нагретой солнцем водой. В конце дня за нами приезжали или локомотив, или одна из тех машин, прозванных дьяволами, которая двигалась только тогда, когда ее разгоняли рабочие, становившиеся по четырем углам и отталкивающиеся шестами наподобие гондольеров. Мы возвращались уставшие и умирающие от жажды, а впереди нас ожидала бессонная ночь в «пустыне» Порту-Эсперанса.
В сотне километров отсюда находилось землевладение, которое мы выбрали в качестве базы, откуда отправлялись на поиски индейцев кадиувеу. Французская фазенда, как ее называли на линии, занимала полосу примерно в пятьдесят тысяч гектаров, по которой катил поезд на участке в сто двадцать километров. На этом пространстве, поросшем кустарником и сухой травой, бродило стадо в семь тысяч голов (в тропической зоне на прокорм одной головы только-только хватает от пяти до десяти гектаров). Скот периодически вывозили в Сан-Паулу по железной дороге, имевшей две или три остановки в пределах этого владения. Название станции, обслуживавшей поселение, — Гуайкурус — напоминало о больших воинственных племенах, которые некогда владычествовали в этих местах; теперь на бразильской территории от них остались только кадиувеу.
Хозяйством заправляли два француза с несколькими семьями пастухов. Я не помню имени младшего из них, а другого, лет сорока, звали Феликс Р., дон Феликс, как его запросто называли. Молодость наших хозяев пришлась на время первой мировой войны. Я не знаю, какие обстоятельства вовлекли их в рискованную авантюру в этой обездоленной области Бразилии. Как бы то ни было, десять лет спустя после основания французская фазенда начала хиреть из-за того, что средств, поглощенных покупкой земли, не хватало для улучшения поголовья и оборудования. В просторном бунгало на английский манер наши хозяева, то ли скотоводы, то ли бакалейщики, вели суровую жизнь. Действительно, контора фазенды была единственным местом, которое занималось снабжением населения, живущего в округе радиусом сто километров или около того. Служившие на фазенде наемные рабочие, или пеоны, тратили там то, что там же и заработали. Росчерком пера их кредит превращался в долг, и заведение действовало более или менее без денег. Поскольку цены на товары, согласно обычаю, назначались вдвое или втрое выше обычных, дело могло стать рентабельным, если бы этот коммерческий аспект не оставался второстепенным. По субботам рабочие, привезя небольшое количество собранного сахарного тростника, спрессовывали его тут же в своеобразной машине из грубо отесанных стволов, где тростниковые стебли размельчались тремя вращающимися деревянными цилиндрами. Затем в больших жестяных тазах они выпаривали на огне сок и сливали его в формы; там он застывал рыжеватыми блоками с зернистой консистенцией: это была рападура — неочищенный тростниковый сахар. Потом рабочие складывали сахар в примыкающий к складу магазин и в тот же вечер, уже как покупатели, приобретали его по дорогой цене, чтобы побаловать своих детей единственным в сертане лакомством.
Наши хозяева по-философски относились к своей профессии эксплуататоров; не имея контактов со служащими вне работы и лишенные соседей своего сословия (поскольку между ними и ближайшими плантациями у парагвайской границы простиралась индейская резервация), они строго соблюдали избранный ими образ жизни, что, безусловно, лучше всего помогало им не падать духом. Единственная уступка обычаям континента заключалась в костюме и выпивке. В этой пограничной области, где перекрещивались традиции бразильские, парагвайские, боливийские и аргентинские, наши хозяева носили одежду пампы: боливийскую шляпу из коричневато-серой соломы тонкого плетения с широкими загнутыми полями и высокой тульей и ширипу — нечто вроде пеленки для взрослых из хлопчатобумажной ткани нежных цветов с сиреневыми, розовыми или синими полосками, оставляющей голыми ляжки и ноги, которые до икры закрывают белые сапоги из грубого полотна. В более свежую погоду ширипу заменяла бомбаша: шаро-свары, как у зуавов, богато расшитые по бокам.
Почти все дни хозяева проводили в корале, работая с животными, то есть осматривали и отбирали их для продажи. Окутанные тучами пыли животные, понукаемые гортанными криками управляющего, проходили перед хозяевами и распределялись по нескольким загонам. Зебу с длинными рогами, жирные коровы, напуганные телята сменяли друг друга в дощатых проходах, куда бык порой отказывался войти. Тогда сорок метров узкого, тонкого плетения лассо раскручивались над головой бросающего его пастуха, и как будто в тот же миг животное валилось на землю, а лошадь, торжествуя, поднималась на дыбы. 69
Но дважды в день — в одиннадцать часов тридцать минут утра и в семь часов вечера — все собирались под галереей, окружавшей жилые комнаты, для ритуала шимарран, иначе говоря, питья мате[49], приготовленного на горелке. Известно, что мате — дерево той же семьи, что и вечнозеленый дуб. Его ветки, слегка обработанные дымом в подземном очаге, перемалывают в грубый порошок цвета резеды, который долго хранится в бочонках.
Существует несколько способов пить мате. В экспедиции, когда, выбившись из сил, мы слишком нетерпеливо жаждали облегчения, то просто бросали большую пригоршню порошка в холодную воду и, быстро доведя ее до кипения, тут же — это главное — снимали с огня, иначе мате теряет всякий вкус. Тогда его называют cha de mate; это темно-зеленый и почти маслянистый напиток, как крепкий кофе. Когда времени в обрез, довольствуются terere: пипеткой набирают холодную воду и поливают ею пригоршню порошка. Кто боится горечи, предпочитает mate doce; для этого, смешав порошок с сахаром, нужно обжарить его на жарком огне, залить эту смесь кипящей водой и процедить. Но я не знаю любителя мате, который не предпочел бы всем этим рецептам chimarrao, одновременно являющийся социальным ритуалом и домашним пороком в том виде, как это делали в фазенде. Все усаживаются вокруг маленькой девочки, которая приносит чайник, горелку и сосуд — иногда это калебас с отверстием, отделанным серебром, иногда — как в Гуайкурусе — рог зебу, вырезанный пеоном. Этот сосуд на две трети наполнен порошком, который девочка постепенно пропитывает кипящей водой. Как только эта смесь густеет, она проделывает в ней ямку с помощью серебряной трубки, оканчивающейся в верхней части утолщением с дырками, стараясь, чтобы пипетка находилась как можно глубже в том самом углублении, где собирается жидкость. Между трубкой и вязкой массой должен сохраняться как раз такой зазор, который не нарушит ее однородности, но и не слишком большой, иначе не образуется настоя. Теперь остается лишь залить шимарран жидкостью и поднести ее хозяину дома; сделав два или три глотка, он возвращает чашу, а затем эту процедуру проделывают все остальные, сначала мужчины, потом женщины, если они присутствуют. Чашу передают по кругу до тех пор, пока не опорожнится чайник.
Первые глотки приносят восхитительное ощущение, по крайней мере человеку привычному, ибо новичок обжигается. Оно складывается из несколько вяжущего соприкосновения с серебряным ободком чаши, ошпаренным кипятком, с бурлящей водой, щедро покрытой питательной пеной, одновременно горькой и душистой, вобравшей аромат леса, сконцентрированный в нескольких каплях. В мате содержится алкалоид, сходный с алкалоидами кофе, чая и шоколада, однако его успокаивающее и в то же время укрепляющее действие объясняется, возможно, и дозировкой. Обойдя несколько раз по кругу, мате становится безвкусным, однако, осторожно действуя пипеткой, можно сделать еще несколько углублений и продлить удовольствие, получив небольшие дозы горечи.
Безусловно, мате намного превосходит амазонскую гуарану и тем более печальную коку боливийских плоскогорий — пресную жвачку из высушенных листьев, быстро скатывающихся в волокнистый шарик. По вкусу кока похожа на отвар. Она лишает чувствительности слизистую оболочку и превращает язык в чужеродное тело. Я не знаю ничего, что могло бы сравниться с мате, кроме комка бетеля[50], начиненного пряностями, хотя он пугает неподготовленного человека выделением обильной слюны, богатой привкусами и ароматами.
Индейцы кадиувеу жили в низинах левого берега реки Парагвай; от французской фазенды их отделяли холмы Серра-да-Бодо-кены. Наши хозяева считали их лентяями, ворами и пьяницами; их грубо выгоняли с пастбищ, когда они пытались туда проникнуть. Наша экспедиция казалась братьям-французам заранее обреченной; они относились к ней неодобрительно, хотя и оказывали нам щедрую помощь, без которой мы не смогли бы осуществить свой замысел. Каково же было их изумление, когда несколько недель спустя они увидели, что мы возвращаемся нагруженные, как в караване: большие глиняные кувшины, украшенные рисунками и резьбой, шкуры косуль, расписанные арабесками, деревянная скульптура, изображающая исчезнувший пантеон… Для них это было открытие, вызвавшее странную перемену: когда через два или три года дон Феликс посетил меня в Сан-Паулу, я понял, что он сам и его компаньон, с такой надменностью относившиеся когда-то к индейскому населению, переняли местные обычаи. Теперь маленькая буржуазная гостиная фазенды была затянута расписными шкурами, а в каждом углу стояли глиняные изделия: наши друзья играли в суданский или марокканский базар, подобно колониальным чиновникам, которыми им и пристало быть. Индейцы, став для французов постоянными поставщиками, были приняты на фазенде — там предоставлялся приют целым семьям в обмен на местные изделия. До какого предела дошла эта близость? Трудно было предполагать, что двое холостых мужчин могли устоять перед прелестью полуобнаженных индейских девушек, чьи тела в дни праздников искусно раскрашивались тонкими черными и синими завитками, которые покрывали их кожу словно изысканные кружева узкого облегающего платья. Как бы то ни было, году в 1944 или 1945 дон Феликс был убит одним из своих новых приближенных, став жертвой вероятнее всего душевного смятения, в которое его повергло посещение начинающих этнографов десять лет назад.
Магазин фазенды снабдил нас продовольствием: сушеным мясом, рисом, черной фасолью, мукой из маниока, мате, кофе и рапа-дурой. Нам дали в пользование и животных: лошадей для людей, быков для грузов, ибо мы везли с собой вещи с целью обмена их на предметы, нужные для коллекции. Это были детские игрушки, стеклянные бусы, зеркала, браслеты, кольца и духи, наконец, отрезы материи, одеяла, одежда и инструменты. Проводниками нам служили рабочие фазенды, впрочем соглашавшиеся на эту — работу неохотно, ибо они разлучались с семьями на рождественские праздники. Нас ждали в деревнях; сразу после нашего появления в фазенде пастухи-индейцы вакейрос разнесли весть о приезде иностранцев, везущих подарки. Она вызвала у индейцев всевозможные опасения, среди которых преобладала тревога по поводу того, что мы прибыли… завладеть их землями.
На лике
Налике, главный город той области, где живут кадиувеу, находится километрах в полтораста от Гуайкуруса, то есть в трех днях пути верхом на лошади. Поскольку быки двигаются медленнее, их высылают вперед. На первом переходе мы предполагали взобраться по склонам Серры-да-Бодокены и провести ночь на плато, на последнем посту фазенды. Очень скоро мы углубляемся в узкие долины, поросшие высокой травой, где лошади с трудом прокладывают себе дорогу. Продвижение затрудняет еще и болотная грязь. Ноги лошади проваливаются, она напрягается, с трудом нащупывая твердую землю, и мы снова оказываемся среди растительности. И тут берегись: безобидный по виду листок может излиться кишащим роем клещей, нашедших под ним убежище. Тысячи оранжевых насекомых пробираются под одежду, покрывают тело текучей пленкой и вгрызаются в него. Для жертвы существует единственный выход — опередить мучителей. Спрыгнув с лошади и сняв с себя всю одежду, нужно энергично бить их, а попутчика попросить снимать их с кожи. Не столь страшны крупные одиночные паразиты серого цвета — не причиняя боли, они закрепляются на эпидермисе. Через несколько часов или дней их обнаруживаешь на ощупь в виде вздутий на теле, которые приходится срезать ножом.
Наконец в кустах появляется просвет, открывающий каменистую дорогу. Она ведет по некрутому склону в сухой лес, где вперемежку растут разнообразные деревья, и помимо них кактусы. Когда мы огибаем скалистый пик, ощетинившийся канделябровы-ми кактусами, разражается гроза, надвигавшаяся с самого утра. Мы слезаем с лошадей и прячемся в какую-то расщелину, которая оказывается сырой пещерой, но все же защищает нас. Едва мы входим, как она наполняется шумом летучих мышей, ковром устилающих стены, чей сон мы потревожили. Как только дождь кончается, мы возобновляем путь по густому и темному лесу, благоухающему свежими запахами и наполненному дикорастущими плодами. Это женипапо с грубой плотью и терпким вкусом, гуавира, растущая на полянах (считается, что ее прохладная мякоть хорошо утоляет жажду путника), дающее орехи кешью кажу, которое расселяется на месте прежних индейских посадок.
Вид этого плато, поросшего высокой травой и редкими деревьями, характерен для Мату-Гросу. Нам предстоит переход через болотистую местность и грязь, растрескавшуюся под действием морского ветра, по которой бегают мелкие болотные птицы. Вот и кораль (хижина) — это пост Ларгон, где мы застаем семью, занятую разделкой молодого быка. В его окрашенном кровью костяке, словно в лодке, копошатся и раскачиваются, издавая довольные крики, двое-трое голых детишек. Над разведенным на улице огнем, который светится в сумерках, жарится шурраско — мясо, с которого капает жир, в то время как урубу[51] — уборщики падали — сотнями уселись на месте забоя, деля с собаками отбросы и кровь.
После Ааргона мы двигаемся по «тропе индейцев». При спуске серра оказывается очень крутой. Приходится идти пешком, ведя в поводу лошадей, тревожных из-за опасных препятствий. Тропа проходит над потоком, его не видно, но слышно, как вода шумит на камнях и падает каскадом. Мы скользим по мокрым камням или наполненным грязью лужам, оставшимся от последнего дождя. Наконец у подножия серры попадаем в просторную впадину, где недолго отдыхаем с лошадьми, прежде чем пуститься в путь по болоту.
После четырех часов дня пора позаботиться и о стоянке. Мы выбираем несколько деревьев, чтобы подвесить между ними гамаки и противомоскитные сетки. Проводники разводят огонь и готовят еду из риса и сушеного мяса. Так хочется пить, что без всякого отвращения мы поглощаем целые литры смеси из земли, воды и марганцовки. День кончается, через грязную кисею противомоскитных сеток мы недолго любуемся заревом заката. Не успеваешь заснуть, как уже нужно выступать: в полночь нас будят проводники, оседлавшие лошадей. В жаркое время года следует щадить животных и пользоваться ночной прохладой. При лунном свете, невыспавшиеся и продрогшие, мы возобновляем свой путь по тропе. Время проходит в ожидании утренней зари, лошади спотыкаются. Часам к четырем утра добираемся до Питоко, где прежде находился крупный пост «Службы зашиты индейцев». Теперь здесь всего три дома, лежащие в развалинах, между которыми только и можно подвесить гамаки. Река Питоко течет бесшумно, вытекая из Пантанала, и через несколько километров она снова теряется в нем. Этот болотный уэд[52], не имеющий ни истока, ни устья, служит пристанищем множеству пираний, которые опасны для неосторожного путника, но не мешают внимательному индейцу купаться и брать воду: на болоте живут еще отдельные индейские семьи. Теперь мы уже в настоящем Пантанале: заполненные водой впадины между поросшими лесом горными хребтами сменяются обширными топкими пространствами без единого дерева. Здесь больше бы подошел бык под седлом, ибо грузное животное, управляемое при помощи веревки, продетой через кольцо, закрепленное в носу, лучше переносит изнурительные переходы по трясине, часто погружаясь в воду по самую грудь.
Мы оказались на равнине — такой плоской, что вода стояла на ней, не стекая, после грозы, самой сильной, какую мне когда-либо пришлось пережить. Мы промокли не меньше лошадей, но нам ничего не оставалось, как двигаться вперед: куда ни бросишь взгляд, нигде не было никакого укрытия, ни единого дерева. Справа и слева, подобно разрывам заградительного огня, ударяли молнии. Два часа длилось это испытание, потом дождь прекратился, но на горизонте еще медленно двигались шквалы, как это бывает в открытом море. Но вот на краю равнины вырисовывается глинистая терраса высотой несколько метров, и на фоне неба проступают силуэты десятка хижин. Мы прибыли в Эн-женью, рядом с Налике, и решили остановиться здесь, а не в прежней столице, которая в 1935 году состояла всего из пяти хижин.
На первый взгляд эти поселки мало отличаются от ближайших поселков бразильских крестьян, с которыми у индейцев много общего в манере одеваться, а нередко и в физическом типе вследствие сильной метисации. Другое дело язык. Фонетика гуайкуру производит на слух приятное впечатление, быстрая речь, длинные слова из чистых гласных, чередующихся с зубными, гортанными, а также обилие мягких или плавных звуков — все это напоминает журчанье ручейка, прыгающего по гальке. Современное название кадиувеу является искаженным самоназванием индейцев «кадигуе-годи». Хотя португальский язык наших новых хозяев отличался примитивностью, не было и речи о том, чтобы я смог изучить их собственный язык за столь короткий срок.
Каркас жилищ состоит из стволов со снятой корой, воткнутых в землю, а балки уложены в верхнюю развилку ветвей, отходящих от ствола. Двускатная крыша покрыта пальмовыми ветвями, однако в отличие от бразильских хижин стен нет. Таким образом, эти постройки олицетворяют некий компромисс между жилищами белых (у них заимствована форма крыши) и прежними индейскими жилищами — навесами с плоским покрытием из циновок.
Эти примитивные жилища отличаются внушительными размерами: редко в каком из них живет одна семья. Некоторые хижины, похожие на длинные ангары, давали приют шести семьям, причем каждая располагалась на пространстве, ограниченном столбами каркаса и огражденном дощатой перегородкой. Там люди проводили время сидя, лежа или присев на корточки; повсюду поставлены, свалены, развешаны шкуры мелких оленей, куски хлопчатобумажной ткани, калебасы, сети, вместилища для соломы. По углам виднеются большие расписные сосуды для воды, поддерживаемые треногами, воткнутыми в землю нижним концом и иногда украшенными резьбой. В прежние времена жилища кадиувеу представляли собой «длинные дома», как у ирокезов. Сейчас некоторые из них тоже заслуживают это название, однако причины, объединяющие несколько семей в единую трудовую общину, оказались случайными. Теперь уже речь не шла, как прежде, о матрилокальном браке[53], когда зятья поселялись со своими семьями у родителей жены. Следы далекого прошлого трудно отыскать в этом жалком поселке; казалось, исчезло даже воспоминание о том процветании, которое застал здесь художник и исследователь Гвидо Боджани, останавливавшийся в нем дважды — в 1892 и 1897 годах. От его путешествий остались значительные этнографические материалы, коллекция, которая находится в Риме, и очень милый путевой дневник. Население трех центров не превышает двухсот человек. Они живут охотой, сбором диких плодов, держат несколько коров и домашнюю птицу, выращивают маниок на небольших наделах, которые виднеются по другую сторону источника, текущего у подножия террасы. Мы попеременно ходили туда умываться и приносили переливающуюся, как опал, сладковатую на вкус воду. Помимо плетения из соломы, изготовления поясов из хлопка, которые носят мужчины, и перековки монет — чаще никелевых, а не серебряных — на кружки и трубочки для нанизывания бус, индейцы занимаются в основном выделкой глиняной посуды. Женщины берут глину из реки Питоко, смешивают ее с толчеными осколками камней, раскатывают «тесто» в виде жгутов, укладывают их спиралью и похлопывают по ним, соединяя и придавая изделию нужную форму. Еще сырым, с помощью веревочек, его украшают узором с ямочками и расписывают окисью железа, которую находят в серре. Затем посуду обжигают на костре, после чего остается лишь продолжить раскраску горячего изделия с помощью лаков: черного из растопленной камеди «святого дерева» (пао-санто) и прозрачного желтого из камеди «анжико». Когда изделие остынет, в него втирают, чтобы оттенить узоры, белый порошок мел или золу.
Для детей женщины изготовляют фигурки, изображающие каких-то персонажей либо животных из всего, что попадет под руку: глины, воска или сушеных стручков, форму которых лишь слегка подправляют. В руках у детей можно увидеть также деревянные резные статуэтки, обычно закутанные в лохмотья, они служат им куклами. В то же время у старых женщин на дне корзин бережно хранятся другие фигурки, правда похожие на первые.
Что это — игрушки? Статуи божеств? Или изображения предков? Решить это невозможно при виде столь противоречивого их использования, тем более что одна и та же фигурка иногда используется для разных целей попеременно. Религиозное значение некоторых из них, находящихся ныне в Музее Человека[54], не вызывает сомнений, поскольку в одной можно признать Мать Близнецов[55], в другой — Старичка, то есть спустившегося на землю бога. С ним плохо обошлись люди, за что он наказал всех, кроме одной семьи, взявшей его под защиту. Было бы, однако, слишком просто считать, что фигурки святых, отданные детям для игры, означают крушение какого-то культа. Ведь эту ситуацию, кажущуюся нам столь неустойчивой, уже описали таким же образом Боджани сорок лет назад и Шрич десять лет спустя; она же отмечена в наблюдениях, сделанных через десять лет после моих. Положение, которое не меняется в течение пятидесяти лет, должно считаться, с одной стороны, нормальным. Объяснение следовало искать скорее не в разложении — бесспорном, с другой стороны, — религиозных ценностей, а во взгляде на отношение между священным и мирским. Противопоставление этих понятий не является ни столь абсолютным, ни столь постоянным, как часто любят у нас утверждать.
В хижине по соседству с моей жил колдун-исцелитель. В его снаряжение входили круглый табурет, соломенный венок, погремушки из калебаса, покрытого бисерной сеткой, и страусовое перо, предназначенное для ловли бишос, то есть злых духов. Это они являются причиной болезней, а их изгнание обеспечивается курсом лечения с помощью противостоящей им силы — бишо самого колдуна, то есть его духа-хранителя, при этом большого консерватора, ибо он запрещает своему подопечному уступать чужакам те ценные сосуды, к которым, как мне ответили, «он привык». Во время нашего пребывания состоялся праздник по случаю достижения половой зрелости одной девушки, живущей в соседней хижине. Сначала ее одели по старинной моде: хлопчатобумажное платье сменил кусок материи, обернутый вокруг тела ниже подмышек. Плечи, руки и лицо богато украшены рисунками, а на шею надеты все имеющиеся бусы. Впрочем, все это, возможно, было не столько данью обычаям, сколько попыткой «пустить нам пыль в глаза». Молодых этнографов предупреждают, что индейцы опасаются видеть себя запечатленными на фотографии и что следует вознаграждать их за страх и оплачивать подобный «риск», одаривая вещами или деньгами. Кадиувеу усовершенствовали эту систему: они не только требовали плату за возможность их сфотографировать, но даже заставляли меня это делать, для того чтобы я им заплатил. Не проходило и дня, чтобы одна из женщин не являлась ко мне в каком-нибудь необыкновенном уборе и не вынуждала меня оказать ей честь щелчком фотоаппарата и сопроводить его несколькими мильрейсами. Экономя пленку, я часто ограничивался лишь видимостью фотографирования… и платил.
Этнографы проиграли бы, если бы не уступали этой уловке или даже рассматривали ее как доказательство деградации или меркантильности. Ведь здесь в измененной форме проявлялись специфические черты индейского общества: независимость и влияние женщин знатного происхождения, а также хвастовство перед чужаком и притязание на уважение большинства. Поведение, каким бы невероятным и импровизированным оно ни казалось, было продиктовано традиционными понятиями. Воссоздать их значение предстояло мне.
Это относится и к тому, что последовало за обряжением девушки. После полудня начали пить пингу, то есть водку из сахарного тростника. Усевшись в кружок, мужчины громко хвастались чинами, заимствованными из младшей военной иерархии (единственной им известной), такими, как капрал, адъютант, лейтенант, капитан. Конечно, это была одна из тех «торжественных попоек», которые уже были описаны авторами XVIII века, когда вожди занимали место согласно старшинству. Их обслуживали оруженосцы, тогда как глашатаи перечисляли титулы того, кто пил, и повествовали о его подвигах. Кадиувеу необычно реагируют на выпивку: после возбуждения они впадают в гробовое молчание, а затем начинают рыдать. Тогда двое не столь пьяных мужчин берут отчаявшегося за руки и прогуливают его взад и вперед, нашептывая слова утешения и привязанности, пока того не вырвет. Затем все трое возвращаются на свои места, где попойка продолжается.
Все это время женщины пели мелодию из трех нот, повторяя ее до бесконечности, а старухи, жившие отдельно, неожиданно устремились на земляную насыпь, жестикулируя и бессвязно произнося какие-то слова, встречаемые насмешками и шутками. И было бы неверно рассматривать их поведение как простое проявление распущенности. Ранние авторы удостоверяют, что праздники, связанные главным образом с наиболее важными моментами роста девочек знатного происхождения, по традиции сопровождались выступлениями женщин в несвойственных им ролях — воинственными шествиями, танцами и турнирами. Эти крестьяне в лохмотьях, затерянные в глуши болот, являли собой весьма жалкое зрелище. Однако само их положение лишь подчеркивало ту поразительную цепкость, с какой они сохраняли некоторые черты своего прошлого.
Индейское общество и его стиль
Совокупность обычаев одного народа всегда отмечена каким-то стилем, они образуют системы. Я убежден, что число этих систем не является неограниченным и что человеческие общества, подобно отдельным лицам, в своих играх, мечтах или бредовых видениях никогда не творят в абсолютном смысле, а довольствуются тем, что выбирают определенные сочетания в некоем наборе идей, который можно воссоздать. Если составить перечень всех существующих обычаев, и тех, что нашли отражение в мифах, и тех, что возникают в играх детей и взрослых, в снах людей здоровых или больных и в психопатологических действиях, удалось бы создать нечто вроде периодической таблицы химических элементов, где все реальные или просто возможные обычаи оказались бы сгруппированы по семьям. Нам оставалось бы только распознать среди них те, что были действительно восприняты обществами. Подобные соображения особенно подходят к индейскому населению мбайя-гуайкуру, последними представителями которого являются ныне в Бразилии кадиувеу, а в Парагвае — тоба и пила-га. Их культура как нельзя более напоминает ту, которую наше общество воображало в одной из своих традиционных игр и образец которой так удачно представил Льюис Кэролл[56]. Эти индейцы-рыцари походили на изображения игральных карт. Такую особенность подчеркивал уже их костюм: широкие в плечах и падающие жесткими складками туники и кожаные плащи, украшенные черными и красными узорами (ранние авторы сравнивали их с турецкими коврами), которые воспроизводили карточные орнаменты пик, червей, бубен и треф.
У них были короли и королевы, и, подобно королеве из «Алисы», эти дамы больше всего любили играть с отрезанными головами, которые им приносили воины. Знатные мужчины и знатные дамы развлекались на турнирах. От тяжелых работ их избавляли индейцы гуана, жившие в этих местах еще до их прихода и отличавшиеся по языку и культуре. Терено, последние представители гуана, живут в правительственной резервации, неподалеку от городка Миранда. Гуана обрабатывали землю и платили дань сельскохозяйственными продуктами сеньорам мбайя в обмен на их покровительство, попросту говоря, чтобы обезопасить себя от грабежа и расхищений, которыми занимались банды вооруженных всадников. Один немец, который в XVI веке отважился отправиться в эти места, сравнивал эти отношения с теми, что существовали в его время в Центральной Европе между феодалами и крепостными.
Общество мбайя состояло из каст. На вершине социальной лестницы находилась знать, которая делилась на две категории: крупная родовая знать и те, кто был лично пожалован титулом, обычно в том случае, если их день рождения совпадал с рождением ребенка знатного происхождения. Родовая знать, кроме того, разделялась на старшие и младшие ветви. Затем шли воины, лучших из которых после инициации принимали в члены братства, дававшего право носить специальные имена и пользоваться искусственным языком, образованным путем прибавления суффикса к каждому слову, как в некоторых жаргонах. Рабы шамакоко или другого происхождения и крепостные гуана составляли чернь, хотя эти последние восприняли для собственных нужд деление на три касты по образцу своих хозяев.
Знатные люди демонстрировали свое происхождение раскраской тела, выполненной посредством трафарета или татуировок и равнозначной гербу. Они полностью удаляли волосы на лице, в том числе брови и ресницы, и с отвращением относились к «братьям страуса» — европейцам с глазами в поросли волос. Мужчины и женщины показывались на людях в сопровождении свиты рабов и зависимых, которые заискивали перед ними, избавляя их от всех хлопот. Еще в 1935 году раскрашенные и увешанные подвесками старухи — они были лучшими рисовальщицами — объясняли, что вынуждены были оставить занятия изящными искусствами, так как лишились рабов, бывших у них в услужении. В Налике еще жили несколько прежних рабов шамакоко, теперь же их включили в общую группу, но относились к ним снисходительно.
Высокомерие этих сеньоров смущало даже испанских и португальских завоевателей, жаловавших им титулы «дон» и «донья». Говорят, что белые женщины могли не опасаться плена у мбайя, поскольку ни одному воину и в голову бы не пришло портить свою кровь подобным союзом. Некоторые дамы мбайя отказывались от встречи с супругой вице-короля по той причине, что якобы только королева Португалии была достойна общения с ними. Одна из них, почти девочка, известная под именем донья Катарина, отклонила приглашение губернатора Мату-Гросу посетить Куябу. Поскольку она уже достигла половой зрелости, этот сеньор — как она думала — сделал бы ей предложение, а она не могла ни вступить в неравный для себя брак, ни оскорбить его отказом. Индейцы мбайя были моногамны, однако девушки-подростки иногда предпочитали сопровождать воинов в их приключениях и служили им оруженосцами, пажами и любовницами. Что касается знатных дам, то они содержали чичисбеев, которые зачастую были и любовниками, причем мужья не удостаивали их проявлением ревности, чтобы не уронить свое достоинство. Это общество относилось весьма неприязненно к тем чувствам, которые мы считаем естественными; оно испытывало, например, отвращение к воспроизведению потомства. Аборты и детоубийство считались почти обычным делом, так что поспроизведение группы происходило главным образом за счет усыновления, а не рождения. Поэтому одной из главных целей военных походов была добыча детей. Согласно расчетам, в начале XIX века едва ли десять процентов членов группы гуайкуру принадлежали к ней по крови. Когда же детям удавалось появиться на свет, родители не воспитывали их, а отдавали в другую семью, лишь изредка навещая. Согласно обычаю, своих детей индейцы расписывали с головы до ног черной краской, называя их тем же словом, каким они назвали первых увиденных ими негров. Так содержались дети до четырнадцатилетнего возраста. Затем они проходили инициацию — их мыли и сбривали одну из двух концентрических корон волос, которые их до сих пор венчали.
Тем не менее рождение ребенка знатного рода давало повод к праздникам. Они устраивались на каждом этапе его роста: отнятие от груди, первые шаги, участие в играх и так далее. Глашатаи провозглашали титулы семьи и предсказывали новорожденному славное будущее; если в один день с ним рождался еще какой-то ребенок, он становился его «братом по оружию». Начинались попойки, во время которых подавался медовый напиток в сосудах, сделанных из рогов или черепов. Женщины же, обрядившись в доспехи воинов, изображали сражения. Сидящих в порядке старшинства знатных людей обслуживали рабы, которые не имели права пить, так как должны были в случае необходимости помочь господам облегчить свое состояние рвотой и позаботиться о них, пока те не заснут в ожидании восхитительных видений.
У этих Давидов, Александров, Цезарей, Карлов Великих, этих Рахилей, Юдифей, Паллад и Аргин, этих Гекторов, Ожье, Ланселотов и Лаиров вся гордыня держалась на уверенности в том, что их предназначение — повелевать человечеством. В этой уверенности их поддерживал один миф, известный нам лишь в отрывках.
Вот этот миф. Когда Гоноэньоди, верховное существо, решил создать людей, он сначала извлек из земли людей гуана, а затем другие племена. Первым дал в удел земледелие, вторым — охоту. Обманщик — это еще одно божество индейского пантеона — заметил, что про мбайя забыли, и вывел их из ямы. Поскольку, однако, все уже было роздано, они получили право на единственное еще свободное занятие — подавлять и эксплуатировать других. Существовал ли когда-нибудь более глубокомысленный «Общественный договор»? [57] Эти персонажи рыцарских романов, поглощенные своей жестокой игрой в престижность и власть в лоне общества, вдвойне заслуживающего название «бичующего», создали графическое искусство, стиль которого невозможно сравнить почти ни с чем из того, что нам оставила доколумбова Америка, и который походит разве что на изображения наших игральных карт. Я упоминал об этом, но теперь хочу описать удивительную особенность культуры кадиувеу. В племени, о котором у нас идет речь, мужчины — скульпторы, женщины — художницы. Мужчины вырезают из твердого, с синим оттенком гваякового дерева фигурки святых, о которых я рассказывал. Рога зебу, используемые как чашки, они украшают изображениями людей, страусов-нанду и лошадей; иногда они рисуют, но только листву, людей или животных. Привилегия женщин — роспись керамики и кож, а также рисунков на теле, в чем некоторые проявляют безусловно виртуозность. Лицо, а иногда все тело женщин кадиувеу покрыты переплетением асимметричных арабесок, чередующихся с тонкими геометрическими узорами. Первым эти узоры описал иезуит-миссионер Санчес-Лабрадор[58], который жил среди кадиувеу с 1760 по 1770 год, однако точно они были воспроизведены лишь век спустя Боджани. В 1935 году я сам собрал несколько сот узоров. Дело происходило так. Сначала я намеревался фотографировать лица, однако финансовые притязания красавиц племени быстро бы истощили мои денежные ресурсы. Поэтому я стал изображать лица на листах бумаги и просил женщин разрисовать их так, как они это сделали бы на своем лице. Успех был таким, что я отказался от собственных неумелых набросков. Художниц нисколько не смущали белые бумажные листы, что свидетельствует об индифферентности их искусства к естественному строению человеческого лица.
Казалось, что только несколько очень старых женщин сохраняли прежнее мастерство, и я долго пребывал в убеждении, что моя коллекция составлена из последних сохранившихся экземпляров. Каково же было мое удивление, когда два года назад [59] я получил книгу, иллюстрированную рисунками из коллекции, собранной через пятнадцать лет после меня одним бразильским этнографом! Его иллюстрации не только отличались таким же уверенным исполнением, что и мои, но и узоры очень часто были идентичными. В течение всего этого времени стиль, техника и источник вдохновения оставались неизменными, как и на протяжении сорока лет, прошедших между путешествием Боджани и моим. Этот консерватизм тем более замечателен, что он не распространяется на гончарное ремесло, которое, если судить по последним полученным и опубликованным образцам, находится в полном упадке. Таким образом, становится очевидным, что в местной культуре исключительное значение отводится рисункам на теле, и в особенности на лице.
В прежние времена узоры наносились татуировкой или краской, теперь остался лишь последний способ. Женщина-художник расписывает лицо или тело товарки, иногда мальчугана, тогда как мужчины предпочитают отказываться от этого обычая. Тонким бамбуковым шпателем, смоченным соком женипапо — сначала бесцветным, а после окисления сине-черным, — художница импровизирует, не имея ни образца, ни эскиза, ни какой-либо другой отправной точки. Она украшает верхнюю губу узором в форме лука, заканчивающегося с двух концов стрелами. Затем она или разделяет лицо вертикальной чертой, или рассекает его в горизонтальном направлении. Поделенное ка четыре части лицо свободно расписывается арабесками без учета расположения глаз, носа, щек, лба и подбородка, как бы на сплошной плоскости. Эти умелые композиции, асимметричные, но при этом уравновешенные, начинаются от какого-нибудь угла и доводятся до конца без колебания, без помарки. В них используются довольно простые мотивы, такие, как спирали, крюки в форме S, кресты, меандры и завитки, но все они сочетаются таким образом, что каждое творение обладает оригинальным характером. Среди четырехсот собранных в 1935 году рисунков я не заметил и двух похожих, но поскольку, сравнивая свою коллекцию с коллекцией, собранной позднее, я установил обратное, то прихожу к выводу, что исключительно обширный репертуар художниц все же закреплен традицией. К сожалению, ни мне, ни моим преемникам не удалось проникнуть в теорию, лежащую в основе их стиля: информаторы называют некоторые термины, касающиеся простейших узоров, но заявляют, что не знают или забыли все, что относится к более сложным украшениям. Либо они действительно работают на основе эмпирического умения, передаваемого от поколения к поколению, либо упорно хранят секрет своего искусства.
Сегодня кадиувеу расписывают себя исключительно из удовольствия, но прежде этот обычай имел более глубокое значение. По свидетельству Санчес-Лабрадора, представители благородных каст разрисовывали себе только лоб и лишь простолюдин украшал все лицо. Тогда этой моде также следовали одни молодые женщины. Он пишет: «Редко когда старые женщины тратят время на эти рисунки: они довольствуются теми, которые нанесли на их лицо годы». Миссионер встревожен подобным пренебрежением к творению создателя: почему индейцы искажают внешний вид человеческого лица? Он ищет объяснения: не для того ли они часами рисуют свои арабески, чтобы обмануть голод? Или сделаться неузнаваемыми для врагов? Как бы то ни было, он считает, что дело всегда сводится к стремлению обмануть. Почему? Даже миссионер, какое бы отвращение он к ним ни испытывал, отдавал себе отчет, что эти росписи имеют для индейцев первостепенную важность и что они являются для них в каком-то смысле самоцелью. Он изобличает поэтому людей, которые, забросив охоту, рыбную ловлю и семью, теряют целые дни на то, чтобы им разрисовали лицо. «Почему вы так глупы?» — спрашивали индейцы у миссионеров. «Почему же мы глупы?» — спрашивали те в свою очередь. «Потому что не раскрашиваете себя наподобие людей эвигуайеги». Чтобы стать человеком, необходимо было раскрасить себя; тот же, кто оставался в естественном состоянии, не отличался от животного.
Нет сомнения, что в наши дни живучесть этого обычая среди женщин объясняется соображениями эротического свойства. Женщины кадиувеу издавна пользуются известностью по обоим берегам реки Парагвай. Множество метисов и индейцев из других племен обосновались и женились в Налике. Этой привлекательностью женщины кадиувеу, возможно, обязаны росписи на лице и теле, во всяком случае ее усиливающей и придающей женщине нечто восхитительно вызывающее. Такая живописная «хирургия» производит на человеческом теле как бы прививку искусством. И когда Санчес-Лабрадор выражает в своем протесте мучительное беспокойство по поводу того, зачем «противопоставлять милостям Природы коварное уродство», он сам себе противоречит, поскольку несколькими строками ниже утверждает, что самые прекрасные ковры не смогли бы соперничать с этими рисунками. Никогда, безусловно, эротический эффект грима не использовался столь систематическим и сознательным образом.
Своими рисунками на лице, равно как и обычаем абортов и детоубийства, мбайя выражали все тот же ужас перед природой. Их искусство провозглашает высочайшее презрение к глине, из которой мы слеплены; в этом смысле оно граничит с грехом. Со своей точки зрения, как иезуита и миссионера, Санчес-Лабрадор оказался в высшей степени проницательным, видя здесь «когти дьявола». Он сам подчеркивает прометееву сторону этого искусства, описывая технику, в соответствии с которой индейцы покрывают свое тело узорами в форме звезд: «Таким образом, каждый эвигуайеги считает себя вторым Атлантом, который не только своими плечами и руками, но и всем своим телом поддерживает неумело вылепленную вселенную». А может быть, объяснение исключительного характера искусства кадиувеу состоит в том, что посредством его человек отказывается быть отражением божественного прообраза?
Рассматривая узоры в форме палочек, спиралей и буравчиков, которым в этом искусстве, по-видимому, отдается предпочтение, неизбежно возвращаешься к мысли об испанском барокко с его коваными железными деталями и имитацией мрамора. Уж не тот ли наивный перед нами стиль, который был заимствован у завоевателей? Как известно, некоторые темы индейцы переняли у них. Когда в 1857 году индейцы однажды впервые посетили военный корабль, зашедший в реку Парагвай, то уже на следующий день моряки «Мараканьи» увидели на их телах рисунки в форме якорей. Один индеец даже попросил изобразить на своем теле офицерский мундир, который был воспроизведен со всеми пуговицами, галунами, портупеей и выпущенными из-под нее фалдами. Все это доказывает, что у мбайя уже существовал обычай раскрашивать себя и они достигли в этом искусстве большой виртуозности. Кроме того, как бы редко ни встречался в доколумбовой Америке свойственный им криволинейный стиль, он имеет аналогии с археологическими материалами, найденными в различных местах континента, причем некоторые из них на много веков предшествуют открытию Америки. Это подтверждают культура Хоупвелл в долине реки Огайо и недавно обнаруженная в долине Миссисипи керамика племени кэддо, стоянки Сантарен и Маражо в устье Амазонки и культура Чавин в Перу. Уже сама эта географическая разбросанность является признаком древности.
Подлинная проблема состоит в другом. Когда изучаешь рисунки кадиувеу, сам собой напрашивается вывод — их оригинальность заключается не в основных мотивах, которые довольно просты и поэтому скорее всего были изобретены ими самими, а не заимствованы (одно, возможно, не исключает другого). Оригинальность проистекает из той манеры, в какой эти мотивы сочетаются друг с другом, она сравнима с результатом, с законченным произведением. Однако композиционные приемы слишком утонченны и систематичны, чтобы считать обоснованными предположения о том, что образцом для индейцев могло бы послужить искусство эпохи Возрождения. Следовательно, какова бы ни была отправная точка, это исключительное развитие следует объяснять свойственными ему самому причинами.
В свое время я пытался раскрыть некоторые из этих причин, сравнивая искусство кадиувеу с искусством других народов, где прослеживаются аналогии с ним: Древний Китай, северо-западное побережье Канады и Аляски, Новая Зеландия. Нынешняя моя гипотеза значительно отличается от предыдущей, но она не противостоит прежнему толкованию, а дополняет его. Как я тогда отмечал, искусству кадиувеу свойствен дуализм: это искусство создают мужчины и женщины, причем первые — скульпторы, вторые — художники; первые, несмотря на стилизацию, приверженцы изобразительного натуралистического стиля, тогда как вторые посвящают себя абстрактному искусству. Ограничиваясь рассмотрением этого последнего, я хотел бы подчеркнуть, что дуализм и в нем находит продолжение в нескольких планах.
Женщины используют два стиля; в основе того и другого лежат декоративность и абстракция. Первый стиль, геометрический, отдает предпочтение угловым фигурам, второй, свободный, — кривым линиям. Чаще всего композиции основываются на уравновешенном сочетании обоих стилей. Например, первый употребляется для каймы или обрамления, второй — для основного узора. Еще поразительней пример с глиняной посудой, где геометрическим узором расписывается горлышко, а криволинейным — брюшко, или наоборот. Криволинейный стиль охотнее используется для росписей на лице, а геометрический — для росписей на теле, если только в результате дополнительного подразделения каждая часть не расписывается узором, который сам включает сочетание обоих стилей.
Во всех случаях в законченной работе проявляется стремление к равновесию между разными принципами, в свою очередь тоже парными: узор, линейный в начале, в конце заполняет всю плоскость (в виде штриховки, какую применяем и мы, машинально рисуя). Большинство произведений основывается на чередовании двух тем, и почти всегда изображение и фон занимают примерно одинаковую площадь, так что композиция поддается двоякому прочтению. Наконец, в узоре часто соблюдается двойной, применяемый одновременно принцип — симметрии и асимметрии. Это выражается в форме противопоставленных друг другу регистров, которые редко бывают разделены или перерезаны, чаще они резко очерчены либо разбиты на четыре части или на восемь треугольников. Я намеренно пользуюсь геральдическими терминами, ибо все эти правила постоянно возвращают к мысли о геральдических принципах,
Продолжим анализ на одном примере: вот роспись на теле, которая кажется простой. Она состоит из волнистых и соприкасающихся друг с другом полос, образующих веретенообразные правильные поля, по фону которых рассеяны мелкие фигуры — по одной на каждом поле. Это описание обманчиво. Оно, возможно, и передает общий вид законченного рисунка, однако художница начинала не с того, что наносила волнистые линии, а затем украшала каждый промежуток мелкой деталью. Ее метод иной и более сложный. Она работает как мостильщик, образуя последовательные ряды с помощью одинаковых элементов. Каждый элемент состоит из сектора ленты, образованного вогнутой частью одной полосы и выпуклой частью смежной полосы, — это веретенообразное поле, посреди которого располагается одна фигура. Элементы наслаиваются друг на друга, как чешуя, и лишь в конце изображение приобретает равновесие.
Следовательно, стиль кадиувеу ставит нас перед лицом целого ряда сложностей. Прежде всего это дуализм, который проявляется в последовательных планах: мужчины и женщины, живопись и скульптура, изобразительность и абстракция, угол и кривая, геометрия и арабеска, горлышко и брюшко, симметрия и асимметрия, линия и плоскость, кайма и узор, фигура и поле, изображение и фон. Но эти противопоставления воспринимаются задним числом; они имеют статический характер. Динамика искусства, то есть способ, которым узоры изобретаются и выполняются, перекрывает лежащую в основе двойственность во всех планах, ибо первичные темы сначала нарушаются, затем заново складываются во вторичные темы. Через Них во временном единстве вмешиваются фрагменты, заимствованные у предыдущих тем, и они располагаются таким образом, что вновь появляется первоначальное единство, как под руками фокусника. Наконец, сложные узоры, полученные подобным способом, в свою очередь раскраиваются и сопоставляются посредством разделения на четыре части, как на гербах, где два узора распределяются между четырьмя углами щита, противопоставленными по два.
Здесь появляется возможность объяснить, почему этот стиль напоминает в чем-то самом неуловимом стиль наших игральных карт. Каждая карточная фигура имеет два назначения. Прежде всего она должна выполнять функцию, которая является двойной: быть предметом и состоять на службе диалога — или дуэли — между двумя партнерами, противостоящими друг другу. Она должна также играть роль, выпадающую каждой карте в качестве предмета какого-то собрания: это игра. Из такого сложного предназначения проистекает множество требований: симметрии, которая зависит от функции, и асимметрии, которая соответствует роли. Эта задача решается путем обращения к симметричной композиции, но по наклонной оси, что позволяет избегать полностью асимметричного решения, которое соответствовало бы роли, но противоречило бы функции, а заодно к обратного, полностью симметричного решения, приводящего к противоположному результату. Здесь также речь идет о сложной ситуации, основанной на двух противоречивых формах двойственности, которая разрешается в компромиссе путем вторичного противопоставления между идеальной осью предмета и осью фигуры, его представляющей. Однако, чтобы прийти к этому заключению, мы были вынуждены выйти за рамки анализа рисунка игральных карт: мы должны были задать вопрос — для чего они служат? И точно такой же вопрос рождается в отношении искусства кадиувеу.
Частично мы ответили на этот вопрос, или скорее это сделали за нас индейцы. Росписи на лице прежде всего придают личности человеческое достоинство; они совершают переход от природы к культуре, от «тупого» животного к культурному человеку. Затем, будучи различными по стилю и композиции в разных кастах, они выражают в сложном обществе иерархию статусов. Таким образом, они обладают социологической функцией.
Каким бы важным ни был этот вывод, его недостаточно, чтобы выразить оригинальные свойства искусства индейцев. Продолжим поэтому анализ социальной структуры.
Мбайя делились на три касты, каждую заботили вопросы этикета. Для знати и в определенной степени для воинов главная проблема заключалась в престиже. Судя по старинным описаниям, они были парализованы боязнью «потерять лицо», не оступиться и главным образом не вступить в неравный брак. Следовательно, подобному обществу угрожала опасность расслоения. То ли по собственной воле, то ли по необходимости каждая каста проявляла тенденцию замкнуться в себе в ущерб спаянности всего социального организма. В частности, кастовая эндогамия и умножение оттенков иерархии, должно быть, подрывали возможность союзов, отвечающих конкретным нуждам коллективной жизни.
Только так объясняется парадокс общества, противящегося продолжению рода, которое для защиты от опасностей внутреннего неравного брака пришло к практике расизма наизнанку — систематическому усыновлению врагов или чужеземцев.
В этих условиях показательно, что на окраинах обширной территории, контролируемой мбайя, на северо-востоке и на юго-западе встречаются почти идентичные формы социальной организации, несмотря на разделяющее их расстояние. Индейцы гуана в Парагвае и бороро в Центральном Мату-Гросу имели (а последние имеют сейчас) структуру, пронизанную иерархией, сходной с существующей у мбайя. Они были или остаются разделенными на три даоса, по поводу которых можно, по-видимому, сказать, что по крайней мере в прошлом они заключали в себе различные статуты. Эти классы были наследственными и эндогамными. Тем не менее опасность расслоения, которая, как говорилось выше, существовала у мбайя, частично компенсировалась как у гуана, так и у бороро разделением общества на две половины. У последних, как нам известно, такое разделение перекраивало классы. В то время как заключать браки между членами различных классов было запрещено, на эти половины накладывалось обратное обязательство: мужчина из одной половины обязательно должен был жениться на женщине из другой половины, и наоборот. Справедливо поэтому сказать, что асимметрия классов уравновешивается в каком-то смысле симметрией составляющих их половин.
Следует ли рассматривать эту сложную структуру, состоящую из трех классов и двух уравновешивающих их половин как действующую сообща? Может быть, заманчиво также разделить эти два аспекта и рассматривать один, как если бы он предшествовал второму. В этом случае найдется достаточно аргументов в пользу приоритета как классов, так и их половин.
Интересующий нас здесь вопрос другого порядка. Как бы кратко ни описал я общественную систему индейцев гуана и бороро, ясно, что в плане социологическом она имеет структуру, аналогичную той, что я выявил в стиле искусства кадиувеу. Мы и здесь имеем дело с двойственным противопоставлением. Во-первых, оно прежде всего проявляется в противопоставлении организации из трех элементов другой, бинарной, причем первая асимметрична, а вторая — симметрична; а во-вторых, в противопоставлении социальных механизмов, основанных либо на взаимности, либо на иерархии. Усилие, потребное для сохранения этих противоречивых принципов, влечет за собой деления и подразделения социальной группы на подгруппы — союзные и противолежащие. Подобно гербу, объединяющему на своем поле прерогативы, полученные по нескольким линиям, общество оказывается раскроено, разрезано, разделено на части, рассечено. Стоит посмотреть на план деревни бороро, чтобы заметить, что она организована на манер рисунка кадиувеу.
Значит, все происходит так, как если бы, оказавшись перед лицом противоречия своей социальной структуры, гуана и бороро сумели его решить (или скрыть) чисто социологическими методами. Возможно, у них уже существовало деление на половины, прежде чем они оказались в сфере влияния мбайя, так что сам способ находился в их распоряжении. Может быть, они позднее изобрели или заимствовали у других деление на половины, потому что аристократическая спесь была не столь уверенной у этих провинциалов; можно выдвинуть и другие гипотезы. Подобное решение не пришло к мбайя либо потому, что они его не знали (что мало вероятно), либо (это скорее) потому, что оно было несовместимо с их фанатизмом. Тем самым им не удалось разрешить свои противоречия или по крайней мере скрыть их от самих себя с помощью искусственно созданных институтов. Однако то средство, которое отсутствовало у них в социальном плане или которое они не полагали для себя возможным, не могло все же целиком от них ускользнуть. Оно скрытым образом продолжало их тревожить. А поскольку они не могли осознать его и осуществить в жизни, они начали грезить о нем. И не в прямой форме, которая натолкнулась бы на их предрассудки, а в измененной, по виду безобидной — в своем искусстве. Ибо, если этот анализ верен, тогда в конечном счете придется интерпретировать графическое искусство женщин кадиувеу, объяснить его таинственный соблазн и его с первого взгляда безосновательную сложность как иллюзию общества, ищущего с неутоленной страстью средство выразить символическим путем те институты, которые оно могло бы иметь, если бы его интересы и его суеверия не препятствовали ему. Да, велико очарование этой культуры, образы которой запечатлены на лицах и телах королев: словно рисуя их, они изображали золотой век, которого никогда не знали в действительности. И все же, когда они стоят обнаженные перед нами, это в такой же мере тайны золотого века, как их собственные нагие тела.
IV. Бороро
Золото и алмазы
Ворота на пути в Боливию — порт Корумба лежит на правом берегу реки Парагвай и кажется словно созданным для Жюля Верна. Город взобрался на вершину господствующей над рекой известковой скалы. Два-три колесных пароходика с каютами на двух палубах, расположенных в низком корпусе и венчаемых тщедушной трубой, стоят в окружении пирог у причала, откуда наверх ведет дорога. Внизу высится несколько строений, своим внушительных! видом не соответствующих всему остальному. Это таможня, арсенал. Они напоминают о тех временах, когда река Парагвай служила ненадежной границей между государствами, лишь недавно добившимися независимости. Тогда этот водный путь обеспечивал интенсивную торговлю между Рио-де-ла-Плата[60] и внутренними районами континента. Поднявшись от причала вверх, дорога метров двести идет вдоль скалы по карнизу, затем поворачивает под прямым углом и приводит в город, то есть на длинную улицу, застроенную низкими домами белого и бежевого цветов с плоскими крышами. Улица заканчивается квадратной площадью, где среди травы растут фламбойяны-деревья едкого оранжевого и зеленого цветов, завезенные с Антильских островов. Дальше вплоть до закрывающих горизонт холмов тянется каменистая равнина. Единственная здесь гостиница всегда переполнена; местные жители иногда сдают комнаты в первом этаже, где скапливается влажный воздух болот. Близкие к реальной действительности ночные кошмары делают из жильца новоявленного христианского мученика, брошенного в душную яму ка кормление клопам. Что касается пищи, то она отвратительна, поскольку земля, бедная или необрабатываемая, не способна удовлетворить потребности двух-трех тысяч местных и приезжих жителей, составляющих население Корумбы. Все стоит бешеных денег, а царящее здесь внешнее возбуждение, резко контрастирующее с равнинным и пустынным пейзажем — коричневой губкой, простирающейся за рекой, — создает впечатление жизни и веселья, подобное тому, какое столетие назад могли производить города американских пионеров в Калифорнии и на Дальнем Западе. Вечером все население собирается на карнизе. Юноши, свесив ноги, молча сидят на балюстраде, а перед ними по трое-четверо прохаживаются перешептывающиеся девушки. Этот предсвадебный смотр представляется странной церемонией, которая происходит при колеблющемся электрическом свете по соседству с тянущимися на пятьсот километров болотами, рядом со страусами и питонами боа, встречающимися в двух шагах от стен города.
Корумба лежит всего в четырехстах километрах полета от Куя-бы. Я был свидетелем развития воздушного сообщения между этими двумя городами, которое сначала осуществлялось на небольших четырехместных самолетах, преодолевавших это расстояние за два-три часа жестокой болтанки, а в 1938–1939 годах — на двенадцатиместных «юнкерсах». Однако в 1935 году до Куябы можно было добраться только по воде, причем излучины реки удваивали этот путь до восьмисот километров. Чтобы попасть в столицу штата в сезон дождей, требовалось восемь дней, а в сухой сезон — три недели, потому что судно, несмотря на малую осадку, часто садилось на мель. Надо было потратить не один день, прежде чем его снимешь с мели, привязав к крепкому дереву тросом, который натягивал неистово работавший двигатель. В конторе компании висел соблазнительный плакат, рекламировавший путешествие на «самом быстроходном и комфортабельном пароходе по линии Куяба — Корумба— Порту-Эсперанса». Излишне говорить, что действительность мало соответствовала описанию.
Тем не менее путешествие было очаровательным. Пассажиров немного, это семьи скотоводов, едущих к своим стадам, странствующие торговцы ливанского происхождения, гарнизонные военные или провинциальные чиновники. Едва поднявшись на борт, вся публика облачается в домашнюю дачную одежду, то есть в полосатые пижамы (у модников шелковые), плохо скрывавшие покрытые волосами тела, и в шлепанцы. Дважды в день все собираются за столом вокруг неизменного меню, состоящего из полного блюда риса, второго блюда из темной фасоли и еще одного — из муки сушеного маниока — все в качестве гарнира к свежей или консервированной говядине. Это называется фейжоада, от слова feijao — «фасоль». Прожорливость моих попутчиков можно сравнить разве что с той рассудительностью, с какой они говорили о нашей повседневной пище. В зависимости от времени трапезы фейжоада объявляется то «превосходной», то «отвратительной», а десерт из жирного сыра и фруктового мармелада — их едят вместе с кончика ножа — они оценивают как «достаточно — или недостаточно — сладкий».
Через каждые тридцать километров пароход останавливается, чтобы набрать на складе дров, а в случае надобности ждет часа два-три, пока наш ресторатор отправляется в прерию, ловит там на лассо корову, забивает ее и свежует тушу с помощью членов команды, которые поднимают мясо на борт, обеспечив им нас на несколько дней.
В остальное время пароход медленно скользит по узким рукавам реки; это называется «обслуживать» эстиройш, как называются участки маршрута, образованные отдельными отрезками реки между двумя поворотами, за которыми ничего не видно. Благодаря излучинам эстиройш иногда так сближаются, что вечером оказываешься всего в нескольких метрах от того места, где находился утром. Судно часто задевает за ветки деревьев затопленного водой леса, безраздельно господствующего на берегу. Шум двигателя пробуждает бесчисленный мир птиц: арара, полет которых расцвечен синим, красным и золотым, ныряльщиков-бакланов, своей извилистой шеей напоминающих крылатую змею, попугайчиков и попугаев, наполняющих воздух криками, достаточно похожими на голос, чтобы их можно было принять за нечеловеческие. Монотонность этого зрелища, разворачивающегося в такой близости, приковывает внимание и вызывает нечто вроде оцепенения. Время от времени пассажиры стряхивают его: это когда изредка реку вплавь пересекает пара оленей или тапиров, а на поверхности воды, легкая как соломинка, извивается гремучая змея либо удав боа, или же копошится стая безобидных крокодилов (их убивают из карабина, целясь в глаз, — занятие, которое очень скоро наскучивает). Ловля пираний проходит оживленнее. Кое-где вдоль реки стоят большие сушильни для мяса, напоминающие виселицу: над усыпанной костями землей подняты параллельные брусья, на которых висят фиолетовые лоскуты, а над ними кружится темная туча американских грифов. После бойни река на несколько сот метров ниже по течению красна от крови. Достаточно забросить удочку, как множество пираний, даже не ожидая погружения крючка без наживки, бросаются к нему, опьяненные кровью, и вот одна из них уже болтается на крючке золотистым ромбом. Тут уж рыбаку нужно быть осторожным, снимая с крючка свою добычу: один укус — и он может лишиться пальца. Когда позади остался приток реки Сан-Лоренсу (по его верхнему течению мы позднее отправимся пешком на встречу с бороро), трясина кончилась. По обе стороны реки тянулась теперь травянистая саванна кампос, где чаше встречается жилье и бродят стада.
Рулевому трудно приметить Куябу, разве что по заливаемому водой мощеному откосу, на кромке которого угадывается силуэт старого арсенала. Там начинается улица длиной в два километра, она ведет на площадь, а на ней среди двух аллей царственных пальм высится собор, весь белый и розовый. Слева епископство, справа дворец губернатора, а на углу главной улицы — единственный в то время постоялый двор, который содержал толстый ливанец.
Я уже описывал Гояс и повторился бы, если бы стал распространяться о Куябе. Местоположение города не столь красиво, но сам он со своими строгими домами, остановившимися где-то на полпути между дворцом и хижиной, имеет такое же очарование.
Поскольку местность холмистая, с верхнего этажа строений всегда видна часть города — белые дома с оранжевыми черепичными крышами под цвет земли, на которой выделяется зелень садов. Центральную площадь в форме буквы L опутала целая сеть улочек, напоминающих колониальный город XVIII века; они заканчиваются пустырями, которые служат караван-сараями, и неровными аллеями, обсаженными деревьями манго и бананами с прячущимися в их тени саманными хижинами. За ними очень скоро начинается равнина, где пасутся стада коров, предназначенные для отправки в сертан или только что прибывшие оттуда.
Основание Куябы восходит к середине XVIII века. Около 1720 года отряды паулистов, так называемые бандейранте[61], впервые появились в этих местах. В нескольких километрах от нынешнего города они основали небольшой пост и поселили колонистов. Здесь жили индейцы куксипо, некоторые из них согласились заняться выкорчевкой леса. Однажды поселенец по имени Мигел Сутил послал нескольких индейцев за диким медом. В тот же вечер они вернулись нагруженные золотыми самородками, которые нашли прямо на земле. Сутил и еще один поселенец, по имени Барбудо — «Бородач», пошли за индейцами на место находки, и там везде оказалось золото. За один месяц они собрали пять тонн самородков.
Не следует поэтому удивляться, что местность вокруг Куябы временами походит на поле битвы; о прежней «золотой лихорадке» напоминают поросшие травой и кустарником бугры. Еще и сегодня случается, что какой-нибудь житель Куябы, разделывая огород, находит самородок. А уж в виде песчинок золото встречается повсюду. В Куябе нищие часто ищут золото, их видишь за работой в русле ручья, пересекающего нижний город. Дневные усилия обеспечивают им пищу, а многие торговцы все еще пользуются небольшими весами, чтобы, взвесив шепотку золотого песка, отдать за нее немного мяса или риса. Сразу же после сильного дождя, когда вода бежит ручьями, к ним устремляются дети с шариками золотистого воска. Погрузив их в поток, они ждут, когда к воску пристанут мелкие блестки. Впрочем, жители Куябы заявляют, что под их городом на глубине нескольких метров проходит рудная жила; говорят, что она покоится под скромной конторой «Банка Бразилии» и что это сокровище делает его богаче, нежели суммы, хранящиеся в его устаревших сейфах.
От прежней славы Куябы остался образ жизни, медленный и церемонный. Для иностранцев первый день проходит в хождении взад и вперед по площади, которая отделяет постоялый двор от губернаторского дворца: по приезде следует представить визитную карточку, часом позже адъютант, усатый жандарм, является с ответными знаками внимания. После сиесты, когда весь город с полудня до четырех часов погружается в оцепенение, нужно засвидетельствовать свое почтение губернатору, который со скучающим видом оказывает этнографу вежливый прием. Индейцы? Он, разумеется, предпочел бы, чтобы их не было вовсе. Чем, как не раздражающим напоминанием о его политической немилости, свидетельством его ссылки в какой-то отсталый округ, они являются? У епископа все повторяется: индейцы, принимается он мне объяснять, не так свирепы и глупы, как можно было бы подумать; могу ли я себе представить, что одна индеанка бороро приняла христианскую веру? И что братьям из Диаманткну удалось — ценой каких усилий! — сделать троих индейцев пареси сносными столярами? А в научном плане миссионеры действительно собрали все заслуживающее труда быть сохраненным. Что касается легенд, то им известна легенда о потопе, значит, господь бог не захотел, чтобы над ними тяготело проклятие. Я отправляюсь к ним, пусть так. Но чтобы я непременно воздерживался от подрывания авторитета святых отцов: никаких никчемных подарков, зеркал или бус. Только топоры: этим лентяям следует напомнить о святости труда.
Освободившись от этих формальностей, можно переходить к серьезным делам. Мои дни проходят в заднем помещении лавки ливанских торговцев: это наполовину оптовики, наполовину ростовщики. Они снабжают скобяным товаром, тканями и лекарствами дюжину родственников, клиентов и лиц, пользующихся их покровительством. Те отправляются со своим приобретенным в кредит грузом на быках или в пироге выколачивать последние мильрейсы, застрявшие в глуши бруссы или вдоль рек. Булочник готовит для нас мешки с болаша — круглыми хлебами, замешанными без дрожжей с добавлением жира. Они тверды, как камень, но на огне становятся мягкими. Раскрошившись на ухабах и пропитавшись бычьим потом, они превращаются в какой-то не поддающийся определению продукт, столь же прогорклый, как и сушеное мясо, заказанное у мясника. В Куябе мясник пребывал в смертельной тоске из-за одного-единственного желания, причем не было ни одного шанса на то, что оно исполнится, — пусть когда-нибудь приедет в Куябу цирк. Ему бы так хотелось посмотреть на слона: «Столько мяса!..»
Наконец, были еще братья Б., французы, корсиканцы по происхождению, давным-давно поселившиеся в Куябе — причину этого они мне не открыли. Они говорили на своем родном языке напевно и неуверенно, слова доносились как бы издалека. До того как стать владельцами гаража, они занимались охотой на больших белых цапель и так описывали технику ловли: нужно разложить на земле пакетики из белой бумаги, а большие птицы, как бы завороженные чистым цветом, таким же как и их собственный, подходят, суют клюв в капюшон и, ослепленные, без сопротивления попадают в руки охотников. Красивые перья выдергивают в пору любовных игр прямо из живой птицы. Шкафы братьев были набиты перьями, которые больше не находили сбыта с тех пор, как их отвергла мода. Затем братья Б. сделались искателями алмазов. Теперь же они занимались снаряжением грузовиков. Словно корабли прежних времен, бороздившие неизвестные океаны, грузовики пускались по дорогам, где и груз, и машины подвергались риску опрокинуться в ущелье или в реку. Зато, когда они благополучно добирались до цели, четырехкратная прибыль компенсировала братьям все прежние потери. Я часто объезжал на грузовике окрестности Куябы. Накануне отъезда грузились бидоны с бензином в количестве, учитывавшем два обстоятельства: его потребление в оба конца и почти постоянное движение на первой или второй скорости. Провизию и лагерное снаряжение располагали так, чтобы все могли сидеть и прятаться от дождя. На бортах подвешивали домкраты и другие инструменты вместе с запасом веревок и досок для замены разрушенных мостов. На заре мы взгромождались на весь этот груз, словно на верблюда, и грузовик толчками начинал двигаться вперед. Трудности возникали уже в середине дня: появлялись затопленные или болотистые участки, которые требовалось замостить. Однажды я три дня занимался тем, что переносил перед грузовиком настил из бревен в два раза длиннее его самого, пока мы не миновали опасное место. Иногда встречался песок, и мы рыли под колесами ямы, заполняя их листьями. Даже когда мосты были целыми, приходилось полностью выгружать поклажу, облегчая машину, а переехав по шатким доскам, вновь нагружать ее. Если мост оказывался сожженным огнем бруссы, мы разбивали лагерь и восстанавливали его, а затем снова разбирали, тек как доски могли понадобиться в другой раз. Наконец, встречались и большие реки, через них можно было переправиться только на пароме, который сооружался из трех пирог, соединенных брусьями. Под тяжестью грузовика, даже без поклажи, пироги погружались в воду по самый борт, противоположный же берег оказывался слишком крутым или вязким, и автомобиль не мог на него выбраться. Тогда приходилось исследовать берег на протяжения нескольких сот метров в поисках более удобного подхода или брода.
Люди, занимавшиеся вождением таких грузовиков, привыкли проводить в пути целые недели, а иногда и месяцы. Они работали по двое: шофер и его помощник, первый — за рулем, второй — примостившись на ступеньке. Помощник высматривал препятствия, следил за продвижением подобно моряку, взобравшемуся на нос корабля, чтобы помочь кормчему пройти по фарватеру. У него всегда был карабин, потому что нередко перед грузовиком — скорее от удивления, чем от испуга, — останавливались косуля или тапир. Тогда он стрелял наудачу, и в зависимости от успеха решался вопрос со стоянкой: животное требовалось освежевать, разделать части туши на тонкие пластинки мяса наподобие картошки, которую чистят по спирали до ее середины. Эти пластинки тут же натирали находившейся всегда под рукой смесью соли, перца и толченого чеснока и на несколько часов раскладывали на солнце. Операцию возобновляли назавтра, а затем повторяли в следующие дни. Таким способом получают came de sol — мясо, высушенное на солнце; оно не такое вкусное, как carne de vente, которое подсыхает в тени на конце шеста, но зато дольше хранится.
Странное существование ведут эти шоферы-виртуозы, всегда готовые выполнить самую тонкую починку, сами изобретающие и сами уничтожающие пути своего проезда, вынужденные неделями оставаться среди бруссы там, где сломался грузовик, пока мимо не проедет грузовик конкурента и не поднимет тревогу в Куябе, а уж оттуда запросят в Сан-Паулу или в Рио вышедшую из строя деталь. Все это время шоферы живут лагерем, охотятся, стирают, спят и набираются терпения. Мой лучший шофер избежал правосудия после преступления, о котором он ни разу не обмолвился. В Куябе об этом знали, но помалкивали: ведь заменить его все равно некем в условиях, когда требуется сделать невозможное. Своей жизнью, подвергавшейся ежедневному риску, он, по мнению людей, щедро расплачивался за жизнь, которую когда-то отнял.
Когда около четырех часов утра мы покидали Куябу, было еще темно. Глаз угадывал церкви, украшенные искусственным мрамором от основания до колокольни. Грузовик подскакивал по последним улицам, обсаженным стриженными в форме шара манговыми деревьями и вымощенным речным камнем. Характерный вид фруктового сада, который в силу естественного расположения деревьев имеет саванна, создает иллюзию пейзажа, созданного руками человека, тогда как на самом деле мы уже едем по бруссе. Скоро об этом начинает напоминать дорога, которая становится достаточно сложной: она взбирается над рекой каменистыми зигзагами, а их перерезают рытвины и топкие броды с вырубленным лесом.
Поднявшись наверх, мы увидели тонкую линию, слишком уж неподвижную, чтобы можно было спутать ее с отблесками зари. Однако мы долго сомневались в ее природе и реальности. Но часа через три-четыре, когда был преодолен каменистый склон, перед нами открылся широкий вид, заставивший нас поверить очевидности: с севера на юг протянулась красная стена, возвышающаяся на двести или триста метров над зеленеющими холмами. Она постепенно понижалась к северу, пока не сливалась с плоскогорьем. Но мы начинаем различать подробности, приближаясь к ее южной стороне. Эта стена, которая только что выглядела ровной, таит в себе узкие расселины, выдвинувшиеся вперед горные пики, балконы и платформы. В каменном творении есть и редуты, и теснины. Грузовику понадобилось несколько часов, чтобы взобраться на скат, едва подправленный рукой человека и приведший нас на верхний выступающий край шапады — плоской вершины Мату-Гросу. Оттуда мы попадаем на тысячекилометровое плато, уходящее с легким уклоном к северу, вплоть да бассейна Амазонки. Здесь открывается иной мир. Под жесткой, молочно-зеленой травой виден песок — белый, розоватый или цвета охры, — образовавшийся в результате поверхностного выветривания песчаниковой платформы. Вся растительность состоит из редкого узловатого кустарника, который защищен от царящей здесь семь месяцев в году засухи толстой корой, твердыми блестящими листьями и колючками. Достаточно нескольких дождливых дней, чтобы эта саванна превратилась в сад: зеленеет трава, покрываются белыми и сиреневыми цветами деревья. Но по-прежнему главным остается впечатление громадных просторов.
Поверхность такая ровная и уклоны настолько слабы, что горизонт беспрепятственно простирается на десятки километров. Полдня нужно потратить на преодоление пространства, созерцаемого с утра. Каждый следующий день вы созерцаете пейзаж, виденный вчера, так что восприятие настоящего и впечатления прошлого смешиваются в какое-то наваждение недвижности. Как бы далеко ни простиралась земля, она удивительно однообразна и совсем лишена неровностей, так что отдаленный горизонт — где-то высоко в небе — принимаешь за облака. Этот пейзаж настолько фантастичен, что даже не кажется монотонным. Время от времени грузовик перебирается вброд через реки, лишенные берегов, будто реки не пересекают, а скорее затопляют плато. Словно эта земля — один из древнейших в мире континентов, осколок Гондваны, соединявшей Бразилию и Африку, — навсегда осталась молодой и реки не успели углубить свое русло.
Небо и земля здесь меняются традиционными для нас ролями. Облака возводят самые невероятные сооружения над молочным шлейфом саванны — кампо. Небо становится средоточием форм и объемов, тогда как земля хранит мягкость первобытности.
Однажды вечером мы остановились недалеко от гаримпо, лагеря искателей алмазов. Вскоре у нашего костра появились силуэты: это гаримпейрос — старатели. Они извлекали из котомок и карманов оборванной одежды небольшие бамбуковые трубочки и высыпали их содержимое в наши ладони, надеясь нам продать необработанные алмазы. Однако я достаточно наслышался о нравах гаримпейрос и знал, что здесь вряд ли можно увидеть действительно что-нибудь интересное. Ибо в гаримпо свои неписаные, но тем не менее строго соблюдаемые законы. Эти люди делятся на две категории — искателей приключений и беглых.
Течение речек, в песке которых собирают алмазы, находится под контролем тех, кто занял это место первым. Крупная добыча случается не так уж часто, ее приходится долго ждать. Поэтому старатели объединяются в команды во главе с предводителем, украшающим себя титулом «капитан» или «инженер». Ему требуются средства, чтобы вооружить своих людей, обеспечить их необходимым снаряжением — луженым металлическим ведром для выемки гравия, решетом, лотком для промывки, иногда и скафандром для спуска под воду, и воздушным насосом, а самое главное — чтобы регулярно снабжать их припасами. В обмен на это старатель обязуется продавать свои находки лишь доверенным покупателям (которые в свою очередь связаны с крупными гранильщиками в Голландии или Англии) и делиться прибылью с предводителем.
Эти отряды вооружены не только на случай стычек друг с другом, кстати довольно частых. До совсем недавнего времени, а иногда и сейчас их оружие удерживает полицию на почтительном расстоянии от гаримпо. Таким образом, алмазоносная зона образует государство в государстве, причем первое порой находится в состоянии открытой войны со вторым. Следует сказать в оправдание непокорных, что, если полиции удавалось поймать кого-то на подступах к гаримпо, несчастного редко привозили в Куябу. Знаменитый глава гаримпейрос — «капитан» Арнольдо был однажды схвачен вместе со своим подручным. На шею им накинули веревку, привязанную к верхушке дерева, а под ноги поставили дощечку. Так они и стояли, пока из-за усталости не потеряли равновесия и не упали, затянув петлю. Закон гаримпо соблюдается так строго, что в трактирах в Ла-жеаду или Пошореу, центрах старательской добычи, нередко можно увидеть оставленный без присмотра стол, усыпанный алмазами. Но каждый найденный камень безошибочно узнается владельцем по форме, размеру и цвету. Эти подробности он запоминает так точно и основательно, что даже годы спустя помнит, как выглядел стоящий камень. «Когда я смотрел на него, — рассказывал один из моих посетителей, — мне казалось, будто в ладонь уронила слезу пресвятая дева…» Но камни не всегда чистой воды: часто их находят в жильной породе, и с первого взгляда невозможно определить их стоимость. Доверенный перекупщик объявляет цену (это называется «взвесить» алмаз), и старатель, будучи обязан продавать камни ему, вынужден принять его условия. Тут уж вступает в дело помощник перекупщика и закрепляет исход спекулятивной сделки.
Я интересовался, не бывает ли в гаримпо мошенничества. Безусловно да, но оно безрезультатно. Если старатель предложит алмаз другому перекупщику или сделает это без ведома своего предводителя, он сразу же «погорит», то есть ему предложат минимальную цену, которая будет систематически понижаться при каждой последующей попытке. Бывали случаи, когда такие старатели умирали с голоду, держа в руках пригоршни алмазов.
Есть и другая сторона вопроса. Например, один выходец из Сирии разбогател, видимо скупая по низкой цене алмазы нечистой воды. Он их нагревал на примусе, а затем погружал в краситель. Этим способом желтому алмазу придают поверхностную, более привлекательную окраску, из-за чего его называют пинтадо, то есть крашеный алмаз.
Практикуется еще одно мошенничество, но на более высоком уровне: при вывозе уклоняются от уплаты пошлины бразильскому государству. В Куябе и Кампу-Гранди я знавал профессиональных проводников, так называемых головорезов. Им тоже было что порассказать: если их хватала полиция, пачки сигарет, в которых они прятали алмазы, небрежно бросались в кусты, вроде как пустые. Выйдя на свободу, эти люди отправлялись на поиски своих сокровищ, можно себе представить, с каким чувством!
Но в тот вечер разговор вокруг нашего лагерного костра шел об обыденных происшествиях из жизни старателей. Так, я знакомился с живописным языком сертана, в котором для передачи неопределенно-личного местоимения прибегают к необычайно разнообразному набору выражений: о home — «человек», о camarada — «товарищ» или о collega — «коллега», о negro — «негр», о tal — «такой-то», о fulane — «тип» и т. д. Если в лотках для промывки искатель алмазов обнаружит золото, это считается плохим предзнаменованием. Единственный выход — выбросить металл сразу же в воду, ибо тому, кто его оставит, грозят недели безуспешной работы. Бывает, что, набрав полные пригоршни гальки, получаешь удар от усаженного крючками хвоста ядовитого ската. Такие раны трудно вылечить. Обычно их лечат женщины.
Женщин привлекают в эти районы рассказы о случаях сказочного везения. Внезапно разбогатевший старатель, скрывающийся от правосудия, вынужден все тратить на месте. Именно этим и объясняется движение грузовиков, нагруженных ненужными здесь товарами. Лишь бы удалось добраться с грузом до гаримпо, а там можно продать товар по любой цене; его купят не столько из-за надобности, сколько из-за желания похвастаться. Рано утром до отъезда я зашел в хижину одного старателя, стоявшую на берегу реки, наводненном комарами и другими насекомыми. Надев на голову водолазный шлем устаревшего образца, хозяин уже скоблил ложе ручья. Внутри хижина была жалкой и производила такое же угнетающее впечатление, как и вся местность, однако в одном из ее углов подруга старателя с грустью показала мне двенадцать новых костюмов «своего мужчины» и собственные шелковые платья, прогрызенные термитами.
От этого вечера, проведенного со старателями, в моей записной книжке сохранился отрывок грустной песни в традиционном духе. Речь идет о солдате, недовольном повседневной едой, который пишет жалобу своему капралу. Тот передает ее сержанту, и так повторяется на каждой инстанции: лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал, император. Этому последнему не остается ничего другого, как обратиться к Иисусу Христу, который «берется за дело и отправляет всех в ад». Однако настоящего веселья не было. Уже давно алмазоносные пески стали истощаться; местность была заражена малярией, лейш-маниозом и анкилостомозом. Несколько лет назад появилась лесная желтая лихорадка. Теперь всего лишь два или три грузовика отправлялись в путь раз в месяц вместо прежних четырех каждую неделю.
Дорога, по которой мы собирались ехать, заброшена с тех пор, как от огня бруссы сгорели мосты. Ни один грузовик не прошел по ней за последние три года. Никто не знал, в каком она состоянии, но нам говорили, что если мы доберемся до реки Сан-Лоренсу, то дальше бояться нечего. На берегу расположен большой гаримпо, там мы сможем найти все необходимое: продовольствие, людей и пироги, чтобы продолжить путь до деревень индейцев бороро на берегу Риу-Вермелью, впадающей в реку Сан-Лоренсу.
Не знаю, как нам удалось доехать. Это путешествие оставило в памяти впечатление какого-то кошмара: мы без конца останавливались, разгружали машину, чтобы преодолеть несколько метров препятствий, снова ее загружали, а после того, как удавалось хоть немного продвинуться вперед, опять перекатывали перед ней бревна для продолжения пути. Это так изматывало, что мы засыпали прямо на земле. Среди ночи нас будил гул, шедший откуда-то из-под земли: это были термиты, поднимавшиеся на штурм нашей одежды; копошащейся пленкой они покрывали снаружи прорезиненные накидки, которые служили нам одновременно плащами и подстилками. Наконец, однажды утром наш грузовик спустился к реке Сан-Лоренсу, о чем мы узнали по густому туману в долине. С чувством людей, совершивших героический подвиг, мы возвестили о себе громкими гудками. Однако ни один человек, даже ребенок, не выбежал нам навстречу. Выехали на берег, миновав четыре или пять безмолвных хижин. Никого. Все выглядело нежилым, и очень скоро мы убедились, что люди покинули поселок.
Измотанные до предела мытарствами предыдущих дней, мы впали в отчаяние. Неужели придется отказаться от нашего замысла? Прежде чем возвращаться назад, надо предпринять последнюю попытку, и мы отправились в разные стороны, чтобы обследовать окрестности. К вечеру все вернулись ни с чем, кроме шофера, который обнаружил семейство рыбаков и привел с собой его главу. Бородатый, с кожей нездорового белого цвета, как будто ее очень долго полоскали в воде, он объяснил, что шесть месяцев назад здесь разразилась желтая лихорадка. Те, кто выжил, разошлись кто куда. Но выше по реке еще можно найти людей и взять у них пирогу. Пойдет ли он с нами? Конечно, вот уже несколько месяцев он с семьей кормится только речной рыбой. У индейцев он раздобудет маниок, саженцы табака, а мы заплатим ему немного денег. На таких условиях он гарантировал согласие еще одного владельца пироги, которого мы захватим по пути.
Мне еще представится случай описать другие путешествия на пироге, которые лучше запечатлелись в моей памяти. Поэтому я не буду задерживаться на подробностях этой недели, которая ушла на то, чтобы подняться по реке, вздувшейся от ежедневных дождей. Однажды мы ели, сидя на небольшом песчаном пляже, и вдруг услышали какое-то шуршание: это был семиметровой длины удав боа, которого разбудил наш разговор. Его удалось прикончить лишь после нескольких выстрелов, ибо эти пресмыкающиеся не реагируют на раны в теле: нужно бить в голову. Разделывая его — это у нас заняло полдня, — мы обнаружили в чреве с дюжину готовых появиться на свет малышей, но их погубили солнечные лучи. И вот однажды, только что подстрелив хищного зверя ирара, разновидность барсука, мы увидели, как по берегу двигаются две обнаженные фигуры — это были первые встреченные нами бороро. Мы пристаем к берегу, пытаемся заговорить, но они знают всего одно португальское слово: fumo — «табак», которое произносят как sumo (не потому ли в прежние времена миссионеры говорили, что индейцы живут sans foi, sans loi, sans roi — «без веры, без закона, без короля» — ведь в их фонетике нет звуков f, I, r). Хотя они земледельцы, у них нет свернутого шнурами табака, которым мы их щедро снабжаем. Жестами объясняем, что направляемся в их деревню, они дают нам понять, что туда можно добраться лишь к вечеру. Сами же они пойдут вперед, чтобы объявить о нашем появлении. И они исчезают в лесу. Через несколько часов пристаем к глинистому берегу, там, где наверху мы заметили несколько хижин. Полдюжины обнаженных мужчин, раскрашенных красной краской у руку[62] от лодыжек до корней волос, встречают нас взрывами смеха, помогают выйти из лодки, переносят веши. И вот мы уже в большой хижине, где размещаются несколько семей. Глава деревни освободил для нас угол, сам же на время нашего пребывания поселился на другой стороне реки.
«Добрые дикари»
В каком порядке описывать те глубокие, хотя и отрывочные впечатления, которые осаждают приехавшего в деревню индейцев бороро, чья культура осталась относительно нетронутой? Находясь среди индейцев кайнканг, как и среди кадиувеу, сначала испытываешь скуку и уныние. Их поселения, похожие на деревни соседних крестьян, обращают на себя внимание главным образом чрезмерностью нищеты. Когда же оказываешься лицом к лицу с живыми еще традициями их общества, переживаешь столь сильное потрясение, что чувствуешь себя обескураженным: за какую нить надо ухватиться, чтобы распутать этот многоцветный клубок?
Эта мысль не оставляла меня, пока я устраивался в углу большой хижины. Прояснялись некоторые детали. Если традиционные размеры и расположение жилищ еще сохранялись, то архитектура уже испытала на себе необразильское влияние. В плане жилища были прямоугольными, а не овальными, и крыша не составляла единого целого со стенами, хотя все было сделано из одинакового материала — веток, поддерживающих кровлю из пальмовых листьев. Сама же крыша была двускатной, а не закругленной и спускалась почти до земли. А ведь деревня Кежара, куда мы прибыли, как и две другие — Побори и Жарудори, что расположены на Риу-Вермелью, была одним из тех селений, где не слишком сказалась деятельность салезианцев. Ибо эти миссионеры, которым вместе со «Службой защиты индейцев» удалось положить конец вражде между индейцами и колонистами, проводили одновременно как превосходные этнографические обследования (это лучшие источники, которыми мы располагаем о бороро, наряду с более старыми исследованиями Карла фон ден Штейнена[63]), так и методическую борьбу с местной культурой.
Два обстоятельства говорили в пользу того, что Кежара оставалась одним из последних оплотов независимости. Прежде всего она служила резиденцией главы всех деревень на Риу-Вермелью — высокомерной и загадочной личности. Он не знал португальского языка или, может быть, демонстрировал его незнание, но был внимателен к нашим нуждам. Однако по соображениям престижного, а также лингвистического свойства он избегал общаться со мной иначе как через членов своего совета, вместе с которыми принимал все решения.
Кроме того, в Кежаре жил индеец, который должен был стать моим переводчиком и главным информатором. Этот человек лет тридцати пяти довольно хорошо говорил по-португальски. По его словам, раньше он умел также читать и писать на этом языке, так как воспитывался при миссии. Гордясь достигнутым успехом, святые отцы послали его в Рим, где он был принят папой. По возвращении его задумали женить по христианскому обряду, не считаясь с местными традициями. Эта попытка вызвала у него духовный кризис, от которого он спасся только тем, что вернулся к прежнему идеалу бороро: поселился в Кежаре, где вот уже десять или пятнадцать лет вел образцовую жизнь «дикаря». Совершенно нагой, расписанный красной краской, с проколотыми палочками носом и нижней губой, весь украшенный перьями, этот папский индеец оказался великолепнейшим наставником в социологии бороро.
Вот нас окружают несколько десятков индейцев, спорящих между собой. Спор сопровождается раскатами смеха и тумаками. Бороро — самые высокие и самые ладные среди индейцев Бразилии.
Круглой головой, удлиненным, с правильными и резкими чертами лицом и атлетическим сложением они несколько напоминают жителей Патагонии, с которыми их, возможно, следует связывать в расовом отношении. Этот гармоничный тип, однако, редко встречается среди женщин, в целом малорослых, худых, с неправильными чертами. Мужская жизнерадостность являла странный контраст с неприветливым поведением другого пола. Несмотря на эпидемии, опустошавшие эту местность, население поражало своим здоровым видом. Правда, в деревне жил один прокаженный. Мужчины полностью лишены одежды, за исключением рожка из соломы, закрывающего конец полового члена. Большинство с головы до ног раскрашены красной краской уруку, растертой с жиром. Даже волосы, падающие на плечи или подстриженные в кружок на уровне ушей, покрыты краской и походят на шлем. На этот фон наносятся другие украшения. Лоб закрывает подкова из черной блестящей смолы, спускающаяся по обеим щекам до рта; плечи и руки украшены наклеенными полосками из белого пуха или обсыпаны толченым перламутром. Женщины носят хлопковую набедренную повязку, пропитанную красной краской и держащуюся на жестком поясе из коры, к которому прикрепляется более мягкая лента из белой отбитой коры, пропущенная между бедрами. Грудь перепоясывает двойной клубок хлопковых, искусно сплетенных перевязей. Этот наряд дополняется хлопковыми же полосками, затянутыми вокруг лодыжек, предплечий и запястий.
Мало-помалу все удаляются. Мы делим хижину размером приблизительно двенадцать на пять метров с молчаливым и неприязненным семейством колдуна и со старухой-вдовой, которую из милости кормили какие-то родственники, живущие в соседних хижинах. Подчас они забывали о ней, и тогда часами вдова оплакивала своих пятерых мужей и то счастливое время, когда у нее всегда было вдоволь маниока, кукурузы, дичи и рыбы.
И вот на улице уже начинается низкое пение на звонком и гортанном языке с чеканной артикуляцией. Поют одни мужчины, и простые, раз сто повторяемые в унисон напевы кажутся мужественными и трагичными. Почему они запели эти песни? Из-за ира-ра, объясняют мне. Мы привезли с собой дичь, и, прежде чем ее съесть, необходимо совершить сложный обряд успокоения ее духа и освящения охоты. Я был слишком утомлен, чтобы выступать в роли этнографа, и с наступлением темноты заснул неспокойным сном, который тревожили продолжавшиеся до зари песнопения. Впрочем, так тянулось до нашего отъезда, ибо ночи посвящались религиозной стороне жизни, а спали индейцы с восхода солнца до полудня.
Наряду с несколькими духовыми инструментами, вступавшими в предписанные ритуалом моменты, единственным сопровождением голосов были звуки калебас, наполненных камешками, которые встряхивали хороначальники. Они прекрасно выполняли свою роль: то возбуждая страсть или внезапно останавливая поющих, то заполняя тишину треском калебас, причем Звук постепенно и нарастал и угасал, то, наконец, ведя за собой танцоров чередованием пауз и звуков, длительность, сила и характер которых были столь разнообразны, что с такой задачей не мог бы лучше справиться и дирижер наших больших концертов.
Недаром в прежние времена индейцы, да и сами миссионеры, верили, что посредством погремушек разговаривают демоны. Впрочем, хотя прежние заблуждения по поводу так называемого языка барабанов рассеяны, можно полагать, что по крайней мере у некоторых народов этот язык основан на настоящем кодировании речи, сведенной к нескольким значениям, символически выраженным ритмическим рисунком.
С наступлением дня я встаю и отправляюсь в деревню. У дверей спотыкаюсь о каких-то жалких домашних птиц: это попугаи араруана, которых индейцы приучили жить в деревне. Их ощипывают живьем и таким образом получают перья для причесок. Лишившись оперения и возможности летать, птицы походят на цыплят, подготовленных для вертела. Оттого что объем их тела уменьшился наполовину, и без того большой клюв выглядит еще больше. Другие араруана, отрастившие оперение, взгромоздились на крыши, где красуются с важным видом — этакие геральдические эмблемы в красных и лазурных цветах.
Я оказываюсь посреди поляны. С одной ее стороны протекает река, а с остальных — ее окаймляют остатки леса, в которых приютились огороды; между деревьями проглядывает гряда холмов из красного песчаника и с крутыми склонами. По окружности поляны в один ряд стоят хижины — ровно двадцать шесть, все похожи на мою. В центре высится хижина длиной примерно в двадцать, а шириной — в восемь метров, и, следовательно, гораздо больших размеров, чем остальные. Это баитеманнагео, то есть мужской дом. Там ночуют холостяки, и проводит дни вся мужская половина населения, если она не занята рыбной ловлей, охотой или какой-нибудь общественной церемонией на площадке, отведенной под танцы. Эта площадка — овальной формы участок, огороженный кольями у западной стороны мужского дома. Женщинам в мужской дом вход строго запрещен. Их дома расположены по окружности, так что мужья по нескольку раз в день проделывают путь между своим клубом и семейным очагом по соединяющей их тропинке, проложенной через кустарник. Если смотреть с дерева или с крыши дома, деревня бороро походит на колесо тележки, в котором семейные дома служат ободом, тропинки к ним — спицами, а центральный мужской дом — ступицей. Этот замечательный план прежде был присущ всем деревням, притом что-их население намного превосходило нынешнее (в среднем примерно полтораста человек, как в Кежаре). Тогда семейные дома располагались не по одному, а по нескольким концентрическим кругам. Впрочем, такие кругообразные деревни есть не только у бороро. С некоторой разницей в деталях они, по-видимому, типичны для всех племен лингвистической группы жес, которые занимают Центральное Бразильское плоскогорье между реками Ара-гуая и Сан-Франсиску. Бороро являются, возможно, самыми южными представителями этой группы. Но мы знаем, что их ближайшие северные соседи — кайяпо, живущие на правом берегу Риу-Мансу (с ними впервые познакомились всего лет десять назад), строят свои деревни сходным образом, так же как апинайе, шеренте и канела.
Кругообразное размещение хижин вокруг мужского дома имеет громадное значение в социальной жизни и отправлении культа. Миссионеры-салезианцы района реки Гарсас быстро поняли, что единственное средство обратить бороро в христианство — это заставить их покинуть свою деревню и поселиться в другой, где дома расположены параллельными рядами. Потеряв ориентировку по отношению к странам света, лишенные плана, который служит основой для их знаний, индейцы быстро теряют чувство традиций, словно их социальная и религиозная системы (мы увидим, что они нераздельны) слишком сложны для того, чтобы можно было обходиться без схемы, заложенной в плане деревни.
В оправдание салезианцев скажем, что они приложили огромные усилия, чтобы понять эту сложную структуру и сохранить ее в своих трудах для потомства. Как раз теперь возникала срочная необходимость сопоставить их выводы с результатами обследования в тех местах, куда они пока не проникли и где эта система сохраняла свою жизненность. Поэтому, руководствуясь уже опубликованными материалами, я старался добиться от своих информаторов анализа структуры их деревни. Мы проводили дни в хождении от дома к дому, переписывая их обитателей, устанавливая их гражданское положение, вычерчивая палочками на земле идеальные линии, разграничивающие секторы, с которыми связаны сложные системы привилегий, традиций, иерархических степеней, прав и обязанностей. Чтобы упростить изложение, я выправлю — если можно так сказать — ориентировки, ибо направления стран света. Как их понимают индейцы, никогда точно не соответствуют тем, что показывает компас. Кругообразная деревня Кежара расположена по касательной к левому берегу Риу-Вермилью. Эта река течет примерно в направлении с востока на запад. Поперечник деревни, теоретически параллельный реке, делит население на две группы: на севере — чера, на юге — тугаре. Как кажется — но это не абсолютно точно, — первый термин означает «слабый», а второй — «сильный». Как бы то ни было, такое разделение важно по двум причинам: прежде всего человек принадлежит всегда к половине своей матери; затем он может вступить в брак только с членом другой половины. Если моя мать является чера, то я тоже чера, но моей женой будет тугаре.
Женщины живут в том доме, где они родились, этот дом они и наследуют. Поэтому когда мужчина женится, он переходит через поляну, пересекает идеальную поперечную линию, разделяющую две половины, и поселяется по другую ее сторону. Это изгнание смягчается наличием мужского дома, поскольку благодаря центральному положению он посягает на территорию обеих половин. Однако правила жительства поясняют, что дверь, выходящая на территорию чера, называется дверью тугаре, а та, что выходит на территорию тугаре, носит название чера. Ими пользуются исключительно мужчины. Таким образом, женатый мужчина никогда не чувствует себя хозяином в семейном доме. Ведь дом, где он родился и с которым связаны детские впечатления, расположен по другую сторону: это дом его матери и сестер, где теперь живут их мужья. Тем не менее он возвращается туда, когда хочет, в полной уверенности, что будет там хорошо принят. А когда обстановка в семейном доме покажется ему слишком тяжелой (например, когда там гостят его шурины), он может спать в мужском доме, где вновь обретает свои юношеские воспоминания, мужское товарищество и религиозную атмосферу, нимало не исключающую интрижек с незамужними девушками.
Делением на половины регулируются не только браки, но и другие стороны социальной жизни. Каждое необходимое действие, касающееся прав или обязанностей, совершается в пользу или с помощью другой половины. Так, умершего чера хоронят тугаре, и наоборот. Следовательно, две половины деревни выступают как партнеры. Это сотрудничество не исключает соперничества: существует гордость за свою половину и зависть к другой. Представим себе социальную жизнь на примере двух футбольных команд, которые, вместо того чтобы противодействовать стратегии своих противников, старались бы услужить друг другу, оценивая преимущество по степени достигнутого совершенства и благородства.
Перейдем теперь к новому аспекту: вторая поперечная линия, перпендикулярная предыдущей, перекраивает половины по оси с севера на юг. Все население, родившееся к востоку от этой оси, называется «с верховья реки», а к западу от нее — «с низовья реки». Таким образом, вместо двух половин мы получили четыре секции, причем теперь чера и тугаре выступают заодно по одну и по другую сторону от этой оси. К сожалению, еще ни одному наблюдателю не удалось понять точную роль этого второго подразделения.
Кроме того, население распределяется по родам. Это группы семей, которые считают себя родственными по женской линии, начиная с какого-то общего предка, нередко мифологического, а иногда и просто забытого. Скажем поэтому, что члены рода узнают друг друга потому, что носят одно и то же имя. Возможно, что в прошлом число родов у чера было восемь к четырем и четыре у тугаре. Но с течением времени многие из них угасли, другие же подразделились. Тем не менее члены одного рода — за исключением женатых мужчин — по-прежнему живут в одной хижине или в хижинах, примыкающих друг к другу. Таким образом, каждый род занимает определенное положение: он либо чера, либо тугаре, с верховья или с низовья реки или может быть разделен на две под-группы этим вторым делением, проходящим через жилище того или иного рода.
Как бы еще больше усложняя дело, каждый род включает наследственные подгруппы, тоже по женской линии. Так, в каждом роде есть семьи «красные» и «черные». Более того, прежде каждый род как будто подразделялся на три ступени: высшая, средняя и низшая. Может быть, они явились отражением или преобразованием иерархизованных каст мбайя-кадиувеу. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что эти ступени были, по-видимому, эндогамными: член высшей ступени мог заключить брак с членом только этой же ступени (другой ее половины) и так далее. Из-за катастрофического уменьшения населения в деревнях бороро (вместо тысячи или более жителей в них насчитывается от ста до двухсот человек) уже не хватает семей, чтобы представить все эти категории; строго соблюдается лишь правило деления на половины.
Распределение населения по родам, без сомнения, продолжает самую важную из той «раскладки карт», в которой общество бороро, по-видимому, находит удовольствие. В рамках общей системы браков между половинами роды прежде объединялись особой близостью: один род чера отдавал предпочтение в союзах с одним, двумя или тремя родами тугаре, и наоборот. Сверх того не все роды пользуются одним и тем же статутом. Главу деревни выбирают в строго определенном роде половины чера с наследственной передачей титула по женской линии от дяди с материнской стороны к сыну его сестры. Есть роды «богатые» и роды «бедные». В чем же состоит эта разница в богатстве? Остановимся вкратце на этом вопросе.
Наше представление о богатстве носит в основном экономический характер; как бы ни был скромен уровень жизни бороро, он, как и у нас, не одинаков для всех. Некоторые лучше охотятся или ловят рыбу, более везучи или изобретательны, чем другие. В Кежаре наблюдаются признаки профессиональной специализации. Один индеец знает толк в изготовлении каменных инструментов для полировки, он их обменивает на продовольствие и, по-видимому, живет неплохо. Однако эти различия остаются на индивидуальном уровне, то есть они преходящи. Единственное исключение представляет вождь, который получает дань от всех родов в виде продовольствия и изделий. Но поскольку он, получая, берет на себя определенные обязательства, то постоянно находится в положении банкира: через его руки проходят многочисленные богатства, которыми он никогда не владеет. Я собирал свои коллекции культовых предметов в обмен на подарки, которые вождь тут же распределял между родами.
Уставное богатство родов совсем другого свойства. Каждый из них владеет «капиталом» из мифов, преданий, танцев, социальных и религиозных функций. В свою очередь на мифах основываются привилегии, которые являются одной из наиболее любопытных особенностей культуры бороро. Почти все предметы украшены геральдическими знаками, позволяющими определить род и подрод владельца. Эти привилегии состоят в использовании определенных перьев, в манере их подрезать, в расположении перьев различного вида и цвета; в исполнении определенных декоративных работ: плетения из волокон или мозаики из перьев; в использовании особых мотивов и т. д. Так, церемониальные луки украшены перьями и кольцами коры согласно канонам, предписанным каждому роду. Стержень стрелы декорирован у основания, между планками оперения, специфическим орнаментом. Элементы из перламутра сложных губных вставок имеют фигурную форму: овальную, рыбовидную, прямоугольную в зависимости от рода. Различен цвет бахромы; диадемы из перьев, надеваемые для танцев, снабжены каким-то знаком отличия (обычно это деревянная планка, покрытая мозаикой из наклеенных кусочков перьев), относящимся к роду владельца. Все эти привилегии подлежат ревнивому и придирчивому надзору. Немыслимо, как говорят, чтобы один род завладел прерогативами другого, иначе началась бы братоубийственная война. Итак, с этой точки зрения, различия между родами огромны: некоторые роскошно богаты, другие плачевно бедны. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с обстановкой в хижине. Мы будем различать их не как бедные и богатые, а скорее как безыскусные и изысканные.
Для материального оснащения бороро характерна простота в сочетании с редким совершенством исполнения. Рабочий инструмент так и остался архаическим, несмотря на топоры и ножи, которые когда-то распределяла «Служба защиты индейцев». Если для грубых работ индейцы пользуются металлическими инструментами, то отделку дубин для оглушения рыбы, луков и стрел из твердого дерева с тонкими зазубринами они по-прежнему производят с помощью орудия, которое похоже на тесло и на долото. Им они пользуются по любому случаю, как мы перочинным ножом. Оно состоит из загнутого резца капибары (грызуна, живущего по берегам рек). Резец привязывают сбоку к концу рукоятки. Помимо плетеных циновок и корзин, луков и стрел, костяных или деревянных инструментов мужчин, а также палки-копалки женщин, отвечающих за сельскохозяйственные работы, имущество в хижине сводится к очень небольшому числу вещей. Это сосуды из тыкв и из черной глины, полусферические тазы и миски с длинной ручкой на манер поварешки. Все предметы отличаются очень чистыми линиями, подчеркнутыми строгостью материала. Любопытная вещь: бороро, по-видимому, раньше расписывали глиняные изделия и лишь сравнительно недавно этот навык подвергся религиозному запрету. Возможно, этим же объясняется и то, что они больше не выполняют наскальных росписей, какие еще находят в каменистых укрытиях шапады, а между тем в них узнаются многочисленные черты их культуры. Для большей уверенности я однажды попросил расписать большой лист бумаги. Один индеец принялся за дело с помощью пасты из уруку и смолы, и хотя бороро уже не помнят о тех временах, когда расписывали скалы, картина, которую мне вручили, походила на уменьшенную наскальную фреску.
По контрасту со строгой простотой обиходных предметов бороро вкладывают свое стремление к пышности и свое воображение в костюм или по крайней мере — поскольку он сведен до минимума — в его аксессуары. Женщины владеют настоящими ларчиками, которые передаются от матери к дочери, с украшениями из зубов обезьяны или клыков ягуара, оправленных в дерево и закрепленных с помощью тонких перевязок. Если они получают после охоты такие трофеи, то позволяют мужчинам выщипать себе виски. Те изготовляют из волос своих жен длинные плетеные шнурки, которые заматывают на голове наподобие тюрбанов. В праздничные дни мужчины носят также подвески в форме полумесяца из пары когтей крупного броненосца (землероющего животного, размеры которого превышают метр и которое едва ли изменилось с третичного периода), украшенных инкрустациями из перламутра, бахромой из перьев или хлопка. Клювы туканов, закрепленные на покрытых перьями стержнях, султаны из перьев больших белых цапель, длинные перья из хвостов араурана, вставленные в ажурные бамбуковые веретена, обклеенные белым пухом, воткнуты в их шиньоны — натуральные или искусственные — наподобие шпилек, придерживающих сзади надвинутые на лоб диадемы из перьев. Иногда эти украшения комбинируются в головной убор, такой сложный, что порой несколько часов уходит на то, чтобы укрепить его на голове танцора. Я приобрел один такой убор для Музея Человека в обмен на ружье. Переговоры об этом продолжались неделю. Убор был совершенно необходим для проведения обряда, так что индейцы решились с ним расстаться только после того, как набрали на охоте все необходимые перья и изготовили из них другой убор. Он состоял из диадемы в форме веера, козырька из перьев, закрывающего верхнюю часть лица, высокой цилиндрической короны, охватывающей голову в виде палочек, увенчанных перьями орла-гарпии, и из плетеного диска, в который втыкают куст палочек, обклеенных перьями и пухом. Это сооружение достигает почти двухметровой высоты. Даже когда мужчины не носят церемониального наряда, их страсть к украшению остается столь сильной, что они постоянно придумывают себе какой-то убор. Многие надевают короны: меховые повязки, украшенные перьями; плетеные венчики, также с перьями; или что-то вроде чалмы из когтей ягуара, вставленных в деревянный круг. Но они приходят в восхищение и от сущего пустяка: высушенная соломенная полоска, подобранная на земле, наскоро подправленная и раскрашенная, составляет хрупкий головной убор, в котором его владелец может красоваться, пока не предпочтет ему выдумку, вдохновленную другой находкой. Иногда для той же цели обрывают все цветки с дерева. Кусок коры, несколько перьев дают неутомимым модельерам повод к изготовлению потрясающих ушных подвесок. Чтобы оценить ту энергию, которую расходуют эти крепкие молодцы, украшая себя, нужно войти в мужской дом: во всех углах вырезают, отделывают, высекают, клеят. Речные раковины разделяют на куски и с силой их полируют на брусках для изготовления бус и губных вставок. Из бамбука и перьев нагромождаются фантастические сооружения. С прилежанием костюмерши эти мужчины, сложенные, как грузчики, преображают друг друга в цыплят с помощью пуха, приклеенного прямо на кожу.
Мужской дом не только являет собой ателье, но и служит для других целей. Там спят подростки, там в свободные часы отдыхают женатые мужчины: болтают и курят толстые сигареты, завернутые в сухой кукурузный лист. Там же они порой и едят, ибо тщательно разработанная система повинностей обязывает роды по очереди нести службу в мужском доме. Примерно через каждые два часа один из мужчин идет в свою семейную хижину за тазиком, наполненным маисовой кашей, так называемой мингау, которую готовят женщины. Его возвращение приветствуется громкими радостными криками «О! О!», врывающимися в дневную тишину. По незыблемому ритуалу, человек, отрабатывающий повинность, приглашает шестерых — восьмерых мужчин и ведет их к тазику, откуда они черпают миской, сделанной из глины или раковины.
Я уже говорил, что женщинам доступ в мужской дом запрещен. Это относится к замужним женщинам, ибо девушки-подростки сами избегают приближаться к нему. Впрочем, один раз в жизни им приходится войти туда добровольно, чтобы сделать предложение своему будущему мужу.
Живые и мертвые
Мужской дом служит мастерской, клубом, спальней, домом свиданий и, наконец, еще и храмом. Там готовятся к религиозным танцам, происходят некоторые церемонии, на которые не допускаются женщины, например изготовление и вращение ромбов. Это музыкальные, богато раскрашенные деревянные инструменты, по форме напоминающие сплюснутую рыбу, но различные по размеру — приблизительно от тридцати сантиметров до полутора метров. Вращая их за конец шнура, производят глухой гул, приписываемый навещающим деревню духам, которых женщинам положено бояться. Беда той, которая увидит ромб: ей, вполне вероятно, угрожает смерть. Когда я впервые присутствовал при их изготовлении, меня пытались убедить, что речь идет о приспособлениях для кухни. Моя просьба уступить мне несколько штук вызвала у них крайнее отвращение, что объяснялось не столько необходимостью снова приниматься за работу, сколько опасением, что я выдам секрет. Пришлось среди ночи идти в мужской дом с сундучком. Туда положили завернутые ромбы и заперли сундук на замок, а с меня взяли слово, что я открою его не раньше, чем окажусь в Куябе. Европейскому наблюдателю некоторые занятия в мужском доме представляются едва ли совместимыми, но они там уживаются. Немногие народы столь глубоко религиозны, как бороро, и у немногих имеется такая разработанная метафизическая система. Однако духовные верования тесно переплетаются с повседневными привычками, не создавая впечатления, что индейцы отдают себе отчет в том, что непоследовательно переходят от одной системы к другой.
Дело не в том, что религия пользуется у бороро большим престижем, наоборот, она разумеется сама собой. В мужском доме религиозные отправления совершаются с той же непринужденностью, что и остальные, как если бы речь шла об утилитарных делах, выполняемых ради их результата, без требования того почтительного отношения, которое нисходит даже на неверующих, когда они входят в храм. Сегодня после полудня в мужском доме поют. Это подготовка к вечернему публичному обряду. В углу храпят или болтают подростки, двое-трое мужчин напевают, встряхивая погремушками, но если одному из них захочется закурить сигарету или если пришла его очередь зачерпнуть кукурузной каши, он передает инструмент соседу, который подхватывает мелодию. Если какой-то танцор начинает щеголять своим новым убором, все останавливаются и обсуждают его, как будто забыв свои обязанности, пока в другом углу заклинание не возобновляется в том же самом месте, где было прервано.
И тем не менее значение мужского дома превосходит даже то, что связано с его ролью центра общественной и религиозной жизни, которую я попытался описать. Структура деревни не только позволяет осуществлять четкое функционирование институтов: она резюмирует и регулирует отношения между человеком и вселенной, между обществом и сверхъестественным миром, между живыми и мертвыми.
Прежде чем приступить к рассмотрению этого нового аспекта культуры бороро, я должен пояснить, что означают отношения между живыми и мертвыми. Без этого было бы трудно понять то особое решение, которое привносит мышление бороро в эту всеобщую проблему. Оно поразительно схоже с тем, которое встречается на другом конце западного полушария — у жителей лесов и прерий на северо-востоке Северной Америки, у индейцев оджибве, меномини и виннебаго. Не существует, вероятно, ни одного общества, которое не проявляло бы уважения к мертвым. Даже в самом начале человеческого рода неандерталец уже хоронил своих усопших в могилах, устроенных из нескольких грубых камней. Несомненно, похоронные обряды меняются от группы к группе. Можем ли мы говорить о том, что эти вариации несущественны, если учитывать те одинаковые чувства, которые стоят за ними? Даже если мы прибегнем к самым крайним упрощениям в отношении чувства уважения, проявляемого к мертвым в разных обществах, мы все же должны будем признать большое различие: это два полюса, между которыми существует целая серия переходных стадий. В некоторых обществах мертвых не тревожат, их лишь поминают, что не беспокоит живых. Если мертвые посещают живых, то с перерывами и в предусмотренных случаях. И их посещение оказывает благотворное действие, поскольку покровительство мертвых обеспечивает регулярное возвращение времен года, плодородие полей и женщин. Все проходит так, как если бы между мертвыми и живыми было заключено соглашение: в обмен на разумный культ, который им посвящается, мертвые остаются в своем мире, а в происходящих время от времени встречах между двумя группами всегда преобладает забота об интересах живых. Это положение отчетливо выражено в одной общей для всего фольклора теме — теме признательного мертвеца. Богатый герой выкупает труп у кредиторов, которые противились его захоронению. Он хоронит мертвеца. Тот во сне является к своему благодетелю и сулит ему удачу на том условии, что полученные выгоды они поровну поделят между собой. Действительно, герой быстро завоевывает любовь принцессы, которую ему удается спасти от многочисленных опасностей с помощью своего сверхъестественного покровителя. Нужно ли поделиться с мертвецом? Но принцесса заколдована, она наполовину женщина, наполовину змея или дракон. Мертвец требует свою долю, герой соглашается, и тот, удовлетворенный этой честностью, довольствуется малым, отдавая герою супругу, ставшую женщиной.
Этой концепции противостоит другая, ее тоже можно проиллюстрировать фольклорной темой, которую я назову: предприимчивый рыцарь. Здесь герой беден, а не богат. На все про все у него есть хлебное зернышко, которое ему хитростью удается обменять последовательно на петуха, свинью, быка, на труп, его же он наконец выменивает на живую принцессу. Как видно, здесь мертвый является объектом, а не субъектом. Это больше не партнер, с которым заключают соглашение, а орудие, которым пользуются для спекуляции, где есть место и обману, и мошенничеству. Некоторые общества придерживаются подобного отношения к мертвым. Они отказывают им в покое, они их используют, иногда в буквальном смысле, как в случае каннибализма и некрофагии, когда эти явления основаны на стремлении слиться с доблестями и силами покойного. Символически это происходит в обществах, втянутых в престижные соперничества, где участники должны, осмелев так сказать, постоянно призывать мертвых на выручку в стремлении обосновать свои исключительные права посредством взывания к предкам и генеалогических мошенничеств. Эти общества больше других не чувствуют покоя со стороны мертвых, которыми они злоупотребляют. Они думают, что те отплачивают за свое преследование, тем более проявляя свою требовательность и придирчивость по отношению к живым, что последние стараются воспользоваться ими. Но идет ли речь о справедливом разделе выгоды, как в первом случае, или о безудержной спекуляции, как во втором, главная идея состоит в том, что в отношениях между мертвыми и живыми невозможно не принимать в расчет обе стороны. Между этими крайними позициями существуют переходные формы: индейцы западного побережья Канады и меланезийцы выводят всех своих предков в церемониях, заставляя их свидетельствовать в пользу потомков. В некоторых культах предков в Китае или странах Африки мертвые сохраняют своё личное тождество, но лишь на протяжении нескольких поколений. У пуэбло на юго-западе США их тотчас же перестают персонифицировать в качестве усопших, но они выполняют какие-то специальные функции. Даже в Европе, где мертвые стали равнодушными и анонимными, в фольклоре сохраняются остатки иного варианта, где присутствует вера в то, что существует два типа мертвецов: те, что погибли от естественных причин, составляют корпус предков-покровителей, тогда как самоубийцы, убитые или околдованные, превращаются в зловредных и завистливых духов.
Если мы ограничимся рассмотрением эволюции западной цивилизации, то нет сомнения, что спекуляционная позиция постепенно уступает место договорной концепции в отношениях между мертвыми и живыми, а она в свою очередь уступает место безразличию, которое, может быть, заключается в евангельской формуле: оставьте мертвым хоронить мертвых. Но нет никаких оснований предполагать, что эта эволюция соответствует всеобщему образцу. Создается скорее впечатление, что во всех культурах имелось неотчетливо выраженное осознание обеих форм, но индейцы бороро выделяли одну из них и при этом старались, прибегая к суеверным приемам, обезопасить себя с другой стороны, как, впрочем, и мы продолжаем это делать независимо от признаваемых нами верований или неверия.
Своеобразие бороро состоит в том, что они ясно выразили обе концепции, выстроив систему верований и обрядов, соответствующих каждой из них, и создав механизмы, позволяющие переходить от одной к другой с надеждой примирить обе.
Я выразился бы неточно, если бы сказал, что для бороро не существует естественной смерти: человек для них не индивид, а личность. Он составляет часть социологической вселенной, то есть деревни, которая существует испокон веку бок о бок с физической вселенной, состоящей в свою очередь из других, по их мнению, одушевленных существ, небесных тел и погодных явлений. Этому взгляду не мешает временный характер конкретных деревень, которые по причине истощения обрабатываемых земель редко остаются на одном месте дольше тридцати лет. Следовательно, то, что составляет деревню, это-не ее территория и не ее хижины, а определенная структура, которая была описана выше и которую воспроизводит любая деревня. Таким образом становится понятным, почему, препятствуя традиционному расположению деревень, миссионеры разрушают сразу всю систему. Что касается животных, они частично принадлежат к миру людей, особенно рыбы и птицы, тогда как некоторые наземные животные относятся к физической вселенной. Таким образом, бороро считают, что их человеческая форма является переходной: между формой той рыбы, чьим именем они себя называют, и формой ара-ра, которой они заканчивают цикл своих перевоплощений. Мышление бороро основывается на фундаментальном противопоставлении природы и культуры, из чего следует, что они относят человеческую жизнь к порядку культуры. Говорить, что смерть естественна или противоестественна, теряет смысл. На деле и по праву смерть является одновременно и естественной и противоестественной.
Каждый раз, когда кто-то умирает, это затрагивает не только его близких, но и общество в целом. Ущерб, который нанесла природа обществу, она должна вернуть в виде долга — мори — термин, который довольно хорошо передает одно из основных понятий бороро. Когда умирает индеец, деревня организует коллективную охоту. Ее поручают половине, противолежащей той, к которой принадлежал покойный. Это экспедиция против природы, цель которой — убить крупную дичь, предпочтительно ягуара, чьи когти, клыки и шкура и составят мори покойного.
Когда я прибыл в Кежару, ее только что посетила смерть, к сожалению, речь шла о человеке, умершем вдалеке, в другой деревне. Поэтому я не увидел двойного погребения, которое заключается в том, что труп сначала кладут в яму, покрытую ветками и вырытую в центре деревни. Он лежит в ней, пока не начнет разлагаться плоть, затем костные останки моют в реке, разрисовывают и украшают мозаикой из наклеенных перьев и, наконец, кладут в корзину и погружают на дно озера или реки. Все остальные церемонии, на которых я присутствовал, протекали в соответствии с традицией, включая ритуальные скарификации родственников на том месте, где должна быть вырыта временная могила. Другая неудача заключалась в том, что коллективная охота состоялась то ли накануне, то ли в день моего приезда — неизвестно, ясно одно — охотники ничего не убили. Для погребальных танцев использовали старую шкуру ягуара. Я даже подозреваю, что наш ирара был так живо присвоен индейцами, чтобы восполнить недостающую дичь. Мне никогда в этом не признавались, и это жаль: если дело обстояло именно так, тогда я мог бы претендовать на роль уиаддо, главы охоты, представлявшего душу покойного. От его семьи я получил бы нарукавную повязку из человеческих волос и поари — мистический кларнет, сделанный из маленького, обклеенного перьями кале-баса, служащего раструбом для бамбукового язычка; он звучит над добычей, а потом его привязывают к шкуре. Я бы поделил, как это предписано, мясо, кожу, зубы, когти между родственниками покойного, которые дали бы мне в обмен церемониальные лук и стрелы, еще один кларнет, в память о моих обязанностях, и бусы из кружочков раковин. Безусловно, мне тоже пришлось бы покраситься черной краской, чтобы меня не узнала та злокозненная душа, что была виновна в смерти человека. По правилу мори, она обязана воплотиться в дичь, которую убивают охотники. Таким образом она жертвует собой, компенсируя нанесенный ею ущерб, но полна мстительной ненависти к своему палачу. Ибо в каком-то смысле эта смертоносная натура является человеческой. Она действует с помощью особой категории душ, которые зависят непосредственно от нее, а не от общества. Выше было упомянуто, что я жил в хижине вместе с колдуном.
Бари составляют особую категорию человеческих существ, которые не принадлежат полностью ни к физической вселенной, ни к социальному миру; их роль заключается в установлении посредничества между обоими царствами. Возможно — но не точно, — что все они родились на половине тугаре. Так обстояло дело с моим колдуном, поскольку наша хижина была чера и он жил, как и положено, у своей жены.
Колдуном становятся по призванию, а нередко и после того, как человек заключает соглашение с членами очень сложной общности. Она состоит из злокозненных или попросту опасных духов, частично небесных (и тогда оказывающих влияние на астрономические и метеорологические явления), частично подземных, а частично относящихся к животному царству. Эти существа, число которых постоянно растет за счет душ умерших колдунов, ответственны за движение светил, за ветер, дождь, за болезнь и смерть. Это герои рассказов, выступающие в разнообразных и ужасающих видах: мохнатые, с продырявленными головами, откуда выходит табачный дым, когда они курят; воздушные чудовища, которые испускают дождь из глаз и ноздрей, или с непомерно длинными волосами и ногтями; об одной ноге с большим животом и с телом летучей мыши, покрытым пухом.
Бари — личность антиобщественная. Благодаря личной связи с одним или несколькими духами он получает привилегии: сверхъестественную помощь, когда в одиночку отправляется на охоту, способность превращаться в зверя, дар пророчества; он знает секреты болезней. Убитую на охоте дичь, первый собранный урожай не полагается есть, пока бари не получит свою долю. Она составляет то мори, которое живые должны принести духам мертвых. Таким образом, она играет в системе роль симметричную и противоположную роли погребальной охоты, о которой я говорил. Однако бари тоже подвластен одному или нескольким духам-хранителям. Они используют его для перевоплощения и тогда бари, оседланный духом, впадает в транс и конвульсии. В обмен на свое покровительство дух ни на минуту не упускает бари из поля зрения; именно он является истинным владельцем не только имущества, но и самого тела колдуна. А тот отдает духу отчет за поломанные им стрелы, попорченную посуду, за обрезки своих ногтей и волос. Их нельзя уничтожать или выбрасывать, и бари тащит за собой эти обломки своей прошедшей жизни. Старая юридическая поговорка — мертвый хватает живого — получает здесь ужасный и неожиданный смысл. Связь между колдуном и духом такая тесная, что в конечном счете никогда неизвестно, кто же из двух партнеров по договору является хозяином, а кто слугой.
Из сказанного видно, что для бороро физическая вселенная слагается из сложной иерархии индивидуализированных сил. Если их личная природа обозначена четко, то не так обстоит дело с другими их свойствами, ибо эти силы одновременно являются и предметами и существами, живыми и мертвыми. В обществе колдуны образуют то звено, которое связывает людей с этой таинственной вселенной злокозненных душ, одновременно живых созданий и предметов.
По сравнению с физической вселенной социальный мир имеет совершенно иные особенности. Души обычных людей, то есть не колдунов, наоборот, теряют свое личное тождество и существуют как общество. На деле это общество двойственно, поскольку души распределяются после похорон между двумя деревнями, одна из которых лежит на Востоке, а другая — на Западе. Их держат под надзором соответственно два великих обожествленных героя пантеона бороро: на западе — старший, Бакороро, а на востоке — младший, Итуборе. Заметим, что линия, проходящая с востока на запад, соответствует течению Риу-Вермелью. Возможно, поэтому существует пока что неясная связь между двойственностью деревень мертвых и разделением деревни на половину в низовье и половину в верховье реки.
Итак, бари посредничает между человеческим обществом и душами злокозненными, индивидуальными и космическими (мы видели, что души умерших бари являются всем этим одновременно). Но существует еще один посредник, который ведает отношениями между обществом живых и обществом мертвых, причем последнее общество — доброжелательно, коллективно и антропоморфно. Это «Хозяин дороги душ». Его отличают от бари прямо противоположные свойства. Впрочем, оба они, видимо, боятся и ненавидят друг друга. «Хозяин дороги» не пользуется правом на подношения, но он обязан строго соблюдать правила: не есть определенную пищу, быть скромным в одежде. Ему запрещено носить украшения, одежды ярких цветов. С другой стороны, между ним и душами не существует соглашения: те постоянно находятся при нем и в некотором роде имманентны ему. Они не завладевают им во время трансов, они являются ему в снах; если иногда он их вызывает, то исключительно для чьего-то блага. Если бари предвидит болезнь или смерть, «Хозяин дороги» ухаживает за больным и лечит его. Впрочем, говорят, что бари — выражение физической необходимости — охотно берет на себя подтверждение своих предсказаний, приканчивая больных, которые медлят с выполнением его мрачных пророчеств.
Следует, однако, непременно отметить, что представление бороро о жизни и смерти не соответствует нашему. Однажды, показав мне женщину, сгорающую от лихорадки в углу хижины, ее назвали мертвой, подразумевая, конечно, под этим, что дни ее сочтены. В конце концов этот взгляд вполне похож на манеру военных соединять в одном слове «потери» одновременно убитых и раненых. С точки зрения непосредственной эффективности это одно и то же, хотя, с точки зрения раненого, его положение по сравнению с погибшим имеет определенное преимущество.
Наконец, хотя «Хозяин» и может наподобие бари превращаться в зверя, он никогда не становится ягуаром, пожирателем людей, то есть вымогателем мори мертвых у живых. Он посвящает себя животным, дающим пропитание: попугаю-арара, собирающему плоды, орлу-гарпии, ловящему рыбу, или тапиру, мясом которых будет питаться племя. Бари одержим духами, «Хозяин дороги» жертвует собой ради спасения людей. Даже откровение, которое призывает его к выполнению его миссии, тягостно. Сначала избранник узнает сам себя по сопровождающему его зловонию, безусловно напоминающему смрад, который наполняет деревню недели напролет, когда после смерти труп погребают во временной неглубокой могиле посреди площади для священных танцев. Оно связывается с мифическим существом — айже, чудовищем из водных глубин, отталкивающим, зловонным и нежным, которое является посвященному и ласкает его. Во время похорон эту сцену изображают намазавшие себя грязью юноши, сжимающие в объятиях переодетого соплеменника, который воплощает молодую душу. Индейцы достаточно конкретно представляют себе айже и могут нарисовать его. Такое же название они дают ромбам, которые гулом возвещают о появлении этого животного и подражают его крику.
После всего сказанного неудивительно, что погребальные церемонии растягиваются на несколько недель, ибо их функции весьма разнообразны. Прежде всего они располагаются в двух плоскостях, которые мы только что выделили. Если смотреть с индивидуальной точки зрения, каждая смерть дает повод для третейского суда между физической вселенной и обществом. Враждебные силы, которые образуют эту вселенную, нанесли ущерб обществу, и ущерб должен быть возмещен, в этом состоит роль погребальной охоты. После того как совместными действиями охотников мертвый отомщен и выкуплен, он должен быть включен в состав общества душ. Таково назначение торжественного погребального песнопения, на котором мне посчастливилось присутствовать.
В деревне бороро одному из моментов дня отводится особенно важное место — это призыв вечера. Как только становится темно, на площади для танцев, где собираются главы родов, зажигают большой костер. Громким голосом глашатай выкликает каждую группу: «вожди», «люди ибиса», «люди тапира», «люди большого броненосца», Бакоро (от имени героя Бакороро), «люди пальмы», «люди гусеницы», «люди дикобраза». По мере появления участников все тем же громким голосом он передает распоряжения на завтрашний день, которые слышны в самых дальних хижинах. В этот час, впрочем, в них почти никого нет. С наступлением темноты, когда исчезают москиты, все мужчины покидают семейные дома. Захватив циновку и разостлав ее на утрамбованной земле главной площади, расположенной с западной стороны мужского дома, они ложатся спать, завернувшись в хлопчатобумажное одеяло, окрашенное в оранжевый цвет от постоянного соприкосновения с телами, намазанными красной краской. «Службе защиты индейцев» с трудом удалось бы узнать в них один из своих презентов. На больших циновках располагаются человек пять-шесть и изредка обмениваются словами, другие лежат поодиночке. Ходить приходится среди всех этих растянувшихся на земле тел. По мере того как продолжается перекличка, один за другим поднимаются главы названных семей, получают распоряжение и снова укладываются, глядя в небо. Женщины тоже вышли из хижин. Они собрались группами у своих дверей. Мало-помалу разговоры затихают, и постепенно, ведомые сначала голосами двух или трех жрецов, разрастаясь по мере появления новоприбывших, в глубине мужского дома, а затем и на самой площади становятся слышны песнопения, речитативы и хоры, продолжающие звучать всю ночь.
Умерший принадлежал к половине мера, поэтому службу отправляли тугаре. Куча листьев в центре площади изображала несуществующую могилу. Справа и слева от нее лежали пучки стрел, перед которыми стояли миски с едой. На голове большинства жрецов и певцов — их было около дюжины — красовалась широкая диадема из ярких перьев (у некоторых они свисали на ягодицы), а плечи закрывал прямоугольный плетеный веер, держащийся на завязанном вокруг шеи шнурке. Одни были полностью обнажены и разрисованы либо в красный цвет — сплошь или кольцами, — либо в черный. Другие наклеили на тело полоски белого пуха, третьи были одеты в длинные соломенные юбки. Главный персонаж, олицетворяющий молодую душу, появлялся в разных костюмах, как того требовал момент: то в одежде из зеленой листвы с возвышающимся на голове уже описанным огромным убором, волоча наподобие шлейфа шкуру ягуара, которую за ним носил паж, то нагой и раскрашенный черной краской с единственным украшением в виде какой-то соломенной штуки вокруг глаз, похожей на большие очки без стекол.
Эта деталь особенно интересна, ибо по аналогичному украшению узнается Тлалок, бог дождя в Древней Мексике. Ключ от этой загадки хранится, возможно, у пуэбло Аризоны, в Нью-Мексико: души мертвых превращаются у них в богов дождя. Кроме того, у них есть различные верования, относящиеся к магическим предметам, защищающим глаза и делающим их владельца невидимым. Я часто замечал живой интерес, проявляемый южноамериканскими индейцами к очкам. Отправляясь в последнюю экспедицию, я даже захватил с собой запас оправ без стекол, имевших большой успех у намбиквара, как если бы традиционные верования предрасполагали индейцев к встрече со столь необычной принадлежностью. Никто никогда не видел очков из соломы у бороро, но поскольку назначение черной краски — сделать невидимым того, кто ею накрашен, возможно, что очки выполняют ту же самую функцию, которая отводится им в мифах пуэбло. Наконец, духи, связанные с дождем у бороро, имеют устрашающую внешность: клыки и крючковатые руки — как у бога воды майя.
В первые ночи мы присутствовали на танцах тугаре — «людей пальмы» и «людей ежа». В обоих случаях танцоров с головы до ног закрывали листья, а лицо было изображено выше, на уровне диадемы из перьев, возвышавшейся над всем костюмом, так что персонажи невольно представлялись непомерно высокого роста.
В руках они держали пальмовые ветви или палки, украшенные листьями.
Танцы были двоякого рода. Сначала танцоры выступали одни; разделенные на две группы по четыре человека, они стояли лицом к лицу на противоположных концах площадки. С криками «хо! хо!» они бежали навстречу друг другу, кружась вокруг себя, пока не менялись местами. Позднее среди танцоров-мужчин появились женщины, и началась бесконечная фарандола[64], которая составлялась, продвигалась вперед или топталась на месте, ведомая обнаженными хороначальниками, которые пятились задом и взмахивали погремушками, тогда как другие мужчины пели сидя на корточках. Спустя три дня церемонии были прерваны для подготовки второго действия: танца мариддо. Мужчины группами отправились в лес за охапками пальмовых веток; оборвав с них сначала листья, их разрубили на куски сантиметров по тридцать. Беря по два или три куска, индейцы соединяли их грубыми перетяжками из увядших листьев таким образом, чтобы образовались перекладины гибкой лестницы длиной несколько метров. Получились две неодинаковые лестницы, свернутые в виде рулонов. Один рулон имел в высоту примерно полтора метра, другой — метр и тридцать сантиметров, а по бокам их украсили листвой, которую удерживала сетка, сплетенная из волосяных шнурков. Два рулона торжественно вынесли на середину площади, поставив их рядом. Это и были мариддо, соответственно мужского и женского рода.
Под вечер две группы, каждая из пяти-шести мужчин, отправились одна на запад, другая на восток. Я пошел вслед за первой и метрах в пятидесяти от деревни наблюдал за тайными приготовлениями, происходившими под прикрытием деревьев. Мужчины убирали себя листьями на манер танцоров и закрепляли диадемы. Но на этот раз тайная подготовка объяснялась тем, что они вместе со второй группой изображали души мертвых, пришедшие из своих деревень на востоке и на западе, чтобы принять недавно умершего. Когда все было готово, «выступающие» со свистом направились к площади, куда раньше их пришла восточная группа (как и происходило бы в действительности, если бы одни поднимались вверх по реке, а другие спускались по течению, то есть двигались бы быстрее). Робкой и неуверенной походкой мужчины великолепно передавали природу теней. Но вскоре церемония оживилась: один за другим они хватали тяжелые рулоны мариддо (их сделали из свежей листвы), поднимали на вытянутых руках и танцевали с этим грузом, пока, обессилев, не уступали его сопернику. Сцена уже потеряла первоначальный мистический смысл, теперь это была ярмарка, где молодежь хвасталась своими мускулами в обстановке шуток, пота и тумаков. Тем не менее эта игра, светский вариант которой известен у родственных племен, например бег с поленом у индейцев жес, обитающих на Бразильском плоскогорье, полностью обретает здесь свой религиозный смысл; радостная суматоха воспринимается индейцами как игра, в которой они оспаривают у мертвых право оставаться в живых. Это великое противопоставление живых и мертвых выражается прежде всего в разделении жителей деревни на актеров и зрителей. Актеры — преимущественно мужчины, охраняемые таинством общего дома. Поэтому план деревни может иметь даже более глубокое значение, чем то, которое мы признали за ним в социологическом аспекте. По случаю смерти каждая половина поочередно играет роль живых или мертвых по отношению к другой, но в этом чередовании отражается другая игра — жизнь, где роли распределены раз и навсегда. Мужчины, образующие братство в мужском доме, являются символом общества душ, тогда как в собственности женщин находятся хижины, стоящие по периметру, а сами они не допускаются к участию в наиболее священных обрядах и, если можно так сказать, составляют аудиторию живых, зрительниц по своему предназначению.
Мы видели, что сверхъестественный мир сам по себе двояк, поскольку он включает владения и жреца и колдуна. Этот последний — всемирный хозяин, во власти которого находятся как небеса, начиная с десятого неба (бороро верят в множественность расположенных друг над другом небес), так и самые глубины земли. Таким образом, силы, которыми он распоряжается и от которых он зависит, расположены по вертикальной оси, тогда как жрец, «Хозяин дороги душ», возглавляет горизонтальную ось, соединяющую восток с западом, где расположены две деревни мертвых. Однако многочисленные указания, которые свидетельствуют в пользу непреложного происхождения бари из тугаре, а «Хозяина дороги» — из чера, наводят на мысль, что разделение на половины также служит для выражения этой двойственности. Поразительно, что все мифы бороро представляют героев тугаре в качестве созидателей, творцов, а героев чера — как миротворцев и устроителей. Первые ответственны за существование воды, рек, рыб, растительности и изготовленных предметов; вторые же установили порядок в мире, избавили человечество от чудовищ и определили для каждого животного его пищу. Есть даже миф, в котором рассказывается, что некогда верховная власть принадлежала тугаре, но они отказались от нее в пользу чера, как если бы индейское мышление путем противопоставления половин также хотело выразить переход от разнузданной природы к упорядоченному обществу. Становится тогда понятным парадокс: «слабыми» называются чера — обладатели политической и религиозной власти, а «сильными» — тугаре. Эти последние стоят ближе к физической вселенной, а первые — к человеческому обществу, которое как-никак не более могущественно. Социальный порядок не в силах противостоять космической иерархии. Даже у бороро природу побеждают, лишь признавая ее власть. Впрочем, в социологической системе, как и у бороро, нет выбора: мужчина не может принадлежать к той же половине, что его отец и сын (поскольку он относится к половине своей матери), он оказывается родственным на одной половине только своему деду и своему внуку. Если чера хотят оправдать свою власть путем исключительного родства с героями-основателями, они тем самым соглашаются отдалиться от них, произведя дополнительный вычет одного поколения. По отношению к великим предкам они становятся «внуками», тогда как тугаре — это «сыновья».
Зачарованные логикой своей системы, не являются ли индейцы жертвой еще большей мистификации? В конце концов я не могу отделаться от чувства, что ослепительный метафизический котильон, на котором я только что присутствовал, сводится к довольно мрачному фарсу. Братство мужчин заявляет свое право представлять мертвых, чтобы у живых возникла иллюзия прихода душ. Женщины исключены из обрядов и введены в заблуждение относительно подлинной природы, безусловно, чтобы санкционировать раздел, который предоставляет мужчинам приоритет в деле гражданского состояния и местопребывания в мужском доме, в свершении таинств религии. Но действительная или предполагаемая легковерность женщин выполняет и психологическую функцию: придать в интересах обоих полов эмоциональное и интеллектуальное содержание этим марионеткам, ибо в противном случае люди дергали бы их за веревочки не с таким прилежанием. Ведь мы поддерживаем у детей веру в Деда Мороза не только для их обмана: их горячность согревает нас, помогает нам обманывать самих себя и верить — поскольку они в это верят, — что мир щедрости, ничего не требующий взамен, не так уж несовместим с действительностью. Моралисту общество бороро преподает урок. Пусть он послушает своих индейцев-информаторов. От них он узнает, как две половины деревни заставляют себя жить и дышать одна посредством другой, одна ради другой — обмениваясь женщинами, имуществом и услугами в ревностной заботе о взаимности; женя своих детей друг на друге, погребая обоюдно мертвых, будучи друг другу порукой, что жизнь вечна, мир готов прийти на помощь, а общество — справедливо. Чтобы удостоверить эти истины и поддерживать соплеменников в этих убеждениях, их мудрецы выработали грандиозную космологию; они вписали ее в план своих деревень и в распределение жилищ. Они поняли и осудили противоречия, на которые наталкивались, допуская противопоставление лишь для того, чтобы отрицать его в пользу другого, разрезая и рассекая группы, объединяя или сталкивая их, превращая всю социальную и духовную жизнь в герб, где симметрия и асимметрия уравновешивают друг друга наподобие искусных рисунков, которыми красотка кадиувеу, более смутно мучимая той же заботой, разрисовывает себе лицо. Но что из всего этого остается, что остается от половин, от контрполовин, родов, их подразделений перед лицом очевидности, которая, как нам кажется, вытекает из наших наблюдений? В обществе, усложненном как бы для забавы, каждый род разбит на три группы: высшую, низшую и среднюю. Главные предписания обязывают мужчину из высшей группы одной половины вступать в брак только с женщиной высшей группы другой половины; то же самое относится к средней и низшей группам. Это значит, что под покровом братских установлений общество деревни бороро сводится в конечном счете к трем группам, которые заключают браки только внутри себя. Три общества, не сознавая этого, всегда будут отличаться друг от друга и останутся изолированными, одинокими в своей гордыне, замаскированными даже в собственных глазах ложными установлениями — продуктами хитросплетений, смысл которых оно не сможет никогда понять. Напрасно бороро олицетворяют свою систему в обманчивом спектакле — им не больше других удалось опровергнуть ту истину, что представление об обществе, построенном на отношениях между живыми и мертвыми, сводится к усилиям скрыть, приукрасить или оправдать, в аспекте религиозного мышления, реальные отношения, которые существуют среди живых.
V. Намбиквара
Затерянный мир
Подготовка к этнографической экспедиции в Центральную Бразилию происходит на перекрестке парижских улиц Реомюр — Себа-стополь. Там обосновались оптовики по торговле швейными и модными товарами; именно там есть надежда найти изделия, способные удовлетворить взыскательный вкус индейцев.
Год спустя после моего посещения бороро были выполнены все условия, необходимые для того, чтобы представить меня этнографом: благословение профессоров, полученное задним числом, устройство выставки моих коллекций в одной из галерей предместья Сент-Оноре, чтение лекций и публикация статей. Я получил и достаточные фонды для проведения более широких начинаний. Прежде всего следовало экипироваться. По опыту моего трехмесячного знакомства с индейцами я мог судить об их требованиях, удивительно одинаковых на всем протяжении Южно-Американского континента. В одном из кварталов Парижа, который мне был столь же неведом, как и Амазония, я занимался поэтому странными упражнениями под взглядами чехословацких импортеров. Поскольку я был совершенно не сведущ в их деле, то не мог воспользоваться техническими терминами для уточнения своих нужд, а лишь прибегал к критериям индейцев. Я старался выбрать самый мелкий бисер для вышивки, так называемый рокай, лежавший тяжелыми клубками в ящиках с перегородками. Я пытался его грызть, испытывая на прочность, сосал, чтобы проверить, прокрашен ли он внутри и не полиняет ли при первом купании в реке. Я менял размеры партий бисера, подбирая его цвета в соответствии с индейскими канонами: сначала белый и черный, в равной пропорции, затем красный, гораздо меньше желтый и для очистки совести немного синего и зеленого, которые, вероятно, будут отвергнуты. Причины всех этих предпочтений легко понять. Изготовляя собственный бисер вручную, индейцы ценят его тем выше, чем он мельче, то есть требует больше труда и ловкости. В качестве сырья они используют черную кожицу пальмовых орехов, молочный перламутр речных раковин и добиваются эффекта путем чередования этих двух цветов. Как все люди, они ценят прежде всего то, что им известно, поэтому мой белый и черный бисер, по-видимому, будет иметь успех. Названия желтого и красного цветов нередко входят у них в одну языковую категорию, так как эта гамма красок получается ими из биксы, которая в зависимости от качества зерен, их зрелости колеблется между ярко-красным и желто-оранжевым цветами. Что касается красок холодного цвета — синего и зеленого, то они представлены в природе тленными растениями, чем и объясняется безразличие к ним индейцев, а также неточность значения слов, обозначающих эти оттенки: в разных языках синий цвет приравнивается либо к черному, либо к зеленому.
Швейные иглы должны быть достаточно толстыми для прочной нити, но не слишком, так как бисер мелкий. Что касается нити, то лучше всего, чтобы она была яркого цвета, предпочтительно красного, и сильно скручена, как бывает при ремесленном изготовлении. В общем-то я научился остерегаться хлама: благодаря знакомству с бороро я проникся глубоким уважением к индейским техническим навыкам. В условиях жизни вне цивилизации требуются прочные вещи. Чтобы не потерять доверия аборигенов — как бы ни казалось это парадоксально, — нужны изделия из самой закаленной стали, стеклянные бусы, прокрашенные не только снаружи, и нить, в которой бы не усомнился даже шорник английского двора.
Иногда эти требования своей экзотикой приводили в восторг столичных торговцев. У канала Сен-Мартен один фабрикант уступил мне по низкой цене большую партию рыболовных крючков. Целый год таскал я с собой по бруссе несколько килограммов никому не нужных крючков, которые оказались слишком малы для рыбы, достойной внимания амазонского рыбака. В конечном счете мне удалось отделаться от них на боливийской границе. Все эти товары должны были выполнять двойную функцию: с одной стороны, подарков и предметов обмена у индейцев, а с другой — средства моего обеспечения пропитанием и услугами в глухих уголках, где редко встретишь торговцев. Когда к концу экспедиции я исчерпал свои ресурсы, мне удалось продержаться еще несколько недель, открыв лавочку в поселке сборщиков каучука.
Я собирался провести целый год в бруссе и долго колебался в выборе цели исследования. Заботясь больше о том, чтобы понять Америку, нежели о том, чтобы глубже проникнуть в природу человека, я решил произвести нечто вроде разреза через этнографию и географию Бразилии и пересечь западную часть плато — от реки Куяба до реки Мадейра. Вплоть до недавнего времени этот район оставался в Бразилии самым неизученным. Паулисты в XVIII веке не отважились проникнуть дальше Куябы, обескураженные неприветливым видом местности и дикостью индейцев. В начале XX века полторы тысячи километров, отделяющие Куябу от Амазонки, были еще до такой степени недоступной зоной, что для переезда из города Куяба в города Манаус или Белен, лежащие на Амазонке, проще всего было проехать до Рио-де-Жанейро, а дальше продолжать путь на север по морю и по реке от ее устья. Лишь в 1907 году генерал (в то время полковник) Кандидо Мариано да Силва Рондон [65] принял меры для продвижения в эту зону. Восемь лет ушло на разведку и устройство телеграфной линии стратегического значения, которая через Куябу соединила федеральною столицу с пограничными постами на северо-западе.
Отчеты комиссии Рондона, несколько докладов генерала, путевые заметки Теодора Рузвельта (который его сопровождал во время одной из экспедиций), наконец, книга тогдашнего директора Национального музея Рокетт-Пинту, озаглавленная «Рондония» (1912 г.), давали общие сведения об очень примитивных племенах, обнаруженных в этой зоне.
Но прошло какое-то время, и проклятие, казалось, вновь нависло над плато. Там не побывал ни один профессиональный этнограф. Если проследовать вдоль телеграфной линии, вернее, того, что от нее осталось, можно было бы узнать, кто такие собственно намбиквара, а если взять еще севернее, то и познакомиться с загадочными племенами, которых никто не видел после Рондона. В 1939 году интерес, ранее проявлявшийся только к племенам побережья и больших речных долин — традиционных путей проникновения во внутренние области Бразилии, начал обращаться к индейцам, живущим на плато. На примере бороро я убедился, что племена, которые традиционно считались носителями неразвитой культуры, исключительно изощрены в социологическом и религиозном планах. Стали известны первые результаты исследований немецкого ученого Карла Ункеля[66], принявшего индейское имя Нимуендажу. Прожив несколько лет в деревнях Центральной Бразилии, он подтвердил, что общество бороро представляет собой не какое-то уникальное явление, а скорее вариацию на основную тему, общую с другими племенами.
Итак, саванны Центральной Бразилии оказались заняты на глубину почти в две тысячи километров людьми, принадлежавшими прежде к удивительно однородной культуре. Для нее были характерны язык, распавшийся на несколько диалектов одной и той же семьи, и относительно низкий уровень материальной культуры, составляющий контраст с социальной организацией и религиозным мышлением, получившими большое развитие. Не следовало ли их считать первыми жителями Бразилии, которые либо оказались позабыты в глубине своей бруссы, либо были отброшены незадолго до открытия Америки на самые бедные земли воинственными племенами, пришедшими неизвестно откуда на завоевание побережья и речных долин?
Путешественники XVI века встретили во многих местах побережья представителей великой культуры тупи-гуарани, которые занимали также почти всю территорию Парагвая и течение Амазонки, образуя неправильной формы кольцо диаметром три тысячи километров, прерывавшееся лишь на парагвайско-боливийской границе. Эти тупи, у которых проявляются черты сходства с ацтеками, то есть народами, обосновавшимися в долине Мехико в позднюю эпоху, сами переселились сюда недавно; заселение долин внутренних областей Бразилии продолжалось вплоть до XIX века. Быть может, тупи снялись с места за несколько столетий до открытия Америки, движимые верой в то, что где-то существует земля без смерти и зла. Именно таковым было их убеждение, когда, завершая миграцию в конце XIX века, они мелкими группами вышли на побережье Сан-Паулу под предводительством своих колдунов. Танцами и пением они возносили хвалу стране, где не умирают люди, л своими длительными постами надеялись заслужить ее. Во всяком случае в XVI веке тупи упорно оспаривали побережье у ранее занимавших его групп, по поводу которых у нас мало сведений, быть может, это были жес.
На северо-западе Бразилии тупи сосуществовали с другими народами: караибами, или карибами, которые во многом походили на них своей культурой, но в то же время отличались по языку и которые стремились завоевать Антильские острова. Были еще ара-саки: эта группа довольно загадочна: более древняя и более утонченная, чем две других, она составляла основную массу антильского населения и продвинулась вплоть до Флориды. Отличаясь от жес очень высокой материальной культурой, особенно керамикой и резной деревянной скульптурой, араваки сближались с ними по социальной организации, которая, по-видимому, была того же типа, что и у жес. Карибы и араваки, очевидно, раньше, чем тупи, проникли на континент: в XVI веке они скопились в Гвиане, в устье Амазонки и на Антильских островах.
Однако мелкие колонии их все еще существуют во внутренних районах, в частности на правых притоках Амазонки — реках Шин-гу и Гуапоре. У араваков есть даже потомки в Верхней Боливии. Возможно, именно они принесли искусство изготовления керамики к кадиувеу, поскольку гуана, которых первые подчинили себе, говорят на одном из аравакских диалектов.
Пускаясь в путешествие по наименее изученной части плато, я надеялся обнаружить в саванне самых западных представителей группы жес, а добравшись до бассейна реки Мадейра — получить возможность изучить неизвестные остатки трех других лингвистических семей на окраине их великого пути проникновения на континент — в Амазонии.
Моя надежда осуществилась лишь отчасти, по причине того упрощенного взгляда, с которым мы подходим к доколумбовой истории Америки. Ныне благодаря последним открытиям и — в том, что касается меня, — благодаря годам, посвященным изучению североамериканской этнографии, я лучше понимаю, что западное полушарие следует рассматривать как единое целое. В социальной организации, религиозных верованиях жес воспроизводится то, что характерно для народов, живущих в лесах и в прериях Северной Америки. Впрочем, уже давно были отмечены аналогии между группой племен чако (например, гуайкуру) и племенами на равнинах Соединенных Штатов и Канады. Плавая вдоль берегов Тихого океана, представители цивилизаций Мексики и Перу, безусловно, неоднократно общались друг с другом на протяжении своей истории. На все это не очень обращали внимание, потому что среди исследователей Американского континента долго господствовало убеждение, что проникновение на континент произошло совершенно недавно, а именно всего в пятом — шестом тысячелетиях до нашей эры, и целиком осуществилось азиатскими племенами, пришедшими через Берингов пролив.
Таким образом, мы располагали всего несколькими тысячелетиями, к которым могли привязать объяснение следующих факторов: каким образом все западное полушарие от одного конца до другого заняли эти индейцы, приспособившись к различным климатическим условиям; как они открыли, затем освоили и распространили на громадных пространствах такие дикие виды, которые стали в их руках табаком, фасолью, маниоком, сладким бататом, картофелем, арахисом, хлопчатником и главным образом кукурузой; как, наконец, зародились и последовательно развились цивилизации в Мексике, в Центральной Америке и в Андах, дальними наследниками которых являются ацтеки, майя и инки. Чтобы преуспеть в этом, потребовалось бы сократить каждый этап развития настолько, чтобы он укладывался в интервал из нескольких веков, в результате чего доколумбова история Америки превращалась в калейдоскопическую смену образов, которые по капризу ученого-теоретика меняются каждую минуту.
Подобные выводы были опрокинуты открытиями, которые далеко назад отодвигают время проникновения человека на континент. Мы знаем, что там он познакомился с ныне исчезнувшей фауной — охотился на ленивца, мамонта, верблюда, лошадь, архаического бизона, антилопу; рядом с их костями были обнаружены оружие и орудия из камня. Наличие некоторых из этих животных в таких местах, как долина Мехико, свидетельствует о том, что тогдашние климатические условия сильно отличались от тех, которые преобладают там в нынешнее время, так что для их изменения потребовалось несколько тысячелетий. Использование радиоактивного метода для датировки археологических остатков привело к сходным результатам.
Таким образом, следует признать, что человек существовал в Америке уже на протяжении двадцати тысяч лет, кое-где он начал выращивать кукурузу уже более трех тысяч лет назад. В Северной Америке почти везде находят останки, датируемые пятнадцатью или двадцатью тысячами лет. Одновременно датировки основных археологических пластов на континенте, полученные путем измерения остаточной радиоактивности углерода, отодвигаются на пятьсот — полторы тысячи лет ранее, чем предполагалось прежде. Доколумбова история Америки внезапно обретает недостававший ей масштаб. Правда, из-за этого обстоятельства мы оказываемся перед трудностью, обратной той, с которой встречались наши предшественники: чем заполнить эти огромные периоды? Мы понимаем, что передвижения населения, которые я только что пытался воспроизвести, относятся к последнему периоду и что великим цивилизациям в Мексике или Андах что-то предшествовало. Уже в Перу и в различных районах Северной Америки были обнаружены останки первоначальных жителей. Это были племена, не знавшие земледелия, которых сменили общества, жившие в деревнях и занимавшиеся огородничеством, но еще не знакомые ни с кукурузой, ни с керамикой. Затем появились объединения, занимавшиеся резьбой по камню и обработкой драгоценных металлов в более свободном и вдохновенном стиле, нежели все, что последовало за ними. Инки в Перу, ацтеки в Мексике, в чьем лице, как были склонны считать, расцвела и сосредоточилась вся американская история, столь же далеки от этих живых истоков, как наш стиль ампир от Египта и Рима, у которых он так много заимствовал: тоталитарные искусства, во всех трех случаях жаждущие грандиозности за счет грубости и скудости; выражение государства, озабоченного утверждением своей мощи, которое расходует ресурсы на нечто иное (война или администрация), нежели на собственную утонченность. Даже памятники майя представляются пламенеющим декадансом того искусства, которое достигло наивысшего расцвета на тысячелетие раньше.
Откуда же пришли эти основатели? Теперь мы не можем дать уверенного ответа и вынуждены признать, что ничего об этом не знаем. Передвижения населения в районе Берингова пролива были очень сложными: эскимосы принимают в них участие в позднее время. Примерно на протяжении одной тысячи лет им предшествовали палеоэскимосы, культура которых напоминает Древний Китай и скифов, а в течение очень долгого периода — длившегося, возможно, с восьмого тысячелетия до кануна новой эры — там жили различные народности. Благодаря скульптуре, восходящей к первому тысячелетию до нашей эры, нам известно, что древние обитатели Мексики в физическом отношении являли собой типы очень далекие от нынешних индейцев.
Работая с материалами другого порядка, генетики утверждают, что по крайней мере сорок видов растений, которые собирали в диком или одомашненном виде в доколумбовой Америке, имеют тот же набор хромосом, что и соответствующие виды в Азии, или хромосомное строение, происходящее от них. Следует ли сделать из этого вывод, что кукуруза, которая присутствует в этом списке, пришла из Юго-Восточной Азии? Но как же это могло случиться, если американцы выращивали ее уже четыре тысячи лет назад, в эпоху, когда мореплавание, безусловно, находилось в зачаточном состоянии? [67] Не следуя за Хейердалом в его дерзких гипотезах о заселении Полинезии американскими аборигенами, мы вынуждены после плавания «Кон-Тики» допустить, что контакты через Тихий океан могли иметь место, и нередко. Но в эту эпоху, когда в Америке уже процветали высокоразвитые цивилизации, к началу первого тысячелетия до нашей эры, его острова еще не были заселены; по крайней мере там не нашли ничего относящегося к столь давнему времени. Поэтому, минуя Полинезию, мы обратимся к Меланезии, может быть уже заселенной, и к азиатскому побережью в его совокупности. Сегодня мы уверены, что связи между Аляской и Алеутскими островами, с одной стороны, и Сибирью — с другой, никогда не прерывались. На Аляске, не знакомой с металлургией, в начале нашей эры употребляли железные орудия; одинаковая керамика обнаружена начиная от Великих американских озер вплоть до Центральной Сибири наряду с одинаковыми легендами, обрядами и мифами. Пока Запад жил замкнувшись в себе, все северные народности, по-видимому от Скандинавии до Лабрадора, включая Сибирь и Канаду, поддерживали самые тесные контакты. Если кельты заимствовали некоторые мифы у той субарктической цивилизации, о которой мы почти ничего не знаем, то станет понятно, как произошло, что цикл о Граале проявляет большую близость к мифам индейцев, живущих в лесах Северной Америки, нежели к любой другой мифологической системе. И вероятно, не случайно и то, что лапландцы по-прежнему ставят конические палатки, схожие с палатками этих индейцев.
На юге Азии древние цивилизации Америки вызывают другие отголоски. Народности на южных границах Китая, которых многие считали варварскими, а еще больше примитивные племена Индонезии демонстрируют поразительные черты сходства с американскими. Во внутренних районах острова Борнео [68] собраны мифы, неотличимые от некоторых мифов, имеющих самое широкое распространение в Северной Америке. Однако специалисты уже давно обращали внимание на сходство археологических материалов Юго-Восточной Азии и Скандинавии. Итак, существует три региона: Индонезия, американский Северо-Восток и Скандинавские страны, которые образуют в некотором роде тригонометрические точки доколумбовой истории Нового Света.
Нельзя ли представить себе, что это исключительно важное событие в жизни человечества (я имею в виду появление неолитической цивилизации — с распространением гончарного ремесла и ткачества, зачатками земледелия и скотоводства, первыми попытками выплавки металла, — которая вначале ограничивалась в Старом Свете областью между Дунаем и Индом) вызвало нечто вроде пробуждения у менее развитых народов Азии и Америки? Трудно понять истоки происхождения американских цивилизаций, не принимая гипотезы об интенсивной деятельности на всех берегах Тихого океана — азиатском или американском, деятельности, распространявшейся на протяжении многих тысячелетий с места на место благодаря прибрежному судоходству. Прежде мы не признавали исторического размаха за доколумбовой Америкой, поскольку его была лишена Америка в период после открытия Колумбом. Нам следует, возможно, исправить еще одно заблуждение, а именно что Америка в течение двадцати тысяч лет оставалась отрезанной от всего мира, поддерживаемое предлогом, что это относилось к Западной Европе. Все данные скорее наводят на мысль, что великое безмолвие над Атлантикой сменялось на всем протяжении Тихого океана большим оживлением.
Как бы то ни было, в начале первого тысячелетия до нашей эры американский гибрид уже, как кажется, породил три ветви, разновидности которых были результатом какого-то более раннего развития. В безыскусном жанре культура Хоупвела, которая занимала или затронула всю часть Соединенных Штатов к востоку от Великих равнин, перекликается с культурой Чавин [69] в Северном Перу (отголоском которой на юге является Паракас); тогда как культура Чавин со своей стороны походит на ранние проявления так называемой ольмекской культуры и предвосхищает развитие майя. В этих трех случаях перед нами беглое искусство, чья тонкость и свобода, интеллектуальный вкус к двойному смыслу (как в Хоупвеле, так и в Чавине некоторые сюжеты читаются по-разному в зависимости от того, смотришь ли на них с обратной или с лицевой стороны) едва начинают склоняться к угловатой жесткости и скованности, которыми мы привыкли наделять искусство до-колумбовой Америки. Я пытаюсь иногда убедить себя в том, что рисунки кадиувеу продолжают по своей манере эту давнюю традицию. Не в ту ли эпоху американские цивилизации начали расходиться, причем Мексика и Перу перехватили инициативу и двигались гигантскими шагами, тогда как все остальное удерживалось в промежуточном положении или даже находилось на пути к полудикому состоянию? Что произошло в Тропической Америке — этого мы никогда в точности не узнаем из-за неблагоприятных для сохранности археологических материалов климатических условий. Тем не менее сходство социальной организации жес (вплоть до плана деревень бороро) с тем, что удается воссоздать об исчезнувших цивилизациях благодаря изучению некоторых доинкских раскопок, таких, как Тиауанау в Верхней Боливии, не может не волновать.
Все вышеизложенное увело меня далеко в сторону от описания подготовки экспедиции в Западное Мату-Гросу. Но этим отступлением я хотел дать почувствовать читателю ту страстную атмосферу, которой проникнуто любое исследование в области американистики, будь то в плане археологии или этнографии. Размах проблем таков, тропинки, которыми мы идем, столь ненадежны и исхожены, прошлое — громадными кусками — столь безвозвратно уничтожено, основание наших построений столь шатко, что любая разведка на месте приводит исследователя в состояние неуверенности, когда скромное смирение сменяется у него безумными амбициями. Он знает, что главное потеряно и что все его усилия сведутся к тому, чтобы ковырять землю, и тем не менее вдруг встретится какое-то указание, сохранившееся как чудо, и забрезжит свет? Нет ничего невозможного, следовательно, все возможно. Ощупью мы идем в ночи, которая слишком непроглядна, чтобы мы осмелились что-либо утверждать по этому поводу, даже то, что ей суждено длиться.
В сертане
В Куябе, куда я вернулся два года спустя, я пытался узнать, какова же в действительности ситуация на участке телеграфной линии в пятистах или шестистах километрах к северу от города. Линия в Куябе вызывает всеобщую ненависть, для чего есть несколько причин. После основания города в XVIII веке редкие сношения с севером осуществлялись речным путем по среднему течению Амазонки. Чтобы добыть свое любимое возбуждающее средство — гуарану, жители Куябы снаряжали по реке Тапажос целые экспедиции на пирогах, длившиеся более полугода. Гуарэ-на — это твердая масса каштанового цвета, приготовляемая почти исключительно индейцами мауе из растолченных плодов лианы пауллиния сорбилис. Плотная колбаска массы натирается на костистом языке рыбы арапаима, хранящемся в сумке из оленьей кожи. Эти детали немаловажны, ибо металлическая терка или любая другая кожа могут погубить свойства драгоценного вещества. Жители Куябы объясняют также, что табак, скрученный веревкой, следует обрывать и размельчать вручную, а не резать ножом, иначе он выдыхается. Порошок гуараны насыпают в подслащенную воду, где он остается во взвешенном состоянии, не растворяясь, а затем эту смесь со слегка шоколадным вкусом пьют. Лично я ни разу не почувствовал от нее никакого действия, но среди жителей Центрального и Северного Мату-Гросу гуарана играет такую же роль, как мате среди жителей юга.
Тем не менее свойства гуараны, по-видимому, стоили затраченных усилий. Прежде чем спуститься по водопадам, экспедиция высаживалась на берегу, и люди разделывали там участок, для того чтобы посадить кукурузу и маниок. Таким образом экспедиция обеспечивала себя свежей пищей на обратном пути. Но после развития пароходного сообщения гуарана быстрее и в большем количестве доходила до Куябы из Рио-де-Жанейро, куда каботажные суда доставляли ее по морю из Манауса и Белена. Так что теперь экспедиции по Тапажосу относились к героическому, наполовину забытому прошлому.
Однако, когда Рондон объявил, что откроет для цивилизации северо-западный район, эти воспоминания ожили. Подступы к плато были немного известны. Там лежали два старых поселка — Роза-риу и Диамантину. Расположенные соответственно в ста и в ста семидесяти километрах к северу от Куябы, они вели дремотное существование с тех пор, как исчерпались запасы рудных жил и гравия. Затем нужно было двигаться по суше, пересекая один за другим истоки притоков Амазонки, а не спускаться по ним на пирогах — опасное предприятие на столь длинном отрезке. Но в общем к 1900 году северное плато оставалось мифической областью, где, как утверждала молва, имелась даже горная цепь Серра-ду-Норте, все еще фигурирующая на большинстве карт.
Это неведение в сочетании с рассказами о еще недавнем освоении американского Дальнего Запада и о «золотой лихорадке» пробудило безумные надежды населения Мату-Гросу и даже побережья. Вслед за людьми Рондона, тянувшими телеграфный провод, готова была хлынуть волна эмигрантов, чтобы наводнить собой эти земли с их неожиданным богатством, построить там бразильское Чикаго. Но им пришлось поубавить азарта: как и «проклятые земли» на северо-востоке страны, Серра-ду-Норте оказалась полупустынной саванной, одной из самых бесплодных зон континента. Более того, появление радиотелеграфной связи совпало с завершением линии в 1922 году и к ней пропал всякий интерес. Линию возвели в ранг археологических остатков научного века, который истек к самому моменту ее завершения.
Ее звездный час наступил в 1924 году, когда мятеж в Сан-Паулу отрезал федеральное правительство от внутренних областей. По телеграфу Рио продолжал поддерживать связь с Куябой через Белен и Манаус. Затем наступил упадок: энтузиасты, которые добились места, уехали или были позабыты. Когда я прибыл туда, они уже несколько лет не получали никакого снабжения. Линию не решались закрыть, но ею уже никто не интересовался. Столбы могли упасть, провода заржаветь; что касается последних людей, остававшихся на постах, то у них не хватало ни средств, ни мужества, чтобы уехать, и они медленно вымирали, подтачиваемые болезнью, голодом и одиночеством.
Такая ситуация для жителей Куябы была тем более удручающей, что несбывшиеся надежды дали хотя и скромные, но ощутимые плоды, проистекавшие из эксплуатации персонала линии. Прежде чем отправиться на место, служащие должны были выбрать своего прокурадора, то есть представителя, который получал для них жалованье и использовал его согласно их распоряжениям. Эти распоряжения обычно ограничивались заказами пуль для ружей, керосина, соли, швейных иголок и тканей. Все товары сбывались по дорогим ценам благодаря махинациям прокурадоров, ливанских торговцев и организаторов караванов. Несчастные, заброшенные в бруссе люди тем более не могли рассчитывать выбраться оттуда, что спустя несколько лет оказывались опутанными долгами, превышающими их финансовые возможности.
Определенно линию лучше бы не трогать, и мой план использовать ее посты как базу был встречен без большого поощрения. Я разыскал унтер-офицеров, служивших при Рондоне, но не смог из них вытянуть ничего, кроме мрачного скучного перечня: «мерзкая страна, совершенно мерзкая, более мерзкая, чем любая другая». Главное, чтобы я «не думал туда соваться». Кроме того, существовала проблема индейцев. В 1931 году телеграфный пост в Паресисе, расположенный в относительно людном районе в трехстах километрах к северу от Куябы и всего в восьмидесяти — от Диамантину, подвергся нападению и был разрушен неизвестными индейцами, появившимися из долины Риу-ду-Санге, которую считали необитаемой. Этих «дикарей» окрестили «деревянными мордами» из-за пластинок, которые они вставляли в нижнюю губу и в мочки ушей. С тех пор их вылазки, хотя и не систематически, повторялись, так что дорогу пришлось перенести километров на восемьдесят южнее. Что касается кочевников нам-биквара, которые эпизодически посещали посты с 1909 года, то их отношения с белыми были отмечены разными инцидентами. Намбиквара и работавшие на линии белые избегали друг друга.
Обстановка, господствовавшая вдоль линии, оставалась напряженной. Как только через Дирекцию почт в Куябе удалось установить связь с главными постами (на что каждый раз уходило несколько дней), мы получили самые безрадостные новости: здесь индейцы совершили вылазку, там их не видели уже три месяца, что считалось плохим признаком; еще в одном месте, где они прежде работали, они снова слыли bravos — «дикими» и т. д. Единственное ободряющее либо преподнесенное как таковое сообщение: вот уже несколько недель три монаха-иезуита пытаются обосноваться в Журуэне, у кромки территории намбиквара, в шестистах километрах к северу от Куябы. Я могу туда отправиться, получить нужные сведения и затем составить свои окончательные планы.
Таким образом, я провел месяц в Куябе, организуя экспедицию. Раз уж получено разрешение на поездку, надо идти до конца и решиться на шестимесячное путешествие в сухой сезон через плато, которое мне описывали как пустынное, без гостиниц и без дичи. Поэтому необходимо запастись пропитанием не только для людей, но и для мулов. На них мы будем добираться верхом до бассейна реки Мадейры, а оттуда продолжим путь на пирогах, ибо мулу, если его не кормят кукурузой, не осилить такое путешествие.
Для перевозки продовольствия потребуются быки; они более выносливы и довольствуются тем, что находят сами, жесткой травой и листвой. Тем не менее нужно приготовиться к тому, что часть быков падет от голода и усталости, то есть необходимо обзавестись ими в достаточном количестве. А поскольку, чтобы управлять быками, нагружать и разгружать их на каждой стоянке, необходимы и лишние погонщики, то соответственно на это число людей увеличивается и мой отряд, а вместе с этим — и количество мулов и продовольствия, что требует в свою очередь дополнительных быков. В конечном счете после переговоров со знатоком — бывшим служащим на линии и караванщиками я остановился на количестве в пятнадцать человек, при них столько же мулов и штук тридцать быков. Что касается мулов, то здесь у меня не было выбора: в радиусе пятидесяти километров вокруг Куябы продавалось не больше пятнадцати мулов, и я их купил всех. В качестве главы экспедиции я оставил за собой самое величественное животное — большого белого мула.
Настоящая проблема начиналась при отборе людей: вначале экспедиция включала четырех человек, составлявших научный персонал, и мы хорошо знали, что наш успех, наша безопасность и даже наша жизнь будут зависеть от преданности и компетентности команды, которую предстояло нанять. Целыми днями мне приходилось вежливо отказывать проходимцам из Куябы — шалопаям и авантюристам. В конце концов старый «полковник» из окрестностей города указал мне одного из своих прежних погонщиков, который жил в затерянном поселке и которого он мне обрисовал как бедного, благонравного и добродетельного. Я навестил его, он покорил меня естественным благородством, часто встречающимся у крестьян внутренних районов Бразилии. В отличие от других он не умолял меня оказать ему неслыханную милость — дать возможность получать жалованье в течение целого года, а поставил условие: единолично распоряжаться выбором людей и быков и позволить ему захватить нескольких лошадей, которых он рассчитывал выгодно продать на севере. Я уже купил у караванщиков из Куябы десять быков, прельстившись их статью, но еще больше их вьючными седлами и упряжью из кожи тапира в старомодном стиле. Но эти великолепные быки (я не знал, что они уже прошли пятьсот километров) не имели ни дюйма жира на теле. Один за другим они начали страдать от того, что седла стирали им кожу. Несмотря на сноровку погонщиков, у быков, начиная от хребта, стала сходить кожа, открывая через широкие кровянистые окна кишащий червями позвоночник. Они-то и составили наши первые потери.
К счастью, глава команды Фулженсио сумел укомплектовать стадо животными хотя и не блещущими внешним видом, но зато в большинстве своем дошедшими до конца пути. Что касается людей, то их он выбирал из числа юношей своей деревни или ее округи; они родились при нем и уважали его. В большинстве своем юноши происходили из старых португальских семей, обосновавшихся в Мату-Гросу век или два назад и живших по строгим правилам старых времен.
Как бы ни бедны были эти люди, каждый из них имел вышитое полотенце с кружевами — подарок матери, сестры или невесты — и до конца путешествия не согласился бы вытереть свое лицо чем-либо иным. Когда я впервые предложил им положить порцию сахара в кофе, они гордо ответили, что они не висьядос, то есть не развратники. С ними приходилось довольно трудно, ибо по всем вопросам у них было столь же твердое мнение, как и у меня. Так, я едва избежал бунта по поводу того, какие продукты брать с собой, ибо мужчины были убеждены, что умрут от голода, если весь полезный груз не будет составлять рис и фасоль. В крайнем случае они соглашались на сушеное мясо, несмотря на убеждение, что дичи нам всегда хватит. Но сахар, сушеные фрукты, консервы приводили их в негодование. Они бы отдали за нас жизнь, но обращались к нам грубо, на «ты» и ни за что не согласились бы постирать чужой носовой платок, ибо стирка признавалась женским делом. Основы нашего соглашения были следующие: на время экспедиции каждый получит верховое животное и ружье, кроме питания — жалованье в эквиваленте пять франков в день по курсу 1938 года. Для каждого из них полторы-две тысячи франков, накопленных до конца экспедиции (ибо они ничего не хотели получать в пути), представляли собой капитал, который позволял одному жениться, другому заняться разведением скота… Мы договорились, что Фулженсио наймет также нескольких молодых индейцев пареси, когда мы будем пересекать бывшую территорию этого племени, которое поставляет ныне наибольшую часть персонала телеграфной линии у кромки страны намбиквара. Так постепенно составлялась экспедиция группами из двух-трех человек и нескольких животных, рассеянных по поселкам в окрестностях Куябы. Сбор должен был состояться в один из июньских дней 1938 года у городских ворот, откуда быки и всадники под началом Фулженсио отправятся в путь с частью груза. Вьючный бык переносит в зависимости от силы от шестидесяти до ста двадцати килограммов. Этот груз равномерно распределяется на две ноши справа и слева с помощью деревянного, обитого соломой седла, покрытого сверху кожей. Ежедневно преодолевается расстояние примерно в двадцать пять километров, но через неделю пути быкам необходимо несколько дней отдохнуть. Поэтому мы решили отправить животных вперед, нагрузив их как можно меньше, тогда как я поеду на тяжелом грузовике, пока позволит дорога, то есть до Утиарити, расположенном в пятистах километрах к северу от Куябы. Этот пост телеграфной линии находится уже на территории намбиквара, на берегу реки Папагайу, через которую грузовик не сможет перебраться из-за слишком ветхого парома. А потом начнется неизвестность.
Через восемь дней после ухода каравана быков (его называют «тропа», то есть «стадо») наш грузовик вместе со своим грузом двинулся в путь. Но мы не сделали и пятидесяти километров, как встретили своих людей и быков, мирно расположившихся в саванне, тогда как я думал, что они уже в Утиарити или недалеко от него. Здесь я в первый, но не в последний раз вышел из себя. И лишь пережив другие разочарования, я постиг, что время не имело более цены в том мире, куда я вступал. Экспедицией руководили не я и не Фулженсио, а быки. Эти тяжеловесные животные превращались не более и не менее как в герцогинь, за причудами, сменой настроения и утомлением которых нам приходилось постоянно следить. Бык не может предупредить, что он устал или его груз слишком тяжел. Он продолжает идти вперед, а потом внезапно рушится на землю, мертвый или изможденный до такой степени, что ему потребуется шестимесячный отдых, чтобы прийти в себя. В этом случае единственное решение — бросить его. Вот почему погонщики зависят от своих животных. У каждого из быков есть свое имя, соответствующее его цвету, поступи или темпераменту.
Как только погонщики считают это необходимым, весь отряд останавливается. Одного за другим животных освобождают от груза, разбивают лагерь. Если местность не вызывает никаких опасений, быков отпускают пастись одних, в противном случае за ними надо присматривать. Каждое утро несколько человек объезжают всю округу на много километров, пока не установят, где находится каждое животное. Пастухи-вакейрос приписывают своим быкам порочные наклонности, так как нередко хитрые животные прячутся несколько дней подряд и их невозможно найти. Разве я не был обречен на бедствие — потерю целой недели — из-за того, что наш мул, как меня уверяли, убежал в кампо, идя сначала боком, а потом пятясь задом, лишь бы его преследователи не могли разобрать следы?
Когда животные наконец собраны, нужно обследовать и смазать мазью их раны, переделать седло, чтобы груз не приходился на больные места. Наконец, нужно надеть на животных упряжь и нагрузить их. Тут начинается новая драма: за четыре-пять дней отдыха животные успевают отвыкнуть от работы. Едва почувствовав на спине седло, они начинают брыкаться и вставать на дыбы, сбрасывая с трудом размещенный груз, тогда приходится все начинать сначала. Еще хорошо, если освободившийся от поклажи бык не пускается рысью в поле, ибо тогда нужно снова разбивать лагерь, разгружать, а затем пасти всех животных и так далее, пока не будет собран весь отряд, после чего можно снова начать погрузку, возобновляемую таким образом раз пять-шесть.
Мне, еще менее терпеливому, чем быки, потребовались недели, чтобы покориться этому своенравному передвижению. Оставив отряд позади, мы прибыли в Розариу-Уэсти, местечко с тысячью жителей, в большинстве своем чернокожих, малорослых и страдающих базедовой болезнью. Они жили в саманных хибарках огненно-красного цвета под крышами из светлых пальмовых листьев, стоящих вдоль прямых широких улиц, где растет дикая трава. Мне запомнился садик хозяина, который можно было бы принять за жилую комнату, настолько тщательно он был ухожен. Земля утрамбована и подметена, а растения расположены так заботливо, словно это мебель в гостиной: два апельсиновых и одно лимонное деревья, куст горького перца, десять корней маниока, два-три съедобных гибискуса (окро), два розовых куста, банановая рощица и заросли сахарного тростника. Наконец, в клетке сидел попугай, а к дереву за лапки были привязаны три гуляющие рядом курицы.
В Розариу-Уэсти парадный обед состоит из двух равных частей: половину курицы нам подали в поджаренном, а половину — в холодном виде с пикантным соусом; половину рыбы жареной, а половину — вареной. На десерт подали водку из сахарного тростника, которую пьют, приговаривая по обычаю: cemiterio, cadeia, cachaca nao e feito para uma so pessoa, то есть «кладбище, тюрьма и водка (три С) не созданы для одного человека». Розариу находится уже в самой бруссе; его население состоит из бывших сборщиков каучука, искателей золота и алмазов, которые могли мне дать полезные указания о маршруте. Итак, в надежде выловить какие-то сведения я слушал своих посетителей, рассказывающих о приключениях, где неизбежно переплетались легенда и собственный опыт.
Я так и не смог поверить, что на севере существуют гатос-ва-лентес («храбрые кошки») — результат скрещивания домашних кошек и ягуаров. Но в истории, которую мне рассказали, кое-что, возможно, будет интересным, даже если это в конечном счете не что иное, как «дух сертана». В Барра-ду-Бугрис, местечке в верховьях реки Парагвай (Западное Мату-Гросу), жил один знахарь, который вылечивал от змеиных укусов. Сначала он колол предплечье больного зубами питона, затем порохом чертил на земле крест и поджигал его, велев больному протянуть над дымом руку. Наконец, он брал прокопченную вату от трута кремневой зажигалки, окунал ее в водкуи давал смесь выпить больному. Это было все.
Однажды глава отряда сборщиков рвотного корня попросил знахаря сделать такую «прививку» своим людям, которые должны прибыть через несколько дней, в воскресенье. А в субботу утром они услышали на улице вой собаки, которая, как оказалось, увидела чем-то разгневанную гремучую змею. Знахарь отказался поймать пресмыкающееся, как ему велел глава отряда. Тот заявил, что в таком случае «прививка» отменяется. Знахарь подчинился, протянул руку к змее, она укусила его, и он умер. Тот, кто рассказал эту историю, тоже прошел «прививку» знахаря и, чтобы проверить ее действенность, даже нарочно дал змее укусить себя. Все окончилось благополучно. Правда, добавил он, выбранная им змея не была ядовитой.
Я передаю этот рассказ, потому что он хорошо иллюстрирует ту смесь хитрости и наивности, которая проявляется в трагических, воспринимаемых как будничные событиях и характерна для народного мышления во внутренних областях Бразилии. Не следует удивляться выводу, который лишь кажется абсурдным. Рассказчик рассуждает следующим образом. Если бы магия знахаря не была действительной, то вызванные им сверхъестественные силы постарались бы изобличить его, превратив обычную безвредную змею в ядовитую. Пациент попросту проверил магическое лечение тем же магическим путем.
Меня заверили, что дорога, ведущая в Утиарити, не готовит неожиданностей вроде той, что приключилась с нами два года назад по дороге в Сан-Лоренсу. Тем не менее, когда мы добрались до вершины Серры-ду-Томбадор, в месте, носящем название Каиша-Фу-рада, что означает «пробитый ящик», у машины сломалась ведущая шестерня главной передачи. Мы находились километрах в тридцати от Диамантину. Шоферы отправились туда пешком, чтобы телеграфировать в Куябу. Там деталь закажут в Рио, откуда ее доставят самолетом и привезут нам на грузовике. Если все будет хорошо, операция займет неделю, тем временем быки опередят нас.
И вот мы разбили лагерь на верху Томбадора. Этой скалистой шпорой заканчивается шапада — плато, поднимающееся над бассейном реки Парагвай. Шапада нависает над рекой на высоте трехсот метров, с другой ее стороны стекают ручьи, снабжающие водой уже притоки Амазонки. Что можно еще делать в неприветливой саванне, когда между несколькими найденными деревьями подвешены гамаки и натянуты противомоскитные сетки, как не спать, мечтать и охотиться? Сухой сезон начался месяц назад, стоял июнь. Не считая обычных незначительных августовских осадков (которые, кстати, в том году так и не выпали), до сентября не прольется ни капли дождя. Саванна уже приняла зимний вид: увяли и засохли растения — частые жертвы всепожирающего огня бруссы, оставляющего после себя лишь обширные пятна песка, прикрытые обуглившимися веточками. Редкая дичь, населяющая пла-: то, спасается от огня в непроходимых купах рощ, где находит она небольшие зеленые пастбища. В сезон дождей, с октября по март, когда осадки выпадают почти ежедневно, температура поднимается днем до сорока двух — сорока четырех градусов, ночи же бывают прохладные, даже с внезапным и недолгим похолоданием на заре. Напротив, для сухого сезона характерны сильные температурные колебания. В это время нередко температура от дневного максимума в сорок градусов падает ночью до восьми — десяти градусов.
Расположившись вокруг лагерного костра, мы попиваем мате и слушаем рассказы двух братьев, приданных нашей службе, и шоферов о «приключениях» в сертане. Они объясняют, почему большой муравьед тамандуа безобиден в саванне: встав на дыбы, он не держит равновесия. В лесу же он опирается хвостом на дерево и может разорвать передними лапами любого, кто к нему приблизится. Муравьеду не страшны ночные нападения, «он спит, положив голову вдоль тела, и даже ягуару не узнать, где его голова». В сезон дождей, по словам рассказчиков, следует опасаться диких свиней, которые бродят стадами в пятьдесят и более голов и якобы так «скрипят челюстями», что их слышно за несколько километров! При этом звуке охотнику, говорят они, остается лишь бежать, так как, если он убьет или ранит хотя бы одно животное, все остальные сразу перейдут в нападение. Тут уж спасение можно найти только на дереве или на термитнике.
Кто-то рассказал, как однажды ночью ехал вместе с братом и вдруг услышал чьи-то крики, но прийти на помощь побоялся, опасаясь индейцев. Они дождались рассвета, хотя крики не прекращались, и на заре обнаружили охотника: еще вчера он взобрался на дерево, уронив при этом ружье на землю, а дерево окружили свиньи.
Его судьба рисовалась не столь трагичной, как судьба другого охотника, который, издали услышав свиней, бросился на термитник. Звери окружили его. Он стрелял, пока не кончились патроны, а затем пустил в ход большой нож. На следующий день отправились на его поиски и быстро обнаружили место трагедии по летавшим над ним американским грифам. На земле нашли только череп человека да выпотрошенные туши свиней.
Переходим к забавным историям. Серингейрос, сборщику каучука, повстречался голодный ягуар. Они ходили друг за другом вокруг лесной чащи, пока из-за неверного расчета человека не оказались нос к носу. Оба застыли на месте, а человек не решился даже крикнуть. «Лишь полчаса спустя, схваченный судорогой, он делает невольное движение, задевает за курок ружья и только тут вспоминает, что вооружен».
Местность, где мы остановились, к сожалению, наводнена насекомыми — осами, комарами, тучами мельчайших мошек, сосущих кровь, были также пчелы (их здесь называют «отцы меда»). Южноамериканские виды пчел доставляют большие мучения. Любители пота, они наперебой садятся на самые лакомые местечки — углы губ, глаза и ноздри. Как бы опьяненные выделениями своей жертвы, они готовы скорее погибнуть, чем улететь, причем их раздавленные на коже тела без конца привлекают новых мучителей. Отсюда и их прозвище ламбаольос — лизоглазы. Это настоящая пытка тропической бруссы, хуже, чем зараза, идущая от комаров и мошек, к которой организму удается приспособиться через несколько недель.
Но слово «пчела» означает также мед, сбором которого можно безбоязненно заниматься, опустошая укрытые в земле или находящиеся в дуплистом дереве соты со сферическими ячейками величиной с яйцо. Мед неодинаков по вкусу у разных видов пчел — я насчитал их тринадцать, — но неизменно такой насыщенный, что мы быстро научились, на манер индейцев намбиквара, разводить его в воде. Его ароматы можно комбинировать словно в бургундских винах, хотя иногда их странность приводит в замешательство.
Наконец-то приходит грузовик технической помощи с новой деталью и с механизмом для ее установки. Мы снова пускаемся в путь, проезжаем наполовину разрушенный Диамантину, лежащий в долине, открытой в сторону реки Парагвай, опять поднимаемся на плато — на этот раз без происшествий. Добираемся до реки Аринус, которая несет свои воды в Тапажос, а затем Амазонку, поворачиваем к западу, к всхолмленным долинам рек Сакре и Папагайу, они тоже вливаются в Тапажос, падая с уступов шестидесятиметровой высоты. В Пареси мы останавливаемся, чтобы обследовать оружие, оставленное «деревянными мордами», которых снова видели в окрестностях. Немного отъехав, проводим бессонную ночь в болотистой местности. Нас беспокоят лагерные костры индейцев. В ясном небе сухого сезона мы замечаем вертикальные дымы в нескольких километрах от нас. Еще один день идет на осмотр водопадов и сбор сведений в одной из деревень индейцев пареси. Наконец перед нами река Папагайу шириной в сотню метров, катящая вровень с землей такие светлые воды, что, несмотря на глубину, видно ее скалистое ложе. На другой стороне реки стоит дюжина хижин из соломы и саманных хибарок — они относятся к телеграфному посту Утиарити. Разгружаем грузовик, переносим продукты и багаж на паром. Прощаемся с шоферами. Уже на другом берегу замечаем двух обнаженных людей — это намбиквара[70].
На телеграфной линии
Тот, кто живет на линии Рондона, может вообразить, что находится на луне. Представьте себе территорию величиной с Францию и на три четверти неисследованную. По ней передвигаются лишь небольшие группы индейцев, которые относятся к одним из самых примитивных племен в мире. И имено эту территорию из конца в конец пересекает телеграфная линия. Кое-как расчищенная среди леса просека (пикада) служит единственным ориентиром на протяжении семисот километров. Неисследованные места начинаются по обеим сторонам пикады, ее трассу не сразу даже удается отличить от бруссы. Есть, правда, провод, но он, став почти бесполезным сразу же после прокладки, провис на столбах. Многие из них сгнили и упали, став жертвой термитов или индейцев, которые принимают характерное гудение телеграфной линии за жужжание роя диких пчел. Местами провод волочится по земле или небрежно закинут на соседние деревья. Как ни странно, линия не рассеивает впечатления уныния, а усиливает его.
Монотонность лишает эти девственные пейзажи их многозначительности. В тянущейся до бесконечности бруссе просека, покосившиеся столбы и провисшие между ними провода выглядят совершенно нелепо.
Население, обитающее вдоль линии, насчитывает сотню человек. Это индейцы пареси, некогда набранные на месте телеграфной комиссией для присмотра за линией и обученные обращению с аппаратами (это не мешало им по-прежнему охотиться с луком и стрелами), и бразильцы, которых когда-то привлекла в эти необжитые места надежда найти либо новое Эльдорадо, либо новый Дальний Запад. Неоправдавшаяся надежда: по мере того как продвигаешься по плато, все реже встречаются «формы» алмаза.
«Формами» называют небольшие камни странного цвета и строения, которые «оповещают» о присутствии алмазов. Там, где их находят, обнаруживают алмазы. К таким «формам» относятся эмбуррадос — «грубая галька», претиньяс — «негритяночки», ама-реллиньяс — «желтенькие», фригадос-ди-галлинья — «куриные печенки», санге-ди-бой — «бычья кровь», дентес-ди-као — «собачьи зубы» и т. д.
Вместо алмазов на этих песчаных землях, размываемых дождем в течение одной половины года и лишенных каких-либо осадков в другой, можно увидеть лишь колючий кустарник. Здесь совсем нет дичи.
Люди, заброшенные сюда одной из переселенческих волн, столь частых в истории Центральной Бразилии, отрезаны от всего цивилизованного мира. Оказавшихся здесь искателей приключений, народ беспокойный и нищий, тотчас же забывают. Постепенно эти несчастные благодаря каким-то удивительным свойствам своего характера приспосабливаются к одиночеству. Они живут на маленьких постах, состоящих из нескольких хижин, разделенных расстоянием в восемьдесят — сто километров, которые можно преодолеть только пешком,
Каждое утро телеграф ненадолго оживает. Происходит обмен но-: востями. На одном посту заметили лагерные огни группы враждебно настроенных индейцев, якобы готовившихся на него напасть; на другом два дня назад исчезли двое пареси, будто бы став жертвой индейцев намбиквара. С юмором висельника вспоминают миссионеров, убитых в 1933 году.
На людей, работающих на линии, индейцы действуют как патологический гипноз: они представляются повседневной опасностью, преувеличенной воображением обитателей постов. И в то же время приход их небольшими группами составляет на постах единственное развлечение, более того, единственную возможность человеческого общения. Во время такого посещения — один или два раза в год — потенциальные убийцы и кандидаты в убитые обмениваются шутками на немыслимом жаргоне линии, состоящем всего из сорока слов, смеси португальского с намбиквара.
Помимо этих развлечений, от которых у тех и у других бегают по спине мурашки, у каждого начальника поста есть и собственные затеи. Так, один сумасброд каждый раз, раздеваясь перед купанием в реке, не может устоять, чтобы не выстрелить пять раз из своего винчестера. Этим он стремится навести страх на индейцев, якобы готовящихся его зарезать: они ему чудятся на обоих берегах реки. Жена и дети этого чудака умирают от голода, поскольку он расходует на стрельбу все невозместимые припасы патронов.
Есть здесь и бывший завсегдатай бульваров в Рио. В мыслях он продолжает балагурить на Ларгу-ду-Овидор, но, поскольку ему нечего больше сказать, он ограничивается мимикой, прищелкивает языком и пальцами, многозначительными взглядами. В немом кино, возможно, его и приняли бы за кариоку[71].
Нужно упомянуть и благоразумного. Ему удается поддерживать существование своей семьи благодаря стаду косуль, приходящих на водопой к соседнему источнику: каждую неделю он убивает одну косулю, и не больше. Дичь существует, пост также, но в течение восьми лет (с тех пор, как прекратилось ежегодное снабжение постов с караванами быков) они едят только мясо косуль. Индейцы кадиувеу и бороро, каждые по-своему, образуют то, что, прибегая к игре слов, хотелось бы назвать «учеными обществами». Когда же наблюдаешь за жизнью намбиквара, создается впечатление, что перед тобой детство человечества. Но этот вывод ошибочен.
Мы остановились на краю поселка под полуразрушенным навесом из ветвей, который в период строительства линии служил для хранения материалов. Тем самым мы оказались в нескольких метрах от деревни индейцев, которые пришли сюда за несколько дней до нас. Это была небольшая группа из двадцати человек, образующих шесть семей.
Год у намбиквара разделяется на два четких периода. В дождливый сезон, с октября по март, каждая группа выбирает место повыше и посуше возле русла речки или ручья. Там индейцы строят примитивные хижины из ветвей деревьев. В глубине влажных долин они выжигают участки в галерейном лесу и разводят огороды, где высаживают главным образом маниок (сладкий или горький), различные виды кукурузы, табака, иногда фасоль, хлопчатник, земляные орехи и тыквы. Женщины растирают маниок на досках, утыканных колючками пальм, а если им приходится иметь дело с его ядовитыми разновидностями, то выжимают сок, сдавливая свежую мякоть в скрученной коре. Того, что дает огородничество, хватает лишь на часть оседлой жизни. Намбиквара сохраняют даже выжимки маниока, закапывая их в землю и извлекая оттуда полусгнившими через несколько недель или месяцев.
В начале сухого сезона намбиквара покидают деревню, и каждая община распадается на несколько групп. В течение семи месяцев они бродят по саванне в поисках мелкой съедобной живности (личинок, пауков, кузнечиков, грызунов, змей, ящериц), собирают плоды, зерна, корни, дикий мед — короче говоря, все, чем можно спастись от голодной смерти. Они разбивают лагерь на один или несколько дней, а иногда и недель, наскоро устраивают укрытия по числу семей, втыкая ветви пальм или других деревьев полукругом в землю и связывая их наверху. В течение дня ветки с одной стороны выдергивают и втыкают с другой, для того чтобы такой заслон всегда укрывал от солнца, а в случае необходимости защищал от ветра или дождя.
В этот период все заботы направлены на поиски пиши. Женщины вооружаются палкой-копалкой, с помощью которой они извлекают корни и убивают мелких животных. Мужчины охотятся с большими луками, сделанными из пальмовых ветвей, и стрелами, которые поражают своим разнообразием. Одни, с затупленным наконечником, чтобы не втыкались в ветки, предназначаются для охоты на птиц, другие — рыболовные, без оперения, заканчивающиеся тремя или пятью расходящимися остриями; отравленные стрелы, наконечники которых натерты ядом кураре и защищены бамбуковым футляром, предназначены для охоты на небольших животных, а на крупных зверей — ягуара или тапира — охотятся со стрелами, имеющими копьевидный наконечник, сделанный из большого обломанного куска бамбука; они вызывают кровотечение, ускоряющее действие яда.
После великолепия «дворцов» бороро трудно себе представить убогое убранство жилья намбиквара. Ни мужчины, ни женщины не носят никакой одежды. Намбиквара отличаются от соседних племен как физическим типом, так и бедностью культуры. Намбиквара маленького роста; у мужчин средний рост примерно 1,6 метра, а у женщин— 1,5 метра. Последним, как и большинству южноамериканских индеанок, несвойственна тонкая талия, но у них более хрупкие члены, их конечности меньше, а запястья тоньше. Кожа у них более смуглая.
Многие намбиквара страдают от кожных болезней, и нередко их тело покрывают фиолетовые пятна. Намбиквара любят поваляться в песке, и у здоровых людей кожа, припудренная песком, приобретает золотистый цвет и бархатистость, которые особенно соблазнительно выглядят у молодых женщин. Голова у этих индейцев удлиненной формы, черты нередко тонкие, точеные, взгляд живой. Волосяной покров развит сильнее, чем у большинства племен монголоидной расы, волосы редко бывают настоящего черного цвета и слегка волнистые.
Физический тип намбиквара поразил первых увидевших их европейцев, и они даже выдвинули гипотезу о скрещении индейцев с чернокожими, бежавшими с плантаций и нашедшими убежище в колонии мятежных рабов. Но следовательно, это должно было произойти в недавнее время, а тогда непонятно, почему, как мы это проверили, кровь намбиквара принадлежала к нулевой группе, что свидетельствует или об их чисто индейском происхождении, или во всяком случае о длительной многовековой изолированности от других народов[72].
Ныне физический тип намбиквара представляется нам более ясным, он напоминает тип людей, останки которых были обнаружены в Бразилии в пещерах Лагоа-Санта, одной из стоянок штата Минас-Жерайс. Я с изумлением встретил здесь лица почти кавказского типа, такие же, как у некоторых статуй и на барельефах области Веракрус, относящихся к самым древним цивилизациям Мексики. Это сходство казалось еще более странным в связи с бедностью материальной культуры намбиквара, которую трудно было сравнить с самыми развитыми культурами Центральной или Северной Америки; она скорее заставляла относиться к ним как к людям каменного века.
«Костюм» женщин намбиквара состоит из тонкой нитки ракушечного бисера вокруг талии, бус или перевязей, а также подвесок из перламутра или перьев, браслетов, выточенных из панциря броненосца, и иногда узких хлопковых или соломенных повязок выше локтя и вокруг щиколоток. Мужской наряд был еще бесхитростнее, за исключением соломенного помпона, иногда прицепленного к поясу над половым членом.
Кроме лука и стрел вооружение намбиквара включает нечто вроде сплющенной рогатины, которой пользуются как в магических, так и в военных целях. Я видел, как ею манипулировали, чтобы прогнать ураган или убить (бросая в нужном направлении) ата-су — злых духов бруссы. Индейцы называют этим же именем (ата-су) звезды и быков, которых они очень боятся; в то же время они убивают и с удовольствием едят мулов. Мои ручные часы, с их точки зрения, тоже были атасу. Все имущество намбиквара легко умещается в корзине, которую во время кочевок носят за спиной женщины. Эти корзины плетут из шести полос расщепленного вдоль бамбука (две перпендикулярные пары полос и одна косая пара), образующих сеть с широкими звездообразными ячейками. Слегка расширяющиеся кверху корзины заканчиваются внизу в форме перчаточного пальца. Их размер может достигать иногда полутора метров, то есть роста той, кто их носит. На дно кладется несколько завернутых в листья выжимок маниока, а сверху движимое имущество и снаряжение: калебасы, ножи, сделанные из режущего куска бамбука, из грубо отесанных камней или полос железа (полученных путем обмена), закрепленных с помощью воска и веревочек между двумя деревянными планками, образующими ручку; дрели с каменным или металлическим сверлом, укрепленным на конце стержня, который вращают между ладонями. У индейцев есть также металлические топоры, полученные от Комиссии Рондона, так что их каменные топоры служат теперь только наковальней для обработки предметов из ракушек или кости. Но намбиквара по-прежнему пользуются каменными жерновами и полировальными инструментами. Глиняная посуда не знакома восточным группам (среди которых я начал свое обследование); во всех остальных местах она есть, но остается грубой. У намбиквара нет пирог, через реки они переправляются вплавь, иногда пользуясь как спасательным кругом связками хвороста.
В своей корзине намбиквара в основном носят материал, из которого по мере надобности изготовляют нужные предметы. Среди этого материала разные куски дерева, в частности для добывания огня трением, комки воска или смолы, клубки растительных волокон, кости, зубы и когти животных, клочки меха, перья, иглы ежа, ореховая скорлупа, иногда — раковины, камни, хлопок и зерна.
Набор всех этих предметов обескураживает исследователя своей хаотичностью, он кажется результатом скорее не человеческого труда, а деятельности гигантского вида муравьев. Когда намбиквара шагают цепочкой в высокой траве и каждая женщина несет на спине светло-желтую корзину, они действительно напоминают колонну муравьев, переносящих на спине яйца. Индейцам Тропической Америки мы обязаны изобретением гамака; отсутствие этого предмета, предназначенного для отдыха или сна, символизирует у них бедность. Намбиквара спят прямо на земле и голыми. Поскольку ночи в сухой сезон холодные, они согреваются, прижимаясь друг к другу или придвигаясь к лагерным кострам, которые к утру гаснут. На заре индейцы просыпаются перепачканными в еще теплой золе очага. По этой причине пареси дали им прозвище «уаикоакоре» — «те, что спят прямо на земле».
Как я уже говорил, группа, рядом с которой мы поселились в Утиарити, а затем в Журуэне, включала шесть семей: семью вождя из трех его жен и дочери-подростка и пять других, каждая из которых состояла из супружеской пары и одного или двух детей. Все они были объединены родственными связями, поскольку мужчины намбиквара предпочитают жениться или на племяннице (дочери сестры), или на двоюродной сестре (дочери сестры отца или брата матери), то есть кросс-кузине, как называют таких родственниц этнологи. Кузены, отвечающие этому определению, с самого рождения называются словом, которое означает «супруг» или «супруга», остальные кузены (соответственно происходящие от двух братьев или двух сестер и которых этнологи называют по этой причине параллельными) относятся друг к другу как брат и сестра и не могут вступать между собой в брак.
Отношения между всеми индейцами группы весьма сердечные. Тем не менее даже в такой небольшой группе, насчитывающей всего 20 человек, порой бывают недоразумения. Молодой вдовец недавно женился на довольно пустой девушке, которая отказывалась заниматься детьми от первого брака — двумя девочками при-: мерно шести и двух-трех лет. Старшая девочка весьма нежно относилась к младшей, но остальные члены группы были к ней равнодушны. Ее передавали из семьи в семью. Старшие очень хотели, чтобы я ее удочерил, но детям нравился другой выход, казавшийся им чрезвычайно забавным: они привели ко мне девчушку, которая только недавно начала ходить, и недвусмысленными жестами предлагали ее в жены.
В другой семье муж покинул беременную жену, и она вернулась к своим пожилым родителям. Наконец, молодая пара, где жена кормила грудью ребенка, пребывала в периоде запретов, выпадающих на долю молодых родителей. Они были очень грязны, потому что им не разрешалось купаться в реке, худы из-за запрета употреблять большую часть продуктов питания и обречены на праздность, ибо родители ребенка, еще не отнятого от груди, не могут принимать участие в общественной жизни. Муж иногда ходил охотиться или в одиночку собирал дикие плоды; жене приносили еду муж или его родители.
Хотя намбиквара были весьма покладистыми и безразлично относились к моему присутствию, к моей записной книжке и фотоаппарату, работа с ними осложнялась по лингвистическим причинам. Во-первых, у них наложен запрет на употребление имен собственных: чтобы окликать людей, нужно было следовать обычаю персонала телеграфной линии, то есть договориться с индейцами относительно того, как их называть — то ли португальскими имена-ми (Жулио, Жозе-Мария, Луиза), то ли прозвищами (Заяц, Сахар и др.). Я знал одного индейца, которого Рондон окрестил Кавенья-ком из-за его бородки, редко встречающейся у индейцев, обычно лишенных растительности.
Однажды, когда я играл с группой детей, одну из девочек ударила подруга. Обиженная спряталась за мной и принялась под большим секретом нашептывать мне что-то на ухо. Сперва я ничего не понял и просил ее повторить. Соперница заметила ее уловку и, придя в ярость, в свою очередь выложила мне то, что было, как видно, важной тайной. После некоторых уточнений я наконец разобрался в происшедшем. Обиженная девочка из мести открыла мне имя своей противницы, а когда та заметила это, то в отместку сообщила мне имя раскрывшей ее тайну. После этого мне было легко, настраивая детей друг против друга (что было не очень-то красиво), узнать все их имена. Став их доверенным лицом, я без труда узнал от них имена взрослых. Когда те поняли, о чем мы шушукаемся, они наказали детей, и источник моих сведений иссяк.
Во-вторых, язык намбиквара объединяет несколько диалектов, причем еще не изученных. Они отличаются друг от друга окончанием имен существительных и некоторыми глагольными формами. На линии пользуются чем-то вроде жаргона, который мог быть мне полезным только вначале. Используя добрую волю и живость ума индейцев, я обучался начаткам языка намбиквара. К счастью, в их языке существуют магические слова: «китику» на восточном диалекте и «диге», «даге» или «чоре» — на других, которые достаточно добавить к существительным, чтобы превратить те в глаголы; к последним в случае необходимости приставляется отрицательная частица. Подобным образом удается сказать почти все (этот «базовый» язык намбиквара не позволяет выражать лишь наиболее тонкие мысли). Индейцы изъясняются таким же способом, когда пытаются говорить по-португальски; так, слово «ухо» и «глаз» у них означают соответственно «слышать» (или «понимать») и «видеть», а отрицательные понятия они переводят, прибавляя слово «асабо» («я кончаю»).
Язык намбиквара звучит несколько глухо, как если бы говорили с придыханием или пришептыванием. Женщинам нравится подчеркивать эту особенность и искажать некоторые слова; так «китику» становится в их устах «кедыотсу». Артикулируя кончиками губ, они издают что-то вроде бормотания, напоминающего детское произношение. Это свидетельствует об их манерничанье и жеманности, в которых они прекрасно отдают себе отчет: когда я их не понимаю и прошу повторить, они лукаво утрируют свою манеру произношения, Обескураженный, я оставляю свои попытки, они разражаются смехом, слышатся шутки. Они добились своего.
Я вскоре заметил, что кроме глагольного суффикса в языке намбиквара употребляется с десяток других, с помощью которых одушевленные и неодушевленные предметы распределяются на столько же категорий, например волосы, шерсть и перья; заостренные предметы и отверстия; удлиненные тела; плоды, зерна и другие округленные предметы; вещи, которые висят или колеблются; тела, надутые или наполненные жидкостью; кора, кожа и другие покровы.
Это напомнило мне лингвистическую семью языка чибча, распространенного в Центральной Америке и северо-западной части Южной Америки. Чибча был языком большой цивилизации на территории современного государства Колумбия, промежуточной между цивилизациями Мексики и Перу. Его южной ветвью является, возможно, язык намбиквара[73]. Это еще раз говорит о том, что нельзя доверять первому впечатлению. Вряд ли можно считать примитивными индейцев, которые хотя и не носят одежды, но своим физическим типом напоминают древних мексиканцев, а структурой языка — язык, на котором говорили в государстве Чибча. Изучение их прошлого, о котором мы пока ничего не знаем, и суровой среды их обитания, может быть, в один прекрасный день объяснит судьбу этих блудных детей, которым история отказала в жирном тельце.
В семье
Намбиквара просыпаются с рассветом, раздувают огонь, кое-как согреваются после холодной ночи, а затем немного подкрепляются остатками вчерашней еды. Чуть позже мужчины группами или в одиночку отправляются на охоту. Женщины остаются в лагере готовить пищу. Когда начинает подниматься солнце, женщины и дети идут к реке, купаются и веселятся. Иногда они зажигают костер, садятся рядом на корточки, чтобы согреться, и шутки ради преувеличенно дрожат. В течение дня купаются несколько раз.
Ежедневные занятия меняются мало. Больше всего времени и забот поглощает приготовление пищи: нужно растереть и выжать маниок, высушить мякоть или сварить ее, очистить и проварить орехи, которые придают большинству блюд запах горького миндаля. Когда появляется необходимость пополнить запасы еды, женщины и дети отправляются собирать плоды и ловить мелких животных. Если пищи достаточно, женщины прядут, присев на корточки или встав на колени и упершись ягодицами в пятки. Или же они вырезают, полируют и нанизывают бусы из скорлупы орехов или раковин, делают ушные подвески либо другие украшения. А когда устают, ищут друг у друга вшей, бродят без дела или спят.
В самые жаркие часы лагерь замолкает; его обитатели сидят молча или спят в жидкой тени своих укрытий. В остальное время все занятия сопровождаются разговорами. Почти всегда веселые и смеющиеся, намбиквара отпускают шутки, а иногда и непристойные или грубые выражения, которые встречаются громкими взрывами смеха. Работа часто прерывается из-за чьего-либо прихода или из-за вопросов. Если совокупляются две собаки или птицы, все замирают, прекращая свои дела, и наблюдают с неослабным вниманием, затем после обмена мнениями по поводу столь важного события работа возобновляется.
Дети большую часть дня бездельничают. Правда, девочки иногда занимаются теми же делами, что и женщины, мальчики же ничего не делают или ловят рыбу, сидя на берегу реки. Оставшиеся в лагере мужчины плетут корзины, делают стрелы или изготовляют музыкальные инструменты, а порой оказывают помощь по хозяйству. В семьях, как правило, царит согласие.
Часам к трем-четырем с охоты возвращаются остальные мужчины, лагерь приходит в движение, разговоры становятся оживленнее. Люди собираются не только семьями, но и группками. Едят лепешки из муки маниока и все то, что было собрано за день. Когда темнеет, несколько женщин отправляются в соседнюю бруссу собирать или рубить дрова на ночь. В сумерках слышно, как они возвращаются, спотыкаясь под ношей, которая натягивает повязку на голове. Чтобы снять поклажу, они садятся на корточки и слегка отклоняются назад, опуская бамбуковую корзину на землю и освобождая лоб от повязки.
Ветки сваливают в одном из уголков лагеря, и их берут все по мере надобности. Семейные группки снова собираются вместе вокруг своих разгорающихся очагов. Вечер проходит в разговорах или же в песнях и танцах. Иногда эти развлечения затягиваются до глубокой ночи, но обычно, поласкав друг друга и шутливо поборовшись, пары теснее льнут друг к другу, матери прижимают к себе заснувших детей, все замолкает, и холодную ночь оживляет лишь треск поленьев, легкие шаги подносящего дрова человека или лай собак.
У намбиквара мало детей. Как я заметил впоследствии, бездетные пары не редкость, один-два ребенка кажутся обычным явлением; лишь в качестве исключения встречаются семьи, в которых больше трех детей. Половые отношения между родителями запрещаются, пока новорожденный не отнят от груди, то есть зачастую пока тому не минет два года. Мать носит ребенка на бедре, где он поддерживается широкой перевязью из коры или хлопка, на спине же у нее висит корзина. Условия кочевой жизни, трудности с пропитанием заставляют индейцев всячески избегать деторождения. Женщины не останавливаются перед применением механических средств или лекарственных растений, чтобы вызвать выкидыш.
Вместе с тем индейцы испытывают к своим детям большую привязанность, и те отвечают взаимностью. Но из-за свойственных намбиквара нервозности и непостоянства эти чувства не всегда распознаются. Маленький мальчик страдает несварением желудка, у него болит голова, его тошнит, он либо хнычет, либо спит. Никто не уделяет ему ни малейшего внимания, он целый день находится один. Вечером, когда он засыпает, мать тихонечко подходит к нему, выбирает вшей, делает другим знак не мешать, а затем берет его на руки и качает, как в колыбели.
А вот молодая мать играет с малышом, ласково похлопывая его по спине, ребенок начинает смеяться, и она так увлекается игрой, что хлопает все сильнее, пока он не заплачет. Тогда она останавливается и утешает его.
Я видел, как маленькую сиротку, о которой я уже говорил, чуть не затоптали во время танца; при общем возбуждении она упала и никто не обратил на это внимания.
Когда мать противоречит детям, они нередко ее бьют, и та не сопротивляется. Детей не наказывают, я ни разу не видел, чтобы их били или даже замахивались на кого-либо, разве что в шутку. Иногда ребенок плачет потому, что ударился, с кем-то поссорился или хочет есть, или потому, что не желает, чтобы у него искали вшей. Но это последнее случается редко: ловля вшей, по-видимому, приятна ребенку и в то же время развлекает мать, к тому же это занятие считается проявлением заботы и любви. Когда ребенок— или мужчина — хочет, чтобы у него поискали вшей, он кладет голову на колени женщине, подставляя ей то одну, то другую сторону. Та приступает к делу, разделяя волосы на пробор или разглядывая пряди на просвет. Пойманную вошь тут же давит. Плачущего ребенка утешает кто-нибудь из его семьи или ребенок постарше.
Вот полная веселья и непосредственности сценка между матерью и ребенком. Мать через лиственную стенку укрытия протягивает ребенку какую-нибудь вещь и отдергивает руку назад, когда тот уже думает, что схватил ее: «Бери спереди! Бери сзади!» Или же она подхватывает ребенка и, громко смеясь, делает вид, что бросает его на землю: «Я тебя сейчас брошу!» «Я не хочу!» — кричит ребенок пронзительным голосом.
В свою очередь дети окружают мать всяческой заботой и нежностью, они, например, следят за тем, чтобы она получала свою долю от добычи на охоте. Ребенок, пока еще мал, неразлучен со своей матерью. В пути она носит его до тех пор, пока он не сможет ходить сам; потом он идет рядом с ней. Он остается при ней в лагере или в деревне в то время, когда отец охотится. Однако через несколько лет отношение к ребенку у родителей, особенно у отцов, меняется в зависимости от его пола. Отец проявляет больше интереса к сыну, нежели к дочери, поскольку он должен обучить его мужским навыкам; матери же больше внимания уделяют дочерям. В отношениях отца со своими детьми проявляется та нежность и забота, о которых я уже говорил. Отец гуляет с ребенком, нося его на плечах; он изготовляет оружие по мерке маленькой руки.
Именно отец рассказывает детям традиционные мифы, причем в упрощенном, более понятном малышам варианте: «Все умерли! Никого больше не было! Ни одного человека! Ничего!» Так начинается детский вариант южноамериканской легенды о потопе, который якобы уничтожил первоначальный род человеческий.
В случае полигамного брака, между детьми от первой жены их отца и молодыми мачехами устанавливаются особые отношения. Мачехи поддерживают с детьми от первой жены товарищеский тон, но он распространяется лишь на девочек группы. Как бы ни мала была группа, в ней все же выделяется общество девочек и молодых женщин, которые вместе купаются в реке, ходят стайкой в кусты для удовлетворения естественных потребностей, вместе курят, шутят и предаются играм сомнительного вкуса, например по очереди плюют друг другу в лицо длинными плевками. Эти отношения тесные, они ценятся, но лишены той галантности, которая проявляется иногда в отношениях среди молодежи в нашем обществе, молодые женщины и девочки намбиквара редко оказывают друг другу взаимные услуги или знаки внимания. Близость девочек к мачехам приводит к довольно любопытному результату: девочки становятся независимыми быстрее, чем мальчики. Общаясь с молодыми женщинами, они участвуют в их деятельности. Предоставленные самим себе мальчики робко пытаются организовываться в подобные же группки, но это у них получается плохо, и они охотно остаются, по крайней мере в раннем детстве, рядом с матерью.
Маленьким намбиквара игры неизвестны. Иногда дети делают какие-то предметы из скрученной или сплетенной соломы; они не знают других развлечений, кроме борьбы и разных проделок друг над другом, любят подражать взрослым. Девочки учатся прясть, как и женщины, они нередко слоняются без дела или дремлют где-то в тени. Мальчики в восемь — десять лет начинают стрелять из маленьких луков и приобщаются к мужским занятиям. Но и девочки и мальчики очень быстро осознают основную и порой трагическую проблему жизни намбиквара — проблему пропитания, а также то, что от них ждут активного участия в общих делах. Они с большой охотой вместе со взрослыми собирают плоды и ловят животных. В голодное время нередко можно видеть, как они ищут себе пищу вокруг лагеря, выкапывая корни или ловя кузнечиков. Девочки знают, какая роль отводится женщинам в хозяйственной жизни племени, и полны нетерпения достойно приобщиться к ней.
Вот я встречаю девочку, нежно качающую щенка в той повязке, на которой мать носит ее сестренку, и замечаю: «Ты ласкаешь своего младенца-собачку?» Она мне важно отвечает: «Когда я буду большим, то буду убивать диких свиней и обезьян, я их всех перебью, как только она залает!» При этом она делает грамматическую ошибку, на которую, смеясь, обращает внимание ее отец: нужно было сказать тилондаге («когда я буду большая») вместо употребленной ею мужской формы ихондаче («большим»). Эта ошибка любопытна, ибо она иллюстрирует желание женщин поднять значимость хозяйственных занятий, отводимых этому полу, до уровня тех, которые являются привилегией мужчин. Поскольку точный смысл термина, который употребила девочка, — «убить, уложив дубинкой или палкой» (здесь — палкой-копалкой), она, видимо, бессознательно пытается отождествить сбор плодов и животных (для женщины они ограничиваются мелкими видами) с мужской охотой, когда используются лук и стрелы.
Следует особо отметить отношения между детьми, которые находятся в родственной связи, дающей право для взаимного величания «супруг» и «супруга». Иногда они ведут себя как настоящие супруги: покидают по вечерам семейный очаг и переносят головешки в какой-нибудь уголок лагеря, где зажигают свой огонь. Они устраиваются подле него и предаются в меру своих возможностей тому же излиянию чувств, что и старшие, взрослые же бросают на эту сцену веселые взгляды. Я не могу закончить рассказ о детях, не упомянув о домашних животных. К ним относятся так же, как к детям: с ними делят трапезу, играют, разговаривают, их ласкают, о них заботятся. У намбиквара много домашних животных: прежде всего это собаки, а также петухи и куры, ведущие родословную от тех своих предков, которые были ввезены в эти края Комиссией Рондона; затем обезьяны, попугаи, различные птицы, дикие свиньи, коати[74]. Из всех этих животных лишь собаки играют полезную роль: они ходят с женщинами на охоту. Мужчины же никогда не используют их на охоте с луком. Остальных животных держат для развлечения. Их не едят, даже не употребляют в пищу куриных яиц, куры, впрочем, несутся в бруссе. Однако намбиквара без колебаний съедят молодую птицу, если она не поддается приручению или гибнет.
Во время кочевок весь зверинец, кроме животных, способных идти, грузится вместе с другими вещами. Обезьяны, уцепившись за волосы женщин, венчают их головы грациозной живой каской, продолжением которой служит закрученный вокруг шеи хвост. Попугаи и куры громоздятся сверху корзин, других животных держат на руках. Их кормят не щедро, но даже в голодные дни они получают свою долю. Ведь они дают повод группе позабавиться и развлечься.
Перейдем теперь к взрослым. Отношение намбиквара к любовным делам можно резюмировать их собственной формулой: «Та-миндиге мондаге», переводимой если не изящно, то дословно: «Заниматься любовью — это хорошо».
Я уже отмечал эротическую атмосферу, которая пропитывает повседневную жизнь намбиквара. Любовные дела вызывают величайшие интерес и любопытство индейцев; они падки на разговоры на эти темы, и замечания, которыми обмениваются в лагере, полны намеков и скрытых недомолвок. Половые связи происходят обычно ночью, иногда рядом с лагерными кострами, но чаще всего партнеры удаляются на сотню метров в соседнюю бруссу. На этот уход сразу же обращают внимание, присутствующие оживляются, обмениваются замечаниями, отпускают шуточки; даже маленькие дети разделяют возбуждение, причина которого им известна очень хорошо. Порой группка мужчин, молодых женщин и детей бросается вдогонку за парой и через ветки наблюдает за подробностями дела, перешептываясь и давясь от смеха. Этот маневр главные действующие лица воспринимают отнюдь не с восторгом. Иногда еще одна пара следует примеру первой и ищет уединения в бруссе. Такие случаи, однако, редки. Запреты, ограничивающие половые связи, лишь частично объясняют подобное положение вещей. Настоящим виновником является скорее темперамент индейцев. Любовные утехи, которым пары предаются так охотно и на глазах у всех и которые нередко выглядят рискованными, по-видимому, носят не физиологический, а скорее, игровой и сентиментальный характер. Может быть, именно по этой причине намбиквара отказались от полового чехла, употребление которого почти повсеместно распространено у индейцев Центральной Бразилии. Народы, которые совсем не носят одежду, не лишены представления о том, что мы называем стыдливостью, они только отодвигают ее границу.
В повседневной жизни меня часто приводила в смущение вольность поведения намбиквара. Так, трудно было оставаться безразличным при виде хорошеньких девочек, которые, зубоскаля, валялись в песке у моих ног голые и извивающиеся, как черви. Когда я ходил на реку купаться, на меня часто нападала группа молодых или старых женщин, занятых одной мыслью — отнять мыло, от которого они были без ума. В моем гамаке нередко проводила свой послеобеденный отдых индеанка, красившаяся красной краской, и мне приходилось мириться с тем, что он был весь перепачкан.
Однажды, сидя на земле, я что-то записывал, но вдруг почувствовал, как чья-то рука тянет меня за полу рубашки: это одна из женщин нашла, что проще высморкаться таким способом, чем искать небольшую, сложенную вдвое наподобие щипцов ветку, которая обычно употребляется в таких случаях.
Чтобы правильно понять взаимоотношения между полами у намбиквара, никогда нельзя забывать об основной роли их супружеской пары. Это главная экономическая и социальная единица группы. Среди этих кочевых групп, которые без конца возникают и распадаются, пара представляет собой стабильную реальность (по крайней мере теоретически); к тому же только она обеспечивает существование их членов.
Хозяйственная деятельность намбиквара двух видов: с одной стороны, они охотники и земледельцы, а с другой — собиратели плодов и животных. Первым видом деятельности занимаются мужчины, вторым — женщины. В то время как группа мужчин на целый день отправляется на охоту, вооружившись луками и стрелами, или работает на огородах в сезон дождей, женщины, прихватив палку-копалку, бродят с детьми по саванне и подбирают, срывают, убивают, ловят, хватают все, что им попадается съедобного: зерна, плоды, ягоды, корни, клубни, яйца, всевозможных мелких животных. В конце дня супружеская пара встречается у костра.
В пору созревания маниока мужчина ежедневно приносит связку корней, которые женщина растирает и выжимает, чтобы испечь лепешки. А если мужчина пришел с удачной охоты, женщина быстро печет куски дичи, зарывая их в горячую золу семейного очага. Однако на семь месяцев маниока не хватает; что касается охоты, то она зависит от удачи. В этих бесплодных песках самая малая дичь не расстается с тенью и пастбищами у источников, разделенных большими пространствами полупустынной бруссы. Поэтому семье в основном приходится существовать на то, что соберут женщины.
Я часто разделял с намбиквара эти игрушечные обеды, которые в течение половины года являются для них единственной надеждой не умереть с голоду.
Когда после неудачной охоты мужчина, молчаливый и усталый, возвращается в лагерь и бросает рядом с собой лук и стрелы, воспользоваться которыми ему не пришлось, женщина извлекает из своей корзины трогательный набор: несколько оранжевых плодов пальмы бурити, двух крупных ядовитых пауков-птицеедов, нескольких ящериц и их крошечные яйца, летучую мышь, маленькие плоды пальмы бакаюва или уагуассу и горсть кузнечиков. Мякоть плодов пальм давят руками в наполненном водой калебасе, орехи колют камнем, животных и личинки вперемешку закапывают в золу. Потом вся семья весело истребляет этот обед, которого не хватило бы для утоления голода одного белого. Намбиквара одним и тем же словом определяют понятия «красивый» и «молодой» и одним и тем же— «некрасивый» и «старый».
Следовательно, в основе их эстетических суждений по существу лежат общечеловеческие и главным образом сексуальные ценности. Однако природа интереса полов друг к другу сложна. Мужчины судят о женщинах в целом как о людях, несколько отличающихся от них самих, они относятся к ним в зависимости от ситуации с вожделением, восхищением или нежностью. В упомянутом выше смешении терминов уже содержится выражение чувств.
Несмотря на то что разделение труда между полами отводит женщинам первостепенную роль (поскольку семья существует главным образом за счет того, что собирают женщины), их занятие считается низшим видом деятельности. Идеальная жизнь, по представлениям намбиквара, должна основываться на сельскохозяйственном производстве или охоте: иметь много маниока и большие куски дичи — вот какую мечту постоянно лелеют, но редко осуществляют индейцы. Если же им приходится питаться всякой всячиной, собранной по случаю, это считается — и является в действительности — самой настоящей нуждой. В фольклоре намбиквара выражение «есть кузнечиков», то есть то, что собрали дети и женщины, соответствует французскому «есть мясо бешеной коровы»[75]. Женщину считают нежным и ценным имуществом, но второго сорта. Среди мужчин принято говорить о женщинах доброжелательно и с состраданием, обращаться к ним с несколько шутливой снисходительностью. Мужчины часто повторяют выражение: «Дети не знают, женщины не знают, а я знаю»; они говорят о группе досу (женщин), об их шутках, их разговорах в нежном и насмешливом тоне. Но все это касается области общественных отношений. Когда же мужчина оказывается один на один со своей женой у лагерного костра, он выслушает ее жалобы, запомнит ее просьбы, потребует от нее участия во множестве дел. Мужское бахвальство уступает здесь место совместным действиям двух партнеров, отдающих себе отчет в той главной ценности, какую они представляют друг для друга. Такая же двойственная позиция и у женщин по отношению к мужчинам. Женщины мыслят себя как особую общность и проявляют это различными способами; мы, например, видели, что они говорят иначе, чем мужчины. Это особенно относится к молодым женщинам, у которых еще нет детей, и к сожительницам. Матери и женщины в возрасте меньше подчеркивают эти различия. Кроме того, молодые женщины любят общество детей и подростков, играют и шутят с ними; женщины же заботятся о животных, притом с той человечностью, которая обычно свойственна некоторым южноамериканским индейцам. Все это способствует созданию вокруг женщин группы особой атмосферы — одновременно и детски непосредственной, и радостной, и кокетливой. Ее поддерживают и мужчины, когда возвращаются с охоты или с огородов.
Но совсем по-иному ведут себя женщины, если они заняты тем делом, которое должны выполнять только они. Молча, сидя кружком и повернувшись друг к другу спиной, они ловко и тщательно выполняют кустарные работы. Во время переходов они мужественно несут тяжелую корзину с провизией и всем скарбом семьи, а также пучок стрел; супруг же шагает впереди с луком и одной-двумя стрелами, деревянной рогатиной или палкой-копалкой, которые он тут же пускает в ход, как только попадается какой-либо зверь или плодовое дерево.
Женщины, перетянув лоб повязкой, несут на спине узкую корзину в форме перевернутого колокола и, покачивая сжатыми бедрами, шагают километр за километром своим характерным шагом: колени сомкнуты, ступни разведены и опираются на внешнюю сторону. Мужественные, энергичные и веселые.
У намбиквара отношения между мужчинами и женщинами определяются двумя полюсами их деятельности, от которой зависит их существование. На одном полюсе — оседлая жизнь, связанная с сельским хозяйством и основанная на двоякой деятельности мужчин: строительстве хижин и огородничестве, на другом — кочевой период, в течение которого они кормятся в основном за счет того, что собирают женщины. При этом оседлая жизнь означает уверенность в завтрашнем дне и изобилие пищи, а кочевой период — зависимость от случая и голод. На эти две формы существования — зимнюю и летнюю — намбиквара реагируют очень по-разному. О первой они говорят с грустью, которая объясняется покорным принятием условий жизни с утомительным повторением одних и тех же ее проявлений, тогда как вторую они описывают в возбужденном и восторженном тоне как нечто вновь открытое.
Намбиквара считают, что после смерти души мужчин воплощаются в ягуаров, а души женщин и детей уносятся на небо и растворяются в нем навсегда. Этим объясняется тот факт, что женщины не допускаются на самые священные церемонии в начале сельскохозяйственного периода, когда изготовляются флажолеты [76] из бамбука. Играют на них мужчины, которые удаляются от жилья на достаточное расстояние, чтобы их не могли видеть.
Хотя сезон был неподходящим, я очень хотел услышать игру на этих флейтах и приобрести несколько штук. Уступая моей ка-стойчивости, группа мужчин отправилась в поход на поиски толстого бамбука, который растет только в дальнем лесу. Спустя дня три-четыре меня среди ночи подняли с постели (прибывшие ждали, когда уснут женщины). Они увлекли меня метров за сто, где, скрывшись в кустах, начали изготовлять флажолеты. Вскоре они были готовы, и мужчины стали играть на них. Четыре исполнителя играли в унисон, но, поскольку инструменты звучали не совсем одинаково, создавалось впечатление неполной гармонии. Мелодия отличалась от тех песен намбиквара, к которым я привык и которые по своему строю напоминали наши сельские хороводные песни. Отличалась она и от пронзительных звуков, которые извлекают из окарин [77], сделанных из двух склеенных воском половин калебаса. Мелодии, исполняемые на флажолетах и сводящиеся к нескольким нотам, как мне показалось, обнаружили поразительное сходство с некоторыми отрывками из «Весны священной» [78], особенно в той ее части, которая носит название «Детство старцев». Присутствие среди нас женщины было бы недопустимым; ее, проявившую нескромность или неосторожность, убили бы на месте. Как и у бороро, над женщинами намбиквара висит настоящее метафизическое проклятие. Но в отличие от бороро женщины намбиквара не пользуются привилегированным юридическим статусом (хотя, по-видимому, и у намбиквара родство передается по материнской линии).
С нежностью мужчины вспоминают тот период, когда намбиквара живут во временных укрытиях и пользуются непременной корзиной. Когда они ежедневно и неустанно собирают и ловят все, что дает возможность хоть как-то прокормиться, живут, не защищенные от ветра, холода и дождя. Этот период зиждется главным образом на деятельности женщины.
И совсем по-другому намбиквара воспринимает оседлую жизнь, о специфическом и древнем характере которой свидетельствуют культивируемые ими виды растений. Незыблемая смена земледельческих работ придает ей ту же стабильность, что и зимние жилища и обрабатываемый участок, который продолжает жить и производить и после того, как забывается смерть тех, кто его обрабатывал прежде. Намбиквара отличаются удивительным непостоянством характера. Они быстро переходят от сердечности к враждебности. Это смущало тех немногих, кому удавалось наблюдать их. Группа в Утиарити была именно той, что пять лет назад убила миссионеров. Я знал некоторых миссионеров и ценю научное значение деятельности многих из них. Но протестантские американские миссии, которые старались проникнуть в центральную часть Мату-Гросу в 1930-х годах, принадлежали к особой разновидности: их члены происходили из провинциальных семей, где подростков воспитывали в вере в ад и в котлы с кипящим маслом. Некоторые становились миссионерами так, будто получали страховку. Успокоившись таким образом на счет собственного спасения, они считали, что могут больше ничего не делать, чтобы его заслужить. При исполнении своих обязанностей они проявляли возмутительную черствость и бесчеловечность.
Как мог произойти инцидент, приведший к резне? Я понял это по одной своей оплошности, которая едва не обошлась мне очень дорого. Намбиквара обладают знаниями в области токсикологии. Они изготовляют яд кураре для стрел, настаивая красную кожицу, покрывающую корень стрихноса ядовитого и выпаривая ее на огне, пока смесь не приобретет вязкую консистенцию. Они применяют и другие растительные яды. Каждый намбиквара носит с собой такие порошки в трубочках, сделанных из птичьего пера или из бамбука и перевязанных волокнами из хлопка или коры. Этими ядами пользуются для осуществления мести. Помимо этих ядов, известных науке (их индейцы готовят открыто, без предосторожностей и магических сложностей, которыми сопровождается дальше к северу изготовление кураре), у намбиквара существуют и другие, чья природа таинственна. В трубочки, подобные тем, где содержатся настоящие яды, они собирают кусочки смолы, которая выступает на дереве бомбакс, имеющем утолщение в нижней части ствола. Они верят, что если бросить такой кусочек в противника, то можно привести его в то же физическое состояние, что и у этого дерева, а именно жертва раздуется, а потом умрет. Идет ли речь о действительных ядах или о магических субстанциях, намбиквара называют все их одним именем: «нанде». Таким образом, этим словом обозначают не только понятие «яд», но и любой вид угрожающих действий или использующиеся при этом предметы. Эти пояснения были необходимы, чтобы понять то, о чем пойдет речь.
Я захватил с собой несколько больших разноцветных шаров из шелковой бумаги, которые наполняют горячим воздухом, подвешивая снизу небольшой факел. На Иванов день такие шары в Бразилии запускают сотнями. Однажды вечером мне в голову пришла злополучная мысль устроить индейцам представление. Первый шар, загоревшийся на земле, вызвал бурный взрыв смеха, будто публика только этого и ждала. Запуск второго шара удался очень хорошо: он быстро оторвался от земли и поднялся так высоко, что его пламя слилось со светом звезд. Он долго летал над нами и исчез. Однако первоначальная веселость уступила место другим чувствам: мужчины смотрели на меня внимательно и враждебно, а женщины в ужасе закрыли голову руками и прижались одна к другой. Намбиквара настойчиво повторяли слово «нанде». Назавтра утром ко мне явилась делегация мужчин, потребовавшая дать им проверить содержимое шаров, чтобы убедиться, «не находится ли там нанде». Эта проверка была проведена весьма тщательно. Я продемонстрировал им подъемную силу горячего воздуха, запустив над огнем небольшие куски бумаги. Благодаря удивительно трезвому уму намбиквара это объяснение если и не было понято, то во всяком случае принято. Как обычно, когда нужно найти виновников, все свалили на женщин, «которые ничего не понимают», «испугались» и опасались тысячи бедствий. Я не строил иллюзий: дело могло бы закончиться очень плохо. Тем не менее ни этот, ни другие случаи — о них я расскажу позже — ничуть не повредили нашим дружеским отношениям.
Вот почему я был потрясен, прочитав недавно отчет одного иностранного коллеги о его встрече в Утиарити с той же группой индейцев, с которой за десять лет до этого жил я. Когда он в 1949 году прибыл в Утиарити, в группе оставалось всего восемнадцать членов. Вот что пишет о них наш автор:
«Из всех индейцев, виденных мною на Мату-Гросу, эта группа объединяла самых жалких. Из восьми мужчин один страдал сифилисом, у другого был поврежден бок, у третьего зияла рана на ноге, а еще один страдал какой-то чешуйчатой кожной болезнью. Однако женщины и дети, похоже, находились в добром здравии. Поскольку намбиквара не пользуются гамаком, а спят прямо на земле, они все выпачканы. Когда ночи холодные, они разбрасывают костер и ложатся на грязную золу… Намбиквара носят одежду только тогда, когда им дают ее миссионеры, требующие, чтобы они ее надевали. Их отвращение к купанию приводит к образованию на коже и волосах слоя пыли и пепла; они покрыты также гнилыми частицами мяса и рыбы, чей запах смешивается с острым запахом пота». «Намбиквара… неуживчивы и невежливы до грубости. Когда я приходил в лагерь к Жулио, то часто заставал его лежащим у костра; увидев меня, он поворачивался ко мне спиной, заявляя, что не желает со мной разговаривать».
«Не нужно долго жить среди намбиквара, чтобы почувствовать с их стороны ненависть, недоверие и охватывающее их отчаяние, которые вызывают у наблюдателя подавленное состояние; в то же время они возбуждают и симпатию…»
Я, узнавший намбиквара в то время, когда их ряды уже были опустошены болезнями, принесенными белым человеком, хотел бы забыть это удручающее описание и оставить в памяти только то, что написано в моей записной книжке.
«В темной саванне сверкают лагерные костры. Возле очага, единственной защиты от наступающего холода, за хилым заслоном из ветвей пальмы и других деревьев, рядом с корзинами, наполненными жалкими вещами, составляющими для них все земное богатство, лежащие прямо на земле, тесно прижавшиеся супруги чувствуют друг в друге единственное утешение, единственную опору против повседневных трудностей.
Наблюдателя, который впервые оказывается в бруссе с индейцами, охватывает тревога и жалость к этим представителям рода человеческого, лишенным всего и как будто раздавленным каким-то беспощадным стихийным бедствием, обнаженным, дрожащим от холода около мерцающих костров. Однако это печальное, убогое зрелище оживляют перешептывания и смешки. Супружеские пары сжимают друг друга в объятиях, как бы в ностальгии по потерянному единству. Ласки не прекращаются даже при приближении чужака. Всем намбиквара присуща огромная приветливость, беззаботность и самая трогательная, самая подлинная человеческая доброта».
Урок письма
Я хотел получить хотя бы приблизительное представление о численности намбиквара. В 1915 году Рондон оценивал ее в 20 тысяч человек, что, вероятно, было преувеличенной цифрой. В то время в каждой группе насчитывалось до нескольких сот членов, но собранные вдоль телеграфной линии сведения указывали на быстрое сокращение их численности. Около 30 лет назад известная группа сабане включала более 1000 человек; когда же группа наведалась на телеграфную станцию в Кампус-Новус в 1928 году, в ней насчитали всего 127 мужчин плюс женщины и дети. В ноябре 1929 года, когда группа разбила лагерь в Эспирру, там вспыхнула эпидемия гриппа, проявлявшегося в форме отека легких. За двое суток умерли 300 индейцев, а группа разбрелась, оставляя на своем пути больных и умирающих. От известных некогда 1000 сабане к 1938 году в живых остались всего 19 мужчин с женами и детьми. Чтобы объяснить такое резкое сокращение их численности, надо добавить, что несколько лет назад сабане начали воевать с некоторыми своими восточными соседями. Одна большая группа, обосновавшаяся в 1927 году неподалеку от Трес-Буритис, была уничтожена гриппом, за исключением шести или семи человек, из которых к 1938 году осталось в живых всего трое.
Группа индейцев тарунде, некогда самая значительная, в 1936 году насчитывала двенадцать мужчин плюс женщины и дети; из этих двенадцати мужчин к 1939 году остались четверо.
Как же дело обстояло теперь? Конечно, на всей этой территории насчитывается не более 2000 индейцев.
Я не мог и мечтать о систематической переписи из-за враждебности некоторых групп и их постоянного передвижения в сухой сезон. Но я попытался убедить своих друзей из Утиарити взять меня с собой в их деревню, организовав там предварительно нечто вроде встречи с другими группами, их родственниками или свойственниками. Тогда мне удалось бы оценить нынешнюю численность этого этноса и соотнести ее с той, что наблюдалась прежде. Я обещал захватить подарки, заняться обменом. Вождь намбиквара колебался: он не был уверен в приглашенных. Ведь если бы я со своими товарищами исчез в этом районе, над намбиквара надолго нависла бы угроза.
В конце концов он согласился при условии, что мы снарядим всего четырех быков, которые повезут подарки. Но даже и в этом случае нам придется отказаться от обычных троп в глубине заросших растительностью долин: животные не смогут там пройти. Поэтому мы отправимся через плато, двигаясь маршрутом, диктуемым обстоятельствами.
Это путешествие, которое было весьма рискованным, сегодня кажется мне комичным эпизодом. Едва мы покинули Журуэну, как мой бразильский товарищ обратил внимание на отсутствие женщин и детей среди сопровождавших нас индейцев. С нами шли только мужчины, вооруженные луками и стрелами. В рассказах о путешествиях подобные обстоятельства возвещают неминуемое нападение. Поэтому мы продвигались вперед со сложным чувством, проверяя время от времени, на месте ли наши револьверы и карабины. Но страхи наши были напрасными. К середине дня мы догнали остальную часть группы, которую предусмотрительный вождь отправил накануне, зная, что наши быки будут двигаться быстрее, нежели женщины, нагруженные корзинами и задерживаемые детворой.
Вскоре, однако, индейцы заблудились: новый маршрут оказался не столь простым, как представлялся. К вечеру пришлось остановиться в бруссе. Нам пообещали, что в пути будет достаточно дичи, но пасущееся на берегу источника стадо косуль при нашем приближении спаслось бегством. Индейцы рассчитывали на наши карабины и еды с собой не взяли, а у нас был лишь неприкосновенный запас, который было невозможно разделить на всех.
На следующее утро чувствовалось общее недовольство, явно направленное против вождя: его считали виновником дела, которое он затеял вместе со мной. Но вместо того чтобы отправиться на охоту или на поиски съедобных животных и растений, индейцы улеглись в тени укрытий, предоставив самому вождю искать решение проблемы пропитания. Вскоре он исчез в сопровождении одной из своих жен. Вечером оба вернулись с тяжелыми корзинами, доверху наполненными кузнечиками, за сбором которых они провели весь день. Хотя паштет из кузнечиков не слишком большое лакомство, все поели с аппетитом и вновь обрели хорошее настроение. На следующий день мы снова пустились в путь. Наконец мы добрались до места встречи. Это была песчаная терраса, нависающая над рекой, окаймленной деревьями, среди которых приютились огороды индейцев. Одна за другой прибывали семьи индейцев. К вечеру там собралось уже 75 человек, представлявших семнадцать семей. Они расположились под тринадцатью укрытиями. Мне объяснили, что к началу дождей все разместятся в пяти круглых хижинах, построенных с расчетом на несколько месяцев..
Создавалось впечатление, что многие индейцы никогда не видели белых. Их неприветливый прием и явная нервозность вождя говорили о том, что он их принудил к встрече. Мы не чувствовали себя спокойно, индейцы тоже.
Наступала холодная ночь; поскольку не было деревьев для гамаков, нам пришлось улечься на земле наподобие намбиквара. Никто не спал, ночь прошла в сдержанном наблюдении друг за другом. Было бы неразумно продолжать испытывать судьбу. Я убедил вождя без промедления приступить к обмену. И тогда произошло нечто, что вынуждает меня вернуться немного назад.
Намбиквара не умеют писать, да и рисовать тоже, разве что какие-то пунктиры и зигзаги на калебасах. Тем не менее, действуя, как у кадиувеу, я роздал им листы бумаги и карандаши. Сначала они не знали, что с ними делать. Но потом все занялись нанесением на бумагу волнистых или горизонтальных линий. Что же они хотели изобразить? Очевидно, они пытались писать, или, точнее, старались использовать карандаш так же, как я. Для большинства попытка на том и закончилась, однако вождь группы пошел дальше. Он, безусловно, понял назначение письма и потребовал у меня блокнот. Теперь он сообщает интересующие меня сведения не устно, а письменно — чертит у себя на бумаге извилистые линии и показывает их мне. Он даже сам себя вводит в некоторое заблуждение этой комедией: каждый раз, когда его рука заканчивает рисовать линию, он озабоченно изучает ее, будто надеясь понять ее значение. Затем на его лице выражается разочарование. Но он в этом не сознается, и между нами существует молчаливая договоренность: он делает вид, что его тарабарщина имеет смысл, а я — что разбираю ее. Устное объяснение следует почти сразу же, и это избавляет меня от необходимости задавать дополнительные вопросы.
Далее последовало вот что. Собрав всех своих людей, он вытащил из одной корзины покрытую извилистыми линиями бумагу и сделал вид, что читает. С нарочитым колебанием он искал в ней список предметов, которые я должен дать в обмен на предложенные подарки: такому-то за лук и стрелы — большой нож, другому — бисер для бус… Эта комедия продолжалась в течение двух часов. На что он надеялся? Может быть, обмануть самого себя? Нет, скорее изумить своих товарищей, убедить их в том, что товары отобраны при его посредстве, что он добился союза с белым и что ему открыты его тайны.
Я не стал вдаваться в происшедшее, мы хотели поскорее уехать, было очевидно, что самый опасный момент наступит тогда, когда все привезенные мной сокровища перейдут в другие руки. Мистификация, орудием которой я оказался помимо своей воли, создала нервозную обстановку. И мы поспешили в путь — как и прежде, с индейцами-проводниками во главе. Мой мул, страдавший от язвочки во рту, двигался медленно, а то и вовсе останавливался. На этой почве мы с ним все время ссорились. Я не заметил, как потерял направление и оказался один в бруссе. Что делать? В таких случаях, как рассказывается в книгах, дают о себе знать выстрелом из ружья. Я слезаю с мула и стреляю. При втором выстреле мне, кажется, отвечают, Я стреляю в третий раз. Это пугает мула, он пускается рысью и останавливается на некотором расстоянии.
Я освобождаюсь от своего оружия и фотоаппаратуры и складываю все это под деревом, заметив его местоположение. Затем бегу, чтобы схватить мула. Он подпускает меня совсем близко, но в тот момент, когда я хочу схватить его за поводья, снова пускается рысью. Этот маневр он повторяет несколько раз и увлекает меня все дальше. Придя в отчаяние, я делаю прыжок и хватаю его обеими руками за хвост. Удивленный происшедшим, он смиряется. Я снова сажусь в седло и отправляюсь за своим брошенным снаряжением. Но мы столько петляли, что я не могу его отыскать. Вконец расстроенный этой потерей, я решил тогда догнать остальных. Ни мул, ни я не знали, где они прошли. Я то выбирал какое-то направление, то отпускал уздечку, и тогда мул начинал кружить. Солнце садилось за горизонт, темнело, а у меня не было оружия, и я все время ожидал, что в меня выпустят залп стрел. Если не я, так мул уж наверняка представлял собой весьма желанную добычу для людей, которым приходится жить впроголодь. Погруженный в эти мрачные мысли, я ждал момента, когда сядет солнце, чтобы поджечь бруссу. Я почти решился на это, когда вдруг услышал голоса. Оказывается, как только было замечено мое отсутствие, двое намбиквара вернулись назад и шли по моим следам с середины дня, найти мое снаряжение было для них детской игрой. Ночью они привели меня в лагерь, где собралась вся община.
Под впечатлением этого нелепого происшествия я плохо спал и все вспоминал сцену с обменом. Видимо, индейцами намбиквара был заимствован лишь символ письма, тогда как его реальность оставалась им чуждой. Оно было им нужно скорее в социологических целях, нежели в интеллектуальных. Речь шла не о том, чтобы узнать, запомнить или понять, а о том, чтобы повысить престиж и авторитет одного лица. И об этом догадался один индеец, еще находящийся в каменном веке.
В деревне моих намбиквара своевольные люди оказались и самыми мудрыми. Те, кто отмежевался от своего вождя (после моего отъезда его оставило большинство соплеменников из-за его попыток разыграть карту цивилизации), смутно понимали, что вместе с письмом в их среду проникает и вероломство. Живя вдали от цивилизованного мира, они получили для себя отсрочку. И все-таки гениальность их вождя, сразу же понявшего ту помощь, которую могла оказать ему письменность, вызывала восхищение.
Этот эпизод привлек мое внимание еще к одной стороне жизни намбиквара: я имею в виду отношения между отдельными людьми и группами. Дальше я рассмотрю их более конкретно.
Когда мы еще находились в Утиарити, среди намбиквара разразилась эпидемия гнойного воспаления глаз. Эта гонококковая инфекция вызывала ужасные боли и слепоту, которая могла стать необратимой. На протяжении нескольких дней группа была полностью парализована. Индейцы врачевали друг друга водной настойкой из какой-то коры, которую капали в глаз с помощью свернутого трубочкой листочка. Болезнь распространилась и на членов экспедиции: сначала на мою жену, которая принимала участие во всех моих путешествиях, занимаясь изучением материальной культуры, а затем на большинство людей из отряда и на моего бразильского коллегу. Заболевание жены оказалось столь серьезным, что ее пришлось вывезти.
Двигаться вперед стало невозможно. Я оставил основной состав экспедиции на отдыхе и с ними врача для необходимого ухода, а сам добрался с двумя индейцами и несколькими мулами до станции Кампус-Новус, по соседству с которой были замечены несколько индейских групп. Я провел там пятнадцать дней, почти ничего не делая. В одичавшем плодовом саду я собирал полузрелую, твердую как камень, но душистую гуайяву и яркую, словно попугай, кажу, чья терпкая мякоть содержит вяжущий и чрезвычайно вкусный сок. Чтобы раздобыть пищу на обед, стоило только отправиться в расположенную невдалеке от лагеря рощу, там можно было подстрелить диких голубей. В Кампус-Новус мне повстречались две группы, пришедшие с севера в надежде получить от меня подарки.
Эти группы были настроены весьма агрессивно — и друг к другу и ко мне. С самого начала они скорее требовали, чем просили моих подношений.
Сперва в Кампус-Новус пришла одна группа, а также опередивший меня индеец из Утиарити. Он проявлял слишком большой интерес к одной молодой женщине из пришедшей группы, поэтому отношение к нему сразу испортилось. Он все чаше стал наведываться в мой лагерь, чтобы побыть в более доброжелательной обстановке; ел он тоже со мной. Это заметили, и однажды, когда он был на охоте, меня посетили четыре индейца, представлявшие нечто вроде делегации. Угрожающим тоном они предложили мне добавить яду в пищу моего гостя. Кстати, они захватили с собой все, что нужно: четыре трубочки, связанные хлопковой нитью и наполненные каким-то серым порошком. Меня это очень озадачило. Если бы я категорически отказался, то вызвал бы к себе враждебное отношение со стороны этой группы. Поэтому я решил преувеличить свое незнание языка и изобразил полное непонимание. После неудачных попыток меня уговорить, когда индейцы без устали повторяли, что мой подзащитный — какоре (очень злой) и что от него надо избавиться как можно скорее, делегация удалилась, демонстрируя свое неудовольствие. Я предупредил своего индейца, и он тотчас же исчез. Мне довелось увидеть его снова лишь через несколько месяцев, когда я вернулся в этот район, к счастью, на следующий день явилась еще одна группа индейцев, и первая обратила свою враждебность уже против них.
Встреча произошла в моем лагере, который был одновременно И нейтральной территорией, и целью всех этих перемещений. Моя позиция оказалась таким образом самой выгодной. Мужчины пришли одни. Очень скоро между вождями завязался долгий разговор или, точнее, сменяющие друг друга монологи, произносимые каким-то необычным ноющим и гнусавым тоном. «Мы очень раздражены! Вы наши враги!» — ныли одни. А другие отвечали примерно так: «Мы не раздражены! Мы ваши братья! Мы друзья! Друзья! Мы можем договориться», — и так далее. После обмена подобными фразами индейцы разбили общий лагерь рядом с моим. После нескольких песен и танцев, в ходе которых каждая группа умаляла значение собственного выступления, сравнивая его с выступлением соперника: «Люди тамаинде поют хорошо! А мы, мы поем плохо!»— ссора возобновилась. Споры вперемежку с песнями продолжались всю ночь. Иногда дело доходило даже до драки, причем некоторые индейцы выступали арбитрами. Мужчины старались завладеть луком и стрелами противника и спрятать их где-нибудь в стороне. Индейцы пребывали в крайнем напряжении, в состоянии сильного и сдерживаемого гнева. Иногда такие ссоры перерастают в более общие конфликты; однако на этот раз к утру все успокоились. По-прежнему в состоянии видимого раздражения, выразительно жестикулируя, противники принялись изучать друг друга: ощупывали ушные подвески, браслеты из хлопка, небольшие украшения из перьев и при этом быстро цедили сквозь зубы: «Дай… дай… смотри… это… это красиво!» Владельцы же украшений протестовали: «Это некрасивое, старое…» Такой осмотр с целью примирения означает завершение конфликта. Действительно, с него начинается новый вид отношений между группами: торговые обмены. Какой бы бедной ни была материальная культура намбиквара, предметы производства каждой группы высоко оцениваются за ее пределами. Восточные группы нуждаются в глиняной посуде и семенах; северяне считают, что их южные соседи изготовляют особенно ценные бусы. Поэтому вслед за встречами двух групп — если они протекают мирно — следуют взаимные подношения, то есть обмен товарами, и конфликт уступает место рынку. По правде говоря, наблюдая за происходящим, трудно было себе представить, что совершается обмен. Утром после ссоры каждый занимался своими обычными делами. Вещи переходили от одного к другому совершенно незаметно. Тот, кто подносил, передавал свой подарок почти неуловимым жестом, а тот, кто принимал, не обращал внимания на свое новое имущество. Таким образом обменивались извлеченный из коробочек хлопок и мотки ниток, куски воска или смолы, красная краска из биксы и раковины, ушные подвески, браслеты и бусы, табак и семена, перья и бамбуковая дранка для изготовления наконечников стрел, мотки пальмового волокна и иглы дикобраза, целые сосуды или их обломки. Это таинственное обращение товаров продолжалось полдня, после чего группы расстались. При обмене намбиквара полагались на щедрость партнера. Мысль о том, что вещь можно оценивать, спорить или торговаться, требовать или возвращать, была им совершенно чужда.
Я предложил одному индейцу большой нож в качестве платы за доставку сообщения одной соседней группе. При его возвращении я замешкался и не сразу отдал ему обещанное вознаграждение, думая, что он сам придет за ним. Ничего подобного. Назавтра я не смог его найти: он ушел, очень рассерженный, как сказали мне его товарищи, и я больше его не видел. Пришлось передать ему подарок через другого индейца.
Не удивительно, что после окончания обменов одна из групп удаляется недовольная своей долей; неделями перебирая свои приобретения и припоминая собственные подарки, она накапливает обиду, которая постепенно перерастает в агрессивность. Очень часто поводом для военных столкновений бывает именно это. Но естественно, существуют и другие причины, например похищение женщины или убийство. Однако группа, по-видимому, не обязана применять коллективные карательные меры за урон, нанесенный одному из ее членов. Тем не менее из-за враждебных отношений между группами эти поводы охотно используются, особенно если одна из них чувствует себя сильной. К военным действиям призывает один из воинов, который перечисляет свои претензии тем же тоном и в том же стиле, что и монологи при встречах: «Эй! Идите сюда! Пошли! Я рассержен! Очень рассержен! Стрелы! Большие стрелы!»
Нацепив по этому поводу пучки соломы бурити, раскрасившись красной краской и надев шлемы из шкуры ягуаров, мужчины собираются под предводительством вождя и танцуют. Совершается обряд гадания; вождь или колдун — в тех группах, где он имеется, — прячет стрелу где-то в бруссе. На следующий день ее ищут. Если она испачкана кровью, война предрешена, если нет — от нее отказываются. Нередко подобные походы заканчиваются совершенно мирно. У прошедшего несколько километров отряда возбуждение и энтузиазм падают, и он возвращается домой. Однако бывает, что войны претворяются в жизнь и могут оказаться кровавыми. Намбиквара нападают на заре и расставляют засады, рассеиваясь по бруссе. Сигнал к атаке передается от одной засады к другой с помощью свистка, который индейцы носят на шее. Этот инструмент, состоящий из двух бамбуковых трубок, связанных хлопковой нитью, издает звук, похожий на стрекотание кузнечика, и по этой причине носит то же название, что и это насекомое.
Боевые стрелы намбиквара похожи на те, с которыми охотятся на крупных животных, однако их копьевидный наконечник вырезан зубцами. Такие отравленные ядом кураре стрелы, которые обычно употребляются на охоте, здесь никогда не применяются. Ведь раненый способен избавиться от них, прежде чем яд успевает проникнуть в кровь.
Мужчины, женщины, вожди
За Кампус-Новус, на самой высокой точке плато Мату-Гросу, расположен пост Вильена. В 1938 году он состоял всего из нескольких хижин. В то время здесь жило две семьи, лишенные какого-либо снабжения уже в течение восьми лет. Им удавалось поддерживать свое существование благодаря стаду косуль.
В окрестностях Вильены я встретил две новые группы индейцев. Одна из них, насчитывавшая восемнадцать человек, говорила на диалекте, близком к тому, которым я уже немного владел, другая же, состоящая из тридцати четырех членов, пользовалась незнакомым мне языком; впоследствии мне не удалось его идентифицировать. Каждую группу возглавлял вождь, имеющий, как казалось на первый взгляд, чисто мирские функции. Однако вождь более крупной группы вскоре проявил себя как колдун. Его группа носила название сабане, другая же объединяла индейцев тарунде. У индейцев обеих групп был одинаковый внешний облик и одинаковая культура, различались они только языком. В отличие от враждовавших между собой индейцев Кампус-Новус обе группы в Вильене жили в добром согласии. Хотя они разводили лагерные костры порознь, но передвигались вместе, располагались рядом и, казалось, соединили свои судьбы. Поразительный союз, если учесть, что эти индейцы говорили на разных языках и что их вожди могли общаться лишь при посредничестве одного-двух человек из каждой группы, игравших роль переводчиков.
Очевидно, они объединились недавно. Я уже говорил, что с 1907 по 1930 год эпидемии, вызванные появлением белых, опустошили ряды индейцев. Вследствие этого многие группы оказались столь малочисленными, что лишились возможности продолжать независимое существование. В Кампус-Новус я наблюдал внутренние противоречия общества намбиквара. Я видел, как действуют силы, вносящие в него беспорядок. В Вильене, напротив, я присутствовал при попытке возрождения, ибо не оставалось никакого сомнения, что индейцы, с которыми я жил, выработали какой-то общий план. Все взрослые мужчины одной группы называли «сестрами» женщин другой группы, а те именовали этих мужчин «братьями».
Что касается мужчин обеих групп, они называли друг друга термином, который на их языке означает двоюродного брата типа кросс-кузена и соответствует в нашем толковании понятию «шурин». Если учесть правила брака у намбиквара, то станет ясно: все это сводилось к тому, чтобы все дети одной группы оказались в положении потенциальных супругов детей другой. Так, благодаря бракам обе группы слились бы уже в следующем поколении.
Но на пути осуществления этого великого плана возникали препятствия. В окрестностях Вильены передвигалась еще третья группа, враги тарунде. Иногда были видны их лагерные огни, и обе группы Вильены были готовы к любой неожиданности. Поскольку я понимал немного диалект тарунде, то был более близок им, чем сабане, которые к тому же выражали мне меньше доверия. Поэтому я воздерживаюсь от передачи точки зрения сабане. Во всяком случае тарунде не были уверены в том, что их друзья вступили с ними в союз без задней мысли. Они опасались третьей группы и еще больше того, чтобы сабане не решили внезапно переметнуться в другой лагерь.
Вскоре любопытный случай показал, что до какой-то степени их опасения были обоснованы. Однажды вождь сабане не вернулся с охоты вместе с другими мужчинами. Днем его никто не видел. Стало темно, было уже десять часов вечера, и лагерь охватила растерянность, особенно семью вождя. Его две жены и ребенок, обнявшись, заранее оплакивали смерть своего супруга и отца.
Я решил вместе с несколькими индейцами обойти окрестности. Не прошли мы и двухсот метров, как обнаружили нашего вождя, сидящего на корточках и дрожащего от холода. Он был совершенно наг, то есть без своих бус, браслетов, ушных подвесок и пояса. Осветив вождя электрическим фонарем, мы увидели на лице его трагическое выражение. Мы, поддерживая, довели его до лагеря. Он долго молча сидел с подавленным видом, чем очень обеспокоил индейцев.
Встревоженные соплеменники вынудили его рассказать все, что с ним произошло. Он объяснил, что его унес гром, который намбиквара называют «амон» (в этот день прогремела гроза — предвестница сезона дождей). Амон поднял его в воздух, донес до места, удаленного на двадцать пять километров от лагеря, лишил его всех украшений, а затем вернул тем же путем и оставил там, где мы его нашли. Перед сном все обсуждали это событие, а утром вождь сабане вновь обрел не только свое обычное хорошее настроение, но и все свои украшения, чему никто не удивился и чему он не дал никаких объяснений.
В последующие дни люди тарунде стали распространять совершенно иную версию случившегося. Они говорили, что, прикрываясь своей связью с иным миром, вождь на самом деле затеял темное дело с группой индейцев, стоявших лагерем по соседству. Эти подозрения, впрочем, так и не получили подтверждения, и первая версия этого события была в конце концов принята. Тем не менее вождь тарунде выражал явную озабоченность. Поскольку обе группы нас вскоре оставили, я так и не узнал конца этой истории. Этот случай вместе с прежними наблюдениями дал мне повод поразмыслить над природой группы намбиквара и над влиянием, которое имели среди них вожди. Не существует социальной структуры более хрупкой и эфемерной, чем у группы намбиквара. Если вождь кажется им слишком требовательным, если он берет себе слишком много жен или если он не способен найти удовлетворительное решение проблемы пропитания в голодный период, возникает недовольство. Отдельные лица или целые семьи отделяются от группы и присоединяются к другой, имеющей лучшую репутацию. Та группа может или обильнее питаться (благодаря открытию новых территорий для охоты и собирательства), или быть более богатой украшениями и инструментами благодаря торговым обменам с соседями, или стать более могущественной вследствие победоносного военного похода. Приходит день, когда вождь оказывается во главе слишком малочисленной группы, которая уже не в состоянии противостоять каждодневным трудностям и защитить своих женщин от притязаний чужаков. В этом случае у него не остается другого выхода из положения, как отказаться от руководства и присоединиться со своими оставшимися товарищами к более сильной общине. Таким образом, видно, что социальная структура намбиквара находится в неустойчивом состоянии. Община образуется и распадается, она или растет или исчезает. В течение нескольких месяцев состав, численность и положение ее членов иногда совершенно изменяются. Интриги внутри одной группы и столкновения между соседними группами диктуют свой ритм этим изменениям, а величие личностей и групп часто сменяется их крушением.
На каких же основаниях происходит тогда подразделение на группы? С экономической точки зрения здесь все ясно: оно обусловлено бедностью природными ресурсами. Чтобы прокормиться в кочевой период, люди должны передвигаться по большой территории мелкими группами. Проблема состоит не в том, чтобы узнать, почему происходит это рассеивание, а в том, чтобы выяснить, каким образом это делается.
В каждой первоначальной группе есть мужчины, которых признают вождями. Это они образуют ядра, вокруг которых объединяются мелкие группы. Численность групп, их более или менее постоянный характер в течение определенного периода зависят от способности каждого из этих вождей сохранить свой пост и улучшить положение группы.
Я хорошо знал двух вождей: одного в Утиарити, который возглавлял группу индейцев ваклитису, а другой был вождем тарунде. Первый сознавал свою ответственность, был поразительно умен, деятелен, изобретателен. Он очень помог мне: вырабатывал маршрут, специально приспособленный к моим надобностям, описывал его, в случае необходимости рисуя на песке географическую карту. Прибыв в его деревню, мы обнаружили, что там уже вбиты колышки для привязи наших животных. Оказывается, это сделала высланная им вперед группа, хотя я его об этом и не просил.
Это ценный информатор, который понимает стоящие перед нами проблемы, видит трудности и интересуется работой. Но он целиком поглощен своими обязанностями: днями пропадает на охоте, осматривает местность или проверяет, созрели ли плоды на деревьях. Он так же охотно предается любовным играм, в которые завлекают его жены.
В общем его поведение обнаруживает логику и последовательность намерений — явление исключительное среди намбиквара, как правило, непостоянных и своенравных. Это ценный организатор, он — единственный, кто отвечает за судьбу группы, которой руководит компетентно, хотя и в несколько спекулятивном духе.
Вождь тарунде, лет тридцати, был столь же умен, как и его коллега, но по-иному. Вождь ваклитису произвел на меня впечатление человека осмотрительного и очень находчивого, он постоянно обдумывал какую-нибудь выгодную комбинацию. Тарунде же нельзя было назвать человеком дела, это был скорее созерцатель, наделенный поэтическим умом и чувствительностью. Он отдавал себе отчет в упадке своего народа, и это окрашивало его речь меланхолией: «Я делал прежде то же самое, теперь с этим кончено…» — говорит он, вспоминая более счастливые дни, когда его группа представляла собой не горстку людей, неспособных поддержать свои обычаи, а объединяла несколько сот членов, верных всем традициям культуры намбиквара.
Его любопытство к нашим нравам и к тем, которые мне удалось наблюдать в других племенах, ни в чем не уступает моему. С ним этнографическая работа никогда не бывает односторонней. Он понимает ее как обмен сведениями и с интересом воспринимает все, что я ему сообщаю. Часто он даже просит у меня — и заботливо их хранит — рисунки, на которых изображены украшения из перьев, головные уборы, оружие, какие я видел у ближайших или отдаленных племен. Надеялся ли он усовершенствовать благодаря этим сведениям снаряжение своей группы? Может быть, хотя его мечтательность не способствовала практическим свершениям.
Тем не менее однажды произошел такой случай. Я расспрашивал вождя о флейтах Пана, чтобы определить зону распространения этого инструмента. Он ответил, что никогда этих флейт не видел, но хотел бы иметь их рисунок. Руководствуясь моим наброском, он сумел изготовить грубый, но вполне пригодный инструмент.
То, что во главе группы всегда стоят люди, обладающие исключительными способностями, объясняется условиями выдвижения вождей.
У намбиквара власть не является наследственной. Когда вождь стареет, заболевает и уже не чувствует себя способным выполнять свои тяжелые обязанности, он сам выбирает себе преемника: «Вот этот будет вождем». Однако эта неограниченная власть скорее кажущаяся, чем реальная (дальше мы увидим, сколь слаб авторитет вождя). В этом случае, как и во всех других, решению вождя, очевидно, предшествует зондирование общественного мнения: назначаемого преемника предварительно одобряет и большинство членов группы. Избрание нового вождя зависит не только от пожеланий или возражений группы, оно должно отвечать и намерениям самого кандидата. Нередко предложение власти наталкивается на бурный отказ: «Я не хочу быть вождем». В этом случае приходится искать другого. Действительно, власть, по-видимому, не является объектом соперничества, знакомые мне вожди чаше считали ее тяжелым бременем, нежели поводом для чванства.
Каковы же привилегии вождя и каковы его обязанности?
Когда около 1560 года Монтень встретил в Руане привезенных мореплавателями трех бразильских индейцев и спросил одного из них, каковы привилегии вождя в его стране, тот, сам вождь, ответил, что они состоят в том, чтобы идти первым на войну. Монтень, восхищенный столь гордым ответом, рассказывает об этом в одной из глав своих «Опытов».
На языке намбиквара вождь именуется словом «уликанде», которое, по-видимому, означает «тот, кто объединяет» или «тот, кто соединяет вместе». Этимология этого слова говорит о том, что для индейцев выборы вождя — это олицетворение их желания организоваться в качестве группы, а не потребность в центральной власти со стороны уже сложившейся группы.
Главными качествами вождя з обществе намбиквара являются авторитетность и способность внушать доверие. Тому, кто руководит группой во время кочевок в сухой голодный сезон, совершенно необходимы эти качества. В течение семи или восьми месяцев вождь полностью отвечает за группу. Он организует приготовление в дорогу, выбирает маршрут, определяет место и длительность стоянок. Он принимает решение об организации охоты, рыбной ловли, сбора растений и мелкой живности, он определяет поведение своей группы по отношению к соседним группам. Когда вождь небольшой группы является одновременно вождем деревни (здесь «деревня» означает место временного расположения на сезон дождей), его обязанности еще более расширяются. В таком случае он определяет начало и место оседлой жизни, руководит огородными работами и выбирает сельскохозяйственные культуры; в более широком смысле он направляет деятельность жителей деревни в зависимости от сезонных потребностей и возможностей.
Следует отметить, что вождь не находит опоры для своих многочисленных обязанностей ни в определенной каким-либо образом власти, ни в публично признанном авторитете. В основе власти лежит согласие, и в свою очередь согласие делает ее законной. Неблаговидное поведение вождя (разумеется, с точки зрения индейцев) или проявление неудовольствия со стороны одного или двух членов группы могут помешать ему руководить своей маленькой общиной и подорвать ее благополучие. Однако вождь лишен возможности принуждать. Он может отделаться от нежелательных элементов лишь в том случае, если способен убедить остальных разделить его мнение. Таким образом, ему нужно проявлять достаточную дипломатию. Для вождя недостаточно, чтобы он лишь поддерживал сплоченность своей группы. Живя в течение всего кочевого периода изолированно, она тем не менее не забывает о существовании соседних групп. Мало того, чтобы вождь исполнял свои обязанности хорошо, он должен стараться — и его группа рассчитывает на это — выполнять их лучше, чем другие. Каким же образом вождь исполняет свои обязанности? Первое и главное орудие власти — щедрость. Это основной атрибут власти у большинства примитивных народов, и особенно на территории Америки. Хотя вождь не пользуется привилегированным положением с материальной точки зрения, он всегда должен иметь под рукой излишки пищи, орудий, оружия и украшений, которые (даже если они самые незначительные) имеют немаловажную ценность вследствие общей бедности. Когда один человек, одна семья или целая группа чувствуют в чем-то потребность, они обращаются к вождю. Таким образом, щедрость является тем главным качеством, которое ждут от вождя. Вожди были моими лучшими информаторами, и, понимая их трудное положение, мне хотелось щедро вознаградить их, однако мне редко приходилось видеть, чтобы какой-нибудь из моих подарков оставался в их руках дольше нескольких дней. Каждый раз после того как я расставался с какой-либо группой через несколько недель совместной жизни, индейцы успевали стать счастливыми обладателями топоров, ножей, бисера и т. д. Вождь же оставался столь же неимущим, что и к моменту моего появления. Все, что он получил, у него уже выпросили. Эта общая алчность часто доводит вождя почти до отчаяния. Отказ или готовность давать в этой примитивной демократии означает примерно то же, что и вопрос о доверии в современном парламенте. Когда вождь позволяет себе сказать: «Кончено с подарками! Кончено со щедростью! Пусть другой будет щедрым на моем месте!» — он должен быть очень уверенным в своей власти, ибо этот шаг — серьезное испытание.
Хороший вождь проявляет инициативу и изобретательность. Это он приготовляет яд для стрел. Он же изготовляет мяч из сырого каучука, который используется в играх. Вождь должен быть хорошим пловцом и хорошим танцором, веселым малым, всегда готовым развлечь группу и рассеять скуку повседневной жизни. Эти обязанности легко могут привести к шаманизму, и действительно некоторые вожди являются одновременно знахарями и колдунами. Тем не менее мистические интересы всегда остаются у намбиквара на заднем плане, а когда они проявляются, то магические способности вождей играют роль лишь второстепенных атрибутов управления.
Мирская и духовная власть часто распределяются между двумя лицами. В этом отношении намбиквара отличаются от своих северо-западных соседей — тупи-кавахиб, у которых вожди являются также и шаманами с их склонностью к вещим снам, видениям, трансам и раздвоению.
Но хотя сметливость и изобретательность вождя намбиквара направлены в более позитивную сторону, они не менее удивительны. Он должен безупречно знать те территории, по которым проходят его и соседние группы, часто посещать охотничьи угодья и рощи, где растут дикие плоды, определить самое благоприятное время их сбора, иметь представления о маршрутах соседних групп. Он постоянно производит осмотр или обследование местности и скорее рыщет вокруг своей группы, нежели ведет ее за собой.
Помимо одного или двух человек, сотрудничающих с вождем за вознаграждение, остальные члены группы отличаются удивительной пассивностью, которая резко контрастирует с энергичной деятельностью их руководителя. Можно сказать, что группа, оказав доверие вождю, ждет от него, чтобы он полностью взял на себя все заботы о ее интересах и безопасности. Это хорошо иллюстрируется уже рассказанным эпизодом, происшедшим во время нашего путешествия, когда мы сбились с пути и оказались без еды. Вместо того чтобы отправиться на охоту, индейцы улеглись на землю, предоставив заботиться о продовольствии вождю и его женам. Я уже несколько раз упоминал о женах вождя. Полигамия практически является его привилегией, она представляет собой моральное возмещение за его тяжелые обязанности и, кроме того, облегчает выполнение их. Лишь вождь и колдун, за редким исключением, могут иметь несколько жен. Однако речь здесь идет об особом типе полигамии. Вместо плюрального брака в собственном смысле этого слова здесь налицо скорее моногамный брак, к которому добавляются отношения различного свойства. Первая жена играет роль моногамной жены в обычных браках. Она следует обычаю разделения труда между полами, заботится о детях, готовит еду и собирает дары природы. Последующие союзы тоже признаются браками, но несколько отличными от первого. Второстепенные жены принадлежат к более молодому поколению. Первая жена называет их «дочерями» или «племянницами». Кроме того, они не подчиняются правилам разделения труда, а принимают участие как в мужских, так и в женских занятиях. В лагере они пренебрегают домашними работами и бездельничают. Пока первая жена хлопочет вокруг очага, они то играют с детьми, которые нередко принадлежат к их поколению, то ласкают своего мужа. Но когда вождь отправляется на охоту, на обследование местности или на какое-то другое мужское дело, второстепенные жены сопровождают его и оказывают ему физическую и моральную помощь. Эти женщины с мальчишескими замашками, выбранные среди самых красивых и здоровых девушек группы, становятся для вождя скорее любовницами, чем супругами. Он живет с ними на основе влюбленного товарищества, являющего собой разительный контраст с супружеской атмосферой первого союза.
В то время как мужчины и женщины группы купаются в разное время, вождя и его полигамных жен нередко можно увидеть купающимися вместе. В воде они устраивают шуточные баталии и всякие проделки. По вечерам между вождем и его полигамными женами затеваются любовные игры: обнявшись, вдвоем, втроем или вчетвером, они катаются в песке. А иногда дурачатся по-ребячески: например, вождь ваклитису и его две самые молодые жены, лежа на спине в виде трехконечной звезды, поднимают ноги вверх и ритмично ударяют друг друга подошвой о подошву. Таким образом, полигамный союз представляется как наложение плюралистической формы влюбленного товарищества на моногамный брак и в то же время как атрибут власти, имеющий функциональное значение с точки зрения как психологической, так и экономической.
Жены обычно живут в добром согласии. И хотя участь первой жены кажется порой неблагодарной — в то время как она работает, ее муж развлекается со своими молодыми возлюбленными, — у нее не возникает по этому поводу досады. Ведь подобное распределение ролей не является ни незыблемым, ни неукоснительным, и порой муж затевает игры и с первой женой. Радости жизни ни в коем случае не закрыты для нее. Кроме того, незначительность участия первой жены в отношениях влюбленного товарищества компенсируется ее более солидным положением и возможностью влиять на молодых товарок.
Полигамность брака вождя имеет серьезные последствия для жизни группы. Вырывая периодически молодых женщин из регулярного цикла браков, вождь нарушает равновесие между числом юношей и девушек брачного возраста. Молодые мужчины становятся главными жертвами подобного положения — они осуждены либо оставаться холостыми на протяжении многих лет, либо жениться на вдовах или старых женщинах, от которых отказались их мужья.
Итак, привилегия полигамии представляет собой важную уступку группы своему вождю. Что же означает эта привилегия с его точки зрения? Естественно, ему импонирует возможность доступа к молодым и красивым девушкам; это дает ему удовлетворение не столько физическое, сколько эмоциональное. Однако главным образом полигамный брак и его специфические атрибуты служат средством помочь вождю выполнять свои обязанности. Если бы он был один, то ему было бы трудно делать больше, чем остальные. Его второстепенные жены, освобожденные от тяжелых обязанностей своего пола, оказывают ему поддержку и утешение. Они одновременно являются вознаграждением за власть и ее инструментом.
VI. Тупи-кавахиб
На пироге
Я покинул Куябу в июне, а теперь уже сентябрь. Вот уже месяца три как я брожу по плато. Пока отдыхают быки и мулы, я живу в лагере с индейцами, а в то время, как неровная иноходь мула набивает мне синяки, вспоминаю отдельные эпизоды из своего путешествия и размышляю о смысле своей затеи.
Меня начинает одолевать скука. Уже несколько недель перед моими глазами расстилается однообразная саванна, такая сухая, что живые растения трудно отличить здесь от увядшей зелени, тут и там виднеющейся на месте покинутого лагеря. Отдельные черные следы пожаров в бруссе сменяются землей, сплошь выжженной солнцем.
Мы прошли от Утиарити до Журуэны, затем до Жуины, Кам-пус-Новус и Вильены. Теперь мы двигались к последним постам на плато: Трес-Буритис и Баран-ди-Мелгасу, которые находятся уже на спуске.
Почти при каждом переходе мы теряли одного или двух быков— они гибли от жажды, усталости или из-за отравления ядовитой травой. Переходя через речку по прогнившему мостику, несколько быков упали в воду вместе с грузом, и мы с большим трудом спасли экспедиционную казну. Но подобные происшествия случаются редко. Ежедневно повторяется одно и то же: разбивка лагеря, подвешивание гамаков и противомоскитных сеток, размещение грузов и вьючных седел в местах, недоступных термитам. Назавтра готовимся в путь, и все происходит в обратном порядке.
Когда встречаем группу индейцев, устанавливается другой привычный порядок: перепись, выяснения, как на их языке называются части тела, термины родства, определение родословных, составление описи имущества. При этом я чувствую, что, убежав от бюрократии, сам становлюсь бюрократом. Дождя нет уже пять месяцев и вся дичь покинула эти места. Мы бываем счастливы, если нам удается подстрелить тощего попугая или поймать большую ящерицу тупинамбис[79], которую мы варим вместе с рисом; иногда печем прямо в панцире сухопутную черепаху или броненосца, имеющего темное жирное мясо. Но чаще всего приходится довольствоваться тем самым сушеным мясом, которое приготовил для нас несколько месяцев назад мясник в Куябе. Каждое утро мы раскладываем на солнце и проветриваем толстые, кишащие червями листы этого мяса, а на следующий день обнаруживаем их в том же самом состоянии. Правда, один раз кто-то убил дикую свинью. Недожаренное, с кровью мясо оказало на нас более возбуждающее действие, чем вино. Каждый съел не меньше фунта, и тогда я понял, чем объясняется распространенное среди многих путешественников мнение о прожорливости «дикарей». Достаточно хоть немного пожить их жизнью, чтобы испытать ненасытный голод и понять, что его утоление приносит нечто большее, чем насыщение, — счастье.
Постепенно пейзаж меняется. Древние кристаллические или осадочные породы, которые выходят на поверхность в центральной части плато, уступают место глинистым почвам. Саванна сменяется зоной сухого леса с ореховыми деревьями (но не нашими, а бразильскими Bertholletia excelsa) и с большими деревьями копаифера, вырабатывающими бальзам. Прозрачные ручьи становятся мутными из-за желтой и гнилостной воды. Повсюду виднеются изъеденные эрозией косогоры, у подножия которых простираются болота, заросшие высокой травой сапезаль и рощами пальмы бурити. Наши мулы, топая по их берегам, продираются через заросли диких ананасов, на которых растут небольшие плоды желто-оранжевого цвета с мякотью, изобилующей множеством больших черных зернышек. По вкусу они напоминают нечто среднее между культурным видом ананаса и великолепной малиной. От земли поднимается запах, которого я не ощущал уже несколько месяцев, — запах теплого шоколадного настоя. Его испускает тропическая растительность и органический распад.
От последнего уступа плато, отвесно падающего к телеграфному посту Баран-ди-Мелгасу, начинается прерия.
И вот, насколько хватает глаз, перед нами протянулась долина Машаду (Жипарана. — Г. М.), а за нею — амазонский лес, который простирается на полторы тысячи километров до границы с Венесуэлой. В окрестностях Баран-ди-Мелгасу некоторые участки прерии с зеленой травой окружал влажный лес, откуда доносились громкие трубные звуки жаку, птицы-собаки. В течение трех дней мы ходили на охоту в лес и возвращались в лагерь, нагруженные дичью. Нас охватило какое-то исступление: мы только и занимались тем, что готовили пищу и ели. Отныне у нас не будет недостатка ни в чем. Тщательно сберегаемые запасы сахара и спиртного растаяли моментально. Из амазонской пищи особенно вкусны были токари, или бразильские орехи, сердцевину которых можно растереть до белого соуса или жирного крема.
Вот список наших гастрономических упражнений, который я обнаружил в своих заметках: колибри, поджаренные на брошетах и подающиеся в горящем виски; хвост каймана, поджаренный на решетке; жареный попугай, подающийся в горящем виски; рагу из дикого индюка и почек разных пальм в соусе из токари и с перцем; жаку в жженом сахаре.
После этого разгула и мытья (во время путешествия мы порой по нескольку дней не могли снять комбинезоны) я начал строить план относительно второй части путешествия. Отныне я решил передвигаться по рекам, а не по заросшим лесным просекам. У меня осталось всего семнадцать быков из тридцати одного, с которыми мы начинали путешествие, да и они в таком состоянии, что уже не могут идти дальше.
Мы делимся на три группы. Начальник отряда и с ним несколько человек пойдут сухопутным маршрутом до первых поселков серингейрос, где он надеется продать лошадей и часть мулов. Другие останутся в Баран-ди-Мелгасу с быками, чтобы те могли восстановить силы на пастбищах с сочной травой. Эту группу будет возглавлять Тибурсио, старый повар, которого все любят. Когда быки восстановят силы, отряд возвратится по прежней дороге в Утиарити. Будем надеяться, что это произойдет без затруднений, ибо животные пойдут налегке, а дожди, которые скоро начнутся, превратят эти пустынные пространства в зеленую прерию.
Наконец, научный персонал экспедиции и остальные люди возьмут на себя заботу о багаже, который они доставят на пироге до обитаемых районов, где мы расстанемся.
Сам я рассчитываю перейти в Боливию через реку Мадейру, пересечь эту страну на самолете, вернуться в Бразилию через Ко-румбу и оттуда возвратиться в Куябу, а затем примерно в декабре оказаться в Утиарити. Там я встречусь со своим отрядом, чтобы завершить дела экспедиции. Начальник поста в Баран-ди-Мелгасу одалживает нам два галиота (легкие дощатые лодки) и гребцов. Прощайте, мулы! Теперь остается только спуститься по течению реки Машаду. Забыв, что сухой сезон кончился, мы в первый вечер не позаботились найти укрытие от возможного дождя и подвесили гамаки между деревьями на берегу. Гроза разразилась среди ночи с грохотом скачущей галопом лошади. Прежде чем мы проснулись, гамаки наши уже превратились в ванны. Мы наскоро развернули брезент и спрятались под ним, потому что растянуть его в этом потопе было невозможно. О сне не могло быть и речи. Присев на корточки в воде и поддерживая брезент головами, мы все время вынуждены были следить за тем, чтобы складки брезента не наполнялись водой, и спешили вылить ее прежде, чем она протечет насквозь.
На следующий день дождь продолжал лить, и мы плыли на пост Пимента-Буэну, непрерывно выливая из лодок воду. Этот пост расположен при слиянии одноименной реки с Машаду. Там жило человек двадцать: несколько белых из внутренних территорий и индейцы, работавшие на линии, — кабиши из долины реки Гуапоре и тупи-кавахиб с реки Машаду. Вскоре я получил о них важные сведения. Одни касались ведущих первобытный образ жизни людей тупи-кавахиб, которых на основании прежних сообщений считали уже исчезнувшими, другие — одного неизвестного племени, которое жило, как говорили, в нескольких днях пути по реке Пимента-Буэну. У меня тотчас же возник план разведать эти места, но как это сделать?
И вот мне представился благоприятный случай. На посту остановился один бродячий торговец, по имени Бахья, который каждый год совершал далекое путешествие: он спускался до реки Мадейры, запасался товарами в прибрежных складах, поднимался в пироге по Машаду, а затем по реке Пимента-Буэну. Там по знакомой ему тропинке он три дня тащил пирогу и груз через лес до маленького притока реки Гуапоре, где сбывал свой товар по бешеным ценам, так как местность, где он заканчивал свой путь, совершенно не снабжалась.
Бахья заявил, что готов подняться по реке Пимента-Буэну дальше того места, где кончался его обычный маршрут, при условии, что я заплачу ему товарами, а не деньгами. Это была выгодная для него сделка, поскольку цены амазонских оптовиков выше тех, по которым я делал покупки в Сан-Паулу. Я ему уступил несколько кусков красной фланели, к которой чувствовал отвращение с тех пор, как в Вильене произошел такой случай. Я преподнес красную фланель индейцам намбиквара, а на следующий день увидел, что в нее с головы до ног закутаны буквально все, не исключая собак, обезьян и прирученных кабанов. Час спустя, когда в лагере вдоволь насладились этой выходкой, куски фланели оказались разбросанными по бруссе, и на них никто больше не обращал внимания. В свое импровизированное путешествие по реке я взял две пироги, четырех гребцов-индейцев и двух наших людей.
Ничто не может воодушевить этнографа больше, чем перспектива попасть первым из белых в какую-нибудь общину аборигенов. Уже в 1938 году это высшее вознаграждение было возможно лишь в нескольких регионах мира, причем все их легко было сосчитать по пальцам одной руки. С тех пор эти возможности еще более сузились.
Итак, я смогу испытать ощущение путешественников прежних времен и тем самым понять, что испытало человечество в пору Великих открытий, когда оно совершенно неожиданно для себя узнало, что составляет лишь часть целой обширной системы, и, дабы познать себя, оно сначала должно рассмотреть свой неузнаваемый образ в том зеркале, осколок которого, забытый прошедшими веками, вскоре бросит для меня одного свой первый и последний отблеск. Уместен ли подобный энтузиазм в XX веке? Как бы ни были плохо изучены индейцы с реки Пимента-Буэну, при встрече с ними я не мог испытать того потрясения, которое выпало на долю таких великих путешественников, как Лери, Штаден, Теве, четыреста лет назад вступивших на бразильскую землю. Мы уже не увидим того, что предстало перед их глазами. Цивилизации, которые им довелось наблюдать первыми, хотя и развивались по иным линиям, чем наши, все же достигли своего совершенства, соответствующего их природе. Общества же аборигенов, которые мы можем изучать сегодня (а нынешние условия было бы иллюзорно сравнивать с теми, что превалировали четыре века назад), несмотря на их удаленность и изолированность, были сражены тем чудовищным катаклизмом, которым стало для этой столь большой и столь невинной части человечества развитие западной цивилизации.
Однако условия путешествия остались теми же. После тяжелого перехода по плато было необычайно приятно плыть по живописной реке.
Прежде всего требовалось возобновить привычку к жизни на воде, приобретенную три года назад на реке Сан-Лоренсу. Надо было вспомнить, что я знал о различных по формам и размерам пирогах, выдолбленных из ствола дерева или собранных из досок. Опять пришлось привыкать часами сидеть на корточках в воде, которая проникает через трещины в дереве и которую непрерывно вычерпываешь маленьким калебасом. Кроме того, необходимо было соблюдать чрезвычайную осмотрительность при каждом движении, чтобы не перевернуть лодку. Индейцы говорят: «У воды нет волос», то есть, если выпадешь за борт, не за что будет ухватиться. Надо запастись терпением, чтобы при каждом препятствии в речном русле выгружать тщательно уложенные продукты и материалы, переносить их из пироги на скалистый берег и возобновлять эту операцию через каждые сто метров.
Эти препятствия могут быть разными: безводное русло, стремнины, водопады. Каждому из них гребцы тотчас же дают название по какой-нибудь памятной подробности: например, по детали пейзажа (кастаньял — «каштановая роща», «пальмы»); по случаю на охоте (веадо — «олень», арарос — «попугаи араураке»); по личным связям путешественника с этим местом (криминоза — «преступница»); энкренка — непереводимое существительное, выражающее затруднительное положение, и т. д.
Гребцы пробуют нужные ритмы. Сначала ряд мелких ударов: плюф, плюф, плюф… затем сильный рывок. Два резких постукивания по борту пироги чередуются с ударами весел: тра-плюф-тра, тра-плюф-тра; наконец налаживается походный ритм, когда один раз весло погружается в воду, а затем просто скользит по поверхности, но по-прежнему это сопровождается постукиванием и отделяется от следующего движения еще одним постукиванием: тра-плюф-тра-ш-тра; тра-плюф-тра-ш-тра… Таким образом поочередно выставляются то синяя, то оранжевая поверхность лопасти весел. Пролетающие над рекой большие попугаи ара при каждом своем повороте сверкают золотыми перьями живота или лазурной спиной.
Воздух уже не столь прозрачен, как во время сухого сезона. На заре все тонет в густой розовой пене утреннего тумана, поднимающегося от реки. Уже тепло. Постепенно источник этого неопределенного тепла уточняется. То, что было рассеянной температурой, становится солнечным лучом, падающим на какую-то часть лица или рук. Начинаешь понимать, почему исходишь потом. Оттенки розового цвета умножаются, появляются голубые островки. Создается впечатление, что туман еще больше густеет, в то время как он рассеивается.
Мы с трудом поднимаемся вверх по реке, и гребцам требуется отдых. Утро проходит в том, что мы грубой удочкой с наживкой из диких ягод ловим рыбу для пейшады — амазонской ухи. Это желтые от жира пакус, которых едят ломтями, держа за кость подобно натуральной котлете; пираканжубас — серебристые, с красным мясом; румяные дорады; каскудо в панцирях, как омары, но черного цвета; пятнистые пиапарас; пиава, куримбата…
Надо быть очень осторожным с ядовитыми скатами и электрическими скатами пураке, которых ловят без наживки, — их разряд может убить мула. Но еще больше, как рассказывают мужчины, следует бояться малюсеньких рыбок, которые якобы проникают в мочевой пузырь того, кто находится в воде. Иногда через гигантскую зеленую плесень, которую образует лес на берегу, нам доводится наблюдать внезапное возбуждение стаи всевозможных обезьян: гуариба — ревунов, паукообразных обезьян, капуцинов, обезьян цог-цог, которые за час до зари будят лес своими криками: у них огромные миндалевидные глаза, высокомерная осанка и шелковистая пышная шкура. Тут же целые семейства маленьких обезьян: уистити, или мармозетки, разные виды макак — «ночные» с глазами цвета темного желатина, «с ароматом», «солнечные глотки» и т. д.
Достаточно выпустить в эти скачущие стаи одну пулю, чтобы почти наверняка убить какую-нибудь обезьяну. Поджаренная, она превращается в детскую мумию со скрюченными ручками. Рагу из нее имеет вкус тушеного гуся.
Около трех часов пополудни небо темнеет, доносятся раскаты грома, и дождь широкой вертикальной полосой закрывает полнеба. Дойдет ли она до нас? Полоса распадается на струи, а с другой стороны появляется свет, сначала золотистый, а потом полинявшего синего цвета. Лишь середина горизонта еще закрыта дождем. Но тучи тают, пелена расходится в стороны и наконец рассеивается. Остается пестрое небо, на синем и белом фоне которого громоздятся черные тучи. Пока не началась следующая гроза, самое время пристать к берегу. Высаживаемся там, где лес кажется не таким густым. Наскоро вырубаем полянку большими ножами и смотрим, нет ли среди оставленных стволов пао ди новато — дерева новичка, названного так потому, что только простак может привязать к нему свой гамак: с этого дерева тут же обрушивается целая армия красных муравьев. Проверяем, не осталось ли также пао дальо — дерева с запахом чеснока.
Если повезет, мы найдем дерево совейра; когда надрежешь его ствол, то за несколько минут из него выльется больше «молока», чем дает корова. Оно жирное и пенистое, но, если пить его сырым, во рту все покрывается как бы прорезиненной пленкой.
На миртовом дереве араса растут фиолетовые плоды величиной с вишню и со вкусом терпентина; они кисловатые, а если раздавить их в воде, она покажется газированной.
Стручки дерева инга наполнены нежным сладким пушком, ба-кури напоминает грушу, и, наконец, ассая — самое вкусное из всего, что дает лес: ее свежий отвар напоминает густой, пахнущий малиной сироп, но, если оставить этот напиток на ночь, он свертывается, как творог, и становится кислым. Пока одни поглощены кулинарными заботами, другие подвешивают гамаки под навесами из веток, образующими легкую пальмовую крышу. И вот все успокаиваются возле лагерного костра. Приходит время историй с непременными привидениями и призраками: оборотнем, лошадью без головы или старухой с головой скелета. В отряде всегда найдется бывший старатель (гаримпейро), который сохранил тоску по тому периоду своей жизни, когда каждый день озарялся для него надеждой на богатство: «Однажды, когда я занимался тем, что «писал» — то есть промывал гальку, — в мой таз попало небольшое сверкающее зернышко величиной с ри-синку; оно испускало ослепительный свет. Я не думаю, что существует более прекрасная вещь… Смотришь на него, и как будто тебя ударяет электрическим током!»
Начинается спор: «Между Розариу и Ларанжалом на холме есть сверкающий камень. Его видно за километры, особенно ночью». — «Это, наверное, горный хрусталь?» — «Нет, хрусталь не дает света в темноте, так сверкает только алмаз». — «И никто не нашел его?» — «О, такие алмазы… час их находки и имя владельца предопределены давно!»
Те, кому не хочется спать, устраиваются иногда до зари на берегу реки, зачастую они просто подкидывают дрова в огонь, но если заметят следы кабана, капибары [80] или тапира, то толстой палкой ритмично бьют по земле: пум… пум… пум. Животные думают, что это падают плоды и прибегают на шум, причем в неизменном порядке: сначала кабан, потом ягуар.
Робинзон
Теперь, обсудив дневные происшествия и пропустив по кругу мате, остается только проскользнуть в гамак с противомоскитной сеткой, напоминающий то ли кокон, то ли бумажного змея. Устроившись, каждый заботливо подтягивает сетку за край вверх, чтобы она нигде не касалась земли. Теперь она образует что-то вроде кармана. Тяжелый револьвер своим весом удерживает ее, оставаясь к тому же под рукой. Вскоре начинается дождь.
Мы поднялись по реке за четыре дня; стремнин было так много, что приходилось раз по пять в день выгружать, переносить и вновь нагружать лодки. Река протекала среди скал, которые разделяли ее на многочисленные рукава; посередине громоздились, зацепившись за подводные глыбы, снесенные течением деревья с приставшей к ним землей и растительностью. На этих импровизированных островках растения быстро оживали. Деревья росли прямо из воды, цветы распускались сквозь струи. Казалось, не было больше ни реки, ни берегов, существовал лишь лабиринт букетов, освеженных течением, и прямо из пены вырастала почва.
Это содружество стихий простиралось и на живых существ. Для своего существования индейцы нуждаются в огромных пространствах. Но здесь изобилие животных свидетельствовало о том, что в течение десятилетий человек был бессилен поколебать естественное равновесие. На деревьях висело, пожалуй, больше обезьян, чем листьев. Стоило только протянуть руку к выступающим из воды скалам, и она тут же натыкалась или на черных как смоль крупных диких индюков с янтарным или коралловым клювом, или на синие, переливающиеся муаром крылья жакамина. Птицы от нас не убегали. Когда я созерцал эти живые драгоценности, бродящие среди струящихся лиан и потоков листвы, перед моим взором вставали те картины Брейгеля, где рай изображался в виде трогательной близости между растениями, зверями и людьми.
На пятый день после полудня, увидев узкую пирогу, причаленную к берегу, мы поняли, что прибыли на место. Негустая рощица подходила для лагеря. Индейская деревня находилась в километре от берега. На залеже, имеющей яйцевидную форму, располагались огород и три коллективных хижины полусферической формы; над каждой возвышался наподобие мачты центральный столб. Две главные хижины стояли друг против друга по краю площади для церемониальных танцев. Третья располагалась поодаль, и от нее через огород к площадке вела тропинка.
Население деревни состояло из двадцати пяти человек; кроме них мы встретили еще мальчугана лет двенадцати, который говорил на другом языке. Я понял, что он был пленником, захваченным на войне. Однако жители деревни обращались с ним так же, как и со своими детьми. У мужчин и женщин губы были проткнуты вставкой из застывшей смолы, похожей по виду на янтарь. И те и другие носили перламутровые блестящие бусы из кружков, пластинок или целых полированных раковин. Запястья, предплечья, а также лодыжки были перевязаны хлопковыми ленточками. Наконец, у женщин в проколотую носовую перегородку была продета какая-то жилка с нанизанными на нее белыми и черными кружками.
Эти люди резко отличались от намбиквара по физическому облику: коренастый торс на коротких ногах, очень светлая кожа. Здешние индейцы тщательно удаляли с себя все волосы: ресницы выдергивали руками, а брови — с помощью воска, давая ему сперва застыть, а потом снимая вместе с волосками. Спереди волосы были острижены, или, точнее, выжжены, закругленной челкой, не закрывающей лоб. Виски оголялись способом, который я больше нигде не встречал. Он состоит в том, что волосы продевают в петельку туго скрученного шнурка, затем исполнитель берет в зубы один его конец, левой рукой придерживает петельку, а правой дергает за второй конец. Волокна шнурка скручиваются плотнее и, сжимаясь, выдергивают волосы.
Эти индейцы, называвшие себя именем «мунде», никогда не упоминались в этнографической литературе. Они говорят на бодро звучащем языке, в котором слова оканчиваются на ударные слоги: зип, зеп, пен, зет, тап, кат, подчеркивающие их речь как бы ударами цимбал. Этот язык походит на ныне уже исчезнувшие диалекты, распространенные в низовьях реки Шингу, и на те, что недавно были записаны на правых притоках реки Гуапоре. Мунде живут неподалеку от их истоков. Насколько я знаю, после моего посещения никто больше не видел мунде, кроме одной женщины-миссионерки, которая встретила нескольких из них в конце 1940-х годов в верховьях Гуапоре, где нашли пристанище три семьи этих индейцев.
Я провел в деревне мунде приятную неделю, ибо хозяева оказались чрезвычайно простыми, терпеливыми и сердечными. У меня вызывали восхищение их огороды, где росли кукуруза, маниок, батат, арахис, табак, тыквы, различные виды бобов и фасоли. Когда мунде расчищают участок леса, они оставляют пни от некоторых деревьев, где размножаются толстые белые личинки, которыми они лакомятся.
Круглые хижины пропускали рассеянный свет, сверкающий в солнечных лучах, проникающих через щели. Хижины были построены из воткнутых по кругу жердей. Все жерди соединялись примерно на четырехметровой высоте и были привязаны к центральному столбу, который проходил через кровлю. Стоящие внутри столбы образовывали контрфорсы. Между ними висело с десяток гамаков, сплетенных из хлопковых веревок. Остов был покрыт пальмовыми ветками; их листья были срублены с одной стороны и перекрывали друг друга наподобие черепицы.
Диаметр самой большой хижины достигал двенадцати метров; там жили четыре семьи, причем каждой отводилось пространство между двумя столбами. Всего таких площадок было шесть, но две из них, соответствующие противоположным дверям, оставались свободными, чтобы не мешать проходу. Я проводил в хижине целые дни, сидя на одной из тех деревянных скамеечек, которыми пользуются индейцы; они сделаны из половинки выдолбленного пальмового полена, положенного на плоскую часть. Мы ели кукурузные зерна, поджаренные на глиняной доске, и пили из калебаса маисовую водку — напиток, напоминающий нечто среднее между пивом и супом. Внутри калебасы были черными из-за какой-то содержащей уголь обмазки, а их наружные стенки украшали линии, зигзаги, круги и многоугольники, выполненные насечкой или выжженные.
Даже не зная языка и не имея переводчика, я все же попытался проникнуть в некоторые аспекты мышления индейцев и жизнь их общества. Я стремился выяснить состав группы, родственные отношения в ней и терминологию родства, названия частей тела, обозначения цветов согласно шкале, с которой я никогда не расставался.
Этот ожидаемый мною сперва с энтузиазмом случай оставил у меня ощущение пустоты. Я хотел добраться до людей, находящихся на низшей ступени первобытного состояния. Казалось бы, посетив этих привлекательных индейцев, которых никто не видел до меня и никто, возможно, не увидит после, я должен был быть удовлетворен. Но, увы! Об их существовании я узнал лишь в самом конце пройденного пути, и у меня уже не было времени, чтобы их изучить. Из-за ограниченных средств и физического истощения, в каком находились мои товарищи и я сам, у меня не было возможности проводить длительное исследование, и я должен был ограничиться лишь кратким знакомством с этими индейцами. Они были готовы познакомить меня со своими обычаями и верованиями, а я не знал их языка. Они были не дальше моего отражения в зеркале, я мог их коснуться, но не мог понять. Это было одновременно и наградой и наказанием.
Спустились мы по реке удивительно быстро. Гребцы теперь пренебрегали переносом грузов. У каждой стремнины они направляли нос пироги прямо в круговорот. В течение нескольких секунд нам казалось, что пирогу подбрасывает на месте, тогда как окружающий пейзаж убегает назад. Внезапно все успокаивалось: преодолев стремнину, мы оказывались в мертвых водах, и только тогда у нас начинала кружиться голова.
За два дня мы добрались до Пимента-Буэну, где я составил новый план, который нельзя понять без некоторых пояснений. В конце своего обследования Рондон обнаружил несколько индейских объединений, говорящих на языке тупи. С тремя из них ему удалось вступить в контакт, остальные же проявили явную враждебность. Самая крупная из этих групп располагалась в верховье реки Машаду, в двух днях пути от левого берега, на ее притоке Игарапе-ду-Лейтан — «ручей поросенка». Это была группа, или род, такватип, то есть «бамбука». Группы тупи-кавахиб образовывали обычно одну деревню, ревниво охраняли свои охотничьи угодья и соблюдали экзогамию, заботясь прежде всего о заключении союзов путем браков с соседними группами. Индейцев такватип возглавлял вождь Абайтара. На той же стороне реки Машаду, на севере, жила группа, известная лишь по имени своего вождя Питсара, а на юге, на реке Тамурипа, обосновались ипотиват (вид лианы), вождя которых звали Каман-джара; наконец, между этой последней рекой и Игарапе-Какоаль обитали жаботифет — «люди черепахи» со своим вождем Маира. На левом берегу Машаду, в долине Риу-Муки, жили паранават — «люди реки», которые на все попытки вступить с ними в контакт отвечали стрелами. Немного южнее, на Игарапе — Итаписи, обитала еще одна неизвестная группа.
Таковы по крайней мере были те сведения, которые мне удалось собрать в 1938 году у искателей каучука, обосновавшихся в этом районе со времен обследования Рондона, причем сам он в своих донесениях о тупи-кавахиб сообщал лишь отрывочные данные.
Беседуя с тупи-кавахиб, работающими на посту в Пимента-Буэну, я пополнил список названий родов до двадцати. Исследования Курта Нимуендажу, эрудита и этнографа, немного проясняют прошлое этого племени. Термин «кавахиб» напоминает название одного старинного племени — кабахиба, часто упоминавшегося в документах XVIII–XIX веков. Оно жило тогда в верхнем и среднем течении реки Тапажос. По-видимому, оно было постепенно вытеснено оттуда другим племенем — мундуруку и, перемещаясь на запад, распалось на несколько групп, из которых известны лишь па-ринтинтин в низовьях Машаду и тупи-кавахиб[81], живущие южнее. Таким образом, есть все основания считать, что эти индейцы являются последними потомками крупных племен тупи со среднего и верхнего течения Амазонки. Они в свою очередь были родственны прибрежным племенам, с которыми познакомились в эпоху их расцвета путешественники XVI и XVII веков, чьи рассказы легли в основу этнографической мысли нового времени. Попасть, и возможно первым, в еще не тронутую деревню тупи значило бы соприкоснуться через четыреста лет с Лери, Штаденом, Соаресом де Соуза[82], Теве[83] и даже Монтенем, который вспоминал в своих «Опытах» о разговоре с индейцами тупи, встреченными в Руане. Какой соблазн!
К тому времени, когда Рондон встретился с тупи-кавахиб, люди такватип во главе с честолюбивым и энергичным вождем Абайта-рой распространили свое влияние на многие другие группы тупи. Проведя месяцы почти в пустынной глуши плато, спутники Рондона были поражены «километрами» (правда, язык сертана легко идет на преувеличения) плантаций, отвоеванных людьми Абайта-ры у влажного леса или у игапо — затопляемых берегов. Именно благодаря им индейцы смогли снабжать продовольствием исследователей, которым угрожал голод.
Через два года после встречи с людьми такватип Рондон убедил их перенести деревню на правый берег Машаду, напротив устья реки Сан-Педру. Это было удобнее для наблюдения, снабжения продовольствием и использования индейцев в качестве лодочников; на этих реках, изобилующих стремнинами, водопадами и ущельями, они зарекомендовали себя искусными навигаторами, ловко управляющими своими легкими судами из коры.
Мне еще удалось получить описание этой деревни (сейчас ее уже нет). Как отметил Рондон при посещении деревни такватип, когда она стояла еще на прежнем месте, хижины в ней были четырехугольные, без стен. Они представляли собой двускатную кровлю из пальмовых веток, поддерживаемую врытыми в землю стволами. Около двадцати хижин размером примерно четыре на шесть метров располагались по двадцатиметровому в диаметре кругу, в центре которого стояли два более просторных жилища площадью восемнадцать на четырнадцать метров. Одно из них занимал Абайтара, его жены и малолетние дети, а другое — его самый молодой женатый сын. Два старших неженатых сына жили, как и остальное население деревни, в маленьких хижинах, стоящих по КРУГУ. и» как все другие холостяки, питались в жилище Вождя. Между жилищами, стоящими в центре и по окружности, располагалось множество курятников.
Хижинам этой деревни было далеко до просторных жилищ, описанных авторами XVI века, но еще дальше было нынешнее положение деревни от состояния ее при Абайтаре, когда в ней было более пятисот жителей. В 1925 году Абайтара был убит. После смерти этого повелителя Верхнего Машаду в деревне начался период насилий, который еще более сократил ее население, состоявшее после эпидемии гриппа 1918–1920 годов всего из двадцати пяти мужчин, двадцати двух женщин и двенадцати детей. В том же 1925 году четыре человека (в том числе и убийца Абай-тары) пали жертвой мщения, главным образом на любовной почве. Оставшиеся в живых решили покинуть деревню и подняться на пирогах до поста Пимента-Буэну, находившегося в двух днях пути от деревни. В 1938 году из них уцелело пять мужчин, одна женщина и одна маленькая девочка. Они говорили на деревенском португальском языке и, судя по внешнему виду, уже смешались с новобразильским населением этих мест. Можно было считать, что история тупи-кавахиб закончилась — по крайней мере тех, которые жили на правом берегу реки Машаду. Осталась лишь группа паранават на ее левом берегу, в долине Риу-Муки.
Однако, добравшись до Пимента-Буэну в октябре 1938 года, я узнал, что за три года до этого на реке появлялась неизвестная группа тупи-кавахиб; их вновь видели спустя два года. Последний оставшийся в живых сын Абайтары (он носил имя своего отца), gоселившийся в Пимента-Буэну, посетил как-то их деревню. Она затерялась среди леса в двух днях пути от правого берега реки Машаду, и к ней не вела ни одна тропинка. Вождь этой маленькой группы обещал сыну Абайтары посетить его вместе со своими людьми на следующий год, то есть примерно в то время, когда мы попали в Пимента-Буэну. Это обещание имело большое значение для индейцев, живших на посту, ибо, страдая из-за нехватки женщин (одна взрослая женщина на пять мужчин), они обратили особое внимание на ту часть рассказа молодого Абайтары, где отмечался излишек женщин среди индейцев его группы. Будучи сам уже много лет вдовцом, Абайтара рассчитывал, что установление сердечных отношений с этими родственными индейцами позволит ему обзавестись супругой.
В таких условиях, и не без труда (ибо Абайтара опасался последствий этой авантюры), я уговорил его ускорить встречу и стать моим проводником.
Место, где мы должны были углубиться в лес, добираясь до тупи-кавахиб, находится в трех днях пути на пироге ниже поста Пимента-Буэну, в устье Игарапе-Паркинью. Это тоненький ручеек, впадающий в Машаду. Неподалеку от слияния этих рек, в том месте, где берег был несколько выше, мы заметили небольшую сухую площадку и выгрузили там свое имущество: несколько ящиков с подарками для индейцев и запасы сушеного мяса, фасоли и риса. Мы разбили лагерь несколько основательнее обычного, так как он должен был просуществовать до нашего возвращения. День прошел за этим занятием и подготовкой к путешествию. Положение оказалось довольно сложным. Выше уже говорилось, что я расстался с частью своего отряда. Врач экспедиции Жан Веллар, страдающий приступами малярии, поехал вперед и отдыхал в маленьком поселке серингейрос, расположенном в трех днях пути плавания на пироге вниз по реке. Поэтому наш наличный состав сводился к моему бразильскому коллеге Луису ди Кастро Фарин, моей персоне, Абайтаре и еще пяти мужчинам; двоих из них мы оставили сторожить лагерь, а троих взяли с собой в лес.
При таком ограниченном составе, учитывая, что каждый из нас помимо оружия нес гамак, противомоскитную сетку и одеяло, и речи не могло идти о том, чтобы взять с собой какое-то продовольствие, кроме небольшого запаса сушеного мяса и фариньи-дагва (в буквальном переводе — водяной муки). Ее готовят из вымоченного в реке маниока, который, сбраживаясь, затвердевает кусками, напоминающими гальку. Если их хорошенько размочить, они приобретают вкус коровьего масла. Остальной пищей нам должны были служить токари — кастанейру, или бразильские орехи, в изобилии растущие в этих местах. Когда плод этих деревьев («еж») срывается с ветки, растущей на большой высоте (двадцать— тридцать метров), он может убить человека. Его разбивают, зажав между коленями, ударом большого ножа. Этот «еж», содержащий тридцать — сорок больших треугольных орехов с молочно-голубоватой мякотью, может прокормить нескольких человек.
Выходим в путь до зари. Сначала мы пересекаем лагейрос — почти оголенные пространства, где материнская порода плато выходит на поверхность в виде плит; затем там, где породы перекрываются слоем аллювиальной почвы, идем через заросли высокой копьевидной травы сапезаль, а через два часа углубляемся в лес.
В лесу
Меня влечет лес. Я нахожу в нем то же очарование, что и в горах, но он более спокоен и приветлив. Долгие странствия по саваннам Центральной Бразилии вновь сделали для меня привлекательной ту дикую природу, которую любили древние: молодую траву, цветы и влажную свежесть чащ. Сообщество этой растительности препятствует проникновению человека, торопится скрыть следы его пребывания. В лес подчас бывает нелегко проникнуть, и он требует от того, кто туда углубляется, тех же уступок, которые — более непосредственно — предъявляет гора к ходоку.
Лес не имеет такой протяженности, как большие горные цепи, он быстро смыкается и заключает в себе микровселенную, которая изолирует человека так же надежно, как и пустынные пространства. Целый мир трав, цветов, грибов и насекомых ведет там независимую жизнь, в которую мы можем быть приняты лишь в том случае, если проявим терпение и смирение. Пройдя по лесу несколько десятков метров, забываешь о внешнем мире, одна вселенная сменяется другой, менее приятной для взгляда, но более привлекательной для слуха и обоняния. Возрождаются считавшиеся исчезнувшими блага: тишина, свежесть, покой. Близость с растительным миром дарует то, в чем нам ныне отказывает море и за что горы заставляют платить слишком высокую цену.
Самые характерные особенности леса раскрылись для меня, когда я столкнулся с ними в самом их выразителвном проявлении в Бразилии. Между лесом, где я намеревался встретиться с тупи-кавахиб, и лесом наших широт разница столь велика, что ее трудно выразить словами. Если смотреть издали, амазонский лес представляется грудой застывших пузырей, вертикальным нагромождением зеленых наростов. Но когда прорываешь пленку и проникаешь внутрь, начинаешь его воспринимать по-другому: эта расплывчатая масса превращается в величественную вселенную. Лес предстает не земным беспорядком, а каким-то инопланетным миром.
Как только глаз привыкает распознавать эти сближенные планы, а разуму удается преодолеть первое впечатление скученности, становится видимой целая сложная система. Различаешь нависающие друг над другом ярусы, которые, несмотря на разницу в высоте и пространстве, воспроизводят одну и ту же конструкцию: самый низкий ярус составляют кустарники и травы, которые не превышают человеческого роста; над ними высятся бледные стволы деревьев и лианы, пользующиеся пространством, свободным от всякой растительности. Немного выше эти стволы утопают в ярко-красных цветах бананов. Затем они вырываются из этой пены, чтобы снова исчезнуть в цветах пальм, еще выше они снова появляются, и там от них отходят в стороны первые горизонтальные ветви, лишенные листьев, но отягощенные растениями-эпифитами— орхидеями и ананасообразными. Взгляд почти не достигает того места, где эта вселенная смыкается обширными кронами, то зелеными, то лишенными листьев, но в этом случае покрытыми цветами-белыми, желтыми, оранжевыми, пурпурными или сиреневыми.
Этим воздушным верхним ярусам соответствуют другие, нижние, расположенные прямо под ногами путника. Сперва кажется, будто идешь по земле, погребенной под пружинящим переплетением корней, побегов, островков травы и мхов, но когда нога не находит твердой опоры и ты рискуешь упасть в глубокие ямы, понимаешь, что до почвы еще далеко. А присутствие Лусинды еще больше осложняет продвижение.
Лусинда — это маленькая обезьянка вида Lagothryx[84], с цепким хвостом, сиреневой кожей и мехом, похожим на беличий. Обычно этих обезьянок называют барригудо [85] из-за характерного для них большого живота.
Я получил Лусинду совсем крошечной от одной женщины намбиквара, которая кормила ее изо рта и носила на голове, чтобы волосы заменяли зверьку шкуру матери (ведь обезьяны носят своих малышей на спине). Теперь ее кормили не изо рта, а из бутылочки со сгущенным молоком и из рожка с виски. Крепкий напиток валил бедное животное в сон, но зато это обеспечило мне ночной покой. Днем же Лусинда соглашалась пойти лишь на один компромисс: отказаться от моих волос в пользу левого сапога, на котором висела с утра до вечера, вцепившись в него всеми четырьмя лапами. Однако это было возможным, когда я передвигался верхом или в лодке. Теперь же я шел пешком, и Лусинде приходилось плохо: прикосновение каждой колючки, каждой низкой ветки, каждая рытвина вызывали у нее пронзительные крики. Все усилия заставить обезьянку пересесть мне на руку, на плечо, посадить даже в волосы оказались тщетными. Ей был необходим левый сапог — единственная, по ее мнению, защита и безопасное место в этом лесу, где она родилась и жила. Однако нескольких месяцев, проведенных Лусиндой с человеком, оказалось достаточным, чтобы сделать ее столь же чуждой лесу, как если бы она выросла среди благ цивилизации. И вот так, хромая на левую ногу, под непрестанные, раздирающие уши вопли Лусинды я шел, стараясь не терять из виду спину Абайтары.
Наш проводник продвигался в зеленых сумерках скорым коротким шагом. Когда он обходил большие деревья, на какой-то момент казалось, что он исчез. Ударами ножа Абайтара прокладывал путь сквозь кустарники и лианы, отклоняясь то вправо, то влево от непонятного нам маршрута, который тем не менее вел нас вперед.
Кончалось утро, когда мы внезапно столкнулись лицом к лицу с двумя индейцами. У старшего, мужчины лет сорока, одетого в рваную пижаму, до самых плеч спускались длинные волосы. Другой, с коротко остриженными волосами, был совершенно голый, не считая маленького соломенного чехла, прикрывающего его срам. В корзинке за его спиной сидел большой орел-гарпия. Его лапы и крылья были связаны пальмовыми ветками, так что он являл собой жалкое зрелище, несмотря на красивое серо-белое оперение и гордо посаженную голову с мощным желтым клювом, которую венчала корона из торчащих перьев. У обоих индейцев в руках были лук и стрелы.
Из разговора, завязавшегося между встреченными индейцами и Абайтарой, следовало, что старший был вождем той деревни, куда мы направлялись, а второй — его помощником. Они шли впереди остальных ее обитателей, которые разбрелись по лесу. Все они шли к реке Машаду, намереваясь посетить пост Пимента-Буэ-ну, о чем они договорились год назад. Орел был подарком, предназначенным для хозяев.
Все это нас не устраивало, потому что мы хотели не только встретить этих индейцев, но и посетить их деревню. Поэтому, пообещав вручить им многочисленные подарки в нашем лагере на реке Поркинью, мы убедили их повернуть обратно, чтобы принять нас в деревне (к чему они выказали чрезвычайное отвращение), а потом вместе вернуться к реке. Как только соглашение было достигнуто, связанного орла без дальних разговоров бросили на берегу ручья, где, очевидно, ему не удалось избежать голодной смерти или гибели от муравьев. В течение двух следующих недель о нем не говорили, разве что наскоро констатировали его смерть: «Он сдох, орел».
Оба кавахиба скрылись в лесу для оповещения своих жен о нашем прибытии, и мы снова двинулись в путь.
Случай с орлом давал пищу для размышлений. Многие прежние авторы сообщали, что тупи выращивали орлов, они кормили их обезьяньим мясом и периодически вырывали из них перья. Рон-дон отметил этот обычай у тупи-кавахиб, а другие свидетели — у некоторых племен на реках Шингу и Арагуая. Поэтому не было ничего удивительного ни в том, что одна из групп тупи-кавахиб имела орла, ни в том, что эту считавшуюся самой ценной собственностью птицу они несли в подарок, особенно если наши индейцы решили (как я начал было подозревать, а потом и удостоверился) навсегда покинуть свою деревню и присоединиться к цивилизации.
Тем более непонятным было их решение бросить орла на произвол судьбы. Однако при изучении истории колонизации в Южной Америке и в других местах приходишь к выводу, что подобный решительный отказ от традиционных ценностей, это разрушение привычного образа жизни, когда исчезновение того или иного элемента влечет за собой немедленное обесценивание всех остальных, — характерное явление.
Скудный ужин из нескольких зажаренных кусков сушеного мяса дополняли дары леса: орехи токари, плоды дикого какао с белой, кислой и как бы шипучей мякотью, ягоды с дерева апама, плоды и зерна лесного кажу.
Всю ночь дождь стучал по навесам из пальмовых листьев, прикрывающим гамаки. Лес, хранящий молчание в течение всего дня, на заре огласился криками обезьян и попугаев.
Мы снова отправились в путь. Каждый старался не терять из виду спину идущего впереди, зная, что стоит отклониться на несколько метров — и потеряешь ориентир, никем не будешь услышан. Ибо одна из самых поразительных особенностей леса состоит в том, что он представляет собой более плотную, нежели воздух, среду: свет, проникая сюда, окрашивается в зеленый цвет и слабеет, а звуки голосов глохнут. Необыкновенная, царящая здесь тишина (возможно, результат таких условий) призвала бы к молчанию и путника, если бы его к этому уже не понуждало пристальное внимание к дороге. Физическая усталость вызывает тяжелое чувство подавленности.
Время от времени наш проводник наклонялся к невидимой тропе, поднимал какой-то листок и показывал под ним копьевидный кусок бамбука, воткнутый наискосок в землю, для того чтобы вражеская нога напоролась на него. Эти устройства тупи-кавахиб называют «мин» и защищают с их помощью подступы к деревне; в прежние времена мин делали больших размеров. После полудня мы добрались до группы деревьев кастанейру, вокруг которых индейцы вырубили небольшую поляну, чтобы легче было подбирать падающие плоды. Там разбил лагерь весь наличный состав деревни: обнаженные мужчины с чехлами для полового члена и женщины, тоже обнаженные, если не считать обвязанного вокруг поясницы куска тканого хлопка, когда-то покрашенного в красный цвет и выцветшего от носки. Всего мы насчитали шесть женщин, семь мужчин (в том числе одного юношу) и трех маленьких девочек в возрасте от одного до трех лет. Безусловно, это, одна из самых маленьких групп, которую можно себе представить и которой удалось просуществовать отрезанной от всякого общения с внешним миром тринадцать лет после исчезновения деревни Абайтары.
Среди этих индейцев было два человека с парализованными нижними конечностями: молодая женщина, опиравшаяся на две палки, и мужчина, также молодой, который ползал по земле подобно безногому калеке. Его вздувшиеся и, по-видимому, наполненные серозной жидкостью колени резко выступали над исхудавшими голенями. Тем не менее обоим калекам удавалось передвигаться по лесу и даже с видимой легкостью совершать дальние переходы. Может ли быть, чтобы полиомиелит или какое-либо другое заболевание распространилось среди этой группы индейцев еще до их длительных контактов с цивилизацией?
При виде этих несчастных, предоставленных самим себе, было прискорбно вспоминать слова Тевэ, который побывал у прибрежных индейцев тупи в XVI веке. Он утверждает, что этот народ, «состоящий из тех же элементов, что и мы… никогда… не страдает от проказы, паралича, летаргии, язвенных или почечных болезней или от других наружных и внутренних пороков тела». Он и не подозревал, что он и его спутники были предвестниками этих болезней.
Деревня со сверчками
К концу дня мы добрались до деревни. она располагалась на высоком берегу, обрывающемся к стремительно несущимся водам реки Игарапе-ду-Лейтан, правого притока машаду. Деревня состояла из четырех более или менее квадратных домов, расположенных в один ряд вдоль реки. Два самых больших дома служили жилищем, как это можно было заключить по гамакам из хлопковых веревок, подвешенным между столбами. В двух других уже давно, видимо, не жили, и они походили на навесы Или укрытия. На первый взгляд эти дома напоминали бразильские жилища этого района. На самом деле они были сооружены по-иному: столбы, поддерживающие высокую двускатную кровлю из пальмовых веток, располагались по внутреннему периметру кровли, и поэтому строение напоминало форму квадратного гриба. Ложные стены, или ограды, были возведены вертикально к крыше, но не достигали ее. Они состояли из расколотых вдоль стволов пальм, связанных друг с другом выпуклой стороной наружу.
В главном доме, который помещался между двумя навесами, в стволах, составляющих стены, были вырезаны пятиугольные бойницы, а внешнюю их поверхность покрывали схематично выполненные рисунки красного и черного цветов с помощью краски уруку и какой-то смолы. Эти рисунки изображали персонаж из какой-то легенды, женщину, орла-гарпию, детей, жабу, собаку, большое непонятное четвероногое, две зигзагообразных линии, двух рыб, ягуара и, наконец, следовал симметричный узор, составленный из квадратов и полумесяцев.
Эти дома ничем не походили на жилища соседних индейских племен. Вероятно, однако, они имели какую-то традиционную форму. Когда Рондон открыл индейцев тупи-кавахиб, их дома уже были квадратными или прямоугольными с двускатной крышей. Кроме того, грибовидная форма не соответствует новобразильской технике строительства. К тому же различные археологические материалы подтверждают, что подобные дома с высокой кровлей были свойственны некоторым еще доколумбовым цивилизациям[86].
Еще одно своеобразие тупи-кавахиб: подобно своим родственникам паринтинтин они не разводят и не употребляют табак. Увидев, как мы распаковываем запасы скрученного в виде веревок табака, вождь деревни презрительно воскликнул: «Ианеапит!»— «Да это же отбросы.!»
В отчетах Комиссии Рондона отмечается, что в период ее первых контактов с индейцами тех так раздражало присутствие курильщиков, что они вырывали у них сигары и сигареты. Однако в отличие от паринтинтин у тупи-кавахиб есть для табака свой термин: они его называют тем же словом, что и мы, — «табак». Этот термин имеет, очевидно, карибское происхождение, восходя к старым наречиям аборигенов Антильских островов. Переходное звено найдено среди языков жителей реки Гуапоре, в которых встречается тот же термин либо потому, что они заимствовали его из испанского языка, либо в связи с тем, что культуры Гуапоре представляют собой наиболее выдвинутый на юго-запад авангард древней антильско-гвианской цивилизации (как на это указывают многие признаки), которая также оставила свои следы в низовьях реки Шингу[87]
Следует добавить, что намбиквара — закоренелые курильщики, а другие соседи тупи-кавахиб — кепкириват и мунде — нюхают такого-то грызуна, веретена, несколько луков длиной примерно в 1,7 метра. Стрелы были различных типов: с бамбуковым копьевидным наконечником — для охоты, или с наконечником в форме зубьев пилы — для войны, либо с несколькими остриями — для рыбной ловли. Увидел я и несколько музыкальных инструментов: флейты Пана с тринадцатью трубками и флажолеты с четырьмя отверстиями.
С наступлением темноты вождь весьма торжественно принес нам кауи и рагу из гигантской фасоли и горького перца, которое жгло рот. Это блюдо показалось нам необычайно вкусным после шести месяцев пребывания среди намбиквара, которым неведомы соль и перец. Из-за своего нежного нёба они даже остужают кушанья перед едой, заливая их водой. В небольшом калебасе хранилась местная соль — бурая вода, такая горькая, что смахивала на какой-то яд. Поэтому вождь, довольствовавшийся тем, что смотрел, как мы едим, даже глотнул ее, чтобы успокоить нас. Эта приправа приготовляется из золы дерева тоари-бранко.
Достоинство, с которым нам предложили скромный ужин, напомнило мне, что вожди тупи в прежние времена «держали открытый стол», как писал один из путешественников.
Еще более меня удивила такая деталь: после ночи, проведенной под одним из навесов, я обнаружил, что мой кожаный пояс прогрызли сверчки. Я никогда не страдал от этих насекомых, остававшихся для меня совершенно незаметными во время путешествий среди индейцев каинганг, кадиувеу, бороро, пареси, намбиквара, мунде. И именно среди тупи судьба предназначила мне пережить злоключение, которое постигло Ива де Эврё[88] и Жана де Лери за четыреста лет до меня.
Вот как они описывают этих насекомых: «Они не больше наших сверчков, тех, которые по ночам тянутся к огню. Если они что-нибудь находят, то не преминут это сгрызть. Например, они набрасываются на сафьяновые воротники, и те, кому они принадлежат, находят их утром совершенно белыми и выскобленными». Поскольку сверчки (в отличие от термитов и других насекомых-разрушителей) довольствуются тем, что уничтожают лишь верхнюю пленку кожи, то я нашел свой пояс «совершенно белым и выскобленным». Он стал вещественным доказательством удивительного «симбиоза», существующего не одну сотню лет между этими насекомыми и человеком.
Как только встало солнце, один из наших людей направился к лесу, чтобы подстрелить нескольких голубей, порхавших на опушке. Вскоре мы услышали выстрел, но не обратили на него ни малейшего внимания. Спустя несколько минут прибежал, запыхавшись, индеец и в состоянии сильного возбуждения пытался нам что-то объяснить, но поблизости не было Абайтары, выступавшего в роли переводчика. Индеец был крайне взволнован, лицо его покрывала мертвенная бледность.
Тем временем со стороны леса послышались приближавшиеся громкие крики, и мы увидели, как по огородам бежит наш охотник, придерживая левой рукой правую разможженную кисть. Оказывается, он оперся на ружье, которое выстрелило. Луис и я стали размышлять над тем, что же делать. Три пальца и ладонь были почти раздроблены. По-видимому, требовалась ампутация. Но нам не хватало мужества сделать ее и оставить инвалидом нашего спутника, которого мы наняли вместе с братом в небольшой деревне в окрестностях Куябы. Мы чувствовали за него особую ответственность из-за его молодости. Кроме того, нас особенно привлекала в нем его крестьянская честность и деликатность. На нем лежала обязанность заниматься вьючными животными, а это требовало большой ловкости рук. Чтобы распределить грузы на спине быка, нужна немалая сноровка. Ампутация была бы для него катастрофой. Не без опасения мы решили укрепить пальцы на прежнем месте, сделать повязку с помощью тех средств, которыми мы располагали, и отправились в обратный путь. Я наметил такой план действий. После возвращения в лагерь Луис поедет с раненым в Урупу, где находился наш врач, а я, если индейцы, согласятся с этим планом, останусь с ними в лагере на берегу реки и буду ждать две недели возвращения за мной галиота.
Три дня потребуется для спуска по реке и примерно восемь, чтобы плыть обратно вверх по течению. Индейцы, устрашенные несчастным случаем, из-за которого, по их мнению, могли измениться наши дружественные намерения, согласились на все, что мы им предложили. Не дождавшись, пока они закончат сборы, мы отправились обратно.
Путь проходил в кошмарной обстановке, от него сохранилось мало воспоминаний. Раненый стонал всю дорогу, но шагал так быстро, что нам не удавалось его догнать. Он шел во главе нашего отряда, даже впереди проводника, не испытывая ни малейшего колебания в выборе маршрута. Ночью его удалось заставить спать с помощью снотворного. К счастью, у него не было никакой привычки к лекарствам и снотворное подействовало очень быстро.
Во второй половине следующего дня мы добрались до лагеря. Осмотрев руку раненого, мы обнаружили на ней кучу червей, которые причиняли ему невыносимые страдания. Но когда три дня спустя он был передан заботам врача, тот сделал заключение, что черви, поедая разлагавшиеся ткани, спасли его от гангрены. Надобность в ампутации отпала. Длиннейший ряд хирургических операций, длившихся больше месяца, при которых Веллар использовал свою ловкость вивисектора и энтомолога, вернули Эмидио руку. Прибыв в Мадейру в декабре, я отправил еще не поправившегося парня в Куябу на самолете, чтобы сберечь его силы. Но когда в январе я вернулся в эти места для встречи с основным своим отрядом и посетил его родителей, то был осыпан упреками. Но не по поводу страданий их сына — они восприняли их как обычное происшествие в жизни сертана, — а за мое варварство: ведь я поднял его в воздушные сферы — дьявольское место, в которое, по их мнению, не подобало попадать христианину.
Фарс о Жапиме
Вот в какую новую индейскую семью я попал. Прежде всего это Таперахи, вождь деревни, и его четыре жены: Маруабаи, самая старшая, и Кунхатсин, ее дочь от предыдущего брака, затем Так-ваме и Ианопамоко, молодая парализованная женщина. В этой полигамной семье росло пятеро детей: Камини и Пвереза, юноши, которым по виду было соответственно семнадцать и пятнадцать лет, и три малолетних девочки — Паераи, Топекеа и Купе-кахи.
Помощнику вождя Потьену, сыну Маруабаи от предыдущего брака, было лет двадцать. В семью также входили старая женщина Виракару, два ее юных сына — Таквари и Карамуа (первый — холостой, а второй женат на своей едва достигшей зрелости племяннице Пенхане) и, наконец, их двоюродный брат, молодой, разбитый параличом мужчина по имени Валера.
В противоположность намбиквара тупи-кавахиб не делают секрета из своих имен, каждое из которых имеет свое значение, как это отметили у тупи путешественники XVI века: «Подобно тому как мы даем клички животным, — замечает Лери, — так и они называют себя именами тех существ и предметов, которые им известны, например Саригои (четвероногое животное), Ариньян (курица), Арабутен (бразильское дерево), Пиндо (высокая трава) и другими им подобными».
Объяснения индейцев подтверждали эти наблюдения. Таперахи, по их словам, это маленькая птичка с черно-белым оперением, имя Кунхатсин означало женщину с белой или светлой кожей' имена Такваме и Таквари производились от слова «таквара», означающего разновидность бамбука, Потьен — значит «пресноводная креветка», Виракуру — кожный клещ, Карамуа — растение, Валера — также разновидность бамбука.
Штаден, еще один путешественник XVI века, говорит, что женщины «обычно берут имена птиц, рыб и плодов», и добавляет, что каждый раз, когда муж убивает пленника, он и его жена принимают еще одно имя. Мои товарищи соблюдали этот обычай — так Карамуа зовется также Жанаку, потому что, как мне объяснили «он уже убил человека».
Тупи-кавахиб принимают разные имена, переходя от детства к юности, а затем к зрелому возрасту. Поэтому у каждого есть уже два, три или четыре имени. Они представляют большой интерес, потому что каждый род предпочитает использовать определенный набор имен, образованных от одних и тех же корней и соотносящихся с названием рода. В деревне, которую я изучал, жители в большинстве своем принадлежали к роду миалт (кабан), но он образовался путем браков с родами паранават (реки), таква-тип (бамбук) и некоторыми другими. Все члены последнего из перечисленных родов назывались именами, произведенными от эпонима: Такваме, Такваруме, Таквари, Валера, Топехи (плод бамбука) и Карамуа (тоже растение).
Самой поразительной чертой социальной организации наших индейцев была почти полная монополия вождя над женщинами группы. Из шести достигших зрелости женщин четыре были его женами. Если учесть, что из двух остальных одна, Пенхана, была его сестрой, то есть находилась под запретом, а другая, Виракару, — старухой, не представлявшей больше ни для кого интереса, то получалось, что Таперахи содержит столько женщин, сколько ему позволяет его материальное положение. В его семье главная роль принадлежит Кунхатсин, самой молодой, не считая калеку Ианопамоко, и — здесь суждение индейцев совпадает с мнением этнографа — очень красивой. В соответствии с иерархией Маруабаи является второстепенной женой, и ее дочь имеет над ней превосходство. Кунхатсин, по-видимому, участвует в делах мужа больше, чем другие жены. Те же занимаются домашними работами: детьми, кухней. Детей выкармливают и воспитывают вместе, сообща. Я не мог определить, кто мать грудного младенца, поскольку его кормила то одна женщина, то другая. Главная жена сопровождает мужа в его передвижениях, помогает ему принимать гостей, хранит полученные подарки, управляет домочадцами. Это положение прямо противоположно тому, что я наблюдал у намбиквара, где главная жена играет роль хранительницы очага, тогда как молодые сожительницы активно участвуют в делах мужа.
Привилегия вождя в отношении женщин группы покоится, по-видимому, прежде всего на представлении, что природа вождя выше обычной. За ним признают непомерный темперамент; он впадает в состояние транса, и порой его приходится обуздывать, чтобы удержать от убийства. Он обладает даром предвидения и другими талантами, наконец, его половые запросы превосходят обычный уровень и для их удовлетворения требуется много жен.
В течение тех двух недель, пока я жил в лагере индейцев тупи-кавахиб, меня часто поражало анормальное поведение (по сравнению с поведением его товарищей) вождя Таперахи. Казалось, он стал жертвой мании переселения. По крайней мере три раза в день он перемещал свой гамак и навес из пальмовых листьев. И всякий раз за ним следовали его жены, помощник Потьен и маленькие дети.
Каждое утро он исчезает в лесу с женами, как мне сказали индейцы, для совокупления. Через полчаса или через час они возвращаются и готовятся к новому переселению.
Вождь, пользуясь полигамной привилегией, в то же время предоставляет женщин своим товарищам и гостям. Потьен не просто его помощник, он участвует в жизни семьи вождя, получает от него средства к существованию, пользуется и другими милостями, при надобности служит нянькой и кормит из рожка младенцев.
Что касается чужеземцев, то вожди тупинамба проявляют к ним неизменную щедрость, о чем сообщают нам все авторы XVI века. С момента нашего появления в деревне Абайтара сразу получил дань гостеприимства хозяев — ему отдали в пользование Ианопамоко; впрочем, она была беременна. Вплоть до моего отъезда он делил с ней свой гамак и получал от нее пищу. По признанию Абайтары, эта щедрость была не бескорыстной. Таперахи предлагал Абайтаре окончательно уступить ему Ианопамоко в обмен на его дочурку Топехи, которой в то время было лет восемь. «Вождь хочет жениться на моей дочери», — говорил Абайтара. Он не был в восторге от этого обмена, ибо калека Ианопамоко не могла быть женой: «Даже не способна, — говорил он, — сходить на реку за водой». Обмен здоровой, многообещающей девочки на взрослую, физически неполноценную женщину выглядел слишком неравным. У Абайтары были иные запросы: за Топехи он хотел получить маленькую двухлетнюю Купекахи, подчеркивая, что она была дочерью Такваме, подобно ему входившей в род так-ватип. Саму же Такваме, по его замыслу, нужно было уступить другому индейцу с поста Пимента-Буэну. Таким образом, брачное равновесие оказалось бы частично восстановленным, ибо, после того как закончатся все эти сделки, Таперахи потерял бы из четырех жен двух, но приобрел бы третью в лице Топехи.
Чем закончились эти споры, не знаю, однако в течение двух недель, которые я провел в семье Таперахи, они вызывали напряженные отношения между действующими лицами, так что порой атмосфера становилась тревожной. Абайтара исступленно держался за свою двухгодовалую невесту, которая, несмотря на его тридцать или тридцать пять лет, казалась ему супругой, выбранной по душе. Он делал ей мелкие подарки, а когда она резвилась на берегу, то не уставал ею любоваться, заставляя и меня восхищаться ее крепкими детскими формами: какой красивой девушкой она станет лет через десять — двенадцать! Длительное ожидание его не пугало, правда, он рассчитывал на Ианопамоко в качестве временной заместительницы. В его нежном отношении к девчушке смешивались обращенные в будущее эротические мечтания, отцовское чувство ответственности за юное существо и сердечное товарищеское отношение старшего брата, у которого поздно появилась сестренка.
Неравенство в распределении женщин вносит и обычай левирата[89] — наследование жены братом. Именно так был женат Абайтара — на жене своего покойного старшего брата. Против своей воли ему пришлось уступить приказанию отца и настояниям женщины, которая, как он сетовал, «без конца вертелась рядом».
Одновременно с левиратом тупи-кавахиб практикуют братскую полиандрию[90]. Так, худенькую и едва созревшую маленькую Пен-хану делили между собой ее муж Карамуа и его братья Такварн и Валера (причем этот последний был всего лишь классификационным братом двух остальных). «Он дает (свою жену) взаймы своему брату», потому что «брат не ревнует к брату». Обычно деверя и свояченицы, не избегая друг друга, держатся сдержанно. Когда женщину дают взаймы, это замечают по тому, что ее отношения с деверем становятся несколько фамильярнее. Они вместе болтают, смеются, и деверь кормит ее. Однажды Таквари получил взаймы Пенхану. В то утро, сев завтракать, он попросил своего брата «сходить за Пенханой и пригласить ее поесть». И хотя Пенхана была сыта, так как уже позавтракала с мужем, тем не менее она пришла и согласилась немного поесть, после чего сразу же ушла. Так же и Абайтара, покидая мой очаг, уносил свою еду к Ианопамоко, чтобы разделить ее с нею. Таким образом, сочетание полигамии и полиандрии разрешает у тупи-кавахиб проблему, вызываемую исключительным правом вождя на женщин группы.
У тупи-кавахиб институт вождя представлял собой сложную организацию, с которой наша деревня сохраняла по сути лишь символическую связь. Подобное наблюдается при небольших, пришедших в упадок королевских дворах, где один из верноподданных берет на себя роль камергера, чтобы спасти престиж короля. Таким выглядел Потьен рядом с Таперахи. Благодаря его усердию в услужении своему господину и уважению, которое он ему выказывал, а также почтительности, оказываемой своему вождю остальными членами группы, порой казалось, что Таперахи командовал, как некогда Абайтара, несколькими тысячами подданных или подчиненных.
Вождь и заботится о своих людях, и ведет переговоры с чужеземцами, причем не без находчивости, как мне пришлось в этом убедиться.
У меня был большой алюминиевый котелок, служивший нам для варки риса. Как-то утром Таперахи в сопровождении Абайтары в качестве переводчика пришел просить у меня этот котелок. За это он обязывался наполнять его для нас местной водкой в течение всего того времени, которое мы проведем вместе. Я попытался объяснить, что мы не можем обойтись без этой кухонной посуды.
Однако, пока Абайтара переводил, с лица Таперахи, к моему удивлению, не сходила широкая улыбка, как если бы мои слова отвечали его желаниям. Когда Абайтара закончил излагать причины моего отказа, Таперахи, по-прежнему веселый, схватил котелок и бесцеремонно присоединил его к своему имуществу. Мне оставалось только согласиться с этим. Впрочем, верный своему обещанию, Таперахи в течение целой недели снабжал меня превосходным кауи из смеси кукурузы и токари. Я потреблял его в громадных количествах, ограничивая себя лишь заботой о слюнных железах трех малышек. Этот случай напомнил мне одну из записей Ива де Эврё: «Если кто-нибудь из них пожелает получить что-то принадлежащее себе подобному, он откровенно выражает тому свое желание. И нужно, чтобы вещь была владельцу очень дорога, чтобы он не отдал ее немедля, однако с обязательством, что если у просителя есть другая вещь, которая нравится дающему, тот отдаст ее, как только он ее у него попросит».
Представления тупи-кавахиб и намбиквара о роли вождя довольно сильно различаются. Когда к тупи-кавахиб пристаешь с расспросами на эту тему, они говорят: «Вождь всегда весел». Необычайная энергия, которую проявлял по любому случаю Таперахи, служит лучшим комментарием к их определению. Тем не менее нельзя объяснить выбор вождя только его личными особенностями. В отличие от намбиквара титул вождя тупи-кавахиб наследуется по мужской линии: например, Пвереза будет преемником своего отца. Хотя Пвереза был моложе своего брата Камини, но он имел, как я заметил, другие преимущества перед старшим братом.
В прошлом одной из обязанностей, вменяемой вождю, было устройство праздников, на которых его называли «господином» или «хозяином». Мужчины и женщины разрисовывали себе тело, в частности, фиолетовым соком из листьев неизвестного мне растения, который служил также для украшения рисунками глиняной посуды. На праздниках танцевали и пели под аккомпанемент четырех или пяти больших «кларнетов», сделанных из бамбуковых палок длиной более одного метра, внутрь которых была вставлена маленькая бамбуковая трубочка с вырезанным на одной стороне язычком. «Хозяин праздника» приказывал мужчинам носить музыкантов на плечах. Эта игра-состязание напоминает соревнование бороро в поднятии мариддо и индейцев жес — в переносе бегом ствола дерева. Приглашения на праздник делались заранее, для того чтобы у участников было время собрать и закоптить мелких животных (крыс, обезьян, белок), связку которых они надевали на шею. При игре в «колесо» деревня делилась на две команды: младшую и старшую. Команды собирались на западной стороне круглой площадки, тогда как два метателя занимали места один на севере, другой на юге. Они посылали навстречу друг другу катящиеся колеса, сделанные из среза ствола. В момент, когда эта мишень проходила перед игроками, они старались попасть в нее стрелой. За каждое попадание в цель выигравший получал одну стрелу противника. Эта игра имеет поразительные аналоги в Северной Америке,
Была и такая игра: стреляли в мишень на манекене, и не без риска, ибо на того, чья стрела втыкалась в столб, служивший подставкой, выпадал фатальный жребий магического происхождения. Наказывались и те, кто, вместо того чтобы сделать манекен в виде соломенной куклы или обезьяны, дерзнул вырезать его из дерева в виде человека.
Так протекали дни в собирании крох той культуры, которая некогда завораживала Европу и которая на правом берегу верхнего течения реки Машаду исчезнет, возможно, в момент моего отъезда. 7 ноября 1938 года, в тот же час, когда я ступил на галиот, вернувшийся из Урупы, индейцы направились в сторону Пимента-Буэну, чтобы присоединиться там к своим товарищам и к семье Абайтары. Итак, я присутствовал при печальном конце этой умирающей культуры. И все же меня ожидал сюрприз. Произошло это в начале ночи, когда все пользуются последним отблеском лагерного костра, что-бы приготовиться ко сну. Вдруг вождь Таперахи, уже лежавший в своем гамаке, начал петь нетвердым и нерешительным голосом, который, казалось, принадлежал не ему. Немедленно двое мужчин — Валера и Камини — подошли и уселись на корточки у его ног. Дрожь возбуждения пронизала маленькую группу. Валера издал несколько призывных звуков. Пение вождя стало четким, его голос окреп. И внезапно я понял, что происходит: Таперахи разыгрывал спектакль или, точнее, оперетту, со смесью пения и разговорной речи. Он один воплощал в себе дюжину персонажей и каждого из них представлял особым тоном голоса: пронзительным, фальцетом, гортанным, гудящим. Однако лейтмотивом проходила музыкальная тема. Мелодии казались удивительно близкими к грегорианскому пению. Мне представлялось, что я слушаю экзотическую версию «Свадебки» [91].
С помощью Абайтары, столь поглощенного представлением, что я с трудом смог вырвать у него объяснение, мне удалось в какой-то степени понять сюжет этого спектакля. Речь шла о фарсе, героем которого была черно-желтая птица жапим, отличающаяся модулированным пением, которое создает иллюзию человеческого голоса. Ее партнерами выступали животные (черепаха, ягуар, сокол, муравьед, тапир, ящерица и так далее), предметы (палка, пест, лук) и, наконец, духи, например призрак Маира. Каждый из этих многочисленных персонажей находил свое выражение в стиле исполнения, столь соответствующем его природе, что очень скоро я сам стал узнавать их. Интрига закручивалась вокруг приключений Жапима, которому угрожали остальные животные, но он различными способами разыгрывал их и в конце концов одержал над ними верх.
Представление, которое повторялось (или продолжалось) две ночи подряд, каждый раз длилось около четырех часов. Временами на Таперахи, казалось, находило вдохновение, и он говорил и пел без подготовки. Со всех сторон раздавались взрывы смеха. В другие моменты силы его, по-видимому, истощались, голос слабел, он перескакивал от одной темы к другой, не останавливаясь ни на одной. Тогда Валера или Камини приходили ему на помощь, либо возобновляя свои призывные крики, что давало главному актеру передышку, либо предлагая ему музыкальную тему, либо, наконец, временно беря на себя одну из ролей, так что на какой-то момент мы присутствовали при настоящем диалоге. Оказавшись снова «в седле», Таперахи пускался в новое развитие темы.
Через какое-то время становилось заметным, что это поэтическое творчество сопровождалось у актера потерей сознания и им целиком завладели его персонажи. Голос его столь резко менялся в зависимости от природы изображаемых персонажей, что трудно было поверить, что он принадлежит одному человеку. В конце второго сеанса Таперахи, продолжая петь, внезапно поднялся со своего гамака и принялся беспокойно ходить, требуя кауи. В него «вселился дух». Внезапно он схватил нож и бросился на Кунхат-син, свою главную жену, которой еле удалось убежать от него в лес, где она спряталась. Наконец, мужчины усмирили вождя и заставили его лечь в гамак, где он тотчас же уснул. На следующий день все шло обычным чередом.
Амазония
Прибыв в Урупу, откуда ходят моторные суда, я нашел своих спутников в просторной соломенной хижине на сваях, разгороженной ка несколько помещений. В Урупе мы вынуждены были пробыть не меньше трех недель, ожидая, пока после дождей в реке поднимется вода и придет первая в этом сезоне лодка.
Нам нечего было делать, и мы распродавали остатки снаряжения среди местного населения или обменивали его на кур, яйца и молоко, ибо там было несколько коров. Но в основном предавались лени и восстанавливали силы.
По утрам, растворяя в молоке запасы шоколада, мы наблюдали, как Веллар извлекает осколки костей из руки Эмидио и постепенно приводит ее в порядок. В этом зрелище было нечто отвратительное и завораживающее; в моем сознании оно складывалось в образ леса, полного различных зримых форм и угроз. Взяв за модель свою левую кисть, я принялся рисовать пейзажи из рук, выпирающих из тел, скрученных и запутанных, как лианы. После дюжины эскизов, которые почти все исчезли во время войны (на каком немецком чердаке, всеми забытые, валяются они теперь?), я почувствовал облегчение и снова стал вести наблюдения над предметами и людьми.
От Урупы до реки Мадейры посты на телеграфной линии устраивались близ поселков серингейрос, благодаря чему берега здесь заселены спорадически. Образ жизни в них менее кошмарен, чем в поселках на плато. По крайней мере он разнообразнее и отличается нюансами в зависимости от местных возможностей. Есть, например, хозяйства, где выращиваются арбузы, этот тепловатый и розоватый снег тропиков, есть хозяйственные дворы, где держат черепах, которых семья ест по воскресеньям вместо курицы. В праздничные дни курицу подают с боло подре (буквально «гнилой пирог»), ша ди буро («ослиное снадобье», то есть кукуруза на молоке), баба ди моса («слюни барышни»: кислый творог, политый медом) и с острым соусом из сока маниока, перебродившего в течение нескольких недель со стручками горького перца. Это считается здесь изобилием. Выражаясь на амазонском наречии, в котором предпочитаются превосходные степени, все эти блюда «колоссальны» по вкусу. Вообще говоря, то или иное средство либо десерт «чертовски» хороши или плохи, водопад — «головокружительный», дичь — «чудовищна». В разговоре мелькает колоритный набор крестьянских искажений, например перестановка гласных. Слова отделяются длительными паузами, прерываемыми лишь восклицаниями («О боже!» или: «Вздор!»), которые относятся к различным мыслям, неясным и темным, подобно лесу.
Редкие бродячие торговцы, обычно сирийцы или ливанцы, проведя целые недели в пути, привозят в лодках медикаменты или старые газеты, и те и другие одинаково испорченные сыростью. Из одной газеты, оставленной в хижине серингейро, я узнал с опозданием на четыре месяца о Мюнхенском соглашении и мобилизации.
Такой образ жизни способствует развитию у лесных жителей более богатого воображения, чем у жителей саванны. Среди них немало поэтов. Например, мне встретилась семья, в которой отец по имени Сандоваль, а мать — Мария составляли имена своих детей из определенного набора слогов своих имен. Имена девочек звучали так: Вальма, Вальмария и Вальмариза, а у мальчиков — Сандомар и Маривал; в следующем же поколении — Вальдомар и Валькимор. Более «образованные» называют своих сыновей Ньютон и Аристотель и с удовольствием смакуют популярные в Амазонии лекарства, которые носят такие названия: драгоценная настойка, восточный элексир, средство Гордона, бристольские пилюли, английская вода и небесный бальзам. Если они и не принимают, с роковыми для себя последствиями, бихлоргидрат хинина вместо глауберовой соли, то во всяком случае так привыкают к лекарствам, что для успокоения зубной боли им требуется за один раз проглотить целый тюбик аспирина. Действительно, было нечто символическое в том, что из небольшого склада, замеченного нами в низовьях Машаду, отправлялось на лодках вверх по реке лишь два вида товаров: клистирные кружки и могильные решетки.
Наряду с этой «ученой» медициной существует и другая, народная, которая сводится к «запретам» или «молитвам». Пока женщина беременна, она не подвергается никаким запретам в пище, но после родов в течение первых восьми дней она может есть лишь курицу и куропатку. Вплоть до сорокового дня кроме этого ей разрешается есть оленину и некоторую рыбу. Начиная с сорок первого дня она может возобновить брачные отношения и добавить к своему рациону мясо кабана и так называемых белых рыб. Но в течение года для нее остается еще под запретом мясо тапира, сухопутных черепах, а также оленя, дикого индюка и «кожаных» рыб. Информаторы объясняют это так: «По велению божьего закона женщина очищается лишь на сороковой день. Это восходит к началу мира. С наступлением месячных женщина нечистая, мужчина, живущий с ней в это время, тоже становится нечистым. Это закон, который бог установил для женщины». И в качестве заключительного пояснения: «Женщина — вещь очень тонкая».
И вот уже на стыке с черной магией — «Молитва высохшей жабы» в книге св. Киприана, продающейся бродячими торговцами. Там сообщается: нужно достать большую жабу, в пятницу закопать ее по шею и давать ей глотать раскаленные угли. Спустя неделю она исчезнет. Но на этом месте появляется «росток дерева с тремя ветками» трех цветов. Белая ветка предназначена для любви, красная — для отчаяния, черная — для траура. Название молитвы происходит от того, что жаба высыхает, потому что ее не ест даже стервятник.
Тот, кто произносит молитву, срывает ветку, соответствующую моменту, и прячет ее от чужих глаз. Молятся, когда закапывают жабу в землю:
Я закапываю тебя в землю на одну пядь, Я держу тебя у себя под ногами сколько возможно, Ты должна вызволить меня из всякой опасности, Я освобожу тебя, когда только закончу свое дело… и далее в том же духе.
Пользуются также «Молитвой боба» и «Молитвой летучей мыши».
Там, где реки проходимы для небольших моторных судов то есть там, где цивилизация, представленная Манаусом, — это уже реальность, а не просто стершееся воспоминание, встречаются фанатики и изобретатели. Таков, например, один начальник поста. Чтобы обеспечить себя, свою жену и двух детей, он обрабатывает один среди леса огромные участки земли, изготовляет фонографы и целые бочки водки. Но против него ополчается судьба. На его лошадь каждую ночь нападают летучие мыши, так называемые вампиры. Он делает для нее защитную попону из палаточного полотна, но лошадь рвет ее о ветки. Тогда он пытается обмазать животное перцем, а когда и это не помогает — медным купоросом. Но вампиры «все вытирают своими крыльями» и продолжают пить кровь бедной лошади. Подействовало единственное средство: он обрядил лошадь в четыре скроенные и сшитые
кабаньи шкуры. Его бесчисленные затеи помогают ему забыть самое большое разочарование: посещение Манауса, где все его сбережения растаяли между вымогателями — врачами, нечестным хозяином гостиницы, где его морят голодом, и собственными детьми, опустошающими магазины при пособничестве поставщиков.
Вспоминаются и другие вызывающие сострадание фигуры из амазонской жизни, выросшие в этой среде эксцентричности и отчаяния. Это те, кто путешествовал, подобно Рондону и его спутникам, по необследованным территориям. Среди них были люди, которые позволяли убить себя, но не отвечали выстрелом на нападения индейцев. В глубине лесов рыщут также сорвиголовы, ищущие племена, известные им одним, и грабящие их скудные урожаи. Встречаются, наконец, и искатели приключений, бродящие по кромке лесов вдоль реки Машаду, где обитают индейцы мунде и тупи-ка-вахиб. Я передаю здесь неумело написанный, но не лишенный интереса рассказ, который я вырезал как-то из одной амазонской газеты.
«В 1920 году цена на каучук упала, и большой хозяин (полковник Раймундо Перейра Бразил) забросил участки каучуконосов, которые здесь, на берегу Игарапе-Сан-Томе, оставались более или менее неиспользованными. Прошло много времени с тех пор, как мне пришлось покинуть земли полковника Бразила, но я не мог забыть этих плодоносных лесов. Постепенно я пробуждался от апатии, в которую нас повергло неожиданное падение цен на каучук, и все чаще стал вспоминать об орешниках, которые видел на Игарапе-Сан-Томе.
И вот однажды в Гранд-отеле в Белен-ду-Пара я встретил своего прежнего хозяина, полковника Бразила. Я спросил у него разрешения использовать его рощи ореховых деревьев. И он благосклонно разрешил мне, сказав: «Все это заброшено, это очень далеко, и там остались только те, кому не удалось бежать. Я не знаю, как они живут, и это меня не интересует. Ты можешь отправиться туда».
Я собрал свои скудные ресурсы, попросил товары в кредит, купил билет на пароход «Амазон-ривер» и направился в Тапажос. Мы встретились в Итайтубе: Руфино Монте Пальма, Мелентино Теллес де Мендоса и я. Каждый привел с собой пятьдесят человек. Мы объединились и преуспели. Вскоре мы добрались до устья реки Игарапе-Сан-Томе. Там мы обнаружили целое поселение, заброшенное и мрачное, опустившихся стариков, почти голых жен-шин, боязливых детей.
Как только были построены пристанища и все было готово, я собрал своих людей и всю эту ораву и сказал им: «Вот припасы для каждого — патроны, соль и мука. В моей халупе нет ни часов, ни календаря; ежедневно работа будет начинаться, как только мы сможем различить очертания своих мозолистых рук, а отдыхать будем с наступлением ночи, которую нам даровал бог. Кто не согласен, не получит еды; им придется довольствоваться кашей из пальмовых плодов. Запасов нам хватит на шестьдесят дней, и мы должны этим воспользоваться; мы не можем терять ни часа из этого драгоценного времени».
Мои компаньоны последовали моему примеру, и через шестьдесят дней у нас было 1420 бочек (в каждой примерно 130 литров) орехов. Мы погрузили их в пироги и спустились по реке до Итайх-тубы. Я остался с Руфино Монте Пальма и частью отряда в ожидании парохода «Сантельмо», что заняло добрых две недели. Прибыв в порт Пиментал, мы погрузились с орехами и нашими людьми на небольшой пароход «Сертанежо», доставивший нас в Белен. Там, в городе, мы продали 500 гектолитров орехов по 47 мильрейсов (по 2 доллара 30 центов) [92]. К несчастью, в пути умерли четыре человека.
Мы больше туда не возвращались. Но сегодня, когда цена доходит до 220 мильрейсов за гектолитр, каких только выгод не обещает нам возделывание орехов! Это куда более надежное занятие, чем поиски алмазов под землей с их вечной неопределенностью. Вот, друзья из Куябы, как добывают орехи в штате Мату-Гросу».
За шестьдесят дней они заработали сумму, эквивалентную 3500 долларам. А что сказать о сборщиках каучука, при агонии которых я присутствовал в последние недели своего пребывания в Бразилии?
Серитал[93]
Два основных вида деревьев, дающих латекс, — Hevea и Castilloa на местном наречии называются соответственно серинга и кауша. Первое из них имеет большее значение. Оно растет лишь вблизи рек, берега которых составляют некое неопределенное владение. По какому-то не очень четкому разрешению правительства эта территория была уступлена не собственникам, а «патронам». Эти pat-roes de seringal содержат склады с продовольствием и различными припасами либо самостоятельно, либо (и это чаще) в качестве концессионеров какой-либо небольшой компании речных перевозок, располагающей монополией на плавание по этой реке и ее притокам.
Сборщик каучука (серингейро) прежде всего является «клиентом» магазина той зоны, где он обосновывается. Он обязуется покупать в нем все товары и продавать ему весь свой сбор за предоставление ему рабочих инструментов и продовольствия на сезон и за место, где он собирает латекс. Это несколько петлеобразных маршрутов, начинающихся и заканчивающихся у хижины, построенной на берегу, и проходящих мимо основных производительных деревьев, уже размеченных в лесу другими служащими патрона: лесником и помощником.
Ранним утром (ибо работать, как считают, надлежит в темноте) серингейро отправляется по одному из своих маршрутов, вооруженный изогнутым ножом и лампой, укрепленной, как у шахтера, на шляпе. Он ловко надрезает каучуконосы тонкими насечками, так называемым «флагом» или «рыбьей костью», так как неумело надрезанное дерево может либо остаться сухим, либо вытечь.
К десяти часам утра он обрабатывает от 150 до 180 деревьев. Позавтракав, серингейро возвращается на свою «дорогу», обходит надрезанные деревья и собирает латекс, который стекает в цинковые банки, привязанные к стволу. Их содержимое он выливает в мешок, изготовленный из грубой хлопчатобумажной ткани, пропитанной каучуком. По возвращении, к пяти часам вечера, начинается третья стадия работы серингейро, то есть «откармливание» и формирование каучукового шара: «молоко» медленно стекает в массу, намотанную на поперечную палку, подвешенную над огнем. Оно свертывается в дыму тонкими слоями, которые равномерно распределяют по шару, медленно вращая его вокруг оси. Шар считается готовым, когда достигает стандартного веса, колеблющегося в разных районах от тридцати до семидесяти килограммов. Если деревья дают мало латекса, изготовление шара может занимать несколько недель. Шары (существует множество их разновидностей в зависимости от качества латекса и техники приготовления) выкладывают вдоль реки, куда за ними каждый год приезжает патрон, чтобы их собрать и спрессовать на своем складе. Он делает из них pelles de borracha — «каучуковые кожи», затем закрепляет их на плотах и отправляет в Манаус или Белен. При преодолении водопадов плоты нередко разваливаются, и их приходится терпеливо собирать вновь.
Итак, если говорить коротко, серингейро зависит от патрона, а тот — от судоходной компании, контролирующей главные пути. Эта система является следствием падения цены на каучук, происшедшего после 1910 года, когда с бразильским стал конкурировать каучук с азиатских плантаций. В то время как собственно добыча каучука сохраняла интерес только для неимущих, речной транспорт приносил все большие доходы, тем более что товары на серингалах продаются вчетверо дороже их рыночной цены. Наиболее состоятельные прекратили добычу каучука, оставив за собой фрахт судов, который обеспечивал им контроль за всей системой сбора и распределения каучука, поскольку патрон в большой мере зависит от милости транспортировщика: тот может или поднять тарифы, или отказаться снабжать его клиентов продовольствием. Ведь патрон, магазин которого пуст, теряет клиентов: они сбегают, не заплатив долгов, или умирают на месте от голода. Патрон находится в руках транспортировщика, клиент — в руках патрона.
В 1938 году каучук стоил в пятьдесят раз дешевле своей цены в конце великого каучукового бума. Несмотря на временное поднятие курса в период последней мировой войны, положение сегодня остается не блестящим. В разные годы сбор одного серингейро на берегах Машаду колеблется от 200 до 1200 килограммов. В самом благоприятном случае выручка позволяла ему в 1938 году купить примерно половину необходимых для существования товаров: риса, черной фасоли, сушеного мяса, соли, пуль, керосина и хлопчатобумажной ткани. Остальная часть всего необходимого восполняется за счет охоты и покупки в долг, который чаще всего возрастает вплоть до его смерти. Даже если у серингейро нет маленьких детей, если он питается только тем, что приносит ему охота, и маниоком, который он сам выращивает, его минимальные расходы на питание одни поглощают весь этот доход.
Патрон в свою очередь живет в страхе перед банкротством, которое подстерегает его, если клиенты исчезнут, не возместив аванса. Чтобы клиенты не удрали, за рекой устраивают слежку. Через несколько дней после того как я расстался с тупи-кавахиб, у меня произошла на реке странная встреча, оставшаяся в памяти как само воплощение серингала. Я цитирую по своей путевой книжке запись от 7 декабря 1938 года: «В 10 часов погода серая и сырая. Навстречу нашим пирогам идет небольшая моторная лодка, управляемая худым мужчиной. В лодке его жена — толстая мулатка с курчавыми волосами и ребенок лет десяти. Они без сил. Женщина рассказывает со слезами. Они возвращаются из шестидневной поездки по изобилующей водопадами реке Машадинью, куда отправились в поисках одного из клиентов, который бежал со своей подругой, забрав пирогу и вещи, полученные под аванс. Он оставил записку, сообщавшую, что товар слишком дорог и у него не хватает средств оплатить счет. Служащие патрона, чувствуя свою ответственность, отправились на поиски беглеца, чтобы схватить его. У них есть карабин». Обычно это винчестер сорок четвертого калибра, которым пользуются на охоте, а при случае — и для других целей.
В серингале настолько привыкли к болезням и нищете, что даже небольшая радость делает жизнь людей не столь мрачной. Безусловно, уже далеко то время, когда высокие цены на каучук позволяли строить у слияния рек дощатые постоялые дворы и шумные притоны, где серингейрос за одну ночь теряли богатство, сколоченное за несколько лет, и отправлялись назавтра начинать все сызнова, добиваясь аванса от патрона. Я видел напоминающие о былом блеске развалины одного из бывших постоялых дворов, известного под названием «Ватикан». По воскресеньям туда направлялись мужчины в полосатых шелковых пижамах, мягких шляпах и лакированных ботинках, чтобы послушать виртуозов, исполняющих соло выстрелами из револьверов разного калибра. Теперь никто в серингале не может больше купить роскошную пижаму. Но своеобразное очарование по-прежнему придают серингалу те молодые женщины, которые ведут сомнительный образ жизни сожительницы серингейро. Об этих ненадежных союзах здесь говорят так: «жениться в зеленой церкви». Такая группа женщин иногда устраивает в складчину «бал», при этом каждая дает или пять мильрейсов, или кофе, или сахар, или предоставляет свой барак, немножко более просторный, чем другие, или фонарь.
Они приходят в легких платьях, накрашенные и причесанные, и целуют при входе руку хозяев дома. Грим они употребляют не столько для того, чтобы казаться красивыми, сколько с целью придать себе видимость здоровья. Под румянами и пудрой они скрывают оспу, чахотку и малярию. Они живут с мужчиной в бараке серингейро, весь год ходят в лохмотьях и растрепанные, но на бал они приходят нарядные. А ведь как-никак им нужно пройти в вечернем платье, в туфлях на каблуках два-три километра по грязным лесным тропинкам. Перед тем как нарядиться, они помылись в мутных дождевых ручьях (днем был ливень).
Потрясающий контраст между этими хрупкими внешними признаками цивилизации и чудовищной действительностью, ожидающей за дверями.
Плохо скроенные платья обтягивают типично индейские формы: очень высоко и почти подмышкой посаженные груди и торчащий живот. У женщин — маленькие руки и худые ноги красивой формы, очень тонкие запястья.
Мужчина в белых полотняных брюках, грубых ботинках и пижамной куртке приглашает свою партнершу на танец. Он ведет ее за руку на середину площадки, устланной соломой и освещенной шумящей керосиновой лампой. Несколько секунд они выжидают такта, отбиваемого каким-либо незанятым танцором с помощью коробки с гвоздями, которую он встряхивает: раз-два-три, раз-два-три… Ноги шаркают по скрипящему полу, настланному на сваях.
Танцуют танцы какого-то другого века. Особенно любят деш-фейтеру, состоящую из ритурнелей. В промежутках звуки аккордеона и шестиструнной или маленькой четырехструнной гитары замолкают, чтобы дать возможность кавалерам (каждому по очереди) прочитать импровизированные двустишия, полные насмешливых или любовных намеков. Дамы со своей стороны отвечают тем же, впрочем, не без затруднений, ибо они смущаются. Одни, покраснев, прячутся, другие скороговоркой, неразборчиво проговаривают какой-либо куплет — как маленькие девочки рассказывают урок. Вот куплет, который однажды пропели в Урупе одной юной особе в наш адрес:
Один врач, второй профессор, другой инспектор музея, Выбирай среди троих того, кто станет твоим.
По счастью, бедная девушка, к которой он был обращен, не нашлась, что ответить. Когда бал продолжается несколько дней, женщины меняют платье каждый вечер. Это был уже не каменный век, в котором еще живут намбиквара, и не XVI, куда меня привели тупи-кавахиб, но уж наверняка еще XVIII, каким его можно себе представить по небольшим портам на Антильских островах или на побережье. Я пересек целый континент, но близкий конец моего путешествия я почувствовал сначала благодаря этому возврату из глубины времен.