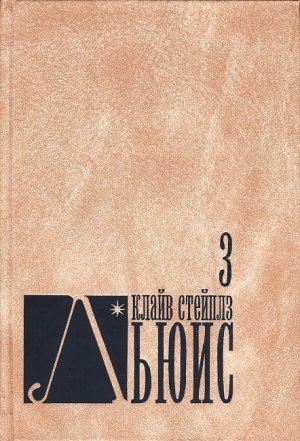
I. Человек Бесчувственный
Рождественская песня
- Ирод воинам велел
- Деток убивать.
Я не уверен, что мы понимаем, как важны школьные учебники и хрестоматии. Именно потому я и начну с беседы о небольшой книжке, предназначенной английским «ученикам и ученицам старших классов». Должно быть, авторы (их двое) не замышляли злодеяний, и прежде всего я должен выразить благодарность им или издателю за то, что мне прислали в подарок экземпляр с лестной надписью. Однако ответить лестью я не могу. Положение у меня щекотливое. Я не хочу бранить двух честных учителей, пытающихся сотворить благое дело, но я не могу скрывать, почему я с ними не согласен. Поэтому я назову их Каем и Титом{1}, а книгу их — «зеленой книгой», по цвету обложки. Заверяю читателя, что книжка эта существует и лежит сейчас в моей комнате. Кай и Тит рассказывают известную историю про Колриджа{2} и водопад. Наверное, вы помните, что водопадом любовались, кроме поэта, еще двое. Мужчина сказал: «Какое величие!», а женщина: «Какая прелесть!» — и Колридж одобрил про себя первую фразу, от второй же его передернуло. Кай и Тит комментируют это событие: «Когда человек произнес слово „величие“, он думал, как и другие, что определяет водопад. На самом же деле… он определял лишь собственные чувства. В действительности он сказал: „…водопад вызывает у меня чувства, связанные в моем уме с понятием величия“, или, короче: „…вызывает у меня чувство величия“». Уже в этих фразах ставится немало проблем, весьма достойных обсуждения. Однако авторы говорят, что такую подмену мы допускаем на каждом шагу; мы думаем, что говорим что-то важное о явлении или предмете, на самом же деле мы говорим только о собственных чувствах.
Прежде чем рассуждать, какие плоды может принести этот небольшой отрывок (напомним — предназначенный для школьников), мы должны объяснить и опровергнуть одну простую ошибку, в которую впали Кай и Тит. С любой точки зрения, даже с их собственной, человек, говорящий: «Какое величие!», никак не имеет в виду, что у него какое-то «чувство величия». Примем удобства ради неверную мысль и поверим на минуту, что величие — лишь проекция наших чувств; однако и тогда сами чувства надо определять словом «восхищение». Говорящий восхищен, перенесен ввысь, а для этого нужно ощущать, что ты был внизу. Тем самым фраза «Какое величие!» свидетельствует прежде всего о смирении; еще проще сказать, что без смирения не признаешь великим никого, кроме себя. Вообще же, если развить эту мысль, она приведет к явным нелепостям. Тогда выходит, что слова «Какая гадость!» значат: «У меня гадкие чувства». Но хватит об этом. Несправедливо упирать на то, что Кай и Тит, вероятно, написали нечаянно.
Школьник, прочитавший приведенные выше слова, должен сделать два вывода: все оценочные высказывания свидетельствуют исключительно и только о чувствах говорящего; тем самым высказывания эти практически пусты. Конечно, Кай и Тит ничего подобного не заявляли. Они разбирают только одно оценочное высказывание, предоставляя школьникам распространить такой подход на все остальное. Путь этот открыт; между тем никаких оговорок в «зеленой книге» нет. Мы не знаем, хотят ли авторы, чтобы школьники взяли на себя вышеупомянутый труд; быть может, они об этом и не подумали. Но я рассуждаю не о том, чего они хотят, а о том, какое воздействие оказывает их книга. Не говорили они и слов «оценочные высказывания хуже других». Они говорят: «…он думал, что…», «на самом же деле он определил лишь собственные чувства». Какой школьник избежит воздействия этого «лишь»? Нет, я не хочу сказать, что школьник сознательно создает связную философскую теорию. В том-то и сила Кая с Титом, что они обращаются к детям — к существам, которые просто «готовят уроки», не помышляя, что в игру вступила этика. Школьник воспринимает не догму или систему, а некое мнение, которое принесет плоды через десять лет; он не вспомнит, где его читал, оно всосется в душу и определит его позицию в споре, когда он и знать не будет, что идет какой-то спор. Должно быть, Кай и Тит сами не ведают, что творят, а уж читатель, несомненно, не ведает, что творят с ним.
Прежде чем начать рассуждения о ценностях как таковых, я попытаюсь показать, какие практические результаты дает точка зрения Кая и Тита. В четвертом разделе они приводят дурацкую рекламу так называемого круиза и увещевают читателя не писать в подобном стиле. Реклама сулит тому, кто купит билеты, что он «пересечет океан, чьи волны бороздил корабль Дрейка»{3}, «увидит чудеса и красоты обеих Индий» и привезет домой «сокровища счастливых часов и дивных», опять же, «красот». Конечно, стиль ужасен; здесь нагло эксплуатируются чувства, которые испытываем мы, увидев места, связанные с историей и легендой. Если бы Кай и Тит, выполняя обещанное, учили школьников хорошо писать, они поместили бы рядом отрывки из лучших писателей, где выражены те же чувства, и обстоятельно объяснили, в чем разница.
Они могли бы привести знаменитый отрывок из Джонсона, которым заканчиваются «Западные острова»: «Я не завидую тому, чье чувство родины не оживет на земле Марафонской и чье благочестие не возрастет у развалин Айоны»{4}. Они могли бы взять те строки из «Прелюдии» Уордсворта{5}, где поэт описывает, как древность английской столицы впервые поразила его. Сравнение рекламы с такими образцами слога научило бы многому. Во-первых, это требует труда, что само по себе неплохо; во-вторых, школьник увидел бы, как пишут классики — Кай и Тит удивительно скупо знакомят его с ними.
Что же делают Кай и Тит? Они дают понять, что роскошный пароход почему-то не окажется там, где плыли корабли Дрейка, что красот и чудес пассажиры не увидят и никаких сокровищ домой не привезут, так что лучше им было просто съездить в Маргэйт{6}. Развенчать ту рекламу нетрудно, это под силу людям и менее даровитым, чем Кай и Тит. Намеренно или нечаянно они не заметили другого: если пользоваться их методом, можно высмеять самую лучшую поэзию и прозу, говорящую нам о тех же чувствах. Какое отношение, в конце концов, имеют средневековые развалины к благочестию англичанина, жившего в XVIII веке? Почему таверна уютней и воздух целебней, оттого что Лондон существует больше тысячи лет? У Кая и Тита не поднимается рука на Джонсона и Уордсворта (а также на Лэма, Вергилия, Томаса Брауна, Уолтера де ла Мэра{7}), но авторы сделали все, чтобы читатель довершил недовершенное.
Школьник ничего не узнает о литературе из разбора рекламных фраз. Зато он узнает без затраты сил (и запомнит надолго), что чувства, вызванные прославленными местами, глупы и смехотворны. Ему никак не понять самому, что такая реклама не обольщает лишь тех, кто ниже ее, и тех, кто выше. Иммунитетом обладают поистине тонкие люди и «гориллы в штанах», для которых любой океан — определенное количество литров холодной и соленой воды. Школьнику об этом не догадаться, а книжка ему не помогла. Напротив, она поддержит его, когда он отмахнется от «Западных островов», гордясь, что он — человек разумный, не какой-нибудь слюнтяй. Поистине, что может быть опасней! Кай и Тит, ничего не поведав о литературе, ловко вырезали кусок из его души, пока он слишком молод, чтобы сопротивляться. Они лишили его большой радости: он не сможет разделить с великими чувства, которые испокон веков считались добрыми и душеполезными.
Кай и Тит не одиноки. Автор другой книжки, которого я назову Орбилием, проделал ту же операцию под тем же наркозом. Текст он выбрал другой — статейку о лошадях, где эти прекрасные существа названы «добрыми помощниками» каких-то колонистов. Однако он и слова не сказал о плачущих конях Ахилла, о боевом коне в Книге Иова, о давней любви человека к «брату нашему волу», о Братце Кролике и кролике Питере{8} — короче, о том, сколько значило в истории и будет значить всегда восприятие животного как личности. Не говорит он и о так называемой «психологии животных», которую все же изучает наука. Зато он объясняет, что лошади, строго говоря, не были заинтересованы в колониальной экспансии[1]. Вот и все, больше школьники ничего не узнали. Они не узнали, почему статейка плоха, если так хороши другие сочинения на эту тему. И совсем не узнали, даже не подумали, что такие статейки безопасны для двух типов людей: для тех, кто по-настоящему любит животных, и для городских идиотов, которые считают, что лошадь никому не нужна, когда есть автомобили. Школьник утратит радость, которую дарил ему пес или пони; ему станет легче обидеть или даже мучить животное; наконец, он обретет гордое и вредное ощущение: «Кто-кто, а я-то не дурак!» Таковы плоды урока английской словесности, в которой словесности этой места не хватило. Вот и еще одну часть человеческих ценностей отняли у детей, пока они не могут сами разобраться во всем.
До сих пор я исходил из предпосылки, что авторы этих книжек не ведают, что творят. Но возможно и другое: они хотят воспитать именно «гориллу в штанах». Чужая душа — потемки. Быть может, им кажется, что нормальные чувства к животным, к прошлому или к природе противны разуму, а потому подлежат уничтожению. Быть может, они хотят очистить юное сознание от всякого хлама. Если Кай и Тит думают так, я скажу, прежде всего, что касается это уже не словесности, а философии. Отец или учитель, покупающий «зеленую книжку», обмануты — вместо труда профессиональных преподавателей словесности им всучили труд непрофессиональных философов.
Однако я все же не верю, что Кай и Тит решили протащить свои философские взгляды, коварно притворяясь, что учат детей языку. Мне кажется, они попали в ловушку, и по нескольким причинам. Во-первых, наука о литературе сложна; гораздо легче сделать то, что они сделали. Необычайно трудно объяснить, почему плох тот или иной прозаический или поэтический отрывок. Зато разоблачать чувства, противопоставляя им здравомыслие, может просто каждый. Во-вторых, Кай и Тит, наверное, честно заблуждаются, думая о том, что особенно важно воспитать в наши дни. Они видят, что мир сей то и дело «бьет на чувства»; они знают, что дети чувствительны, и выводят отсюда, что нужно укрепить детский ум, чтобы он не поддался пропаганде. Я сам учитель, и опыт говорит мне об ином. На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасать от бесчувственности. Нынешний учитель должен не расчищать джунгли, но орошать пустыню. Единственное спасение от ложных чувств — чувства истинные. Удушая чувствительность у ребенка, мы добиваемся лишь того, что пропаганде будет легче его одурманить. Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствление сердца не помогает против размягчения мозгов.
Однако есть и третья, более тонкая причина, заманившая Кая и Тита в ловушку. Быть может, Кай и Тит считают, что цель достойного воспитания — развить одни чувства и подавить другие. Быть может, они пытаются именно это и сделать. Но попытка обречена на провал. Сработает только разоблачительная часть. Чтобы объяснить, почему я так считаю, отвлечемся ненадолго и поговорим, чем же отличаются педагогические предпосылки Кая и Тита от всего, что бывало раньше.
До недавнего времени все педагоги и вообще все люди верили, что мир может вызвать и правильную, и неправильную оценку. Они принимали как данность, что внешние явления не только получают ту или иную оценку, но и заслуживают ее. Колридж согласился со своим спутником, а не со спутницей, ибо сам он считал, что по отношению к неодушевленной природе одни определения верны, другие — ложны. Кроме того, он полагал, что спутники его придерживаются того же мнения. Человек, применивший к водопаду слово «величие», отнюдь не собирался описывать свои чувства; он описывал, точнее — оценивал то, что видел перед собой. Если же не принимать этих предпосылок, говорить вообще не о чем. Если слова «Какая прелесть!» определяют лишь чувства некой дамы, Колридж не вправе осуждать это высказывание или возражать ей. Предположим, дама воскликнула: «Мне дурно!», не ответит же он: «Ну что вы! А я чувствую себя превосходно». Когда Шелли{9}, сравнивая чувства с эоловой арфой, говорит, что они отличаются от арфы, ибо могут настраиваться в лад с ветром, рождающим звуки, он принимает ту же посылку. «Станешь ли ты праведным, — спрашивает Траерн{10}, — пока не воздашь должное тому, что тебя окружает? Все создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каждое создание Божье согласно его истинной цене»[2].
Августин определяет добродетель как ordo amoris — справедливую, сообразную истине иерархию чувств, воздающих каждому творению столько любви, сколько оно заслуживает[3]. Согласно Аристотелю, цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, что до́лжно[4]. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания этики; человек же испорченный не увидит их и, скорее всего, не сумеет жить достойно[5]. Еще раньше Платон сказал то же самое. Человеческий детеныш не может поначалу дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие и даже ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувств[6]. Согласно раннему индуизму, доброе поведение состоит в согласии и даже слиянии с rita — могущественным порядком или узором сущего, который отражен в порядке мироздания, в нравственном добре и храмовом ритуале. Rita, то есть праведность, правильность, порядок, то и дело отождествляется с satya, то есть правдой. Подобно Платону, сказавшему, что добродетелью держатся звезды{11}, индийские учителя говорили, что боги подчиняются rita.
Говорят об этом и китайцы, называя нечто великое (точнее, величайшее) словом «дао». Определить «дао» заведомо невозможно. Это — суть мироздания; это — путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку Вселенной. Ритуал тем и ценен, что он воспроизводит гармонию природы. Ветхозаветный псалмопевец тоже славит закон и заповеди за то, что они — «истина»[7].
Такое миросозерцание я, для краткости, буду обозначать в дальнейшем «дао». И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают объективную ценность; все они считают, что одни действия и чувства соответствуют высшей истине, другие — не соответствуют. Человек, подчиняющийся «дао», может назвать ребенка милым, а старика — почтенным, выражая не собственные эмоции, но некие объективные свойства, которые мы обязаны признавать. Скажем, я (это так и есть) устаю от маленьких детей, но «дао» предписывает мне считать это моим недостатком в прямом, даже не нравственном смысле слова — в том смысле, в каком мы называем недостатком плохой слух. Поскольку оценки наши свидетельствуют о признании объективного закона, чувства могут быть в ладу и не в ладу с истиной. Само по себе чувство — не суждение, и потому оно внеположно разуму. Однако оно может быть разумным и неразумным, в зависимости от того, сообразно оно или не сообразно разуму. Сердце не заменяет головы, но должно подчиняться ей.
Именно этому и противостоит миросозерцание Кая и Тита. Они изначально отвергли малейшую связь между чувством и разумом. Применяя к водопаду слово «величие», мы подразумеваем, что чувства наши сообразны объективной действительности, то есть говорим далеко не только о чувствах, точно так же, как, заметив: «Туфли не жмут мне», говорим не только об ощущениях, но и о туфлях. Этого никак не поймут создатели «зеленой книжки». Для них оценочные суждения свидетельствуют лишь о чувствах, а чувства, с их точки зрения, не могут быть ни в ладу, ни в разладе с разумом. Они иррациональны, как иррационально явление природы. Другими словами, к ним не применимо понятие ошибки. Вот и выходит, что мир явлений, лишенных объективной оценки, и мир чувств, не поверяемых истиной или ложью, правдой или неправдой, совершенно независимы друг от друга.
Таким образом, цель обучения и воспитания всецело зависит от того, верите вы или не верите в «дао». Если вы верите, цель эта в том, чтобы привить ученику оценки и мнения пусть не осознанные, но достойные человека. Если не верите и не забыли логику, все чувства для вас будут какой-то мглою, скрывающей «вещи как они есть». Тогда вы попытаетесь искоренить чувства из детской души (вы уж простите меня за устаревшее слово) или оставите несколько чувств по причинам, нимало не связанным с их сообразностью правде. В последнем случае вы займетесь довольно сомнительным делом, а именно — станете «влиять» на учеников, попросту колдовать, чтобы у них в сознании сложился угодный вам мираж.
Наверное, будет понятней, если я приведу конкретный пример. Когда римлянин говорил сыну: «Dulce et decorum est pro patria mori»{12} («Сладостно и достойно умереть за свою отчизну»), он и сам себе верил. Отец преподавал сыну чувство, которое представлялось ему сообразным с объективной системой ценностей. Он давал лучшее, что было у него в душе, чтобы воспитать душу сына, как дал он частицу своей плоти, чтобы сын обрел плоть. Однако создатели «зеленой книжки» не верят сами, что такие определения героической смерти и впрямь что-то означают. В конце концов, смерть несъедобна и сладостной, то есть сладкой, быть не может; более того, навряд ли умирание вызывает приятные чувства. Что же до decorum, слово это говорит лишь о том, как примут нашу смерть другие, если вообще о ней подумают, причем от их мыслей нам нет ни малейшего прока.
Перед Каем и Титом лежат два пути: 1) они должны пойти до конца и отвергнуть вышеуказанные чувства, или 2) они должны — потому что обществу полезно, чтобы молодые люди думали и чувствовали именно так, — внушать (прекрасно зная, что лгут) чувства, которые принесут ученику разве что гибель. Даже во втором случае разница между прежним воспитанием и новым предельно велика. Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит пропаганду.
К чести своей, наши авторы избрали путь № 1. Пропаганды они не выносят не потому, что это вытекает из их воззрений, а потому, что они лучше своей философии. По-видимому, Кай и Тит смутно ощущают, что мужество, доброту и честность можно как-то оправдать, исходя из «разумных», «научных» или «современных» предпосылок. (Об этом мы поговорим во второй главе.) Правда, сами они ничего не обосновывают и занимаются только развенчанием.
Второй путь безнравственней и циничней, но оба пути одинаково опасны. Примем на минуту, что некоторые (должно быть, стоические) добродетели можно обосновать и не помышляя о незыблемых, высших ценностях. Если чувства не натренированы, уму не справиться с животным, плотским началом. Я согласен играть в карты со скептиком, которому твердо внушили, что «джентльмен — не шулер», но ничто не заставит меня играть с моралистом, выросшим среди шулеров. Разум правит страстями; голова правит утробой при помощи сердца, то есть при помощи хорошо поставленных чувств. Между человеком разумным и человеком плотским есть надежный посредник, которого можно назвать и сердцем, и благородством чувств. Собственно, только этот посредник и дает нам право на титул человека, ибо ум приравнивает нас лишь к духам, плоть — к животным.
«Зеленая книжка» способствует созданию Человека Бесчувственного. Обычно его называют разумным, что позволяет ему считать любой укор нападками на свой разум. Это неверно. Такие люди ничуть не умнее других. Да и с чего бы? Преданность правде и благородство ума не продержатся без чувств, неугодных Каю и Титу. Людей этих отличает от прочих не преизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Головы их кажутся большими лишь потому, что у них очень чахлая грудь.
Жизнь наша настолько смешна и печальна, что мы неотступно мечтаем о тех самых качествах, которые сами же подрубаем на корню. Разверните газету — там написано, что нам насущно необходимы «инициатива», или «творческий дух», или «жертвенность». По какой-то нелепой простоте мы вырезаем нужный орган и требуем, чтобы организм работал нормально. Мы лишаем людей сердца и ждем от них живости чувств. Мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Мы оскопляем мужчин и требуем от них потомства.
II. Путь
Человек поистине благородный укрепляет ствол.
Конфуций{13}
Если воспитывать людей в духе «зеленой книжки», общество погибнет. Но это еще не значит, что борьба с «субъективным подходом к ценностям» теоретически неверна. Истинная теория может быть такой, что, приняв ее, некий человек может погибнуть. Согласно закону («дао»), этого основания недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Однако нам и не надо к нему прибегать. Теория Кая и Тита даст нам немало других.
Как бы скептически ни относились Кай и Тит ко многим традиционным ценностям, какие-то ценности для них, несомненно, существуют, иначе они не стали бы писать книгу, цель которой — определенным образом сформировать сознание ученика. Быть может, они хотят привить эти ценности не потому, что считают их соответствующими истине, а потому, что считают их полезными для общества. Нетрудно (хотя и немилосердно) вывести из «зеленой книжки» их идеал человека. Но это к тому же и не нужно. Нам важна сейчас не цель их, а сам факт, что цель у них есть. Упорно отказываясь назвать ее «хорошей» и называя «полезной», они хитрят. Можно спросить их: «Кому и чему она полезна?» В конце концов Каю с Титом придется признать: что-то кажется им хорошим само по себе. Ведь книжка написана, чтобы убедить ученика, а только злодей или слабоумный убеждает другого в том, что не считает правильным.
На самом деле Кай и Тит слепо верят в систему ценностей, которая была модной в 20-30-х годах среди довольно образованных и обеспеченных людей[8]. Скепсис их — поверхностный, касается он только чужих ценностей; что же до своих, им как раз не хватает скепсиса. Это не редкость. Многие их тех, кто разоблачает традиционные ценности (сами они скажут «сентиментальные»), хранят верность другим, своим, которые кажутся им застрахованными от разоблачений. Они потому и отрицают чувствительность, набожность или сексуальные запреты, чтобы дать место под солнцем ценностям «реалистическим». Попробую разобраться в том, что будет, если они перейдут от слов к делу.
Возьмем альтруизм, то есть качество, при котором человек предпочитает чужие интересы собственным, а в пределе — жертвует жизнью. Предположим, что обновитель считает сентиментальной чепухой слова «…кто положит душу свою»{14} и хочет разделаться с ними, чтобы освободить место для «реалистического» или «здорового» альтруизма. На что он может опереться?
Прежде всего, он может сказать, что альтруизм и даже смерть за других полезны для общества. Конечно, он имеет в виду смерть одних членов общества ради других. Но почему именно эти, а не иные должны жертвовать жизнью? Призывы к совести, чести или милосердию исключены изначально. Подыскивая повод, обновитель может задуматься о том, почему, собственно, эгоизм считают более разумным, чем альтруизм. Это хорошо. Если под разумом понимать то, что применяют Кай и Тит, развенчивая ценности (берется суждение, основанное в конечном счете на показаниях чувств, и из него выводится другое), если понимать нечто подобное, то ответ прост: эгоизм не разумней альтруизма и не безумней. Никакой выбор нельзя назвать ни рациональным, ни иррациональным. Из суждения о факте нельзя вывести ничего. Из фразы «это спасет людей» ни в коей мере не следует: «Значит, я это сделаю». Тут необходимо промежуточное звено: «Людей спасать нужно». Однако из фразы «Но ты же погибнешь!» тоже не следует: «Значит, этого делать не надо»; подразумевается промежуточное звено: «Мне гибнуть нельзя». Обновитель хочет основать выбор из констатации факта, но, сколько он ни пытайся, это невозможно. Если он это поймет, он, как в былое время, может прибавить к слову «разум» слово «практический» и признать, что, совершенно неизвестно почему, суждения типа «Людей надо спасать» — не заблуждение, подсказанное чувством, но как бы сама разумность. Может он поступить и иначе — раз и навсегда отказаться от поисков разумной основы. Первого он не сделает, ибо такой «практический разум» (правила, которые люди считают разумным основанием поступка) — то самое «дао», которого он не признает. Скорее он махнет на разум рукой и станет искать другой основы.
Очень удобен инстинкт. Ну конечно, сохранение вида держится не на тонкой нити разума, оно заложено в нас инстинктивно. Потому человек и не осознает причин своего поступка. Мы инстинктивно действуем на пользу виду. Этот инстинкт побуждает нас трудиться для будущего. Никакой инстинкт не побуждает держать слово или уважать чужую личность, так что честность или справедливость можно смело отбросить, когда они вступят в конфликт с инстинктом сохранения вида. Вот почему уже недействительны сексуальные запреты: пока не было противозачаточных средств, любодеяние угрожало жизни одной из представительниц вида; сейчас же — дело другое. Очень удобно! Вроде бы эта основа дает обновителю все. чего он хочет, и ничего от него не требует.
На самом деле он не продвинулся ни на шаг. Не буду говорить о том, что инстинкт — название чего-то нам неведомого (фраза «Птица находит дорогу благодаря инстинкту» значит: «Мы не знаем, как она находит дорогу»). Обновитель употребляет это слово во вполне определенном смысле — он называет инстинктом спонтанный и непроверенный разумом импульс, что-то вроде «похотенья». Поможет ли нам такой инстинкт найти основу для выбора? Откуда известно, что мы должны ему повиноваться? А если должны, и все, зачем писать такие книги, как «зеленая»? Зачем тратить столько красноречия, чтобы привести человека туда, куда он и сам придет? Быть может, подразумевается, что, подчинившись инстинкту, мы будем счастливы? Но ведь мы толкуем о жертве ради других, то есть о том, что человек поступился своим счастьем. Если же инстинкт вдобавок велит трудиться для будущего, счастье это придет, когда потрудившийся будет давно мертв (насколько я понимаю, для обновителя это синоним несуществования). Видимо, подчиниться инстинкту мы просто обязаны[9].
Почему же? Может быть, так велит другой инстинкт, на порядок выше, а ему велит третий, и дальше, до бесконечности? Получается какая-то чушь, но другого ответа нет. Из утверждения «Мне хочется…» никак не следует «Я должен». Даже если бы у человека действительно был спонтанный, непроверенный разумом импульс жертвовать собою ради сохранения вида, ничто не подсказывает нам, слушаться этого импульса или обуздать его. Ведь даже обновитель допускает, что некоторые импульсы обуздывать надо. А допущение это ставит перед ним еще одну, более важную трудность.
Сказать, что надо слушаться инстинктов, — все равно что сказать: «Надо слушаться людей». Каких же именно? Инстинкты, как и люди, говорят разное, они противоречат друг другу. Если ради инстинкта сохранения вида надо жертвовать другими инстинктами, то где тому доказательства? Каждый инстинкт хочет, чтобы ради него жертвовали всеми прочими. Слушаясь одного, а не другого, мы уже совершаем выбор. Если у нас нет шкалы, определяющей сравнительные достоинства инстинктов, сами они этих достоинств не определят. Нам неоткуда узнать, какой важнее. Нам не может подсказать этого ни один из инстинктов, как не может один из тяжущихся быть судьей. У нас нет ни малейшего основания ставить сохранение вида выше, чем самосохранение или похоть.
Словом, идея, что мы выбираем главный инстинкт, не покидая сферы инстинктов, нежизнеспособна. Мы хватаемся за ненужные слова, называя этот инстинкт «основным», «преобладающим», «глубочайшим». Они не помогают нам. Одно из двух: или в словах этих скрывается оценка (а она заведомо вне сферы инстинктов и не выводится из них), или они обозначают силу желания, его частоту и распространенность. Если мы выбираем первое, рухнет попытка положить инстинкт в основу поведения. Если выберем второе, это нам ничего не даст. Дилемма не нова. Или императив содержится в предпосылках, или вывод останется простой констатацией факта, без какой-либо модальной окраски.
Наконец стоит спросить, а есть ли вообще инстинкт сохранения вида? Сам я в себе его не нахожу. Никакой инстинкт не велит мне трудиться для будущего, хотя я очень много о будущем думаю и могу читать футурологов. Еще труднее мне поверить, что людям, сидящим напротив меня в автобусе, есть дело до далеких потомков. Только те, кто получил соответствующее образование, вообще сознают идею «далеких потомков». Трудно объяснить инстинктом то, что существует лишь для «думающих людей». От природы в нас есть желание сберечь своих детей и внуков, ослабевающее по мере того, как ряд их уходит в будущее и теряется в пустоте. Какие родители предпочтут интересы далеких потомков интересам дочери или сына, возящихся сейчас вот тут, в этой комнате? Человек, принимающий «дао», может сказать в определенных случаях, что любовь к отдаленным потомкам — их долг; но для тех, кто абсолютной ценностью считает инстинкт, такой путь закрыт. Когда же речь идет не о материнской любви, а о рациональном планировании, мы уже не в сфере инстинктов, а в сфере рассудка и выбора. С точки зрения инстинктов, мысли о будущем обществе несравненно ниже сюсюканья самой пристрастной матери или поглупевшего от любви отца. Если инстинкт важнее всего, забота о далеком будущем — лишь бледная тень, которую отбрасывает на экран неведомых нам лет реальное счастье играющей с ребенком женщины. Поистине глупо провозглашать, что важен лишь инстинкт, а потом бороться с весьма реальным инстинктом ради тени, отрывая детей чуть ли не от груди и воспитывая их в детских садах для блага далеких потомков[10].
Надеюсь, нам уже ясно, что никакие ссылки на инстинкт не помогут составить новую систему ценностей. Ни одной из предпосылок, нужных обновителю, в учениях об инстинктах не найти. Однако найти такие предпосылки совсем нетрудно. «Братья ему все, кто живет меж четырех морей», — говорит Конфуций о «цзюнь-цзы» — «cuor gentil», благородном человеке[11]. «Итак во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними» (Мтф. 7: 12), — говорит Иисус. «Человечество надо сохранить», — говорит Локк{15}[12]. Предпосылки, на которых стоит забота о человечестве и о далеком потомстве, любезная обновителю, давно существуют на свете. Они содержатся в «дао» и больше нигде. Пока мы не примем, что закон, который я для краткости называю этим словом, то же самое для наших поступков, что аксиомы для математики, у нас вообще не может быть никаких жизненных правил. Правила эти нельзя вывести, они сами по себе — предпосылки. Вы, конечно, вправе отнести их к сфере чувств, как авторы «зеленой книжки», ибо разум их не докажет; но тогда откажитесь от противопоставления этой сфере «истинных» или «разумных» ценностей. При таком подходе в ней окажутся любые ценности, а вам придется признать, что чувства не только субъективны, иначе ценностная система немедленно распадается. Вправе мы и отнести их к сфере разума, ибо они так разумны (уже в оценочном смысле), что не требуют и не допускают доказательств. Но тогда признайте, что слова «я должен» вполне осмысленны, хотя и не поддаются логическому обоснованию. Если нет ничего очевидного, доказательства лишены основы. Если нет ничего обязательного по самой своей сути, основу теряют какие бы то ни было обязанности.
Многие думают, что я протащил под другим названием давно известный «основной инстинкт». Однако дело здесь отнюдь не в словах. Обновитель отвергает традиционные ценности («дао») во имя ценностей, которые кажутся ему «разумными» или «биологическими». Однако мы видим, что без «дао» они ни на чем не стоят. Если он честно и скрупулезно отметет все, что принимало человечество, он никоим образом не докажет, что надо трудиться или умирать ради ближних или дальних. Если «дао» рухнет, любая постройка рухнет вместе с ним. Чтобы отрицать «дао», обновитель вынужден пользоваться теми крупицами, которые он унаследовал или бессознательно впитал. Какое же право он имеет принимать одни крупицы и отвергать другие? Если те, что он отверг, лишены оснований, лишены их и те, что он использует; если те, что он использует, обоснованы, обоснованы и те, что он отверг.
Приведем пример. Обновитель очень ценит заботу о дальних потомках. Ни инстинкт, ни разум (в современном смысле слова) не дает для этого оснований. На самом деле он берет основания из старого доброго «дао», одна из аксиом которого гласит, что мы должны заботится о каждом, тем самым — и о потомках, еще неведомых нам. Однако другой вывод из этой аксиомы велит нам заботиться о родителях и предках. По какому же праву обновитель принимает одно, отвергая другое? Еще один пример: он очень ценит материальную помощь. Накормить и одеть людей — великое дело, ради которого, как он полагает, можно поступиться справедливостью или честностью. Конечно, «дао» велит оказывать материальную помощь; без «дао» это и в голову обновителю бы не пришло. Однако точно так же велит оно быть честным и справедливым. Как докажет обновитель, что одно повеление верно, другое — нет? Предположим, что он — шовинист, или расист, или крайний националист, считающий, что ради своих соплеменников можно пожертвовать всем, что только есть на свете. Но и тут ни логика, ни инстинкт не дадут ему прочных оснований. Даже в этом случае он исходит из «дао», ибо долг по отношению к «своим» — давняя часть традиционной морали. Однако рядом с этой частью, бок о бок с нею, лежат несокрушимые требования справедливости и вера в то, что все люди — братья. Откуда же взял обновитель право принимать одно и отвергать другое?
Ответить на этот вопрос я не могу и потому позволю себе сделать некоторые выводы. То, что я для удобства назвал «дао», а другие называют «естественным законом» — или «традиционной моралью», или «первыми принципами практического разума», или «прописными истинами», — не просто одна из ценностных систем, а единственный источник любой ценностной системы. Отвергнув «дао», мы отвергаем всякую ценность. Оставив малую часть, мы оставляем все. Попытка построить другую систему ценностей содержит противоречие. На свете не было и не будет другой системы ценностей. Системы (теперь их зовут идеологиями), претендующие на новизну, состоят из осколков «дао», разросшихся на воле до истинного безобразия; крохотными крупицами заключенной в них правды они обязаны все тому же «дао». Однако если долг по отношению к родителям — ветхий предрассудок, мы обязаны счесть предрассудком и долг по отношению к детям. Если справедливость устарела, устарел и патриотизм. Если мы переросли супружескую верность, переросли мы и научную пытливость. Мятеж идеологий против «дао» — это мятеж ветвей против ствола; если бы мятежники победили, они бы погибли. Человек не может создать новую ценность, как не может создать новый, не смешанный цвет или новое солнце.
Неужели, спросят меня, наши ценности стоят на месте? Неужели мы прикованы раз и навсегда к нерушимому закону? Неужели, наконец, нет различий между нравственными кодексами древности и новых времен, эллинов и иудеев, Запада и Востока? Ответить однозначно здесь нельзя. Да, различия есть, есть и развитие. Но чтобы разобраться в них, непременно надо понять очень важную вещь.
Лингвист может взглянуть со стороны на свой родной язык и сказать, что научная ценность или практическая польза требует в чем-то изменить, скажем, орфографию. Поэт тоже меняет язык, и куда сильнее, но смотрит он не со стороны, а изнутри. Сам язык, претерпевший изменения, вдохновил его. Разница между поэтом и лингвистом подобна разнице между матерью, вынашивающей ребенка, и хирургом, делающим операцию.
«Дао» допускает только изменения изнутри. Те, кто понимает закон, могут его менять в его же духе. Только они знают, чего этот дух требует. Сторонний обновитель этого не знает и потому, как мы видели, ничего сделать не может. Чтобы привести в согласие различия буквы, надо постигнуть дух. Обновитель же выхватывает несколько букв, которые попали в поле его зрения благодаря времени и месту, и провозглашает их без каких бы то ни было основательных поводов. Только закон может разрешить или запретить изменения в законе. Потому Аристотель и говорит, что этику усвоит лишь тот, кто верно воспитан[13]. Человек, не знающий «дао», не увидит исходных точек нравственности. Когда надо решать теоремы, непредвзятость только поможет. Когда же речь идет об аксиомах, она просто ни при чем.
Конечно, не всегда легко решить, где кончаются права непредвзятой логики. Но ясно одно: никогда нельзя вычленить нравственное правило и требовать для него логических обоснований. Тот, кто действительно совершенствует нравственность, должен показать, что правило это противоречит другому, более «аксиомному», или что оно вообще не входит в традиционную систему ценностей. Прямые вопросы: «А кто это сказал?», «А какая от этого польза?», «А на что это мне?» — совершенно недопустимы не потому, что грубы, но потому, что никакая ценность не оправдает себя на этом уровне. Такие вопросы прекрасно могут сокрушить все ценности, одну за другой, сокрушив тем самым и основания для вопросов. Нельзя угрожать «дао» пистолетом. Нельзя и откладывать подчинение правилу до той поры, пока правило это не предъявит документов. Только те, кто следует правилам, могут понять их. Только человек с «поставленным сердцем» (cuor gentil) видит, что верно, что неверно. Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен{16}.
Чтобы избежать недоразумений, прибавлю: хотя сам я верю в Бога, более того — в Христа, сейчас я никак не «проповедую христианство». Я говорю только об одном: сохранить ценности можно лишь в том случае, если мы примем абсолютную ценность прописных истин. Любое недоверие к этим истинам, любая попытка поставить нравственность «на более реалистическую основу» заранее обречена. Здесь я и не ставлю вопроса о том, свыше или откуда еще мы получили «дао».
Но даже то, что я проповедую, нелегко принять современному уму. Ему-то известно, что это драгоценное «дао» сложилось в сознании наших далеких предков под влиянием экономических или физиологических факторов. Как это было, мы в общем уже знаем; скоро узнаем и в частностях, а если не узнаем — придумаем. Конечно, когда наука еще не постигла механики сознания, мы считали, что оно нами правит. Многое в природе правило нами, теперь же оно служит нам. Почему бы и сознанию не встать на этот путь? Неужели мы остановимся из глупого почтения к самому твердому орешку природы? Вы чем-то грозите нам, но поборники тьмы грозили нам на каждом шагу прогресса, и всякий раз угрозы их не оправдывались. Вы говорите, что, отринув «дао», мы утратили все ценности. Что ж, обойдемся и без них. Примем, что все эти «я должен» — занятный психологический пережиток, и поставим на их место «я хочу». Решим, каким быть человеку, и сделаем его таким не ради каких-то мнимых ценностей, а потому, что нам так угодно. Окружающей средой мы овладели, овладеем же и человеком, определим сами свою судьбу.
Очень может быть, что именно так мне ответят. Здесь хотя бы нет противоречия, которым грешат робкие скептики, надеющиеся отыскать истинные ценности вместо тех, прописных. Чтобы ответить на такой ответ, напишу еще одну главу.
III. Человек отменяется
Что бы он ни говорил мне и как бы ни льстил, я думал: когда мы достигнем его дома, он продаст меня в рабство.
Джон Беньян
Мне часто доводилось слышать о победе человека над природой. «Наконец-то мы ее скрутили!» — сказал моему другу его знакомый, и в словах этих была своя, скорбная красота, ибо тот, кто их произнес, умирал от туберкулеза. «Это неважно, — говорил он. — Конечно, есть потери и у победителей. Но побеждают-то они!» Я начинаю с этого случая, чтобы вы поняли сразу: преуменьшать все лучшее, что есть в явлении, называемом «победа над природой», я не собираюсь, а уж тем более не собираюсь замалчивать, сколько она потребовала мужества и жертвенности. В каком же смысле человек все больше побеждает природу или овладевает ею?
Возьмем три типичных примера: самолет, радио, противозачаточные средства. Более или менее каждый может пользоваться ими. Однако нельзя сказать, что при этом сам он «скрутил» природу, стал сильнее, чем она. Если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Мы пользуемся упомянутыми плодами науки, потому что кто-то продал нам их или дал на них право. Так что на самом деле во всех этих случаях человек обретает власть над человеком. Особенно удивителен третий случай. Те, кто изготавливает противозачаточные средства, обретает власть над теми, кто их покупает; но и те и другие вдобавок обретают власть над неродившимися людьми. Они заранее лишают их жизни, обрекают на несуществование, не спросив у них согласия. Говоря строго, так называемая победа человека над природой означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы.
Общим местом стали сетования на то, что мы используем во вред, а не во благо, силы, дарованные наукой. Однако я говорю об ином. Многие злоупотребления могут исчезнуть, если люди станут лучше; но я хочу поговорить о том, что неотъемлемо от «победы над природой». Даже если все достижения техники будут употребляться только во благо ближним, воспитательные эксперименты все равно означают власть более ранних поколений над более поздними.
Об этом часто забывают, так как социологи и прочие исследователи общества отстали от физиков в одном — они не включают в свои расчеты фактор времени. А без этого мы не поймем, каким образом человек распоряжается природой. Каждое поколение влияет на следующее и в той ли, иной ли мере противится предыдущему. Поэтому речь о непрестанном улучшении и усилении здесь не совсем уместна. Если кто-нибудь и впрямь научится лепить своих потомков по своему вкусу, все последующие поколения будут слабее тех, кому выпала такая удача. Какие бы поразительные механизмы ни дали мы им, мы, а не они уже решили, как эти механизмы использовать. Почти наверное удачливое поколение будет к тому же отличаться исключительной ненавистью к традиции и постарается уменьшить не только силу своих потомков, но и силу своих предков.
Таким образом, речь может идти не о «прогрессе», но об одном столетии (скажем, сотом от Рождества Христова), которому лучше прочих удастся подмять под себя все остальные века и овладеть родом человеческим. Несомненно, в столетии этом или, скорее, поколении такой силой будет обладать не большинство, а меньшинство. Если мечты ученых осуществятся, крохотная часть человечества получит власть над многими миллиардами людей. Человек не может просто «становиться сильнее». Любая сила, которую он обретет, направлена против кого-то. Каждый шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее. С каждой победой появляются новые властители и новые рабы.
Я еще ничего не сказал о том, хорошо это или плохо. Я только объяснил, что означает победа над природой. Конец этой победе (быть может, довольно близкий) настанет тогда, когда искусственный отбор, внутриутробное программирование, прикладная психология достигнут очень больших успехов. Из всей природы последней сдастся человеку природа человеческая. Кому же, собственно говоря, она сдастся?
Конечно, всегда и везде воспитатели пытались сформировать других, исходя из своего миросозерцания. Но то, о чем я говорю, имеет две особенности. Во-первых, никогда и нигде у воспитателей (если здесь уместно это слово) не было столь огромной силы. Как правило, им удавалось и удается немного. Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье{17}, у Элиота{18} — что мальчик должен видеть до семи лет только женщин, а после семи — только мужчин, у Локка — что ребенка надо обувать в худые башмаки и отучать от сочинения стихов{19}, мы испытываем благодарность к упрямым матерям и нянькам, а главное — к упрямым детям, сохранившим человечеству хоть какое-то здравомыслие. Однако человекоделы удачливого века будут оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят.
Второе отличие еще важнее. Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с «дао», которому подчинялись сами. Они хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому, что «это полезно обществу». Сами они от этих суждений свободны. Их дело — контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше «дао». Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не «дао», а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной.
Быть может, на какое-то время, как пережиток, они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу. Но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятия помощи, служения, долга — чистая условность. Освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Произвол у них полный — ни «долг», ни «добро» уже ничего для них не значат. Они умеют сформировать какие угодно качества. Остается малость: эти качества выбрать. Повторяю: свобода — полная, никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет.
Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности. Другие, попроще, могут спросить: «Неужели они непременно окажутся такими плохими?» Поймите, я не думаю, что «они» будут плохими людьми. В старом смысле слова они вообще людьми не будут. Если хотите, они — люди, сменившие принадлежность к роду человеческому на право решать, каким быть человеку. Слова «плохой» и «хороший» не имеют смысла по отношению к ним; только от них и зависит смысл этих слов. Что же до мнимых сложностей, мне могут сказать: «В конце концов, люди хотят примерно одного и того же — есть, пить, развлекаться, жить подольше. Ваши человекоделы могут просто-напросто воспитывать других так, чтобы они обеспечивали эти возможности». Но это не ответ. Прежде всего, неверно, что люди хотят одного и того же. Однако если бы даже было так, с какой стати моим человекоделам трудиться в поте лица, чтобы следующие поколения получили то, чего хотят? Из чувства долга? Оно для них ничего не значит. Иначе они не человекоделы, а просто люди, еще не одержавшие последней «победы над природой». Быть может, ради сохранения вида? Но почему, скажите, надо его сохранять? Они-то знают, как формируется забота о будущих поколениях, и вольны решить, оставить это чувство на свете или нет. Они не плохие люди, они — не люди. Выйдя за пределы «дао», они попали в пустоту. И тех, кого они формируют, нельзя назвать несчастными людьми, ибо они — предметы, изделия. Победив природу, человек отменил человека.
Однако как-то действовать человекоделам надо. Я говорил о том, что им не на что опереться; но один закон у них есть: «Мне так угодно». Никакой объективности в этом мнении нет и быть не может, и потому объективность не имеет над ними власти. Когда все императивы («я должен») исчезли, остается «я хочу». Разоблачить эти слова нельзя, так как они ни во что не облачились. Итак, человекоделами будет руководить произволение. Я говорю не о том, что власть портит, и не боюсь, что она развратит их: сами слова «портить» и «развращать» предполагают систему ценностей и в этом контексте смысла не имеют. Я говорю о другом: у тех, кто стоит вне ценностных суждений, нет никаких оснований предпочесть одно желание другому, кроме силы этого желания.
Конечно, можно надеяться, что среди желаний будут и безвредные, даже добрые (с нашей точки зрения). Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся без «дао», в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил эту власть во благо. Мне кажется, человекоделы будут ненавидеть свои изделия. Зная, что правила этих созданий — лишь иллюзия, они все же будут завидовать тем, у кого есть хоть какой-то смысл жизни, как завидуют скопцы мужчинам. Но я сказал: «Мне кажется», — и это лишь предположение. Зато я уверен в другом: надежда, с которой я начал этот абзац, заждется на понятии, которое точнее всего назвать «если повезет». Должно уж очень повезти, чтобы человекоделы предпочли добрые импульсы всем другим. Без «дао» это дело случая, случай же зависит от погоды, пищеварения, мало ли от чего. Рационализм, заставивший «видеть насквозь» все основания нравственности, обрек их на совершенно иррациональное поведение. Можно подчиняться «дао»; можно совершить самоубийство; если же мы не сделаем ни того, ни другого, нам остается одно: слушаться случайных импульсов.
Итак, когда человек победит природу, род человеческий окажется во власти небольшого количества существ, подвластных уже только одним импульсам. Природа сможет отпраздновать победу над человеком. К этому, и ни к чему иному, ведет каждая наша частная победа. Природа играет с нами хитрую игру. Нам кажется, что она подняла руки вверх, тогда как она собирается схватить нас за горло. Если мир, который мы описали, обретет реальность, природа сможет жить так же спокойно, как жила она миллионы лет назад. Никто не помешает ей всякой чушью вроде истины или милости, радости или красоты.
Быть может, меня лучше поймут, если я скажу иначе. У слова «природа» много значений, смотря по тому, что мы противопоставляем — искусственное, культурное, человеческое, духовное, сверхъестественное. Первое из этих понятий сейчас нам неважно; остальные же, лучше или хуже, покажут, что подразумевается под природой. Она была для них миром количества, а не миром качества; миром causae efficientis, а не миром causae finalis{20}. Когда мы считаем что-либо только объектом и употребляем только себе на пользу, мы ставим это на уровень природы; ценностные суждения уже неуместны, causa finalis — неважна, качественный подход — ненужен. Такое снижение статуса совсем непросто, а порой и мучительно для нас — нужно что-то в себе сломать, прежде чем вонзишь стилет в мертвого человека или живого зверя. Эти объекты словно бы сопротивляются сами. Но такой процесс непрост и в других, несравненно легчайших случаях: когда мы рубим дерево, мы не можем одновременно видеть в нем дриаду{21} и даже прекрасное, могучее растение. Должно быть, первые дровосеки живо ощущали это, и кровоточащие деревья Вергилия{22} — отзвук древнего чувства, подсказывавшего человеку, что он совершает святотатство. Звезды утратили величие с развитием астрономии, и Богу нет места в научной агротехнике. Многим кажется, что оно и лучше, а старый спор с Галилеем или с «потрошителем трупов»{23} — просто мракобесие. Но это далеко не вся правда. Крупные ученые не так уж уверены, что действительно есть предметы, к которым можно подходить количественно, и никак иначе. В это твердо верят ученые мелкие, особенно же твердо — неученые любители наук. Сильный ум хорошо знает, что такой предмет — абстракция, мнимость, утратившая самое главное.
С этой точки зрения, победа над природой предстает перед нами по-другому. Мы снижаем что-либо до уровня природы, чтобы победить. Мы непрестанно побеждаем природу, так как называем природой то, что мы победили. Цена этой победы велика: все больше явлений снижает свой статус. Каждый наш успех расширяет владения природы. Звезды не станут природой, пока мы их не измерим; душа не станет природой, пока мы не подвергнем ее психоанализу. Пока процесс этот не кончен, нам кажется, что выгод больше, чем потерь. Но стоит нам сделать последний шаг — перевести на уровень природы самих себя, — и потеряет смысл самая речь о выгодах, ибо тот, кто должен был выгадать, принесен в жертву. Таков один из примеров печального правила, гласящего, что некоторые принципы, дойдя до логического конца, приходят к абсурду. Поневоле припомнишь притчу об ирландце, который заметил, что новая печка требует вдвое меньше дров, и решил поставить еще одну, чтобы дров вообще не тратить. Припомнишь и сделки с чертом. «Отдай мне душу, а я тебе дам могущество». Но без души, то есть без самого себя, о каком могуществе может идти речь? Мы станем рабами или марионетками того, кому отдали души. Снизить себя до уровня природы дурно не в том смысле, в каком дурны некоторые часы из жизни студента-медика. Муки, испытанные в прозекторской, — это симптом, предупреждение. Низводить себя, человека, на уровень природы дурно вот почему: если ты сочтешь себя сырьем, ты сырьем и станешь, но не себе на пользу. Тобою будет распоряжаться та же природа в лице обесчеловеченного человекодела.
Подобно королю Лиру, мы пытаемся сложить с себя королевское достоинство и остаться королями. Это невозможно. Одно из двух: или мы разумные духовные существа, навек подчиненные абсолютным ценностям «дао», или мы «природа», которую могут кромсать и лепить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью. Только «дао» объединяет едиными правилами властвующих и подвластных. Без догмата объективной ценности невозможна никакая власть, кроме тирании, и никакое подчинение, кроме рабства.
Конечно, одни помягче, другие — пожестче, но многие профессора в пенсне, модные драматурги, самозванные философы думают, в сущности, то же самое, что немецкий нацист. Мысль о том, что мы вправе изобретать «идеологию» и подгонять под нее ближних, уже коснулась повседневной речи. Раньше убивали злодея, теперь «ликвидируют нежелательный элемент». Особенно же удивляет меня, что бережливых, умеренных и даже просто умных людей называют «неперспективными покупателями».
Истинный смысл происходящего скрыт от нас абстракцией «человек». Слово это совсем не всегда абстракция. Пока мы не вышли за пределы «дао», мы вправе говорить, что человек владеет собой, и это значит, что он подчиняется нравственным правилам. Но стоит нам перешагнуть границу, и мы теряем это право. Никаких человеческих свойств для нас уже нет, а владеть могут только некие существа, работающие над теми, кто сменил человека. Нарочно или нечаянно почти все мы помогаем произвести на свет эти существа.
Что бы я ни сказал, меня обвинят в нападках на науку. Конечно, я отвергаю это обвинение; настоящие натурфилософы, то есть люди, осмысляющие природу (они еще бывают на свете), поймут, что среди ценностей я защищаю знание, которое умрет вместе с «дао». Но я пойду дальше. Я скажу, что только от науки можно ожидать исцеления.
Я назвал сделкой с чертом ситуацию, когда человек в обмен на могущество отдает природе все, вплоть до самого себя; и за слова свои я отвечаю. Ученый преуспел, а чародей потерпел неудачу; и обстоятельство это настолько разделило их в обыденном сознании, что обычный человек не понимает, как наука родилась. Многие верят и даже пишут, что в XVI в. магия была пережитком средневековья, который и собиралась смести новорожденная наука. Те, кто изучал этот период, так не думают. В средние века колдовали мало, в XVI и XVII вв. — очень и очень много. Серьезный интерес к магии и серьезный интерес к науке родились одновременно. Один из них заболел и умер, другой был здоров и выжил, но они — близнецы. Их родила одна и та же тяга. Я готов признать, что некоторых из тогдашних ученых вела чистая любовь к знаниям. Но, вглядевшись в этот период, мы прекрасно различим тягу, о которой я говорю.
И магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его раздумий были знание, самообуздание и добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям; плод их — техника, применяя которую, можно делать многое, что считалось кощунственным, — скажем, нарушать покой мертвых.
Когда мы сравним глашатая новой эры (Бэкона) с Фаустом из пьесы Марлоу{24}, сходство поистине поразит нас. Нередко пишут, что Фауст стремился к знанию. Ничуть не бывало, он о нем почти не думал. От бесов он требовал не истины, а денег и девок. Точно так же и Бэкон отрицает знание как цель{25}, он сам говорит, что узнавать ради знания все равно что тешиться с женщиной и не рожать с нею детей. Истинная задача науки, по его мнению, распространить могущество человека на весь мир. Магию он отвергает лишь потому, что она бессильна; но цель его точно такая же, как у чародея. Парацельс{26} сумел объединить в себе чародея и ученого. Конечно, у тех, кто создал науку в нашем смысле слова, тяга к истине, хотя бы к знанию, была больше, чем тяга к могуществу, — во всяком смешанном явлении доброе плодоноснее дурного. Быть может, нельзя сказать, что новая наука родилась смертельно больною, но можно и нужно сказать, что она родилась в исключительно нездоровой среде. Успехи ее слишком быстры и куплены слишком большой ценой; поэтому ей надо бы оглядеться и даже покаяться.
Может ли существовать другая наука, которая постоянно помнит, что непосредственный предмет ее занятий — не мир как он есть, а некоторая абстракция, и постоянно поправляет этот перекос? Собственно, я и сам толком не знаю. Говорят, что надо присмотреться к натурфилософии Гете{27}, что даже у Штейнера{28} есть что-то такое, чего не хватает ученым. Не знаю. Эта, иная наука не дерзнула бы обращаться даже с овощами или минералами, как обращаются теперь с человеком. Объясняя, она не будет уничтожать. Говоря о частях, она будет помнить о целом. Предмет изучения, по слову Мартина Бубера{29}, будет для нее не «это», а «ты». Она будет рассматривать инстинкт в свете «дао», а не сводить «дао» к неведомым инстинктам. Словом, она не будет платить за знание ни чужой, ни своей жизнью.
Быть может, я мечтаю о немыслимом. Быть может, аналитическое познание по природе своей убивает одним своим взором — только убивая, видит. Хорошо. Если ученые не в силах остановить такое знание, пока оно не прикончило разум, его остановит что-то другое. Чаще всего мне говорят, что я — «обыкновенный обскурантист» и барьер, которого я боюсь, не так уж страшен, наука его возьмет, как уже брала множество барьеров. Мнение это породила злосчастная склонность современного ума к образу бесконечного и одномерного прогресса. Мы так много пользуемся числами, что представляем любое поступательное движение в виде числового ряда, где каждая ступенька подобна предыдущей. Умоляю вас, вспомните об ирландце с печкой! Бывает так, что одна из ступенек несоизмерима с другими, она просто отменяет их. Отречение от «дао» — именно такая ступенька. Пока мы до нее не дошли, научные достижения, даже губящие что-то, могут что-то и дать, хотя цена велика. Но нельзя повышать эту цену бесконечно. Нельзя все лучше и лучше «видеть насквозь» мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем «видеть насквозь» первоосновы бытия. Прозрачный мир — это мир невидимый; видящий насквозь все на свете — не видит ничего.
1
…я назову их Каем и Титом… — Кай, Тит, Семпроний — три распространенных латинских имени, употребляемых в том же смысле, как у нас «Иванов, Петров, Сидоров». Вместо Семпрония у Льюиса — Орбилий, драчливый школьный учитель Горация, чье имя тоже нарицательно. Не так давно специалисты по Льюису определили, о какой книге идет речь. Несомненно, это «The Control of Lenguage» by Alec King & Martin Ketley. 1942 г.
2
Колридж, Сэмюэл Тэйлор (1772–1832) — один из первых английских поэтов-романтиков. Принадлежал к так называемой Озерной школе, особенно прославившейся описаниями природы.
3
Дрэйк, сэр Фрэнсис (около 1540–1596) — знаменитый английский мореплаватель.
4
Джонсон, Сэмюэль (1709–1784) — английский мыслитель и лексикограф. В «Западных островах» речь идет о поселении на северо-восточном побережье Аттики, у которого в 490 г. до н. э. состоялась знаменитая Марафонская битва между древними греками и персами, в которой первые проявили вошедшие в легенду мужество и патриотизм, а также об Айонском аббатстве, которое стояло в XIII в. на одном из Гебридских островов у западного побережья Шотландии.
5
Уордсворт, Уильям (1770–1850) — друг Колриджа, поэт-романтик.
6
Маргэйт — морской курорт в Англии.
7
Лэм, Чарльз (1775–1834) — английский эссеист и поэт.
Браун, сэр Томас (1605–1686) — английский врач и мыслитель.
Уолтер де ла Мэр (1873–1956) — английский поэт.
8
…плачущие кони Ахилла — герой Троянской войны Ахилл отказался вывести на состязание своих коней, так как они оплакивали смерть своего возницы Патрокла (см.: Гомер. Илиада. 23: 271–284).
Боевой конь в книге Иова — см.: Иов 39, 19–26.
«Брат наш вол» — так обращался к животным святой Франциск Ассизский, проповедуя перед ними.
Братец Кролик — персонаж «Сказок дядюшки Римуса» американского писателя Дж. Харриса (1848–1901).
«Кролик Питер» — сказка английской сказочницы Элен Беатрис Портер.
9
Шелли, Перси Биши (1792–1822) — английский поэт-романтик.
10
Траерн, Томас (Trahern) (1637–1674) — английский поэт, мыслитель, чьи мистические размышления («Сотницы созерцаний») были открыты в 1908 г.
11
…добродетелью держатся звезды — согласно Платону, идеальное государство, основанное на добродетели, укоренено в общей системе универсума (см. диалог «Тимей»).
12
«Dulce et decorum est pro patria mori» — цитата из оды Горация «К римскому юношеству» в переводе П. Порфирова звучит так: «Приятна и красна нам смерть за край родной» (см.: Гораций Квинт Флакк. Оды. СПб., 1902. С. 10).
13
Человек поистине благородный укрепляет ствол — цитата из «Изречений» Конфуция. Существует перевод, где вместо слова «ствол» написано «корни». В контексте это изречение может быть понято совершенно определенно, как сказанное о родовом древе. В переводе П. С. Попова оно выглядит так: «Совершенный муж сосредоточивает свои силы на основах» (см.: Конфуций. Изречения. Спб., 1910. С. 1).
14
кто душу свою положит — см.: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).
15
Локк, Джон (1632–1704) — английский философ. Развивая идеи Гоббса и Декарта, занимался политической экономией, психологией, педагогикой. В трактате «О государственном правлении» (1690) уделил большое внимание естественному закону как принципу построения человеческого общества. Льюис ссылается на высказывание Локка, которое в переводе Ю. В. Семенова звучит следующим образом: «Каждый из нас, поскольку он обязан сохранять себя и не оставлять самовольно свой пост, обязан по той же причине, когда его жизни не угрожает опасность, насколько может, сохранять остальную часть человечества…» (см.: Локк Дж. Избранные философские произведения. М., т. 2, с. 8).
16
Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен — см. Гал. 3:23–25: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3: 23–25).
17
Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье… — в учении об идеальном государстве (см.: «Государство», «Законы») Платон предлагал, с целью избежать неравенства, перепоручить всех детей, независимо от их происхождения, государству и определять место человека в социальной иерархии лишь после того, как станут очевидными его склонности и способности.
18
Элиот, Томас (ок. 1490–1546) — английский писатель, представитель раннего английского гуманизма.
19
…что ребенка надо обувать в тонкие башмаки и отучать от сочинения стихов — Локк видел главную задачу воспитания в приучении «юного джентльмена» подчинять рассудку все свои желания и чувства, поэтому высказывался против классической системы образования и советовал обращать большое внимание на физическое развитие детей. В частности, он замечал: «Я бы советовал также ежедневно обмывать ему ноги холодной водой и шить ему обувь настолько тонкую, чтобы она могла промокать и пропускать воду, когда ему случится ступить в нее» (см.: Локк Дж. Мысли о воспитании. Спб., 1913. Вып. 1. С. 60). А также: «Стихи заставляют детей напрягать свои способности свыше силы, мешая успешному изучению языков неестественными затруднениями» (Указ. соч. Вып. 3. С. 232). Перевод текста М. А. Энгельгардта.
20
causa efficiens — причина, по которой что-то происходит; causa finalis — причина, ради которой это происходит.
21
Дриада — в греческой мифологии нимфа, олицетворяющая душу дерева. По преданию, дриады жили в деревьях, рождались и умирали вместе с ними.
22
кровоточащие деревья Вергилия — В поэме Вергилия «Энеида» повествуется, что, прибыв в землю фракийцев, Эней для совершения обряда жертвоприношения попытался сорвать растущие на холме кизил и мирт, но они начали кровоточить у него под руками. Раздавшийся из-под холма голос рассказал ему, что здесь похоронен Полидор, троянский посыльный к фракийцам, который, прося их о помощи Трое, привез с собой большие богатства, но был убит из алчности царем Фракии Полиместором (см.: Вергилий Публий Марон. Энеида. Книга 3, 22–57).
23
…или с «потрошителем трупов»… — так именовали первых анатомов на заре Нового времени.
24
Кристофер Марлоу (1564–1593) — английский драматург, написавший «Жизнь и смерть доктора Фауста».
25
Бэкон отрицает знание как цель... — Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский (1561–1626) видел цель познания в том, чтобы способствовать практической деятельности людей. Об этом он писал в труде «Новый Органон» (см.: Бэкон Ф. Новый Органон. Л., 1935.).
26
Теофраст фон Гогенхайм, известный под именем Парацельса (1493–1545) — швейцарский врач и алхимик.
27
Натурфилософия Гете — Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий мыслитель и поэт, понимал мир как совокупность живых форм, органически развивающихся на всех уровнях бытия. Натурфилософия Гете испытывала сильное влияние гегелевской диалектики.
28
Штейнер, Рудольф (1861–1925) — немецкий философ, в 1902 г. возглавил «Теософское общество» в Германии, в 1913 г. создал «Антропософское общество». Свое учение Штейнер называл «духовной наукой», направленной на раскрытие тайных духовных сил человека с помощью особого воспитания и системы специальных упражнений.
29
Бубер, Мартин (1878–1965) — философ, развивавший идеи «диалогического персонализма». По его мысли, существуют два типа взаимоотношений человека с его окружением и соответственно два мира, построенных на этих отношениях. Первый тип — диалог «Я» и «Ты», личностное отношение к людям, предметам, животным, к Богу. Только на этой основе возможно установление неотчужденных, одухотворенных связей. Второй тип — отношение «Я» — «Оно», при котором все, находящееся вне «Я», обезличено, воспринимается как «Это» — как предмет, вещь, предназначенная для манипулирования, утилитарного использования, эксплуатации.
30
Псалом 118, стих 151 — Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.
31
Ричардс, Айвор (1893–1979) — английский критик, поэт и преподаватель. Занимался психологией творчества. Оказал большое влияние на развитие поэтической критики, автор одной из первых книг по семиотике. Здесь речь идет о книге: Richards I. Principles of Literary Criticism. — N. Y., 1942.
32
Уоддингтон, Конрад (1905–1975) — английский биолог, автор работ по генетике и эмбриологии. Речь идет о его книге «Science and Ethics» (1942).
33
fait accomplit — свершившийся факт (франц.).