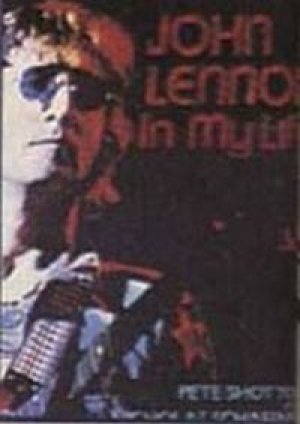
ПОСВЯЩАЕТСЯ
— Моему сыну Мэттью,
с любовью –
ПИТ
ДЖОНУ ЗА ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ
— Папе и маме,
с любовью –
НИКОЛАС
«До Баллады Джона и Йоко была баллада Джона, Пола, Джорджа и Ринго. А до нее была баллада Джона и Пита. Воспоминания Пита Шоттона об их детской дружбе удивительны, а через годы БИТЛЗ он ведет нас с завидной проницательностью. И спустя столько лет приятно узнать, что вне битловского круга у Джона был такой хороший товарищ, для которого он был просто Джоном Ленноном, Другом.»
Марк Лэпидос, продюсер «Битлфеста»
Единственным на Земле человеком, который мог бы написать больше, потому что он знал больше, был Джон Леннон. Он-то и сказал Питу Шоттону: «Почему бы тебе не написать нашу историю?» Но тогда Пит этого не сделал, потому что не хотел выходить за «магический круг». А когда Джона не стало, Пит подумал: «А что, если лучший друг Джона всех тех лет…» — и появилась эта книга.
Пит Шоттон не «брал интервью» у Джона Леннона. 30 лет — от первых школьных проделок до первой охоты на девушек, от образования их первой группы (которую Пит назвал «The Quarry Men»), весь период битломании (Пит был первым директором фирмы «Эппл») и до последней встречи в «Дакоте», он был его лучшим другом.
Пит Шоттон не «брал интервью» у Пола МакКартни. Он пригласил его в группу Джона.
Пит Шоттон не «брал интервью» у Ринго Старра. Много лет он дружил с этим «самым ливерпульским» Битлом.
Пит Шоттон не «брал интервью» у Джорджа Харрисона. Он был свидетелем всех жизненных перемен Джорджа, а когда известия о смерти Джона достигли Англии, именно Джордж прижал к себе лучшего друга Джона.
Пит Шоттон не «брал интервью» у БИТЛЗ. Он с первых дней жил в самой гуще событий и даже приложил руку к созданию «Eleanor Rigby» и «I Am The Walrus». (И некоторые из его друзей предлагали ему назвать книгу «Кто был Моржом?» («Who was the walrus?»).
Пит Шоттон не «брал интервью» у Йоко. Он жил в доме Джона и находился в нем в первую ночь Джона и Йоко. ЧИТАЙТЕ!
Пит Шоттон не «брал интервью» у Брайана Эпстайна. Ему, как и Джону, было сделано «предложение», но итог был абсолютно другим. ЧИТАЙТЕ!
Помощник Пита — не журналист воскресных газетенок. Он — не кто иной, как крупнейший специалист по БИТЛЗ, автор книги «Beatles Forever», признанной лучшей книгой о БИТЛЗ всех времен.
ЧИТАЙТЕ!
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ:
Пи Джей Хадуч за наше с Питом знакомство,
Барни Карпфингер и Виктору Чапину-старшему за помощь в издании этой книги,
Сью Вейнер за ее непоколебимый энтузиазм,
Линде Патрик, Норману Маслову и Дэвиду Бэйкону — авторам «The Beatles' England» — «Битловской Англии»
и Кену Стюарту
НИКОЛАС
а также Биллу Тернеру и Полу Хенворсу,
без которых эта книга не смогла бы появиться;
моей маме, сделавшей возможным все это,
и — больше всего — Стелле за ее любовь и терпеливость
ПИТ
Предисловие
БИТЛЗ повлияли на ход миллионов человеческих жизней и, несомненно, на ход истории. Если бы не БИТЛЗ, 60-е были бы, по крайней мере, совсем иными в отношении музыки. А если бы не было Джона Леннона, все, что создали и представляли собой БИТЛЗ, было бы просто немыслимо.
Для меня лично Джон и БИТЛЗ сыграли определенную роль не больше, не меньше, как в формировании моей карьеры, ибо моим дебютом как автора, стала книга «Beatles Forever» («БИТЛЗ — навсегда»). Писать и составлять ее я начинал просто как «человек со стороны»: 22-летний фан, изучающий неизгладимое влияние, которое оказала на нас величайшая группа всех стран и времен. К сожалению, я никогда не встречался с Джоном лично — но, тем не менее, как и миллионы других людей, считал его почти членом своей семьи.
С одной стороны, Пит Шоттон, как самый близкий друг Джона, должен был «хранить молчание» и при жизни Джона отказывался говорить о нем с журналистами и битл-биографами (кроме тех случаев, когда об этом просил сам Джон). Поэтому заурядный битл-фан до издания этой книги мог и вовсе не знать о Пите Шоттоне. Однако, это — только лишнее доказательство тому, что очень многие из тех историй, которые вам предстоит прочесть, никогда прежде не видели свет.
Одна из причин того, что Пит и Джон оставались лучшими друзьями и через двадцать лет, заключается в том, что Пит не был битл-фаном, как таковым. До назначения его директором компании «Эппл», Пит никогда не приставал к Джону и остальным с расспросами об их профессиональной деятельности, если они сами не делились с ним информацией. «Ты — единственный на свете человек, с которым я могу нормально поговорить, и который предпочитает говорить по-человечески, а не лезть со всей этой мутью про «Фантастическую Четверку», — однажды сказал ему Джон.
Поэтому до тех пор, пока мы не начали вместе работать над этой книгой, Пита нельзя было квалифицировать, как «претендента на звание чемпиона по знанию мелких подробностей о БИТЛЗ», несмотря на все богатство его личных воспоминаний. Он, например, не всегда помнил, на каком альбоме была записана та или иная песня. Но зачем ему это помнить? Когда многие из них создавались, он просто-напросто присутствовал при этом; косвенно он даже помогал писать их. Я уверен, что любой человек, выросший в одно время с Джоном и БИТЛЗ, легко поймет, как я был рад и взволнован, когда Пит предложил мне вставить его воспоминания в исторические рамки и превратить их в книгу.
По мере того, как наше творение обретало форму, Пит постоянно удивлялся многолетней продолжительности «культа БИТЛЗ» и моим настойчивым заверениям, что его запоздалый рассказ о ежедневной жизни с Джоном или в «Эппл» будет представлять огромный интерес для всех фанов. Меня поражала искренность и откровенность изливаемых им в микрофон воспоминаний (некоторые из которых вдребезги разбили не один миф о БИТЛЗ, созданный во многих книгах, в том числе и в моей).
В одном из своих первых послебитловских интервью Джон сказал, что ему хотелось бы, чтобы «вышла какая-нибудь правдивая книга». В другом контексте он также говорил, что было бы здорово показать БИТЛЗ «без штанов и глянца на обложке». Но, в отличие от последних таких «разоблачений», эта книга писалась нами, по крайней мере, с любовью и уважением (если не с благоговением!). А в отличие от всех мелких бизнесменов, случайных партнеров по сексу и преходящих знакомых, которые предали бумаге свои воспоминания о БИТЛЗ и Ленноне, Пит почти тридцать лет оставался настолько близким к Джону и всем окружавшим его, насколько это вообще возможно. Более того, похоже, он обладал удивительным даром, как однажды сказал ему Джон, «всегда появляться в нужный момент». Иными словами, Пит присутствовал почти при всех важных событиях истории БИТЛЗ и личной жизни Джона.
И, наконец, в отличие от бывших приятелей БИТЛЗ, Пит безболезненно перенес «магическое мистическое путешествие». Сейчас он — преуспевающий бизнесмен юга Англии, где живет со своим сыном Мэттью и женой Стеллой. Кроме того, он — один из тех милых людей, с какими только можно желать знакомства.
Работать с Питом в качестве его писателя и «битлолога» (как он, думаю, не без юмора часто именовал меня), было необычайным удовольствием. И я надеюсь, теперь хотя бы часть этого удовольствия сможет передаться и читателю.
Николас Шаффнер, Нью-Йорк, май 1983 г.
Глава первая: Мы двое (Two Of Us)
Мои воспоминания о нас двоих уходят своими корнями так глубоко, что я очень смутно помню то время, когда Джона Леннона еще не было в моей жизни.
Мы росли вместе в лесистом предместье Вултона, расположенного за тридевять земель от сурового прокопченного порта, знаменитые доки и викторианские памятники которого так упорно пытались уничтожить в последнюю войну. Своими лесами и всхолмленными полями Вултон тогда все еще очень напоминал английскую деревеньку; в нем даже была своя собственная маленькая молочная ферма. Владельцем ее был тихий и добрый джентльмен Джордж Смит, проворная жена которого (в девичестве — Мери Стэнли) приходилась Джону Леннону его тетушкой Мими.
Уже сам факт, что Смиты владели еще и собственным особняком на две семьи, был в те дни признаком солидного мелкобуржуазного достатка, даже, хотя его расположение на главной улице Вултона было едва ли столь же соблазнительно, как, скажем, на узких и тихих переулках, проходящих вдоль церкви Св. Петра и внушительного готического здания приюта «Земляничные поля». Но зато когда Смиты переехали в Мендипс, им открылся вид на великолепную площадку для игры в гольф и даже на маленькое живописное озеро.
Но, к несчастью, немецкие пилоты во время своих ночных рейдов часто принимали его очертания за мерсисайдские доки и перепуганные местные власти дали приказ захоронить это озерко под обломками разбомбленных домов. С тех пор оно превратилось в большое поле грязи под названием «Тип» («Верхушка»). Вскоре после этого важного события в остальном ничем не примечательной истории Вултона, Джон переехал жить к своей тете Мими в дом № 251 по Менлав-авеню.
Наша семья жила на Вэйл-роуд, 83, в стороне прямо противоположной от Типа и совсем рядом с Мендипсом. Мой отец, Джордж, был чертежником, а мать, Бесси, до середины 50-х работала в службе департамента по изучению общественного мнения, а потом занялась бизнесом, открыв в Вултоне небольшой универсам.
Как Джон Леннон, так и я, и моя сестра Джин, старший брат Эрнест (а также мой младший братишка Дэвид, в описываемые времена еще не родившийся), в меру своих сил радовались безоблачному детству. Кроме водопровода, нашему маленькому неоштукатуренному дому предстояло пережить и гордость за первый на Вэйл-роуд телевизор. Но это вовсе не означает, что мы были избалованными детьми, по крайней мере, по нынешним временам. Деньги на наши карманные расходы были строго ограничены, конфет мы почти не видели, а послевоенная карточная система была фактом, достойным сожаления. (В виде компенсации детям моего возраста постоянно напоминали о нашем главном счастье: спасении от фашистов, или «вшистов», как называл их в детские годы Джон.)
В шесть лет я, как мне казалось, утвердил за собой звание главаря небольшой шумной ватаги мальчишек из соседних домов. В нее входили: многообещающий буквоед Айвен Воэн и сын сержанта полиции Найджел Уэлли, которые тоже жили на Вэйл-роуд. Мое главенство, так или иначе, никем всерьез не оспаривалось, пока не стало давать себя знать присутствие одного из новичков нашего квартала. Звали его, как вы уже могли догадаться, Джон Леннон.
Каждое воскресенье Айв, Найдж и я обычно ездили на велосипедах в приходскую церковь Св. Петра, величественное здание, построенное, как и многие другие в Вултоне, из добываемого на местных каменоломнях красного песчаника. После того, как Джона зачислили в наш класс воскресной школы, его соучастие в наших еженедельных поездках выглядело вполне естественно, и постепенно он проник в «мою» банду. С самого начала этот светловолосый мальчишка в нелепых круглых очках был отнесен нашими родителями к категории «оказывающих дурное влияние». Он был не только выше, сильнее и агрессивнее любого из нас, но и гораздо более умудренным опытом этого огромного порочного мира.
Перед поездкой в церковь, каждому из нас давали по нескольку пенни для пожертвования. Джона необычайно удивило то, что мы использовали эти деньги точно по назначению, а не тратили их на жевательную резинку. И вот, по его наущению, мы начали ездить окольным путем до ближайшей кондитерской, и потом, когда садились на свои места в маленькой группке воскресной школы, громко щелкали резинкой.
Конечно, попечительницу нашей группы миссис Кларк такое кощунственное поведение приводило в смятение. Однако, будучи доброй христианкой, она никогда не могла заставить себя отобрать или уничтожить эту нашу «собственность». Напротив, она обычно протягивала руку и терпеливо просила отдать ей на хранение до конца урока совращающие нас с пути истинного лакомства. Все мы, и Джон — в особенности, получали огромное удовольствие, когда вдавливали остатки резинки в большие мягкие руки миссис Кларк. И хотя после этого ее пальцы зачастую слипались, добрая женщина прилагала все усилия, чтобы возвратить в конце урока каждый кусочек его законному владельцу. (Конечно, никто из нас тогда уже не имел ни малейшего желания делать с этими безвкусными комочками что-то еще.)
Однако, несмотря на подобные инспирируемые Ленноном развлечения, мои чувства к новому «соучастнику преступлений» находились в немалом смятении. Ведь, в конце концов, Джон был почти на год старше: я родился 4 августа 1941 года, а Джон — 9 октября 40-го, а разница, скажем, между шестью и семью была очень существенной. Я начал ощущать, что Найдж и Айв запросто отдают этому самодовольному новичку ту же дань уважения, которую раньше приберегали для меня одного. Конфликт был неизбежен…
И самую первую трещину в броне Джона я обнаружил в воскресной школе. Перед началом занятий миссис Кларк всегда просила нас полностью назвать свои имена. И тут выяснилось, что мать Джона в нетипичном порыве патриотических чувств одарила его вторым именем Уинстон (в честь того самого Черчилля). Хотя эта тайна была поведана миссис Кларк почти беззвучно и с явным нежеланием, я довольно быстро смог расшифровать два слога, невнятно пробубненные между «Джон» и «Леннон». Я также решил, что для розовощекого семилетнего мальчугана имя Уинстон было более чем странным. Нанося ему очередные оскорбления, я стал звать его «Винни» («Winnie» — уменьш. от женского имени Уинифред. — прим. пер.) каждый раз, когда чувствовал, что его нужно немного приструнить.
В компании Джон всегда делал вид, что не замечает моих упоминаний об этом ненавистном имени. Уже в том юном возрасте он понимал, что иное поведение будет лишь способствовать распространению его «страшной тайны» и побудит остальных членов банды присоединиться к моим неприятным крикам «Винни! Винни!». Напротив, он ждал возможности разобраться со мной персонально, с глазу на глаз.
И эта «разборка» произошла однажды днем, когда я мирно шел домой через Тип к месту пересечения Менлав-авеню и Вэйл-роуд. Посреди этого пустыря возвышалась насыпь, поросшая кустарником и небольшими деревцами — и вдруг оттуда появился Джон Уинстон Леннон. Без лишних слов он встал между мной и моей конечной целью пути. «Слушай, ты, — сказал он, не повышая голоса и глядя на меня сверху вниз через свои круглые очки, — если ты еще будешь называть меня «Винни», я из тебя сделаю отбивную».
«Ну давай, Винни, — ухмыльнулся я, — только сперва это нужно доказать и я хотел бы посмотреть, как ты это будешь делать.»
Доказательств долго ждать не пришлось. В следующую секунду я уже лежал на лопатках, а Джон, сидя на мне, придавливал мои бицепсы коленями.
«Итак, — торжествуя сказал он, прижав для верности к земле и мои кисти, — больше ты не будешь называть меня этим именем, правда?»
«Нет, нет, — пробормотал я. — Конечно, нет.»
«А ты в этом уверен, Шоттон?»
«Слушай, Джон, — сказал я, — твоя взяла, но если ты собираешься меня бить — давай, не откладывай.» Инстинктивно я почувствовал, что он не в состоянии ударить того, кого сделал беззащитным.
«Ладно, Шоттон. Давай, обещай, что больше не будешь звать меня «Винни» или говорить кому-то, что меня зовут Уинстон, и я тебя отпущу.»
«Обещаю.»
«А ты не врешь?» — я уже почувствовал, что его хватка ослабевает.
«Да провалиться мне на этом месте!»
После этого Джон освободил меня, а я сделал вид, что бегу домой. Но едва удалившись на безопасное расстояние, я обернулся и дал ответную очередь: «Винни-Винни-Винни-Винни-Винни!!!»
Если бы взглядом можно было убить, в следующую секунду я был бы мертв. «Ну, Шоттон, ты за это расплатишься!» — взбушевался Джон, показывая мне кулак.
«Ну тогда попробуй догнать меня, Леннон!»
Каждый из нас стоял на своем месте, как вкопанный, посреди грязного поля. Джон смотрел на меня, а я, ухмыляясь, — на него, и очень медленно на его лице появилась широченная улыбка.
Он понял, что его перехитрили, но оба мы понимали и то, что эта наша «разборка» в конце концов была не более — или не менее, чем просто игрой и шуткой. И в этот момент полного взаимопонимания, я понял, что мы с Джоном, по крайней мере, будем хорошими приятелями. (Джон, со своей стороны, убедился в том, что я заметно уступаю ему в чисто физической силе.)
Эта стычка в Типе — мое первое отчетливое воспоминание о Джоне Ленноне — ознаменовала настоящее начало нашей дружбе: в течение нескольких следующих лет нам двоим суждено было стать буквально неразлучными.
В целом я сдержал свое обещание. Я никогда больше не разглашал его второго имени и впредь называл его «Винни» в очень редких случаях, когда он вел себя со мной слишком нагло — и то вне пределов слышимости ушей наших друзей. Тогда он часто мстил мне тем же, обзывая меня «Снежным Комом», после того, как я неосмотрительно назвал ему свое самое первое прозвище. (Так меня окрестили няньки в больнице, где я родился, за мою белокурую голову, которая тогда казалась снежной.)
После того, как наши отношения стали напоминать отношения двух сиамских близнецов, Джон переименовал нас в «Шеннона и Лоттона». Уверен, вы согласитесь, что это звучало лучше, чем «Винни и Снежный Ком». Это также указывало на ряд зарождающихся черт характера Джона (хотя в то время я едва ли мог это знать).
Во-первых, он всегда — даже тогда — играл словами. А во-вторых, его перевертыш «Шоттон-Леннон» предвещал начало его стойкой привычки соединять свое имя с именами людей, с которыми он был наиболее близок. (Свидетельство тому — приписывание всех его собственных песен «Леннону-МакКартни» при БИТЛЗ или избавление в конце концов от ненавистного «Уинстона» в пользу «Джона Оно Леннона».) Я встречался с личностями столь же сильными и индивидуалистичными, как Джон, но в отличие от них, он всегда находил партнера. Его пугала уже одна мысль: остаться в одиночестве «со своей половиной».
Во всяком случае, динамичный дуэт «Шеннон-Лоттон» становился знаменитым, несмотря на достойный сожаления факт, что мы по-прежнему не учились в одной школе. (Джон, как и Айван Воэн, ходил в начальную школу в Давдэйле, а Найджел Уэлли и я — в начальную школу в переулке Мосспитс.) Хотя мы с Джоном, как уже было сказано, ходили в одну церковь, (где сладкоголосье занесло его в хор св. Петра), даже этому не было суждено продолжаться долго.
Хотите верьте, хотите — нет, но тогда Джону ничто не нравилось больше, чем поездки в церковь по воскресеньям. Его необычайно восхищала торжественная атмосфера в Св. Петре: она служила Богом данной рапирой для его неистощимого юмора и проделок. И если он не сеял смуту среди своих ребят по хору или не крал виноград, предназначенный для праздника Дня урожая, то просто заливался глупым смехом во время несения службы, что делал и я, особенно, когда он начинал импровизировать своими контрапунктами в гимнах и ритуальных обрядах.
К сожалению, наши знакомые по посещению церкви (не говоря о духовенстве) не испытывали восторгов от его распрекрасных проделок, и после бесчисленных предупреждений и Джону, и мне запретили участвовать во всем упомянутом. Насколько мне известно, мы были первыми прихожанами в истории церкви Св. Петра, которых удостоили такой чести. И тем не менее, ни мои родители, ни тетушка Мими, не были восхищены нашими «достижениями». Моим родителям, в общем-то, не было дела до Джона, они просто считали, что он оказывает дурное влияние. А тетушка Мими, которая всегда питала иллюзии о том, что ее племянник не может быть инициатором какого-то плохого поступка, в свою очередь, убеждала себя, что именно я сбиваю Джона с пути истинного. (Конечно, по нашему с Джоном мнению, и я, и он являли собой образец благотворного влияния, но этим мнением никто не интересовался.)
Однако в некоторой степени и Мими, и мои родители были правы. Джон был исключительно нахальным ребенком, демонстрировал редкостное неуважение к старшим и имел привычку говорить именно то, что думал. Более того, к девяти-десяти годам он уже отточил свою «шпагу остроумия» настолько, что мог дать нашим родителям (и кому угодно) сокрушительный отпор всякий раз, когда его пытались поставить на свое место. (Между прочим, мы всегда упоминали об опекунах Джона, как о его родителях, хотя и звали их «тетей Мими» и «дядей Джорджем».)
Постольку поскольку я предоставлял Джону благодарную аудиторию и сам получал огромное удовольствие, видя, как он свергает власть старших, я тоже отчасти был повинен в его наглости и дурном поведении вообще. А так как я во всем брал с него пример, и у моих родителей были все основания тыкать пальцем на Джона.
Приняв все вышесказанное во внимание, пожалуй, от меня было трудно ожидать восприятия Мими, как прекрасной собеседницы. Во всяком случае, она была сторонницей строгой дисциплины, привыкшей повышать голос по малейшему поводу (так, по крайней мере, нам казалось); а свою неприязнь к кому-то или чему-то обычно выражала словом «банальный» — эта категория, несомненно, включала и меня. Тем не менее, постепенно я очень полюбил Мими.
Я почти сразу почувствовал, что ее суровые манеры и сердитый блеск глаз чаще всего были просто ложным фасадом. У меня сложилось явное впечатление, что втайне Мими обожала меня и в немалой степени восхищалась, по крайней мере, некоторыми из «вздорностей», столь громогласно ею порицаемых. (В редких случаях она могла забыться настолько, что даже начинала хохотать над нашими злоключениями.)
Хотя Джон и пререкался постоянно с Мими, у них было несколько общих черт характера. Оба были упрямыми, прямолинейными и откровенными. Внешне ни тот, ни другая не пытались казаться «хорошими», но за их отталкивающей оболочкой скрывались легендарные золотые сердца. Свое огромное уважение и преклонение перед реакционной и желчной тетушкой Джон пронес через всю жизнь. Конечно же, Мими, как и моя мама, была доминантной фигурой в домашнем хозяйстве. Дядя Джордж, с годами ушедший от молочного бизнеса, в противоположность ей был ласковым, как дедушка. Поэтому Мими, чье остроумие было почти столь же отточенным, как и у племянника, регулярно упражнялась в быстроте своего языка еще и на Джордже. (Однажды Джон рассказал мне о грандиознейшем скандале Смитов, произошедшем после того, как Джордж проиграл на скачках почти целое состояние.)
Джон считал своего дядю одновременно союзником и удивительно добрым стариком. Когда Мими в наказание запирала Джона в спальне и оставляла его без ужина, Джордж обычно тайно переправлял ему несколько булочек. А если его жена бывала чем-то занята, Джорджа можно было даже уговорить устроить поход в кино (это развлечение Мими категорически не признавала).
Весь тот период жизни Джона дядя Джордж был его ближайшим старшим наперсником, и я помню, как необычайно взбудоражился Джон, когда этот пожилой человек научил его первому «неприличному стишку». Джон декламировал мне его так часто, что я до сих пор помню этот стишок:
Едва ли Мими одобрила бы подобные вещи, особенно, если учесть, что Джону тогда было не больше девяти лет!
Но, несмотря на свое стремление совершать общественно-корректные поступки, Мими обычно предпочитала своим состоятельным соседям добрую компанию книг. Вместе с тем, она поддерживала тесный контакт со своими четырьмя сестрами: Энн, Элизабет, Хэриет и Джулией, (каждая из которых, между прочим, приняла участие в воспитании Джона в детские годы). Хотя Энн и Элизабет вскоре уехали из Ливерпуля, «тетушка Хэриет» жила на Менлав-авеню неподалеку от Смитов и продолжала принимать активное участие в каждодневной жизни Джона.
Фактически, первые пять лет Джон провел со своей матерью и ее родителями в доме номер 9 по Ньюкасл-роуд, справа от Пенни Лейн, в соседстве с грязными улочками центральной части и небогатыми «оазисами» Вултона как в географическом, так и в моральном смысле. Из пяти сестер семьи Стенли Джулия, периодически работавшая билетершей в кинотеатре, считалась отщепенкой и была совершенно не похожа на Мими с ее буржуазными амбициями. Ее брак с судовым официантом Альфредом Ленноном в 1938 году был одним из наиболее эксцентричных и импульсивных (если не откровенно скандальных) поступков Джулии.
Ко времени рождения ребенка Фредди ушел в плаванье и иногда наносил лишь кратковременные визиты. Когда его мизерные переводы перестали приходить вовсе, Джулия нашла себе «нового официанта». Совместную жизнь ей предложил Бобби Дукинс (ошибка Пита. Его звали Джон Дукинс. — прим. ред.), имевший постоянную работу в одном ливерпульском отеле в нескольких автобусных остановках. И хотя формально она не была разведена, все новые соседи узнали ее как миссис Дукинс, и в качестве таковой она родила единокровных сестер Джона — Джулию и Джэклин. У Бобби Дукинса, кроме того, были свои дети и он не хотел принимать чужого ребенка, поэтому бездетная Мими держала Джона «на примете», хотела вырастить его и дать ему полноценное воспитание среднего класса английского общества.
Все пять сестер Стенли были исключительно независимыми женщинами с сильным характером и многие выдающиеся качества Джона были заложены именно ими, и в первую очередь — его необыкновенно развитое чувство юмора. Даже Мими в компании любой из своих сестер давала волю своему смеху, хотя и утверждала, что и в этом должен быть «смысл».
Из всех черт характера Джона меня в первую очередь привлекло его чувство юмора. Более того, наши отношения основывались на том, что и мое чувство юмора имело подобные масштабы. Начиная с той исторической стычки в Типе (когда каждый из нас точно понял, что было на уме у другого, и последовавшего примирения после обоюдного осознания юмористических аспектов этой ситуации), мы с Джоном постепенно отработали свой собственный способ общения до такой степени, что другие иногда удивлялись, не телепаты ли мы.
Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что уже тогда Джон воспринимал окружающий мир почти как сюрреалистический карнавал. Жизнь представлялась ему непрерывным спектаклем и он мог найти что-то причудливое даже в самом заурядном событии (не говоря о тысячах правил и предписаний, стоявших на пути наших ежедневных поисков свободы и счастья). Независимо от того, был ли он наблюдателем или участником, Джон постоянно выдавал комментарии по поводу всего происходившего, и эти не по годам едкие замечания сопровождались озорным блеском светло-карих глаз.
Быстрота языка Леннона была такой, что мой большой друг детства Билл Тернер, с которым я познакомился в начальной школе, до сих пор помнит мгновенную реакцию Джона, когда он однажды попробовал поправить Джонову грамматику. Рассказывая об одном из наших приключений группе приятелей, Джон начал предложение словами «Пит и мы…»
«Ты хотел сказать: «Пит и я», — вмешался Билл.
«Молчи, Тернер, тебя там не было!» — отпарировал Джон и, не делая паузы, закончил начатую фразу.
Хотя Джон редко шутил в обычном смысле, он был бесподобен постоянно. Почти каждое его слово имело юмористический оттенок, по крайней мере, в данной ситуации. В моей компании он обычно «выдавал» хохмы с самым серьезным видом. Он мог рассмешить меня одним-единственным словом, едва уловимым изменением интонации или почти незаметным жестом.
Этот талант, без ограничений использовавшийся в присутствии наших родителей и учителей, создавал нам обоим (но главным образом — мне) множество неприятностей. С другой стороны, для Джона стало обыкновением использовать свою волшебную способность видеть самые безвыходные ситуации в оптимистическом свете. В какие бы переплеты мы ни попадали, Джон всегда мог вызвать в нас обоих доходящий до завывания хохот.
Он как бы по частям передавал мне свою картину восприятия происходящего. Когда я настраивался на это «видение», мой смех побуждал Джона дополнять его деталями. Это, в свою очередь, заводило меня еще больше, пока мы оба в конце концов не заходились от смеха так, что буквально не могли ни говорить, ни стоять, ни даже дышать (что часто случалось со мной).
Последнее из этих явлений Джон прозвал «скрипением» — высокие звуки, которые я издавал, с трудом хватая ртом воздух. «Ну что, Пит, давай-ка послушаем, как ты скрипишь», — говорил Джон и доводил меня сначала до такого состояния, когда я начинал беспомощно корчиться на полу, а потом усиливал «пытку» до коликов в животе и кратковременной слепоты из-за неудержимых слез.
После того, как я приходил в такое состояние, никто уже не мог облегчить мои страдания. Даже самые радикальные меры родителей и учителей не могли привести меня в чувство. Благодаря Джону я почти умирал со смеху по меньшей мере тысячу раз…
Как единственный ребенок, живущий в четырехкомнатном особняке, Джон очень любил простор и одиночество. Отчасти поэтому мы и околачивались у него гораздо чаще, чем у меня. (Второй причиной было то, что мания безопасности моих родителей эффективно отбивала охоту войти в дом № 83 по Вэйл-роуд почти у всех). Любимой комнатой Джона, кроме маленькой спальни наверху, была «утренняя», смежная с большой кухней в дальнем конце дома, где мы с Джоном торчали почти безвылазно.
Впрочем, одно время владения Джона были ограничены решением Мими повысить семейные доходы, сдавая две комнаты внаем. Новыми жильцами оказались студенты-медики из местного университета. Когда Мими уходила из дому, мы с Джоном дразнили их, отвлекали и мешали заниматься, но они ей никогда не жаловались, опасаясь охлаждения наших отношений. Наоборот, они умиротворяли нас, неизмеримо увеличивая наш репертуар неприличных песенок и анекдотов (не говоря о словарном запасе). Как нам стало известно в том юном возрасте, познания студентов-медиков в области анатомии человека являются просто безграничными.
К великому сожалению Джона, во владения Смитов входил еще довольно крупный земельный участок. Обязанностью Джона была стрижка газонов. Ничто он так не ненавидел, как послеобеденную борьбу с допотопной ручной газонокосилкой Джорджа и всеми силами старался избавить себя от этой работы. «Значит так, — сухо информировала его Мими, — пока не подстрижешь газоны, никуда не пойдешь!»
В связи с этим следует отметить, что всю свою жизнь Джон старался избегать каких бы то ни было серьезных физических занятий. Он был из тех, кого мы звали «ленивыми педерастами». Джон всячески чурался любых форм организованного спорта, что касается досуга, то он не играл ни в футбол, ни в крикет. (А на занятиях по физкультуре главным был девиз: «Ребята, мы делаем из вас полноценных и здоровых английских джентльменов, даже если это вас угробит!»)
Еще в доме Леннонов жили обожаемые Джоном дворняжка Салли и два сиамских кота. Он очень любил животных, но коты, несомненно, были его фаворитами. И если иногда он бывал жесток с людьми, у него ни разу не возникало даже мысли причинить боль чему-то четвероногому и хвостатому.
Благородство по отношению к животным было одной из черт характера маленького Джона. Другой, сразу вспоминающейся чертой, была его щедрость, инстинктивное желание дать всем окружающим возможность соучаствовать в любой маленькой радости жизни. Когда у Джона появлялся пакетик конфет, что случалось редко, ибо он, как и я, был очень ограничен в карманных средствах, он автоматически делил их поровну между всеми, кто оказывался рядом. Если конфет было двенадцать, а ребят четверо, каждый получал по три.
Что касалось моей арифметики, она была несколько иной: я прятал лакомства в кармане и ждал, пока не останусь один.
Если бы вдруг рядом оказался только Джон, пожалуй, я предложил бы ему одну конфетку. (Даже для себя я жадничал: прирожденный скряга, всегда откладывающий на традиционный черный день.)
И по крайней мере в этом отношении Джон повлиял на меня в лучшую сторону. Все же, такая близкая дружба, как наша, не могла держаться на столь неравных отношениях. «Слушай, Пит, — посоветовал он, — не будь ты таким прижимистым говном всю жизнь. Ты похож на какую-то ё… белку, которая все время прячет свои орехи. Поделись ты хоть немного с этим ё… миром.»
«Брось эти ё… конфеты в воду — и они будут возвращены тебе сторицей.» Хотя я убежден, что никто не возьмется порицать столь великодушные христианские изречения, внимательный читатель может заметить в них ряд выражений, которые едва ли восхитили бы взрослых. Однако, в том юном возрасте — максимум одиннадцать лет — мы именно так и разговаривали. У нас появилась привычка употреблять при беседе слова ё…, б…, и п… еще до того, как мы узнали (не без маленькой помощи наших друзей-медиков), что именно означают эти цветистые термины. В связи с этим читателя следует предупредить, что в дальнейшем эта книга изрядно подсолена подобными диалогами.
Наша речь стала со временем настолько ужасной, что как-то раз Джон предложил устроить соревнование: кто из нас сможет дольше обходиться без любимых пятибуквенных слов. «Мы так привыкли материться, — сказал он, — что можем выдать такое и при наших родителях. Я, например, могу пить чай и запросто вдруг брякнуть: «Мими, дай-ка сюда эту ё… соль», и тогда разразится ох…й скандал! Как ты думаешь насчет пари, Пит?»
Хоть мы с Джоном и поспорили на ириски или что-то в этом роде, единственным результатом было то, что мы настолько усиленно думали, прежде чем сказать, что следующие несколько часов провели почти в полном молчании. «Ладно, х… с ним, — сказал Джон в конце концов. — Этот идиотизм мне надоел. Давай перейдем на нормальный разговор.»
С юридической точки зрения пари выиграл я, но облегчение от его отмены было столь велико, что я никогда не настаивал на выполнении данного обещания.
Столь же неприличные, как и наш язык, мы с Джоном (вместе с Найджелом и Айвеном) грешили и гораздо более серьезными нарушениями общественного порядка. К этому относилось все: от небольших проступков и актов мелкого вандализма до магазинных краж, которые Джон загадочно именовал «шлепаньем по коже», а также менее легко квалифицируемые мелкие преступления.
Одна из самых первых «проверок» состояла в том, что, забравшись на дерево в конце Менлав-авеню, нужно было раскачиваться на веревке перед приближающимися двухэтажными автобусами. Главным в этой игре было ускользнуть от опасности в самую последнюю секунду. Другое знаменитое развлечение заключалось в забрасывании комьями земли машинистов допотопных паровозов, которые все еще ходили через мост Вест-Аллертон каждые двадцать минут или что-то около того. Почти все такие диверсии неизменно придумывал Джон, прославившийся тем, что во время одной послеобеденной прогулки по Вултону невзначай запустил кирпичом в уличный фонарь.
К тому времени я уже полностью отрекся от своего бывшего предводительства нашей «бандой четырех». И хотя я вполне мог вести себя агрессивно и даже неистово, когда этого требовали обстоятельства, я был — и остаюсь — довольно стеснительным и добродушным существом, в отличие от прирожденного главаря, каким зарекомендовал себя Джон.
Джон, в отличие от меня, инстинктивно тяготел к центру всеобщего внимания и его сила, как личности, всегда гарантировала ему большую и восторженную аудиторию. Что же касалось нашей банды, то Джон был ее главным комиком и философом, бандитом и звездой. И я, равно как и Найджел и Айвен, почти всегда соглашался с большей частью его идей и предложений.
Однако при несовпадении наших взглядов, я без колебаний заявлял ему об этом, или же наносил легкий укол его раздутому самомнению, когда требовалось спустить его с небес. Несмотря на свою готовность играть при нем второстепенную роль, я никогда не считал себя лакеем Джона. Он всегда презирал какое бы то ни было прихлебательство. Не будь наши взаимоотношения основаны на взаимном уважении, они едва ли смогли бы так бурно процветать свыше трех десятилетий. Короче говоря, мы были лучшими друзьями.
Последнее препятствие на пути к нашей бессмертной дружбе было устранено осенью 1952 года, когда мы оба учились в средней школе Куари Бэнк, респектабельном учебном заведении примерно в миле от Вултона. Естественно, каждое утро мы с Джоном на велосипедах уезжали туда и весь день наслаждались обществом друг друга.
Тогда наши развлечения можно было сравнить хотя бы с развлечениями Айвена Воэна, который после окончания Ливерпульского колледжа смог продолжать свою академическую карьеру вне досягаемости тлетворного влияния Джона. Айвен был, несомненно, самым образованным и интеллектуальным членом нашей банды: он на полном серьезе предпочитал древнегреческую драму и латинскую поэзию выбиванию уличных фонарей и запугиванию старушек. Наименее подающий надежды из нас, Найджел Уэлли, был переведен в школу «Блукоут» (синих курток) рядом с Пенни Лэйн.
Наша с Джоном карьера в Куари Бэнк будет подробно описана в следующей главе. Но один из инцидентов заслуживает незамедлительного упоминания прямо здесь, поскольку ему было суждено стать второй важной вехой в нашей дружбе.
Через несколько месяцев учебы в первом классе я отчетливо почувствовал, что Джон принимает нашу дружбу за нечто само собой разумеющееся и не требующее доказательства. Будучи хулиганистым, он быстро избрал меня безвредной мишенью для своего уничтожающего сарказма.
Язык его был одинаково быстрым и острым, и попытки нанести ответный удар чаще всего лишь усугубляли дело. Словесная дуэль с Джоном Ленноном всегда была очень опасной игрой.
Однако, в конце концов, я понял, что не должен позволять ему превращать меня в своего козла отпущения. Инцидент произошел после лабораторных занятий, во время которых он забавлял класс репликами в мой адрес. И хотя из класса мы, как всегда, вышли вместе, я немедленно выразил свое негодование вслух: «Джон, мне это надоело, — сказал я. — Если тебе хочется быть таким, я ни х… с тобой больше не играю.»
Вместо ответа Джон начал постукивать меня по голове велосипедным насосом, который у него был тогда в руке. «Ты дурак, Леннон, — повторил я. — Не смей, со мной так обращаться!»
«Что, яйцами несешься? — ухмыльнулся он, продолжая долбить меня насосом с возрастающей силой. — Что, Шоттон, яйцами несешься?» (Это школьное выражение неизвестной этимологии означало нечто вроде «начинаешь сердиться?».)
«Итак, Пит, — подумал я про себя, — твой час настал. Ты сказал Джону остановиться — он не остановился. Хотя бы раз в жизни ты должен за себя постоять и сделать это нужно немедленно, сейчас.» После этого я собрал всю свою силу и смелость и без остатка вложил их в удар по носу Джона.
К моему удивлению и смятению, не произошло ничего. Вместо того, чтобы, как положено, упасть на пол, Джон неподвижно стоял и смотрел на меня с озадаченным видом. Впрочем, этот взаимный шок довольно быстро перешел к граду зуботычин, завершившихся захватом моей шеи в «двойной Нельсон», как мы его называли. Но прежде, чем он смог причинить мне серьезную боль, на «ковре» появился какой-то учитель и оторвал нас друг от друга. «Я ожидал увидеть чью угодно драку, но только не вашу!» — разъярился он, таща нас за собой в класс для краткой лекции для задницы. «Среди всех — вас двух…» И хотя мы продолжали обмениваться испепеляющими взглядами, я и Джон должны были формально, по старой английской школьной традиции, пожать друг другу руки.
Несмотря на то, что я был полностью готов к его мести во время обеда, Джон вдруг решил первым разбить лед одной из своих острот с серьезной миной, в которой я сразу почувствовал предельную близость к фразе «Я прошу прощения». В свою очередь, мой смех вызвал дружескую улыбку на лице Джона и все «старое» было забыто к великому разочарованию наших одноклассников, ожидавших грандиозного «махача» и завидовавших моей близости к Джону.
Начиная с этого дня его колкие замечания почти полностью исчезли, а наши ссоры стали очень редкими и быстротечными. Более того, Джон стал чем-то вроде моего защитника в такой степени, что я мог рассчитывать на его поддержку в самой неприятной ситуации. Точно так же и я всегда был «за Джона», если в беде оказывался он.
Много лет спустя Джон признался, что инцидент с велосипедным насосом стал поворотным пунктом в его отношении ко мне. «После этого я действительно начал уважать тебя, — сказал он. — Я видел, что ты меня боишься, но у тебя хватило мужества сказать: «С меня довольно!» Но меньше всего я ожидал, что ты ударишь меня, это было одним из самых неожиданных событий в моей жизни. Я был уверен, что знаю тебя, как себя самого.»
Вскоре после этого конфликта мы с Джоном дали клятву всегда оставаться лучшими друзьями независимо от того, каким будет наше будущее. Для скрепления этой клятвы мы решили стать кровными братьями — эта идея была заимствована из «Тома Сойера» или «Гекльберри Финна». Хотя фанатиком Марка Твена в большей степени был я, а не Джон (в то время его литературным героем был Джаст Вильям, необузданный 11-летний парнишка из сериала Ричмэла Кромптона), но окончательный поворот к нашей дружбе связан именно с ним. По-моему, сильное тяготение к этому появилось у Джона еще из-за того, что он был единственным ребенком в семье и втайне тосковал по единоутробному брату или сестре.
Во всяком случае, и его, и мое воображение загорелось идеей надрезать наши руки и прижать их вместе, распевая при этом напыщенные, непонятные речи о том, как мы, несмотря ни на что, даже умирать будем вместе. Мы единодушно сошлись на том, что церемония эта должна состояться в одной из наших любимых берлог: в гараже заброшенного дома в конце Вэйл Роуд, месте, подходящем для привидений, заполненном паутиной и темнотой и пропитанном экзотическими запахами затхлой резины, машинного масла и мочи.
В назначенный час, под вечер, в конце длинного школьного дня, мы забрались в гараж через разбитое окно. «Все это здорово, Джон, — сказал я. — Но чем же мы будем руки-то резать?»
«Не переживай, — ухмыльнулся Джон, снимая со спины ранец и извлекая из него нож с костяной ручкой, который он стащил у своей тетки.
«По-моему, он тупой, Джон», — запротестовал я. Он и вправду был настолько тупым, что им, пожалуй, нельзя было отрезать даже растаявшее масло.
«Да брось ты, Пит. Ты что, трусишь, или что?»
«Да нет, но… — вообще-то перспектива отпиливать себе кисть руки мне не улыбалась. — А без этой штуки мы клятву не сможем дать?»
«А как же кровные братья? — настаивал он, вдавливая нож в ладонь. — Будем мы становиться кровными братьями или нет?»
После этого единственным, чего я хотел, было не показаться трусом. «Будем!» — смело сказал я, и стал ждать, когда польется кровь.
Джон, не теряя времени зря, начал работать лезвием, однако, несмотря на боль, не смог добиться чего-то более красного, чем широкий рубец на ладони. «Ё… меня в рот, — сказал он. — Оно и вправду слегка туповато.»
Я вздохнул с облегчением. «Да и черт с этим ножом, Джон. Мы и без него сможем дать клятву.»
Поэтому, прижав друг к другу наши руки с воображаемой кровью, мы произнесли клятву в своем вечном братстве. А потом пошли домой пить чай.
Несмотря на конформизм и формализм умственного склада своих обывателей, Вултон по-прежнему оставался желанным местом для времяпрепровождения двух неугомонных мальчишек. Его леса и поля уже отводились под строительство жилых домов, но мы с Джоном не страдали от уменьшения числа тайных «берлог» и «площадок для игр», привлекательность которых только возрастала, если для обычной публики они были недоступны.
В диаметрально противоположной стороне от «Земляничных полей» находилось другое наше убежище, известное всем под названием Фостерских полей. Эти необитаемые владения, окруженные высокой и толстой стеной из местного песчаника, занимали склон небольшого холма. На наш взгляд, его главной достопримечательностью был мрачный пруд, кишевший жабами. И хотя мы не умели плавать, мы периодически бороздили его воды на незатейливом плотике. Однако, конструкция последнего была далека от совершенства — возможно потому, что мы построили его сами — так что все нередко кончалось отжиманием мокрой одежды.
Посмей мы в таком виде вернуться домой — и Джона, и меня ожидали бы крупные неприятности, особенно с тех пор, как тетушка Мими и моя мать категорически запретили нам даже близко подходить к этому жутковатому на вид пруду. Эти соображения зачастую обязывали нас разводить костер, снимать с себя все промокшее и ждать, пока и одежда, и наши дрожащие тела не станут сухими.
Однако, время от времени наш маленький огонек умудрялся выйти из-под контроля — в таких случаях мы с Джоном совершали акт быстрого бегства до того, как приезжали пожарники. Тогда мы с невинным видом занимали место в толпе зевак, глазеющих, как пожарники тушат огонь и процедура эта настолько восхищала нас, что мы начали устраивать пожары просто для удовольствия.
Своего апогея наша пиромания достигла вечером Дня Гая Фокса (День Гая Фокса (Guy Fawkes) — британский национальный праздник, знаменующий попытку Гая Фокса взорвать здание Парламента 5 ноября 1605 года. — прим. пер.) и стала самой изощренной (и предосудительной) из всех наших шалостей. В течение нескольких недель, предвкушая традиционный костер Пятого Ноября, все подростки Вултона занимались созданием гигантского чучела легендарного мистера Фокса и собирали огромную кучу валежника, газет и старой мебели. Все это надлежащим образом складывалось в Типе, долгое время служившем местом для ежегодного костра в Вултоне.
Вечером 4 ноября мы с Джоном, Айвеном Воэном, Билом Тернером и их приятелем по ливерпульскому колледжу Леном Гарри без злого умысла играли в Типе, когда Джон, созерцая 20-футовую кучу разного мусора и деревянных предметов, вдруг заметил: «А почему бы нам не подпалить этого придурка прямо сейчас?». Мы все сразу согласились, что это — самая гениальная идея из когда-либо слышанных нами. Я сбегал домой и утащил с кухни несколько спичек, которые были незамедлительно применены к огромной куче горючего барахла. После этого мы отправились на высокую насыпь у Менлав-авеню ждать «начала представления».
Через несколько минут уже буквально весь Вултон грелся в зареве преждевременно вспыхнувшего костра. Десятки ребятишек, словно мыши из своих норок, одновременно высыпали из своих домов и с криками отчаянья понеслись к Типу. Некоторые были вооружены ведрами с водой, другие же пытались загасить пламя струйками из собственных «краников».
Однако, результаты нашей злой проделки настолько превзошли наши ожидания, что чувство триумфа быстро уступило место неподдельной тревоге. Если бы мы в тот раз попались, судьба самого Джека-Потрошителя показалась бы бледной. Мы вдруг поняли, что в адовых отблесках огня нас, стоящих на насыпи у Менлав-авеню, словно четырех мартышек, без труда могут увидеть. Осознав это, мы бросились в спасительную темноту и через поле для гольфа устремились в свои респектабельные дома. На этот раз мы были в слишком параноидальном состоянии, чтобы прибегнуть к обычной практике слияния с толпой и участия в разговорах о личности поджигателя.
Костровое бедствие на несколько дней стало темой всех разговоров в Вултоне. На следующее утро, к ужасу Била Тернера, к нему во дворе коллежда подошел самый грозный хулиган окрестностей Брайан Хэллидей. «Если я вдруг узнаю, кто запалил наш ох… костер, — процедил он сквозь зубы, — я их всех упи… на х…!»
«Конечно, Брай, — согласился Билл, чувствуя, что собственный голос может выдать его в любой момент. — Надо же было додуматься до такой б… выходки!»
К счастью, все мы сумели сохранить наше хладнокровие и тайну.
Вскоре после этого наши частные владения в Фостерских полях захватили бульдозеры и рабочие, закладывавшие фундамент под первое современное здание Вултона. Естественно, поначалу мы негодовали по поводу этого вторжения, но вскоре нам довелось по достоинству оценить и появившиеся с ним возможности для новых приключений и волнений.
Как только приблизилось завершение строительства первых зданий, мы начали играть в них после ухода рабочих. Занимаясь этим, мы вскоре начали играть в вопросы и ответы (игра, в которой ответы не соответствуют вопросам. — прим. пер.) с «оборзевшим сторожем» — стареньким пенсионером, охранявшим стройку после рабочего дня. Этот несчастный малый с сигаретой в выцветшей шляпой стал основным объектом наших развлечений. Мы безжалостно издевались над ним, хотя при этом приходилось остерегаться его упорных попыток поймать нас.
В самое опасное положение мы попали однажды поздно вечером, когда этот оборзелый сторож ухитрился загнать меня и Джона в один из новых домов. Мы бросились вверх по лестнице, готовые к тому, что в любую минуту нас накроет луч его фонаря. «Я знаю: вы — наверху, — орал он снизу. — Сейчас я вас поймаю! На этот раз вы попались!» Мы слышали, как он поднимается по ступенькам. Единственным спасением был раскрытый настежь люк под самым потолком, попасть в который можно было по лестнице, весьма кстати оставленной внутри здания. Не теряя времени, мы залезли в это темное убежище и втащили за собой лестницу.
Произведя тщательное обследование комнат верхнего этажа, наш преследователь был явно озадачен, увидев, что все они пусты. «Я знаю: вы где-то здесь», — продолжал бормотать он, хотя в его голосе уже предательски появилось заметное волнение. Этого было достаточно, чтобы побудить вдохновленного Джона сыграть свою знаменитую роль привидения. Звуки его жутких стонов и нечленораздельного бормотания, эхом отдававшиеся в темном пустом доме, были настолько причудливыми, что мы едва сдерживали смех. Однако к нашему удивлению и радости, выступление Джона оказало совершенно противоположный эффект на несчастного старого сторожа, который успел пронестись по лестнице вниз и выскочить из здания быстрее, чем можно произнести имя Эдгара Аллана По.
В один из последующих дней мы с Джоном решили напугать оборзелого сторожа еще больше, когда увидели, что он ковыляет с газеткой в отхожее место строителей. Закрытое с трех сторон листами рифленого железа, это заведение состояло из простой доски с дыркой, лежавшей над котлованом и упиравшейся в стену здания из песчаника. Поскольку строительством крыши себя никто еще не утруднил, ничто не могло помешать нам забраться на высокую, широкую стену и забросать голову облегчающегося сторожа кусками дерна. Именно это мы и сделали.
Наша жертва настолько испугалась, что и шляпа, и сигарета, и газетка вместе с их обладателем полетели в вонючий котлован.
Визжа от смеха, мы с Джоном побежали по стене. Но едва мы успели добраться до земли, как из уборной вылетел разъяренный оборзелый сторож. Его брюки все еще болтались на лодыжках, а по ногам струилось дерьмо. «Все равно я до вас доберусь! — орал он у нас за спиной. — Ну, погодите!!!»
Но он так и не поймал нас. Не удалось это и другим людям, преследовавшим такую же благородную цель: привлечь нас к ответу.
Вероятно, и Джон, и я родились под счастливой звездой. Мы поняли, что если мы вместе, нам все может сойти с рук.
Глава вторая: Негодный мальчишка (Bad Boy)
Средняя школа (колледж) для мальчиков — «Куари Бэнк» — кирпичная крепость, увитая плющом, в которую мы с Джоном впервые вошли в 11-летнем возрасте (все еще в коротких штанишках), тогда только отпраздновала свое 30-летие. Однако нам это здание, выдержанное в английских академических традициях, казалось лет на двести древнее. Все учителя чинно шествовали в мрачных черных мантиях, а мальчики должны были носить школьный галстук и специальные черные нашивки с эмблемой Куари Бэнк: красная голова оленя с золотыми рогами и девиз на латыни — «Ex hoc metallo virtutem» («Из грубого сего металла куем мы добродетель» — попробуйте-ка представить себе Джона Леннона пять лет подряд носящим такое на своей груди у сердца!).
Хотя Куари Бэнк не была закрытым заведением, в ней существовала система разделения на дома, по которой учащихся группировали согласно их месту жительства. Так, например, мы с Джоном попали в «Вултонский дом». В обязанности заведующего входило ведение учета плохих оценок учащихся, каждая из которых классифицировалась как мелкое нарушение школьной дисциплины. Две такие оценки назывались «задержкой», т. е. одним часом принудительного труда после занятий — уборкой мусора или листьев. За годы учебы в Куари Бэнк нам с Джоном пришлось убрать граблями столько листьев, сколько другим не доводилось видеть за всю жизнь. За более серьезными проступками следовал визит в кабинет директора (к этому мы тоже постепенно привыкли), а нередко — и к наказанию розгами, исполняемому лично директором, ибо в 50-х годах в Куари Бэнк телесные наказания все еще были в моде.
Само по себе наше поступление в Куари Бэнк еще не давало никаких гарантий на то, что мы с Джоном закончим ее в одном классе, поскольку каждый класс делился еще на три разных класса. Но, к счастью, первоначально нас обоих признали вполне достойными класса «А». Джон в начальной школе продемонстрировал определенные способности к искусству и языку, а я — к математике и науке. Но наши радужные надежды с треском рухнули и на второй год мы были переведены в класс «Б». Нас это только обрадовало, ибо поток «А» состоял из одних слюнтяев. Впоследствии, как будет подробно документировано на следующих страницах, мы постепенно стащили друг друга до уровня «В» одних заядлых бездельников, хулиганов и недоумков. А так как наша академическая репутация упала до соответствующего уровня, мы имели возможность продолжать знаменитую игру дуэтом практически без помех извне всю свою школьную карьеру.
Короче говоря, мы с Джоном прохохотали Куари Бэнк от начала до конца. Научились мы там немногому, но зато благодаря Джону, пять лет, проведенных там, мне очень понравились. Уверен, то же самое сказал бы обо мне и Джон.
Мы довольно быстро зарекомендовали себя клоунами своего класса и без опаски прятали на дно своих ранцев будильники, начинавшие звенеть посреди урока, наполняли велосипедный насос чернилами и стреляли ими в наименее бдительных учителей, когда они стояли к нам спиной, подвешивали классную доску так, что она падала, как только на ней начинали писать.
И если нам все удавалось, вина за наши выходки всегда падала на чужие головы. Обнаружив, что стенные колонны в нашем классе полы внутри и их можно открыть, мы решили захоронить там наиболее кроткого и услужливого одноклассника как раз перед уроком французского. (По традиции, учитель входит в класс одновременно со звонком и к этому моменту все должны сидеть за партами.) И вот, где-то посреди урока, наша жертва, по всей видимости, начала страдать от нехватки воздуха и вывалилась прямо из стены с оглушительным грохотом.
«Симмонс! — рявкнул учитель французского. — Сядь на свое место и прекрати дурачиться!» И хотя ошеломленный и наполовину задохнувшийся Симмонс никогда не осмелился бы выдать нас, в конце концов, досталось и нам, потому что мы были не в силах сдержать хохот от успеха своей проделки.
С нашим талантом получать плохие отметки мы с Джоном привыкли оставаться в школе после занятий по нескольку раз в неделю. Но когда стало явным, что наше поведение от этого не улучшается, нас отправили на первый тет-а-тет с директором.
Эрни Тэйлор, высокий джентльмен внушительного сложения с седой копной волос, хотя и был фигурой, отдаленной от преподавания, тем не менее, вселял в учеников страх одним своим видом. Директор Куари Бэнк номинально был лицом, только возглавлявшим школу и не вел никаких уроков, а потому страдал от недостатка непосредственного контакта с учениками, и в том числе с нарушителями порядка. Кроме утренней «линейки» мы видели его всего несколько раз в день, и то случайно и обязательно — в черной мантии. Поэтому одной перспективы оказаться с ним один на один в его кабинете было достаточно, чтобы вселить ужас в сердце даже самого неисправимо язвительного наглеца.
Пока мы ожидали приема у директора, Джон начал играть на моих нервах. «Говорят, м-р Тэйлор хранит свою розгу в вельветовом кожухе, покрытом бриллиантами», — прошептал он. Его слова прервал голос директора из кабинета: «Пусть один из вас войдет!»
Джон великодушно согласился держать ответ первым, а я остался нервно переминаться с ноги на ногу в коридоре. Сквозь дверь до меня донеслись повышенные тона голоса м-ра Тэйлора — слов я не мог разобрать, — уступившие затем место звукам страшной розги, охаживавшей задницу Джона. Хотя именно к этому мы были готовы, я никак не ожидал увидеть своего «соучастника преступления» после «суда Божьего» выползающим на четвереньках и стонущим так, словно он был искалечен на всю жизнь.
Конечно, кривляния Джона лишь усилили предчувствие моей близкой гибели. «Господи, Джон, — прошептал я, — что там такое — какая-то ох…я камера пыток, что ли?»
Продолжая завывать на все лады и ползти на четвереньках, Джон тем не менее не смог сдержать улыбки от произведенного на меня эффекта: как выяснилось позже, прежде чем войти в кабинет директора, нужно было миновать маленький вестибюльчик, в котором Джон и принял такую драматическую позу, выходя назад. Раскусив его розыгрыш, я в свою очередь захихикал как раз перед тем, как войти к директору. Ясное дело, м-ру Тэйлору это не понравилось.
«Если ты думаешь, что это смешно, Шоттон, — рявкнул он, — тогда быстро наклоняйся над креслом! Я покажу тебе, как смеяться!» Вслед за этим он задал мне самую жуткую порку в моей жизни.
Джон ожидал меня в конце коридора как ни в чем ни бывало и улыбался во весь рот. «Леннон, ты сволочь, — заорал я. — Из-за тебя, м…, меня там чуть не убили!»
В следующий раз, когда меня и Джона отправили в кабинет директора, мы к своему великому облегчению узнали, что м-р Тэйлор в тот день куда-то уехал. На его месте восседал заместитель директора, м-р Галэвей, омаразмевший учитель географии, известный тем, что, надев очки на свою лысину, он потом половину урока не мог их найти.
С самого начала м-р Галэвей допустил ошибку: пока он пытался отыскать наши фамилии в большой черной «Книге наказаний» директора, мы оказались у него за спиной. «Гмм… так, сейчас посмотрим, — бормотал он. — Кажется, твоя фамилия Шоттон… Да, правильно…» Пока м-р Галэвей продолжал бубнить в том же духе, Джон протянул сзади руку и пощекотал последние пучки его седых волос.
Естественно, пожилой человек решил, что его беспокоит муха и рассеянно прихлопнул себя по макушке. Джон сразу убрал руку, а как только препятствие исчезло, опять возобновил «состязание». Эта ловкая игра рук продолжалась несколько минут, пока нас обоих не стало распирать от еле сдерживаемого смеха, и Джон, что было вполне обычно для него при таких безумных ситуациях, в буквальном смысле слова обосс…
Услышав отчетливое журчание мочи, бегущей по ноге Джона и образующей лужу на полу, м-р Галэвей, наконец, прервал свой неразборчивый монолог. «Это еще что за чертовщина?» — спросил он, медленно поворачиваясь в кресле.
Придя в себя, Джон отрапортовал: «По-моему, это крыша протекает, сэр.»
Не в силах больше сдерживать себя, — а дождя тогда и в помине не было — я, обрекая нас на разоблачение, взорвался истеричным смехом. Но быстрые рефлексы Джона опять пришли на помощь. «Будь здоров, Пит», — воскликнул он, добавив для м-ра Галэвея: «Он весь день чихает, сэр. Очень сильно простыл.»
Я тут же закрыл лицо руками, словно прикрывая чих. После этого, озадаченный зам. директора решил, что с него хватит и, получив заверения о хорошем поведении в будущем, избавил себя от нашего присутствия.
Одной из общеизвестных кварибэнкских афер Джона стала регистрация наших приятелей из Ливерпульского колледжа — Билла Тернера и Лена Гарри — как новичков в его художественный класс. По какой-то причине у них в колледже в тот день отменили занятия. Уроков по изобразительному искусству у меня тогда еще не было и я не мог удержаться от любопытства и заглянул в их класс, чтобы проверить успехи Билла и Лена, и сразу нарвался на учителя по рисованию, м-ра Мартина, который хорошо меня знал. «Что тебе здесь надо, Шоттон?» — отрывисто спросил он и все его ученики повернулись ко мне в своих креслах.
«Я хочу забрать у Джона свою ручку», — ответил я.
К несчастью, ненасытный аппетит к злобствованию в то утро у Джона оказался сильнее его преданности своему единственному кровному брату. «Да о чем ты говоришь, Пит, — отрезал он. — Ты же знаешь, что никакой ручки я у тебя не брал. И незачем приходить сюда и отвлекать меня, когда я серьезно работаю.»
Заикаясь, я начал извиняться, а Билл и Лен, нагло выставив напоказ галстуки Ливерпульского колледжа, с трудом сдерживали смех. Мгновенно сообразив, что мне несдобровать, я услышал грозный приказ учителя рисования: «Завтра утром ты принесешь мне 500 строчек со словами «Питер Шоттон не должен мешать занятиям художественного класса м-ра Мартина».
«Да, сэр», — пробормотал я, бросая испепеляющие взгляды на довольно ухмылявшегося Джона. Однако, его самого вскоре постигла гораздо более крупная неприятность, когда предметом внутришкольного расследования стало исчезновение двух новых учеников. В противоположность этому, директор Ливерпульского колледжа отпустил Билла и Лена с не очень строгим предостережением. «Между нами говоря, ребята, — рассмеялся он, — я считаю, что это был очень хороший розыгрыш.»
Тем временем, замечания в наших табелях становились все хуже и хуже. «Никаких способностей», «Клоун в классе», «вызывающий» и «безнадежный» были немногими из эпитетов, которыми учителя выражали результаты наших академических концертных выступлений. Когда приходило время показывать эти перлы родителям, я обычно шел с Джоном домой, чтобы оказать ему моральную поддержку в неизбежном словесном бичевании тетушки Мими. В свою очередь, Джон потом помогал мне донести такие же новости моей не менее раздраженной матери.
Признавая, что мы с Джоном могли вызывающе держаться даже в самом респектабельном учебном заведении, я все же считаю, что главная вина за «проматывание нашего образования» лежит на самой школе Куари Бэнк. Большинство наших учителей настолько погрязло в викторианских академических традициях, что им и в голову не могло придти желание развивать и расширять наши личные интересы и таланты. По их представлению, вся работа сводилась к пичканию нас фактами и цифрами, которые, как мы подозревали, в будущем нам совершенно не пригодятся. И если уж на то пошло, все заметные достижения Джона как художника, писателя и музыканта были достигнуты скорее вопреки, чем благодаря формальному школьному образованию.
Так, например, Джон был ненасытным читателем, но его постоянно позорили на уроках литературы и языка, потому что поглощаемые им книги редко совпадали с программным предписанием. Помимо Ричмэла Кромптона, его любимыми писателями были Эдгар Аллан По, Джеймс Тарбер, Эдвард Лир, Кеннет Грэхем (его знаменитый «Ветер в ивовых кронах»), Роберт Стивенсон, особенно «Остров сокровищ», и Льюис Кэрролл — его «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» были для нас чем-то вроде Библии. Джон декламировал мне стихотворение «Бормоглот», по крайней мере, раз триста. Пределом желаний Джона с раннего возраста было написать однажды собственную «Алису».
Даже в буйные дни учебы в Куари Бэнк Джон постоянно писал и рисовал, но неизменно превращал все свои таланты в инструмент для проделок и проказ. Во время урока он, делая вид, что записывает и думает, на самом деле неистово стихоплетствовал и чиркал на бумаге. Как только учитель поворачивался спиной, он подбрасывал свое творение мне, особенно когда хотел отвлечь мое внимание во время математики, моего любимого предмета, который Джон ненавидел больше всего. Его спонтанные произведения начинались иллюстрированной стилизацией под Льюиса Кэрролла и похабными стишками и рисунками и кончались карикатурами на учителей, ведущих урок. Я неизменно взрывался хохотом и тем самым навлекал весь гнев учителя на себя.
«Это просто гениально, Джон, — твердил я ему. — Тебе надо написать в таком духе целую книгу.»
«Ну ладно, так и быть, — согласился он в конце концов. — Я попробую каждый вечер после школы писать по куску.» После этого каждое утро Джон приносил в школу новый рассказ или стихотворение, красиво записанные и проиллюстрированные в специальной тетради, которую он позже назвал «The Daily Howl» (Ежедневный вой).
В нее вошли сатирическая пародия в стихах на Дэйви Крокета — «Рассказ Дэйви Костылеголова» (каламбур, основанный на омонии фамилии Сrockett и словосочетания Crutch-Head [crutch — костыль, head — голова] — прим. пер.) и рассказ, инспирированный популярной песней «Suddenly There Was A Valley», который начинался словами: «вдруг откуда ни возьмись едет-поедом лакей…» Один весьма сюрреалистический рассказ назывался «Морковка на картофельных приисках». Эти эпические творения перемежались с «быстрыми озарениями» вроде сводок погоды («Завтра будет влажно с переходом на неважно, засушливо и задушливо») и бесчисленными рисунками.
К тому времени Джон взялся за физические недостатки людей: карликов, слепых и калек, которых он жестоко пародировал при каждой возможности. Многие персонажи его рисунков обладали длинными шеями, одной ногой — или тремя — или двумя головами. На одном из знаменитых рисунков Джона изображен слепой человек, которого слепая собака (оба в черных очках) ведет мимо знака «автобусная остановка», под которым автор коряво написал слово «почему?».
Среди наших одноклассников спрос на его литературные опусы был настолько сенсационным, что Джон составил список очередности. Даже после неизбежной конфискации журнала он продолжал привлекать к себе интерес читателей; один из учителей рассказал по секрету, что эта тетрадь циркулировала по учительской и что некоторые из его коллег с более широкими взглядами были очень впечатлены талантом и воображением Джона. Однако, ряд других учителей не разделял их восторгов. Первая «книга» Джона так и не была возвращена ему до самого конца 60-х, пока какой-то школьник Куари Бэнк где-то не откопал ее и не отправил автору. Возможно, сейчас она хранится у Йоко.
Отрицательное отношение к Куари Бэнк проявилось у Джона даже в его интервью 15 лет спустя. «Разве никто не видел, — риторически спрашивал он, — что в школе я был умнее других? Что сами учителя тоже глупы? Что вся их информация была мне просто не нужна? В школе я был ох…нно одинок…»
«Хотя бы пара учителей могла бы поддержать мое стремление делать то-то или то-то, рисовать или писать картины. Но вместо этого они пытались вылепить из меня какого-то ё…го дантиста или учителя… Я не стал чем-то после успеха БИТЛЗ, или когда вы там обо мне услышали, я был таким всю свою жизнь.»
В начале второго года учебы в Куари Бэнк состоялась еще одна наша стычка, чуть не оказавшаяся последней. Это произошло во время лабораторных занятий, на которых мы с еще четырьмя ребятами сидели за одним из длинных столов, уставленных разными сосудами и бунзеновскими горелками. Я тогда только-только завязал свою первую романтическую дружбу и с гордостью показал Леннону цветную фотографию юной леди, с которой подружился. Краснея, как рак, я видел, что Джон изучает портрет и тут же пожалел, что доверился ему, заметив, как его губы искривляются в циничной усмешке.
Мои наихудшие опасения подтвердились, когда он, не раздумывая, передал этот бесценный фотоснимок моему заклятому врагу — мальчику по имени Билл Смит. «Это подружка Пита, — сказал Джон. — Как ты ее находишь, Билл?»
Пока я корчился от стыда на своем стуле, Билл Смит покосился на портрет и издал непристойный возглас разочарования, от которого Джон разразился сиплым смехом, и это окончательно вывело меня из себя. Дело было даже не в Билле, хотя мы и были смертельными врагами, а в том, что Джон предал мое огромное доверие, которое я оказал ему, показав первому из людей эту фотографию. Я уже почти решился вылить на него бутылку кислоты. «Ё… ган…, Леннон!» — заорал я и сбросил его со стула.
Учебники и бунзеновские горелки полетели в разные стороны, а мы, яростно пинаясь и дерясь, упали на пол. «Эй, кончай, Пит! — закричал вдруг Джон. — Ты что, шуток не понимаешь?»
Тут до меня дошло, что он больше не отвечает на мои удары, а лихорадочно ощупывает пол лаборатории. «Мои очки, Пит! — с трудом произнес он, — ты не видел мои очки?»
Заметив лежавшие неподалеку очки, я занес над ними ногу, словно собираясь растоптать их. «Вот они, Джон», — произнес я, драматически опуская к полу свой ботинок.
«Нет, Пит, не делай этого! — завизжал он. — Пожалуйста, Пит, не надо!»
Я «неумолимо» опустил ногу в нескольких сантиметрах от очков. Лицо Джона побелело от ужаса.
«На, забирай, пидор четырехглазый, — сказал я, возвращая ему невредимые очки. — Будешь знать как обси… мою подругу.» В этот момент подоспел преподаватель и за волосы протащил нас через всю лабораторию, после чего заставил принести взаимные извинения и пожать друг другу руки.
И все же я был настолько возмущен, что около двух недель избегал общества Джона и завел дружбу с нашим одноклассником Дэвидом Джонсом. Как-то днем Дэвид вышел из моего дома и обнаружил, что велосипед угнали. Когда он в полном унынии пошел домой пешком, из кустов материализовался Джон с широкой улыбкой на лице, волокущий за собой пропавший велосипед. Эта картина показалась мне настолько забавной, что я тут же простил ему его предательство.
Несколько лет спустя Джон признался, что все те дни испытывал жгучую ревность. «Я жутко переср…, когда после нашей драки в лаборатории ты начал играть с Дэвидом Джонсом. Я думал, что на этот раз зашел с тобой слишком далеко и потерял тебя навсегда.»
Во всяком случае, я не стал крошить его очки: это было бы по-настоящему жестоким и ненужным наказанием. Не видящий без них ничего даже в двух метрах, Джон считал их своей самой ценной вещью. После нескольких лет упрашиваний его тетушка выписала ему приличные очки в черной оправе, уничтожение которых вызвало бы не только гнев Мими, но и вынудило бы Джона вернуться к ненавистным очкам образца «National Helth».
Но даже после приобретения по рецепту дорогих очков в нормальной оправе Джон по-прежнему очень комплексовал из-за них и одевал только в совершенно необходимых случаях. Если, например, никого из нас рядом не было и он не мог прочесть надписи на автобусном указателе, он скорее согласился бы подойти к нему вплотную, чем одеть свои очки или (не дай Бог!) спрашивать у прохожих, как проехать.
Наши местные громилы и хулиганы иногда возмущались тем, как Джон обычно смотрел на лица окружающих. Джимми Тарбак, ныне знаменитый британский комедийный актер, а тогда — знаменитая гроза Вултона, однажды подошел к нам, когда мы шатались по Пенни-Лэйн.
«Что ты на меня щуришься, Леннон?» — спросил он угрожающим тоном.
Когда Джон, по обыкновению, решил проигнорировать эту провокацию, Джимми Тарбак, здоровый рослый парень ухватил школьный галстук Джона и стал его душить. «Слушай, Джимми, — вмешался я, — этот несчастный пидор ни х… не видит. Когда он на что-то смотрит без очков, ему приходится прищуриваться, чтобы увидеть чуть получше».
«Это правда, Леннон?»
«Да, правда», — пробормотал Джон, неохотно извлекая из кармана очки в оправе. Проверив наше утверждение, Джимми Тарбак оставил в покое галстук Джона и пошел своей дорогой.
«Ё… ужас, чуть не влипли! — буркнул Джон. — Если бы Джимми затеял драку, нам бы не поздоровилось.»
Позднее, когда Джимми Тарбак и Джон Леннон стали знаменитостями, они встретились на какой-то вечеринке. «Теперь это отличный парень, — сообщил мне Джон впоследствии. — Он, наверное, и не помнит меня, когда мы были детьми.»
Помимо очков, самой большой ценностью Джона был его велосипед фирмы «Рэлей Лентон». Тогда мы ухаживали за своими велосипедами с таким же рвением, как сейчас большинство подростков заботится о первой машине. Они давали нам определенную свободу и мобильность и, как ни парадоксально, служили транспортным средством до школы и обратно.
Обычно мы с Джоном каждый будний день встречались около 8 утра на углу Вэйл-роуд и Менлав-авеню и дальше две мили до школы ехали вместе. Но как-то утром, из-за моей неизлечимой способности опаздывать, которая могла вывести из равновесия даже Джона, ему пришлось уехать, не дожидаясь меня. Мчась на всей скорости, я наконец увидел, как он медленно едет по Менлав-авеню, склонив голову над рулем. Как это часто бывало, если он не общался с кем-то, его мысли витали где-то в облаках.
Поскольку Менлав-авеню имела одностороннее движение, обычно Джону не было нужды уделять дороге свое «потустороннее» внимание (в любом случае, без очков он ничего бы не увидел). Но именно в то утро кто-то нелегально припарковал свою машину прямо на этой узкой улочке.
«Джон! Джон!» — закричал я, на секунду опоздав пробудить его от грез. Врезавшись прямо в припаркованный автомобиль, он катапультировался из велосипеда и перелетел через машину. Однако, продемонстрировав виртуозную, кошачью координацию движений, Джон сумел приземлиться посреди дороги точно на ноги.
Когда я подъехал и спросил, не ушибся ли он, его волновал только велосипед; рука его была в крови, но искореженное переднее колесо и тот факт, что велосипед теперь неисправен, доставляли ему гораздо больше мучений. Мы решили оттащить «велик» к нему, и я помог промыть рану и перевязать ему руку. Потом мы выпрямляли покореженное колесо, пока оно не вернулось к первоначальному виду. После этого мы помчались в школу.
Мы опоздали на первый урок на полчаса и нас отправили прямо в кабинет директора. В тот торжественный и важный момент и состоялась наша первая встреча с заменившим вскоре Эрни Тэйлора его преемником — Вильямом Эдвардом Побджоем.
По внешним данным новый директор, хотя и был столь же далек от преподавания, как и м-р Тэйлор, был гораздо менее впечатляющей фигурой. Уже известный всем школьникам под кличкой «Пучеглаз» (кличка обыгрывает фамилию: «Pobjoy» превращена в «Popeye» — «Пучеглаз» — прим. пер.), он был худощав, с бегающими глазками и манерами педанта, ему было всего 35 — намного меньше возраста большинства учителей. Тем не менее, этот мрачный нелюдим при первой встрече достаточно впечатлил нас своими авторитетом и властностью. Лишь огромная способность Джона убеждать, вместе с обследованием перезабинтованной руки смогли убедить м-ра Побджоя, что Джон действительно пострадал в велосипедной аварии.
«Ну ладно, — наконец грубо бросил он. — А что же за уважительная причина у ТЕБЯ, Шоттон?»
«Велосипед Джона был разбит, сэр, — довольно запальчиво ответил я, — и мне пришлось помочь оттащить его домой.»
«Не смей говорить со мной в таком тоне, — сказал м-р Побджой. — На первый раз вам это сойдет с рук, но если с вами еще что-то приключится, можете не сомневаться, я не буду таким снисходительным.»
Конечно же, нам с Джоном в школе не приходилось долго искать приключений. Через две недели мы опять оказались в кабинете м-ра Побджоя, и опять из-за опоздания в класс. Обычно это преступление наказывалось черной отметкой на работу в школьном саду. (Мы задержались после обеда в «конфетнице», местном кондитерском магазине, объедаясь конфетами «Palm Toffee» (дешевые конфеты типа ирисок — прим. пер.), нашим любимым блюдом, и источником жизненных сил всех школьников Куари Бэнк. Оно было таким «жевательным», что, казалось, челюсти неосмотрительного потребителя замыкаются на замок.
«Ну и что же случилось на сей раз?» — сардонически ухмыльнулся м-р Побджой.
«Мы зашли в «конфетницу» перед уроком, сэр, — ответил Джон, как всегда, проявивший красноречие первым, — и не знали, что уже опаздываем…»
Директор повернулся к нам спиной и решал нашу судьбу, а Джон воспользовался этим и передразнил кислую мину Пучеглаза. Я, как всегда, не смог удержаться и захихикал.
М-р Побджой мгновенно повернулся к нам. «А ну, тихо, вы двое!» — шикнул он. Сидя за своим столом, он зловеще постукивал по пачке бумаг деревянной линейкой и наконец вынес приговор едва слышной фразой: «Идите домой».
Мы не поверили своим ушам: «Идите домой?! — повторили мы, словно эхо. — Что это значит, сэр?»
«Я сказал: «Идите домой». Уж, конечно, вы знаете английский настолько, чтобы понять, что это значит. Ведь мы с вами не тратим здесь времени попусту, не так ли? А?» — и м-р Побджой взметнул брови дугой, придавая выразительности своему ироническому вопросу.
«Конечно нет, сэр, — не подумав сказали мы. — Мы знаем, что означает «идите домой», сэр, но…»
«Вот и идите домой!» — отрезал он. — Вы оба мне надоели. И пока я не пошлю за вами, чтоб и ноги вашей в школе не было.»
Мы с Джоном онемели. Это было временное исключение из школы — неслыханная в Куари Бэнк мера наказания. Словно мы совершили фундаментальное преступление, были разоблачены и соответственно наказаны.
Я поплелся за Джоном на игровую площадку и мы вместе побрели через поле к укрытию для велосипедов.
«Ё… ужас, — завывал я, садясь на мой «велик», — что же я скажу своим ё… родителям?!»
«А х… его знает, — буркнул Джон, запрыгивая на своего «Рэлей Лентона». — А вот что я скажу моей ё… Мими? Ответь мне, какую х… мне теперь ей навешать?!»
«Но ты понимаешь, что за х… с нами приключилась или нет?» — спросил я, медленно катясь вперед. Джон, описывая вокруг меня искусную восьмерку, вдруг разразился хохотом. «Да, Пит, нас турнули.» Этот новый леннонизм был произнесен с преувеличенным французским акцентом.
Тут мы поравнялись с учителем по богословию, очень высоким преподавателем по имени м-р Макдермот, и он потребовал объяснить, почему мы едем на велосипедах из школы в такое раннее время.
Джон притормозил: «Нас только что турнули».
«Объясни, ради Бога, о чем ты говоришь, Леннон? — недоверчиво сказал м-р Макдермот. — Вас турнули? Что это значит?»
После того, как я объяснил, что к чему, м-р Макдермот зашагал прочь, покачивая головой и полушепотом повторяя «Турнули… турнули…»
И все же, несмотря на этот смешной момент, наше настроение было очень кислым. Мы не слышали, чтобы из Куари Бэнк кого-то когда-нибудь изгоняли, тем более за такой пустяковый проступок. Даже м-р Макдермот явно почувствовал, что мера наказания не соответствует тяжести преступления.
Мы решили ничего не говорить родителям и примерно с неделю продолжали уезжать из дома в обычное время. Но отправлялись не в школу, а в Аллертон, где проводили весь день с мамой Джона.
Когда Джону было около тринадцати лет, он начал тайно бывать в доме Джулии. Казалось, что после неожиданной смерти дяди Джорджа в 1953 году, его интерес к родной матери возобновился. Хотя внешне страдания Джона были малозаметны, потеря своего ближайшего старшего наперсника, несомненно, создала вакуум в его жизни. Поэтому с этого времени его отношения с Джулией начали улучшаться.
Джон рассказывал мне о своей маме в самых восторженных выражениях, описывая ее как духовно очень близкую ему. Но даже после этого, когда Джон в первый раз предложил мне съездить с ним в Аллертон, я не ожидал, что нас встретит громкий девичий смех стройной миловидной женщины, танцевавшей у дверей с парой старых шерстяных панталон на голове.
Когда Джон представил меня, она быстро подошла ко мне и протянула свою руку: «Ах, так ты и есть Пит! Джон так много рассказывал о тебе!» Чуть не оторвав при пожатии мою протянутую руку, Джулия начала поглаживать меня по бедрам: «Ух ты, какие у тебя стройные бедрышки», — захихикала она.
Наслаждаясь неожиданными ласками этой удивительно юной леди, я никак не мог сопоставить ее с обычными представлениями о родителях. Через несколько минут за импровизированным пиршеством из пирожных и кока-колы, она задала вопрос, от которого я потерял дар речи: почему мы не в школе. Честное признание Джона в прогуливании уроков вызвало еще один взрыв смеха. «Просто здорово увидеть вас вместе, — весело сказала она. — Незачем волноваться о школе и вообще незачем волноваться. Все и так будет прекрасно.»
Как я вскоре понял, роль, которую Джулия играла в жизни Джона, скорее подходила для молодой тетушки, во всем ему потакающей, чем для ответственного родителя, а Мими тем временем фактически продолжала выполнять обязанности его матери. Несомненно, их обмен ролями был для Джона источником нескончаемой путаницы, особенно когда он пытался относиться к этому спокойно.
Меня сразу поразила близость жизненной позиции Джулии и Джона. «Живите настоящим, а об остальном не думайте», — говорила она нам, плавно размахивая пылевыбивалкой, с таким видом, будто это была волшебная палочка. Ее чувство юмора до мелочей походило на чувство юмора у Джона. Она, например, иногда одевала очки без линз и, разговаривая с соседями или почтальоном, негалантно просовывала палец через несуществующее стекло и потирала глаз.
Кроме того, Джулия поощряла увлечение Джона музыкой. Она любила перебирать струны своего старого банджо, а делая какую-нибудь работу по хозяйству или приготавливая нам чай, почти все время пела. Большую часть времени у нее мы слушали пластинки из ее большой коллекции. В те времена у очень немногих ливерпульцев вообще были проигрыватели (у Мими и моих родителей их не было) и меня тогда очень впечатлил тот факт, что у Джулии и ее любовника Бобби Дукинса буквально в каждом углу квартиры было по колонке.
За время наших регулярных визитов к ней, мы с Джоном установили дружеские отношения со спивающимся официантом и другом Джулии, который не был против того, что мы звали его «Дергун» (у него был нервный тик лица). Щедрость Дергуна бывала настолько велика, что он часто разрешал нам сделать по счастливому «нырку» в аквариум с золотыми рыбками, где он хранил свои чаевые. В итоге, покидая Аллертон, мы, помимо всего прочего, обычно имели в кармане еще и кучу мелких монет. Естественно, мы очень любили Дергуна.
В течение нескольких лет учебы в Куари Бэнк, дом Джулии оставался нашим самым надежным убежищем, если настроение у нас было таким, словно мы сразу «проскочили» на несколько классов вперед. Надежно спрятавшись у нее, мы могли не беспокоиться за вопросы взрослых о том, почему мы не в школе. Кроме того, мы чувствовали, что Джулия всегда очень рада нам и даже не помышляет сообщать о наших прогулах школьной администрации и даже своей сестре Мими. Естественно, Джон предпочитал такую расслабляющую атмосферу жесткому режиму своей тети и вскоре стал оставаться там ночевать, что часто приводило к страшным скандалам с Мими. Иногда он просто ставил тетушку в известность, что «ушел добра искать».
Месть Мими однажды оказалась очень жестокой: она отдала на живодерню его любимую дворняжку Салли. Это был один из редких случаев, когда я видел Джона плачущим: он увидел, когда вернулся домой от Джулии, что собака пропала. Мими тогда оправдывала эту радикальную меру, припоминая ему его клятву никогда больше не возвращаться в Мендипс. Она говорила, что раз Джон перестал выгуливать собаку, ей ничего не оставалось, как уничтожить ее.
Позднее Мими призналась, что ее преследовали неотступные опасения, что ее племянник в конце концов уплывет за море, как сделал его отец. Интересно, что примерно тогда же Джон получил известие о том, что Фредди Леннон живет в Манчестере и хочет встретиться с ним. Джон, имевший смутные воспоминания об отце, был очень взволнован представляющейся возможностью увидеться с ним и почувствовал себя жестоко обманутым, когда эти планы сорвались. В целом же Джон редко говорил о Фредди, а мог только без видимой злобы сказать, что его предок «уплыл за море».
Наше временное исключение из Куари Бэнк (знаменитое «конфетное» дело) завершилось после того, как мои родители и тетя Мими получили письмо от м-ра Побджоя, в котором он сообщал о нашем наказании и просил зайти к нему в кабинет для небольшого разговора. Вернувшись с этой встречи, моя мать сказала, что на следующее утро мы должны сидеть за своими партами. «М-р Побджой говорит, что от вас одни неприятности — только от вас двоих, — сказала она мне. — Он пробовал пороть вас, но когда и это не помогло, ему просто не оставалось ничего другого, как исключить вас на время.»
«Да он НИ РАЗУ не порол меня, — возмутился я. — Он только несколько недель назад узнал, кто мы такие вообще!»
Когда на следующее утро мы с Джоном первым делом в назначенное время явились в кабинет директора, м-р Побджой приветствовал нас жестким ультиматумом: «Если вы еще что-нибудь натворите, я вас совсем исключу из школы.»
«Можно мне сказать, сэр?» — спросил я между прочим.
«Ну, что еще, Шоттон?» — резко бросил он.
«Видите ли, сэр, вы сказали моей маме и тете Джона, что вы пробовали пороть нас, а когда это не помогло, вы решили временно исключить нас. Но, сэр, ведь вы вообще никогда нас не пороли!»
Заметно ошеломленный этими словами, директор прочистил горло и поправил лежавшие на столе бумаги. «Хорошо, — наконец произнес он, — я проверю это по своему журналу наказаний. А сейчас идите к себе в класс.»
Утверждение м-ра Побджоя о том, что он очень интересовался развитием Джона, о чем он заявлял нескольким битл-биографам, после этого выглядит просто смехотворно. Встретив Джона на улице, он наверняка не узнал бы его. Джон, в свою очередь, навсегда запомнил бессмертные слова м-ра Побджоя, записанные в его последнем дневнике: «Этот юноша обречен на неудачу».
После этого мы попытались быть, как бы, более избирательными в своих проделках, то есть прогуливали только такие уроки, которые вели небрежные или склеротичные учителя, не замечавшие нашего отсутствия. Но наше легкомыслие, дерзости и профанации продолжали награждать нас постоянным накоплением плохих отметок, и мы с Джоном буквально непрерывно должны были оставаться после уроков.
И хотя «оставание» редко было радостным или приятным, особенно с тех пор, как учителя начали определять нас в разные «рабочие команды», я убедился в справедливости поговорки об облаках и серебряном осадке в конце дня, проведенного в «постыдном состоянии» на территории школы. Наполнив огромный мешок фантиками от конфет, бутылками из-под содовой и редкими окурками, я, как и следовало, потащил свой «урожай» к одному из гигантских мусорных ящиков, стоявших у заднего входа в школу.
Подняв крышку, я увидел большой коричневый конверт, адресованный «Вильяму Эдварду Побджою, эсквайру».
Быть может, секретные документы? Я не удержался и вскрыл конверт и — против всех ожиданий — был вознагражден полусотней талонов на обед в школе, рассыпавшихся по земле, словно конфетти. Но это было только начало: мало того, что в конверте было еще три сотни талонов, после недолгих поисков в этом же мусорном ящике я заметил еще четыре таких же пакета.
Чтобы дать вам представление о том, что это был за клад, замечу, что каждый из этих талонов стоил один шиллинг и по ним большинство школьников получало еду в кафетерии при Куари Бэнк, а мои еженедельные средства не превышали одного шиллинга. Я просто случайно наткнулся на «выручку» кафетерия за всю предыдущую неделю, аккуратно упакованную в конверты и обреченную на сожжение. Однако почти все талоны находились в нетронутом состоянии и я был уверен, что их можно использовать.
Давно уже излечившись с помощью Джона от былой жадности, я с нетерпением ждал возможности поделиться с ним своей удачей. Как только мы оказались вне досягаемости слуха учителей, я сунул ему несколько талонов, которыми наспех забил свои карманы и заверил его, что у меня их видимо-невидимо.
Джон внимательно разглядел их, и глаза его полезли на лоб: «Где ты их взял?»
«В мусорном ящике — их там миллионы!»
«Значит, мы богаты! — заорал Джон, прыгая от радости. — Мы богаты, Пит. Мы ох…нно богаты!»
Примерно час мы болтались без дела, а потом, когда все учителя ушли, вернулись на территорию школы. Выполнив свою «миссию», мы во весь дух помчались к Джону домой и, убедившись, что там никого нет, заперлись в его маленькой спальне на втором этаже с окнами на Менлав-авеню. Приступив к делу, мы высыпали всю свою контрабанду на пол, разделили ее на кучки и тщательно пересчитали все талоны до последнего.
Общая сумма оказалась ошеломляющей: 1500 талонов, что из расчета стоимости талона в один шиллинг составило столь же бешеную цифру: 75 фунтов стерлингов (по инфляционным стандартам 1983 года это эквивалентно 750 фунтам стерлингов или почти 1500 долларов). Обезумев от ликования, мы начали колотить по стенам и по полу и во все горло выкрикивать друг другу невероятную статистику: «Полторы тысячи талонов!.. Семьдесят пять ё… фунтов!»
Неожиданно нас прервал громкий стук в дверь. К нашему ужасу, это была Мими. «Вы что там, с ума сходите?» — кричала она.
Конечно, Мими удивилась тому, как мы внезапно замолчали, спешно перебрасывая 15 сотен талонов под кровать Джона. Стук и крики становились все громче, пока мы наконец не были готовы открыть дверь. «Извини, Мими», — промямлил Джон, тут же придумав какое-то неубедительное объяснение, которым, за неимением каких-либо серьезных опровержений, ей пришлось в конце концов удовлетвориться.
Следующий этап заключался в оформлении делового отношения со всеми учениками нашего класса. Благодаря своему авторитету среди сверстников, Джон заставил сорок ребят дать клятву о сохранении тайны, взамен чему пообещал снабдить всех талонами на обед за половину стоимости. Ясное дело, это всех устроило: наши одноклассники каждую неделю могли забирать себе 2,5 из 5 шиллингов, которые родители выдавали им каждый понедельник. Мы с Джоном, в свою очередь, еженедельно делили между собой по 5 фунтов чистой прибыли.
Весь следующий месяц мы с Джоном ели столько ирисок и шоколада, сколько были в состоянии вместить наши желудки, и ходили в кино и плавательный бассейн, когда нам только хотелось. Начав вскоре курить, мы могли даже покупать целые пачки сигарет вместо того, чтобы «стрелять» у ушлых табачников по штучке, которые они загоняли по два пенса. Единственным ограничением наших «кутежей» было опасение вызвать подозрение, купив, скажем, новые часы или радиоприемник. В остальных же отношениях нам казалось, что мы живем, как короли.
Но это чудное положение дел однажды резко изменилось. Мы зашли днем в кафетерий и увидели, что рядом со старостой по сбору талонов стоял один из учителей и помечал номер серии каждого талона против фамилии подавшего его школьника. К счастью, мы с Джоном усекли это дело еще до того, как кто-либо из наших одноклассников успел использовать свой талон. И все же, один вредный пацан — Дональд Битти, несмотря на все наши угрозы и мольбы, отказался продать этот талон назад. Увидев, что учитель записал фамилию Дональда и номер талона, мы уже не сомневались, что нас ждет тюрьма.
Послеобеденные уроки мы провели в состоянии невыносимого страха, ожидая, что вот-вот в класс войдет предвестник нашей гибели — но ничего не произошло. В тот вечер мы всерьез подумывали сбежать за море, однако, всю ночь не сомкнув глаз, решили, что благоразумнее будет, как обычно, пойти в школу и надеяться на лучшее.
Но эта надежда была жестоко разбита, когда посреди одного из первых уроков в дверь постучал префект. «Директор хотел бы поговорить с Дональдом Битти», — произнес он официальным тоном.
После этих слов лицо Джона стало совершенно белым, а мое — красным, как свекла. Мы обменялись осторожными взглядами, выражавшими наше общее отчаяние. Я уже безуспешно пытался приучить себя к мысли о предстоящей жизни за решеткой.
Через каких-то пять минут Дональд Битти вернулся в класс и бросил на каждого из нас долгий непроницаемый взгляд. И без слов ясно, что как только урок окончился, мы с Джоном бросились к нему.
«Ну как? Что там было? Он спрашивал тебя про талоны?»
«Да, спрашивал», — невозмутимо ответил Дон.
«Ну и что же ты сказал?»
«Я просто сказал Пучеглазу, что недели две этот талон лежал у меня после того, как я не пошел обедать. Он спросил, уверен ли я в этом. Я сказал, что уверен, тогда он извинился за то, что оторвал меня от занятий.»
Мы с Джоном почувствовали себя словно два преступника, получивших королевское помилование на полпути к виселице. Осыпав «старину Дона» всевозможными комплиментами, превосходными степенями и заверениями в вечной дружбе, мы на радостях дали друг другу клятву никогда больше не вести себя плохо.
Но, конечно же, жажда проделок оказалась сильнее каких бы то ни было благочестивых намерений. И прежде, чем Куари Бэнк избавилась от нас, Джон родил еще две знаменитые хохмы.
Первая из них была адресована одному из наших любимых учителей, м-ру Макдермоту, который читал теоретический курс под названием «Знание религии», который более уместно было бы назвать «Ознакомление с религиозными учениями». Наша любовь к нему объяснялась тем, что этот устрашающего вида человек не питал никакого интереса к своему отчаянно скучному предмету и, как мы постепенно узнали, привык переводить школьников из одного класса в другой, вообще не проверяя их домашних заданий. Даже самые неаккуратные работы возвращались назад без исправлений, иногда на полях стояла красная галочка, означавшая, что в целом м-р Макдермот считает наши усилия удовлетворительными.
Ясное дело, Джон устроил между нами соревнование за то, кто протолкнет самую большую «лапшу». И вот, получив задание написать рассказ о путешествии Св. Павла в Дамаск, Джон написал примерно следующее: «Когда Св. Павел ехал в Дамаск, прямо с неба на него упал горящий пирог, ударил промеж глаз и сбил с ног; когда же он очнулся, глаза его навечно ослепли…» М-р Макдермот вернул ему эту тетрадь с обычной красной галочкой.
Когда стало очевидным, что ему можно писать любую чепуху, мы с Джоном решили устроить что-нибудь эффектное. «Все, что нужно Макдермоту для полного счастья, — сказал я, — это целый класс ё…х викариев.»
«Ну что ж, — подхватил Джон, — давай дадим ему такой класс!»
«А как?»
Джон на секунду задумался и воскликнул: «Давай сделаем для всего класса белые собачьи ошейники! А завтра перед тем, как Макдермот войдет, оденем каждому на шею.»
Вернувшись домой, мы тут же разыскали все коробки из-под пшеничных хлопьев и начали сдирать с них белые блестящие упаковки. К счастью и в его, и в моем доме таких коробок было предостаточно, так как пшеничные хлопья мы ели каждое утро. После этого мы вырезали из них 40 полосок.
На следующее утро на перемене перед уроком м-ра Макдермота мы уговорили всех наших одноклассников надеть на шею эти самодельные собачьи ошейники и, дрожа от волнения, стали ожидать его реакции, прекрасно понимая, что на этот раз зашли слишком, слишком далеко.
Войдя в класс, учитель направился прямо к столу, открыл свой портфель, достал несколько листков и монотонным голосом начал читать. Через несколько минут он наконец оторвал глаза от бумаги, — фраза оборвалась на полуслове, а на лице его застыло ошеломленное выражение. И тут он вдруг начал хохотать, хохотать и хохотать, при этом его огромная фигура так сильно тряслась, что я начал было думать, что у него начался какой-то припадок.
«Это просто потрясающе, ребята, — наконец с трудом произнес он. — Вот это шутка!» Она ему так понравилась, что он разрешил нам не снимать ошейники до конца урока.
Самое крупное «достижение» Джона в Куари Бэнк стало одновременно и его вкладом в ежегодный школьный праздник. Эта вечеринка в саду при Куари Бэнк давала школьникам возможность продемонстрировать свои достижения в искусстве и ремесле в состязании ярмарочного типа и собрать деньги для своей школы. Джон, как и я, никогда добровольно не участвовал в «школьных мероприятиях», а всегда во время таких соревнований оставался среди зрителей. Но на последнем празднике мы шокировали его организаторов, заявив им, что хотим устроить — подумать только! — киоск для любителей метать дротики.
До самого начала праздника они не знали, что мишенями для этой игры будут знаменитые карикатуры Джона на учителей, которые я вырезал, едва только Джон успел нарисовать их на коробках из-под хлопьев. В мои обязанности входила и организация самого киоска, для которого я выбрал лучшее место. Мы решили давать каждому участнику три дротика за шиллинг, тот, кто сможет попасть в лица трех разных учителей, получит приз в два шиллинга.
Популярность нашего киоска превзошла все самые фантастические ожидания. Для того, чтобы получить возможность «свести счеты» со своими мучителями, дети отстаивали длинную очередь, а самим учителям при таких обстоятельствах не оставалось ничего другого, как принимать наше заведение в духе «веселого развлечения». К концу дня мы с Джоном собрали монументальную сумму — 28 фунтов 4 шиллинга, из которых оставили себе по 8 фунтов на брата, а все оставшееся сдали в фонд школы.
На следующем школьном собрании после обычных гимнов и молений м-р Побджой произнес небольшую речь о школьном празднике. «Он имел огромный успех, — сказал он, — и принес беспрецедентный сбор в пользу Куари Бэнк. А теперь я прошу поаплодировать двум ребятам, чей киоск побил по сбору все прежние рекорды для одиночных киосков, — продолжал он. Эта кругленькая сумма составила 12 фунтов 4 шиллинга. Молодцы, Леннон и Шоттон!»
Вся куарибэнковская средняя школа для мальчиков взорвалась аплодисментами, а Джон пробормотал вполголоса: «Эх, Пит, надо было больше забрать, …»
Глава третья: Люби же меня (Love Me Do)
Наши неустанные поиски источников возбуждения и приключений получили целое новое измерение, когда мы с Джоном, как большинство мальчиков 13–14 лет не устояли перед всесокрушающей силой секса.
Следует напомнить, что в пригороде Ливерпуля в начале 50-х секс не мог служить темой для вежливого разговора. Наши родители и учителя всячески старались избегать каких бы то ни было упоминаний о нем; даже скандально известные издания Флит-стрит вроде «News Of The World» («Новости планеты»), или, как мы его называли «News Of The Screws» («Новости ё…») предлагали всего-навсего туманные забавные намеки. Благодаря общепринятым викторианским нормам морали, запрещавшим даже легкое порно типа «Плейбоя», лишь через несколько лет мы, наконец, увидели настоящую фотографию голой женщины.
Но, как гласит пословица, «если стоит, значит стоит»… И что касалось нас с Джоном, то уже сам факт, что взрослые считают онанизм, порнографию и внебрачный секс такими «порочными» и «возмутительными», только усиливал существующий к этому интерес.
Наши разговоры о сексе вошли в обыкновение задолго до того, как мы стали понимать, о чем мы говорим. Помнится, как Джон в возрасте лет девяти или чуть больше уведомил меня, что женские органы размножения состоят из скопления черных точек. По его утверждению, все сводилось к тому, что мужчина своим пенисом должен тереть одну из этих точек, если он вдруг потрет сразу две, женщина обязательно родит двойню. Несмотря на мое скептическое отношение к таким рассуждениям, о более правдоподобной теории этого мы смогли узнать только годом позже.
Когда нам было примерно одиннадцать, Джон как-то заявил мне с драматической интонацией: «Пит, я сегодня спустил — честное слово! Это просто п…ц всему и самое кайфовое ощущение!» Мы тут же отправились в свой заброшенный гараж на Вэйл-роуд, где Джон повторил это явление в мою честь, но сам я, как ни пытался, смог добиться эрекции только через несколько месяцев.
На первом году учебы в Куари Бэнк у нас с Джоном появилась привычка «спускать» в кустах, когда мы возвращались из школы. Кроме того, мы смогли подбить всю нашу банду на несколько «сессий по онанизму», на которых имели возможность сравнивать, у кого больше и толще. Увидев, что у одного из наших приятелей эрекция члена принимает, буквально, форму банана, мы всегда старались помешать ему довести дело до конца.
Чтобы у читателя не возникло ошибочных домыслов, поясню, что наши фантазии были строго гетеросексуальны. «Ну что, ребята, — бросал кто-нибудь. — Кого мы будем сегодня?» Тут все наперебой начинали выкрикивать имена известных секс-бомб, каждое из которых поднимало нас на новые высоты кайфа, пока мы разминали свои члены. Джон неизменно отдавал предпочтение Бриджит Бордо, кроме одного памятного случая, когда он заорал «Уинстон Черчилль!» — мгновенно повалив нас в припадок истерики, который свел на нет все наши старания.
Через несколько лет эта сцена была увековечена в постановке Кеннета Тайнэна «О, Калькутта!» Когда Тайнэн впервые обратился к Леннону с просьбой описать забавный случай для его рентгеновского ревю, Джон собрался было бросить его письмо в мусорную корзину и тут я напомнил ему об этом «случае с Черчиллем» и сказал, что он может обладать определенным драматическим потенциалом. Однако, Тайнэн с некоторой вольностью заменил имя национального героя Великобритании на Лоуна Бэнджера.
Что касается Бриджит Бордо, то она, по крайней мере, пятнадцать лет оставалась женским идеалом Джона. Когда мы были еще юными подростками, он усердно начал собирать номера ливерпульского журнальчика «Уикэнд», который в ежемесячных приложениях предлагал большой цветной плакат этой французской актрисы, томно лежавшей в купальном костюме из единственной принадлежности. Это, напомню, было еще до того, как «бикини» получили широкое распространение. Как только очередное приложение появлялось в продаже, Джон тут же прикреплял новый разноцветный плакат на потолке прямо над своей кроватью и проводил несколько счастливых часов своей юности, лежа на спине и развлекаясь с этим секс-символом № 1 во всех мыслимых позах.
Еще одна веха в нашем развитии была отмечена в плавательном бассейне. Молодая женщина с роскошным телом, не потрудившись как следует завязать одну из лямочек, вылезла из бассейна с обнажившейся левой грудью. После того, как я привлек внимание Джона к этому замечательному факту, мы со всех ног бросились к ней, чтобы «получше рассмотреть», в конце концов, ни он, ни я до этого не видели настоящей титьки.
Однако, наше нетактичное приближение привело лишь к тому, что грудь мгновенно была водворена на место, а ее обладательница в раздражении поспешно удалилась. И все же несколько недель мы с Джоном пребывали вне себя от возбуждения, а все наши друзья завидовали нам черной завистью.
На следующее лето нам с Джоном довелось увидеть еще более эффектное зрелище в Фостерских полях. К тому времени строители и оборзелый сторож ушли со сцены и в домах у подножия холма появились несколько жильцов, и среди них — сержант полиции и его пышногрудая жена-блондинка.
В остальном же эти обширные строения оставались нетронутыми и мы с Джоном по-прежнему считали их своей вотчиной. Кроме того, со склона холма мы могли беспрепятственно разглядывать отгороженнные заборами лужайки новых жильцов — и в одни прекрасный день увидели жену сержанта — без лифчика! — загоравшую в саду за домом и наивно не замечавшую наблюдателей, притаившихся неподалеку.
Остаток этого дня мы с Джоном пролежали в высокой траве, лаская свои многоуважаемые органы и с нежностью разглядывая полную грудь этой женщины и детально обсуждая, что бы мы хотели с ней делать. Вскоре это стало обычным занятием: эта роскошная и очень «тактичная» дама имела привычку, о чем мы с радостью узнали, раздеваться, если в Мерсисайде выдавался погожий день. Ясное дело, после этого у нас с Джоном появился еще одни стимул к посещению Фостерских полей, если погода казалась «благоприятной», и нередко мы бывали вознаграждены созерцанием солнцелюбивой жены сержанта полиции.
По ходу дела, я также узнал о необычайных сексуальных потенциях Джона. Зачарованный этими гипнотизирующими грудями, Джон мог запросто эякулировать три-четыре раза подряд. Хотя обычно оргазм у него наступал быстро, способность к быстрому повторению эрекции делала маловероятными какие-либо серьезные проблемы в дальнейшей жизни. Во время одного из наших посещений Фостерских полей, я поспорил с ним на «десять оргазмов подряд», предложив в качестве награды неограниченное пользование телевизором нашей семьи (как будто он был моим и предназначался для подобных целей!). Джон клюнул на этот соблазн, но смог спустить «всего» 9 раз, освободив меня таким образом от выполнения своего сомнительного обещания.
Безлифчиковые загорания прошли вместе с летом, но, благодаря Биллу Тернеру мы вскоре обнаружили новую отдушину для наших бурлящих страстей. Как-то раз в субботу, наткнувшись на него возле кинотеатра «Эбби» на Пенни Лэйн, я согласился пойти с ним на дневной сеанс. «Это тебе действительно откроет глаза на мир, Пит», — самодовольно ухмыльнулся он. Нетрудно было догадаться, что этот ушлый повеса имел в виду не фильм, значившийся на афише.
«Мы сделаем вот что, — пояснил он. — Зайдем на балконный этаж — там народу поменьше — и выберем двух симпатюлек, сидящих рядом. Когда начнется фильм, мы сядем у них по бокам. Потом мы обнимем их и посмотрим, как далеко они дадут нам зайти.»
«Ври больше! — презрительно фыркнул я. — Ты меня не нае…!»
«Пит, я не вру, — настаивал он. — Я делаю это каждую субботу.»
«Ну ладно, — согласился я, — посмотрим.»
Дальнейшие события происходили, словно в сказке. Когда Билл просунул свою руку под пальто к своей соседке, я, для пробы, повторил его пример. К моему великому изумлению, ни та, ни другая девушка не оказали никакого сопротивления, даже когда мы начали ласкать их груди, хотя моя в конце концов остановила мои неуклюжие попытки расстегнуть ее блузку. Тем не менее, она разрешила мне продолжать играть с ее титьками сколько моей душе было угодно, — это было чем-то вроде сна наяву. Но настолько жизненного, что я почти сразу спустил в штаны. За все время этого свидания никто из нас не произнес ни единого слова.
Возвращаясь домой, я встретил Джона, Айвена и Найджела, которые играли в Типе, и бросился к ним, собираясь порадовать их рассказом о своем невероятном приключении. Но, к моей большой досаде, они не поверили ни единому моему слову. «Ты или заливаешь, — едко заметил Джон, — или же ночью долго ловил рыбу.» После этих слов Найдж и Айв громко расхохотались.
И все же они нехотя согласились пойти со мной в «Эбби» в следующую субботу. Билл Тернер, конечно же, тоже был там вместе со своим одноклассником Леном Гарри. Как только фильм начался, все шестеро разошлись по балкону по парам. На этот раз в роли учителя Джона выступал уже я — и опять мы не встретили и тени сопротивления, пока не стали заходить слишком далеко.
После фильма Джон признал, что напрасно так насмеялся над моим рассказом неделю назад. Более того, наши наслаждения в «Эббисинема» стали единственной темой разговоров нескольких следующих месяцев. Можете не сомневаться: мы с Джоном почти не пропускали субботних дневных сеансов на протяжении целого сезона, и, как показала практика, могли вынудить некоторых из тех безымянных девушек даже расстегнуть для нас свои блузки — и многое другое. То, что они позволяли нам вытворять, беспрестанно удивляло меня, можно было лишь предположить, что в сексуальном отношении они голодали не меньше нас.
Важность этих «подвигов» трудно переоценить. С одной стороны, они были неотразимой игрой безрассудства: чистой воды возбуждением и приключениями, в которые мы с головой погрузились. А с другой — эти анонимные «щупанья» в полутемном кинозале (много лет спустя кинотеатр «Эбби» был перестроен в универсам с удивительно подходящим названием — «Леннонс») стали нашим первым физическим контактом с противоположным полом и, поскольку мы его и считали таковым, они стали нашим вступлением в ряды мужчин.
Тем не менее, наши посещения субботних сеансов постепенно прекратились, когда мы начали заводить отношения с девушками, жившими по соседству. Все те дешевые страсти, которые мы с Джоном испытывали в «Эбби», как нам стало ясно, оставляли желать необходимой для них интимности, комфорта и спокойствия, в особенности, по той причине, что Джон в повседневной жизни практически не испытывал никаких затруднений при знакомстве с противоположным полом.
Уже с 14–15 лет он притягивал женщин, словно магнит. Несомненно, девушек гипнотизировали все те же его качества: необычайное чувство юмора и несокрушимое нахальство, которые сделали его одним из самых популярных парней в Куари Бэнк. Но если своих почитателей мужской половины Джон зачастую награждал безразличием или снисходительностью, то в отношении молодых женщин он был еще менее вежлив. Казалось, что он считает девушек неодушевленными предметами, полу-людьми, конечно же, очень нужными на предмет секса, но в остальных отношениях не заслуживающими внимания.
Частично такое поведение можно объяснить нашим культурным уровнем: дело в том, что северная часть Англии всегда была печально знаменита своим мужским шовинизмом. Но даже учитывая это, масштабы предубежденности Джона, от которой он избавился только после встречи с Йоко, необычайно поражают, если учесть, что все пять сестер Стенли, которые приложили основные усилия к его воспитанию, были такими сильными и независимыми женщинами. Даже несмотря на его неизменное уважение к Мими и удивительную духовную близость с Джулией, похоже, Джон никогда не задумывался о том, что и у девушек его возраста могут быть свои взгляды или чувства, с которыми нужно считаться.
Одной из его любимых фраз была: «Бросаю свою чувиху до рожества (Рождества) — и тогда тебе не придется тратить деньги на презерт (презент)». И хотя Джон мог запросто начать флиртовать с другими девушками в присутствии одной из своих подруг, он буквально сходил с ума от ревности, если они тоже осмеливались взглянуть на кого-то другого.
Как он признался в одном из последних интервью, «я был очень неуверенным в себе мужчиной и поэтому хотел запрятать свою женщину в маленький футлярчик, запереть ее и извлекать оттуда, только когда появится желание поиграть с ней. Она не должна контактировать с окружающим миром, ибо это делает меня неуверенным в себе».
Наконец, он встретил достойную противницу в лице Барбары Бейкер, с которой и завязал первые серьезные отношения, было ему тогда около пятнадцати лет. Барбара была не только необычайно красивой, но — в отличие от большинства ливерпульских девушек — знала, как подчеркнуть свое природное очарование… Ее одежда, прическа и каждое движение несли на себе печать искушенности, которая вскоре стала обычной для юных подростков, но в 1955 году была чем-то неслыханным. Более того, Барбара умела отвечать на сарказмы Джона добродушностью. Их бурный, приливно-отливный роман продолжался почти два года.
Однажды утром, вскоре после того, как они начали гулять вместе, я встретил Джона, как обычно, на углу Вэйл-роуд и Менлававеню. «Ну вот, Пит, — спокойно произнес он, — вот я и сделал это. Я первый раз е…». Как ни странно, это достижение возбудило его гораздо меньше, чем наши подвиги в Фостерских полях и «Эбби». «Пока я смог ее натянуть, мне пришлось крупно потрудиться. Это было вроде попытки попасть в мышиное ушко, — добавил он. — Ей-Богу, лучше бы я просто спустил…»
Однако, вскоре его взгляды на эту тему существенно изменились. Когда я, не теряя времени, тоже нарушил свое целомудрие, мы начали е… наших подруг при любой возможности — часто в одной комнате (и даже в одной кровати) и нередко — с риском быть обнаруженными.
Например, однажды мы начали заниматься любовью в маленькой гостиной в доме моей подружки, когда ее мать ушла на кухню приготовить нам чай. Пока Джон и Барбара разлеглись на софе и начали страстно обмениваться ласками, моя партнерша дошла до того, что сняла свои трико и присела на корточки над моей расстегнутой ширинкой. В результате мы забыли обо всем окружающем, как вдруг я понял, что в дверь кто-то стучится.
«Войдите!» — приветливо бросил Джон, быстро застегнув свою «молнию», но не дав мне возможности сделать то же самое. В комнату тут же вошла, пританцовывая, хозяйка дома, не подозревавшая, что ее дочь у нее на глазах нарушает свою девственность. «Чай готов!» — прощебетала она. — Пошли.»
Быстро вскочив на ноги, Джон, конечно же, прекрасно знавший о моем компрометирующем положении, отозвался эхом в манере своих хоровых экспромтов: «Пошли, эй, вы!»
Поскольку, по крайней мере, моя партнерша была, за исключением отсутствующего трико, полностью одета, у ее матери не было причин подозревать дочь в чем-то более непристойном, чем в непринужденной позе на груди у дружелюбного молодого человека. Но, как всегда, Джон не собирался оставлять меня в покое. «Вы что, не слышали, что вам сказала хозяйка, — продолжал он. — Чай уже готов. Что ты там возишься, Пит?» В конце концов он схватил меня за руку и силой вытащил нас из кресла.
К счастью, при нашем синхронном неловком вставании я ухитрился крепко прижать к себе свою подругу, прикрыв таким образом свой обнаженный член от глаз ее матери, которая непрерывно о чем-то болтала. «Ты сволочь, Леннон! — взорвался я, как только женщины удалились. — Какого х… ты выкинешь в следующий раз?»
Глава четвертая: Перевернись в гробу, Бетховен (Roll Over Beethoven)
Наша жизнь впервые столкнулась с музыкой и пластинками в 1955 году, в дни самого солнечного мерсисайдского лета на моей памяти. Постоянно ясная погода лишь усиливала и подогревала наше жизнерадостное настроение, когда для нас с Джоном начались семинедельные каникулы. С легким головокружением от сознания своей половой зрелости, мы с самоуверенным видом бродили по улочкам пригорода, словно были властелинами всего мира.
К тому времени наша банда сорвиголов, ядро которой теперь включало Билла Тернера и Лена Гарри, а также Джона, Айвена, Найджела и меня, избрала кальдерстоунский парк основным местом своих операций. Удобно расположенный между Пенни-лэйн, где жили Билл и Лен, и Вултоном, этот парк для нас был великоват и мы застолбили себе его холмистую окраину, которую обозвали «The Bank» (Банк). В любой день этих летних каникул каждый из нас мог не сомневаться, что встретит там большую часть (если не всех) нашей банды в компании одноклассников и приспешников, проводящую время за болтовней, курением и загоранием на Банке. Не последним из развлечений был и постоянный поток представительниц женского пола, обычно — с целью пофлиртовать с Джоном Ленноном.
Джон, как всегда, был главным развлекателем, но теперь его возможности расширились. Он неизменно носил в своем заднем кармане губную гармошку и редкий день не горланил песни под ее сопровождение. В основном это были новые хиты вроде «Cool Water» («Холодная вода») Френки Лейна и «Walking My Baby Home» («Провожая подружку домой»), «The Little White Cloud That Cried» («Маленькое белое облачко, которое плакало») Джонни Рэя. Свою первую гармошку он получил в подарок от дяди Джорджа еще за несколько лет до этого, но талант подбирать мелодию на слух развился у него намного позже.
Основное влияние на интерес Джона к музыке оказала его мать. Летом 1955 года популярная музыка еще не провозгласила себя молодежным феноменом и даже ведущие американские певцы очень редко попадали в эфир. В соответствии с музыкальными регламентами, субсидируемая правительством Би-Би-Си, три радиостанции которой монополизировали британский эфир, уделяла очень мало времени предварительно записанной музыке. Напротив, и старые, и современные хиты чаще всего передавали «живьем», в исполнении малоизвестных певцов. Аналогично этому, продажа нотной музыки (а не пластинок) определяла место в списке еженедельной «Топ Твенти», передаваемой Би-Би-Си. Однако формирование музыкальных вкусов Джона имело большое по тем временам преимущество, а именно — проигрыватель его матери. Более того, Джулия потакала его растущему интересу тем, что пополняла свою немалую коллекцию пластинками, выбранными самим Джоном.
Но это не означает, что у него был какой-то любимый записывающийся артист, будь то даже «теннессийский» Эрни Форд или Джонни Рэй, которые внесли в свои сахарные мелодии и аранжировки, по крайней мере, видимость настоящих эмоций. Помимо отсутствия чего-то более возбуждающего, они еще и адресовали свои песни, как и все певцы тех времен очень широкой аудитории, и поэтому не могли возмутить даже тетушку Мими. Мы не думали, что обычная пластинка сможет изменить нашу жизнь сколь-нибудь замечательным образом, не говоря о наших непрерывных поисках возбуждений и забав, до того РОКОВОГО дня, когда услышали «Rock Around The Clock».
Несомненно, эта первая рок-н-ролльная запись была кричащей, грубой и сексуальной и не походила ни на что, слышанное нами, и в этом мы с Джоном почти сразу согласились. Единственным недостатком этой песни был имидж самого певца, хотя тогда мы вряд ли понимали это. Билл Хейли был толстым, женатым и слишком стандартным в своих выступлениях и манерах. Его хит казался чем-то вроде счастливой случайности.
«Heartbreak Hotel» («Отель разбитых сердец») был более убедительным. После того, как он ворвался в наше коллективное сознание следующей весной, молодежь Великобритании, как и Америки, стала другой. По голосу, внешности и недвусмысленности, Элвис был воплощением всего, на что «Rock Around The Clock» только намекал. Элвис БЫЛ самим рок-н-роллом.
Первая реакция Джона на Элвиса ничем не отличалась от моей или наших приятелей, или реакции бесчисленного числа подростков всего мира. Мы все автоматически захотели одеваться, как Элвис, выглядеть, как Элвис, ходить, манерничать и ухмыляться, как Элвис — и каждое ехидное замечание тетушки Мими, учителей или газет лишь усиливали власть нового идола над нашими умами.
Помимо всего прочего, нас пленила и его музыка. После «Heartbreak Hotel» редкий месяц обходился без нового хита «Короля рок-н-ролла»: сначала «Blue Swede Shoes» («Синие замшевые туфли»), затем «Hound Dog» («Ищейка») и «Don't Be Cruel» («Не будь жестокой»), потом — скоропалительно — «Love Me Tender» («Люби меня нежно»), «Too Much» («Слишком много») и «All Shook Up» (Все ходит ходуном») — и ожидание каждой нам казалось вечностью. Но и тогда Джон еще не стремился петь, играть на гитаре и делать миллионы долларов, как Элвис. Нам казалось невозможным, что какой-то мальчишка со средними способностями из английской провинции сможет соперничать с профессиональными достижениями Билла Хейли или Элвиса: для того, чтобы делать настоящую музыку, нужно было, прежде всего, иметь деньги, чтобы купить дорогие инструменты и оборудование, а для этого требовались годы нудных уроков и практики. А кроме того, звезды рок-н-ролла, как правило, были американскими.
В те дни все мы считали Штаты не только лидером Западного мира, но и далекой мифической страной, чуть ли не Страной Фантазии. Поскольку никто из наших знакомых там не бывал, наши впечатления о стране складывались в основном по голливудским фильмам, особенно — вестернам и «о гангстерах», и исконному американскому экспорту — голубым джинсам и кока-коле. Все это убеждало нас в том, что США — это футуристический рай быстрых машин, быстрых обедов, быстрых денег и «быстрых женщин», то есть общество несравненно более перспективное и возбуждающее, чем наше собственное. С нашей колокольни рок-н-ролл казался нам квинтэссенцией американской мечты.
Однако, услышать его было не так-то просто. Мы были счастливы, если в какой-нибудь из передач Би-Би-Си, вроде «Любимцы семьи», среди обязательной груды легкой классической и британской музыки передавали хотя бы одну вещь в исполнении Пресли. Рок-н-ролл нельзя было купить в магазинах или где-нибудь еще, хотя миф утверждает, что ливерпульский порт (а, следовательно, Джон и БИТЛЗ) имел преимущество: постоянный приток ритм-энд-блюза и «сорокапяток» с рокабилли, привозимых американскими моряками. По крайней мере, для нас с Джоном Ливерпуль в середине 50-х казался недосягаемым. Наши знания о рок-н-ролле пополнялись главным образом благодаря нашему энтузиазму и инициативе.
Свое спасение мы нашли в полуночной программе «Радио Люксембург» — «The Jack Jackson Show», первоначально предназначавшейся американским рок-н-роллам. И если в программе была передача м-ра Джексона, мы сидели в своих кроватях, прижав ухо к приемнику, и через статические помехи, ловили отрывки подлинников Элвиса Пресли, Билла Хейли и Джина Винсента, «Be Bob A Lula» которого стала одной из самых любимых вещей Джона.
Вторым важным источником был лучший друг Дональда Битти Майк Хилл. Помимо хорошего проигрывателя, Майк обладал и превосходной коллекцией американских пластинок. Я уж не помню, откуда они у него появились, быть может, его родственники жили или бывали в Штатах, но впервые с великими черными рок-н-ролльщиками, в том числе и с Литтл Ричардом, мы познакомились именно через Майка. Дом Майка находился как раз на обратном пути из школы, а его родители днем всегда были на работе, поэтому послеобеденные часы Дональд, Джон и я часто проводили у Майка, непрерывно слушая Литтл Ричарда и объедаясь рыбой с картошкой.
Однако, в таких случаях мы с Джоном старались отнять у Ричарда пальму первенства. Джон очень гордился своей репутацией ведущего поклонника рок-н-ролла в Куари Бэнк и его раздражало, что Майк Хилл, а не он, первым сделал столь важное открытие. Кроме того, мы не были склонны думать, что этот истошно и сексуально орущий и озабоченный темнокожий парнишка столь же крут, как «наш» Элвис.
Но после появления «Long Tall Sally» («Долговязая тощая Салли»), сопротивление Джона рухнуло, и вскоре он начал точно так же балдеть от Чака Берри и Бадди Холли. Все остальное — школа, семья и даже его рисование и сочинительство — было стремительно вытеснено увлечением рок-н-роллом. Как он сказал много лет спустя, «это было единственным из всего происходившего, что могло дойти до меня, когда мне было пятнадцать. НАСТОЯЩИМ был только рок-н-ролл, все остальное было ненастоящим.»
Удивительно, но эта же одержимость увела Джона от танцев, которые были неразрывно связаны с рок-н-ролльной музыкой. Хотя он и обладал хорошим чувством музыкального ритма, которое продемонстрировал в дальнейшем, он, наверное, был самым плохим танцором в мире. За все годы нашей дружбы, Джон едва ли танцевал в моем присутствии больше 5–6 раз, и то это было либо в виде гротескной пародии, либо в случаях, когда он был совершенно пьян.
Одержимость Джона вскоре стала всеобъемлющим образом жизни — рок-н-ролльное сотрясение молодежи нашло выражение в двух чисто британских явлениях: помешательство на музыке «скиффл», о котором мы сейчас поговорим, и появлением армии «тедди-боев», которые буквально прорезали себе дорогу к национальному статусу, кромсая в клочья сиденья кинотеатров во время демонстрации фильма «Blackboard Jungle» (Джунгли школьных досок»), заглавной темой которого была песня Билла Хейли «Rock Around The Clock». Между прочим, Джон был глубоко разочарован тем, что когда мы пошли смотреть этот фильм, там не было не одного теда с ножом.
Появление этих своеобразных уличных банд требовало непременного посвящения в их «моду». В самом деле, тедди-бои, получившие свое прозвище за квази-эдвардовскую экипировку (В обладающей классовым сознанием Британии, одним из наиболее антиобщественных аспектов тедди-боев была манера поведения, в которой эти хулиганы пролетарского происхождения пародировали одежду предыдущего поколения аристократии — нечто похожее на использование «модами» британского флага — Union Jack — в качестве лейтмотива их моды десятью годами позже. [Тедди — уменьшит. от имени Эдвард, Теодор]), представляли собой беспрецедентное отклонение в смысле моды, границы которой раньше определялись такими нюансами, как число пуговиц на костюме или же шириной его лацканов. Своими длинными куртками из черного и синего вельвета, техасскими галстуками-шнурками, брюками «дудочки», аляповатыми носками и замшевыми туфлями на толстой подошве, теды одним махом перечеркнули всю условность и монотонность цветов одеяний «респектабельных» людей.
Движение «тедди-боев», охватившее главным образом ребят 16–20 лет, способных удовлетворять свои потребности в одежде собственными заработанными деньгами, несомненно, ознаменовало первый в Британии чисто молодежный бум в моде. До его возникновения мы и не помышляли оспаривать неотъемлемое право родителей определять выбор нашей одежды. Как неустанно твердила моя мать, «то, что идет твоему отцу, пойдет и тебе». Но несмотря на все наше восхищение и восторженность, с которой мы восприняли этих щеголеватых, с прической «под Элвиса», тедди-боев, (само название которых было синонимом детской преступности), нас с Джоном по-прежнему сдерживал тот факт, что финансирование нашего гардероба осуществляли тетя Мими и мои родители, которые к вельветовым курткам, брюкам «дудочки» и оранжевым носкам относились в высшей мере скептически.
Как-то у нас с отцом завязались бурные дебаты относительно моего решения купить брюки с полуокружностью бедер 40 сантиметров, в то время как стандартом все еще считались 52-сантиметровые. В конце концов отец с большой неохотой дал согласие на брюки с полуокружностью бедер ровно 48. Этот случай забавен тем, что модифицированная версия «дудочек» тедди-боев была вскоре принята обществом. А когда контркультура хиппи через десяток лет ввела брюки клеш, мой отец, уже «по-современному» одетый, как и все остальные, в брюки с полубедром 43 сантиметра, скандалил из-за новых клешей точно так же, как и из-за тедовых дудочек.
Иногда нам с Джоном удавалось перехитрить родителей. Мы относили брюки к портному и он почти незаметно зауживал их. Джон был в этом смысле левым сторонником моды: тетушка Мими слишком упорно твердила ему о первостепенной важности внешнего вида и одежды. Он первым в Куари Бэнк похвастался прической «Тони Кертиса», которую венчал пышный «слоновый хобот» а-ля Элвис, а по бокам делался зачес для так называемого «утиного зада». Отчасти благодаря щедрости Джулии, Джон также первым стал носить цветастые рубашки, узкие галстуки, плащи с подкладкой в плечах и узкие черные джинсы.
Поскольку я, насколько позволяли мои светлые кудри и карманные средства, следовал его примеру, нас тут же окрестили «школьными тедди-боями». Но, увы, это было ошибочное употребление термина. Даже если бы мы и могли позволить себе все соответствующие регалии тедди-боев, мы ни за что не решились бы ходить в них по улицам. Тедами в основном были неприятного вида хулиганы, которые, несомненно были бы разъярены появлением двух 16-летних школьников-самозванцев. А раз так оно и было, мы обычно сразу обращались в бегство, завидев на своем пути настоящего теда.
«Я никогда не был хулиганом или беспризорником, — признался Джон впоследствии. — Я одевался как тедди-бой и старался походить на Элвиса Пресли или Марлона Брандо, но я никогда не участвовал в уличных драках или дворовых бандах. Я просто был провинциальным парнем, который подражал рокерам. Выглядеть хулиганом требовала сама жизнь. Все свое детство я провел сутулясь и сняв очки, потому что очки придавали тебе вид «маменькиного сынка». Я ходил, обуреваемый страхом, но на моем лице было самое хулиганское в мире выражение. Я мог попасть в беду просто из-за своего внешнего вида…»
Начало второй чисто британской, связанной с роком модой, положил Лонни Донеган, песня которого «Rock Island Line» («Очертания скалистого острова») большую часть 1956 года проторчала в самом конце списка «20 лучших», но повлекла за собой серию суперхитов, и хотя большинство из них давно забыто, он заслуживает упоминания, как истинный мессия британского рока. В отличие от всех других героев, бренчавших на гитарах, Донеган был АНГЛИЙСКИМ. Но еще важнее было то, что его музыкальный аккомпанемент состоял из обыкновенной стиральной доски вместо ударной установки и самодельного баса, сделанного из ящика из-под чая, ручки от метлы и куска толстой струны. Эти скиффл-инструменты, раздобыть которые и играть на которых могли даже самые бедные дети, стали настоящим откровением для тысяч, если не миллионов британских подростков. И это бессловесное откровение Донегана, в противоположность поколению панк-рокеров, состояло в том, что для исполнения поп-музыки не обязательно быть «профессионалом».
Как только оно достигло ушей Джона Леннона, у этого величайшего фана рок-н-ролла из школы Куари Бэнк начали чесаться руки. Он надоедал матери и тете просьбами купить ему гитару, пока кто-то из них не капитулировал и не купил дешевую плохонькую шестиструнку в музыкальном магазине Хесси. Я почти уверен, что за инструмент заплатила Джулия, хотя некоторые битл-биографы приписывают это в заслугу тетушке Мими.
Как бы то ни было, основную поддержку и помощь Джон получил именно от Джулии: именно она предложила ему учиться играть в ее доме и показала ему банджовые аккорды, пока он не нашел человека, который показал ему настоящую аппликатуру аккордов для гитары. Первой песней, которой она его научила, был рок-н-ролл Фэтса Домино «Ain't That A Shame» («Какой позор!»). Что касается Мими, от постоянного бренчания и топанья ногой она настолько выходила из себя, что выгоняла его в сад. «Конечно, Джон, гитара — это очень хорошо, — неустанно увещевала она, — но ты не сможешь зарабатывать ею на жизнь.» Эта фраза так глубоко врезалась в память Джона, что он вернул ее Мими десять лет спустя в виде пластины с гравировкой.
Но в этом деле, зашедшем довольно далеко, я не горел желанием следовать его примеру. Хотя моя мама могла играть на пианино на слух, я прекрасно понимал, что именно этих генов я не унаследовал и считал себя полностью лишенным музыкального слуха. Но вот, как-то днем, когда мы с Джоном бродили по школьному двору и, как всегда, разговаривали о рок-н-ролле и скиффле, он в своей обычной бесцеремонной манере спросил: «Слушай, а почему бы нам не создать скиффл-группу?»
«Что? Чтобы я играл в группе? — меня одна мысль об этом привела в ужас. — Нет, Джон, я не смогу. Мне медведь на ухо наступил.»
«Да брось ты, — настаивал он. — Посмотри на Лонни Донегана! Гитара у меня уже есть, нам не хватает только стиральной доски и чайной коробки, а на том и другом даже ты сможешь играть. Давай хотя бы попробуем ради интереса и посмотрим, как это будет звучать. Если это будет в тягость, мы просто забудем об этом — и все.»
Немного поколебавшись, я в конце концов согласился, но без особого энтузиазма. В этой идее я видел по крайней мере возможность немного повеселиться, если другого времяпрепровождения с ребятами не предвиделось. Джон, напротив, был очень воодушевлен моим неохотным согласием и не мог дождаться «начала».
Если бы я категорически сказал «нет», Джон наверняка бы похоронил саму идею создания группы и, возможно, ничего, о чем написано в этой книге и не произошло бы. Этими словами я вовсе не хочу подчеркнуть свою значимость, если оставить в покое мою виртуозную игру на стиральной доске в первой группе Джона Леннона. Просто в то время мы с Джоном были настолько неразлучны, что и для него, и для меня заниматься тем, что не интересовало другого было просто немыслимо.
Как уже было отмечено, Джон всегда испытывал безрассудный страх, если должен был сделать самостоятельный шаг. Он привык быть лидером и центром всеобщего внимания, и вместе с тем — отчаянно нуждался в поддерживающем присутствии того, кого считал в этот момент самым близким другом. Идея создать группу из случайных незнакомцев просто никогда не пришла бы ему в голову.
После того, как я притащил из сарая в нашем саду стиральную доску, мы с Джоном сконструировали из ручки от метлы и старой коробки из-под чая, предоставленной моей мамой, недостающий бас. Поскольку наибольшее желание играть на нем выказал наш одноклассник Билл Смит, мы пригласили его в нашу еще неоперившуюся группу. Свои первые репетиции мы проводили в старом ветхом сарайчике из гофрированной жести, стоявшем в глубине нашего сада, а также во всевозможных ванных комнатах, чаще всего — в доме Джулии, акустика которых напоминала нам студийное эхо ранних рок-н-ролльных хитов. Кроме того, нам оно казалось менее всего отвратительным. Наш репертуар состоял почти исключительно из композиций Лонни Донегана, в частности, «Rock Island Line», «Wabash Cannonball» и «Cumberland Gap», в которых было не больше трех обычных гитарных аккордов и такая до идиотизма простая ритм-секция, что даже я и Билл Смит могли в точности повторить ее.
Впрочем, Билл быстро зарекомендовал себя ненадежным партнером. Он то не приходил на репетицию, то всеми силами старался завязать со мной драку. Наконец, Джон согласился, что такое положение дел мало похоже на наши планы «немного повеселиться» и мы решили пригласить на место Билла Смита Лена Гарри. Но Билл к тому времени утащил наш бас с чайной коробкой и мы смогли вернуть его себе лишь после того, как, сбежав с уроков, посреди дня забрались в дом Смитов через окно на кухне.
Следующим пополнил наши ряды еще один школьник Куари Бэнк, Род Дэвис, который был спокойней и усидчивей всех нас, но зато имел собственное банджо и умел на нем играть, и Эрик Гриффитс, знакомый гитарист из Вултона, которого все мы знали много лет. В свою очередь, Эрик представил нам нашего первого собственного ударника — Колина Хантона. Но, мягко говоря, этот состав был неустойчивым. Если Лен по какой-то причине не мог играть на чайном ящике, его с успехом заменяли и Айвен Воэн, и Найджел Уэлли.
Однажды мне пришла в голову идея как-то назвать нашу группу. Поскольку наш родной Вултон был испещрен каменоломнями, где добывали песчаник и большинство из нас училось в школе Куари Бэнк (Борт каменоломни), название «The Quarry Men» («Каменотесы») показалось вполне подходящим названием. Кроме того, нам с Джоном нравилась одна из строк в песне нашей школы: «Могучие каменотесы еще до нашего рожденья…»
По настоянию Джона мы постепенно расширяли свою программу рок-н-ролльными вещами, вроде «Blue Swede Shoes», хотя и Джону, и Роду еще только предстояло узнать их правильные аккорды и они все еще вынуждены были обращаться за помощью к благосклонному знатоку-соседу, когда их гитары расстраивались. А тем временем Найджел Уэлли, музыкальные способности которого вызывали даже больше сомнений, чем мои, начал выступать в роли «менеджера» «Куаримен». Он дошел до того, что даже обзавелся визитными карточками, на которых был напечатан его адрес, номер телефона и примечание:
Кантри. Вестерн. Рок-н-ролл. Скиффл.
«Куаримен»
Свободна для ангажемента.
Найджел Уэлли, менеджер
Но за исключением нескольких неудачных концертов и короткого выступления на танцах 6-го класса Куари Бэнк, никаких ангажементов не последовало до тех пор, пока моя мать не организовала наше выступление на большом вултонском летнем празднике в саду церкви Св. Петра. Это важное событие произошло 6 июля 1957 года, за несколько дней до нашего окончания школы. Мы отыграли целых два отделения: одно — днем, на самодеятельной сцене посреди поля за церковью, второе, через несколько часов — на танцах под музыку кантри-энд-вестерн в здании церкви.
После того, как мы перетащили свое оборудование (какое было) с «Поля скаутов» на новое место — в пустой зал, к нам присоединился Айвен Воэн и его полнощекий одноклассник с детским личиком. Айв полагал, что Джону будет небезынтересно встретиться с его приятелем, «волокущим в гитаре», который был не только одним из самых заядлых поклонников Пресли и Литтл Ричарда в ливерпульской политехнической школе, но и умел настраивать свой инструмент.
Как выяснилось, звали этого паренька Пол МакКартни.
Глава пятая: Давай объединимся (Come Together)
На первой встрече и Джон Леннон, и Пол МакКартни были поначалу не слишком любезны. Джон, как я уже понимал, относился к незнакомцам настороженно, а Пол, в свою очередь, вел себя сдержанно-вежливо. Но он отнюдь не был застенчив, и в конце концов неловкое молчание было нарушено, когда он взял в руки свою гитару и начал играть.
На Джона это сразу произвело впечатление. Как мы узнали позднее, Пол вырос в семье музыканта: его отец Джим торговал хлопчатобумажными изделиями, но одно время был руководителем группы в стиле свинг-джаз. Кроме умения настраивать свой инструмент, Пол знал правильную аппликатуру всех банджовых аккордов, которым его научила мать, и многих других, о существовании которых «Каменотесы» и не подозревали. После отличного исполнения песни Эдди Кокрэна «Twenty Flight Rock» («Рок 20-го рейса»), которую мы считали для себя слишком трудной, Пол снискал себе еще больше расположения, а потом еще написал по памяти тексты нескольких любимых рок-н-роллов Джона.
«Ну, Пит, — спросил Джон, как только Пол ушел, — что ты о нем думаешь?»
«Мне он понравился».
«А как ты смотришь на то, чтобы принять его в группу?»
«Я не против, — ответил я. — Если ты этого хочешь и он тоже захочет, то…»
Конечно же, тогда Джону и в голову не могло прийти, что им с Полом суждено стать близкими друзьями. С одной стороны, Джон был почти на два года старше Пола и это лишь усиливало его чувство превосходства. В этом пареньке самого Джона привлекала музыкальная компетентность. Проще говоря, Пол должен был пробыть «Каменотесом» ровно столько, сколько требовалось Джону для того, чтобы разучить все эти аккорды.
Прошло примерно две недели, а Джон по-прежнему не делал попыток возобновить контакт с нашим новым знакомым. И так уж получилось, что первым из всех нас его увидел я, когда он катался по окрестностям на велосипеде. Заметив меня, он остановился.
«Слушай, — наконец решился я после обычного обмена любезностями, — мы тут с Джоном поговорили и… подумали, что ты, быть может, захочешь войти в нашу группу…»
Прошла целая минута, пока Пол делал вид, что тщательно обдумывает это предложение. «Ладно, хорошо», — наконец произнес он, пожав плечами и почти сразу уехал домой в Аллертон.
Вскоре стало ясно, что Пол надолго останется в группе Джона. Хотя внешне их характеры казались полностью противоположными (несмотря на свою прическу «Тони Кертиса», Пол был довольно «сознательным» школьником, слушался старших и не разделял антиобщественных настроений тедди-боев) и того, и другого объединяла фанатичная одержимость рок-н-роллом. И если мне эта музыка просто нравилась, то Джон и Пол были совершенно зачарованы всем — от аккордовых гармоний до моделей электрогитар своих кумиров. Кроме того, их обоих очень привлекали совместные выступления для аудитории, и в этом смысле я остался в стороне. Все время, пока я состоял в «Куаримен», меня одолевали сильнейшие приступы «сценической лихорадки», даже сейчас при одной мысли играть для толпы незнакомых людей, у меня начинают дрожать коленки.
Прежде и Джон, и Пол почти все свободное время посвящали гитаре, иногда они даже брали ее с собой в туалет, поэтому нет ничего удивительного в том, что они начали при любой возможности репетировать вместе. Постепенно их рефлексы самозащиты пропали и они стали настоящими друзьями. Однако, обаяние и хорошие манеры Пола не смогли произвести должного эффекта на тетушку Мими, которая нередко захлопывала перед его носом дверь, особенно в тех случаях, когда Джон не мог справиться с ней. По ее мнению, Пол был единственным и главным виновником «пагубного пристрастия Джона к гитарам и рок-н-роллу». К тому времени Мими уже привыкла к моему присутствию и я был одним из тех, кому в Мендипсе всегда оказывали благожелательный прием.
Первое время Джон испытывал трудности при совместной игре из-за того, что Пол был левшой. В конце концов, он прибегнул к хитрости: поменял местами струны и аккорды брал «вверх дном», а потом — в нормальном положении, пока не разучил все аккорды, какие знал Пол. Вскоре после этого они начали пробовать сочинять песни, как вместе, так и порознь. Тогда это хобби было довольно необычным: даже Элвис не сочинил ни одной вещи. (Одной из первых творческих попыток Джона при «Куаримен» была песенка «One After 909» («Следующий после 909-го»), которая была воскрешена через 12 лет на альбоме «Let It Be». Большая часть первых ста песен под авторством «Леннон-МакКартни» была навсегда потеряна уже в период битловской славы, когда подруга Пола Джейн Эшер, убираясь в комнате случайно выбросила их.)
Примерно тогда, Пол рассказал нам об одном пареньке из Ливерпульской политехнической школы, которого звали Джордж Харрисон и который умел играть на гитаре еще лучше, чем он сам. В то время, когда никто из наших знакомых не умел ничего больше, чем бренчать на гитаре, этот Харрисон мог играть настоящее соло!
В конце концов, мы согласились сходить с Полом к Джорджу домой, в рабочие кварталы Спика, чтобы лично посмотреть, чего стоит этот вундеркинд.
Джордж оказался 14-летним подростком — он был даже младше Пола — и в представлении Джона, это ставило его в невыгодное положение еще до того, как мы услышали первые ноты его хваленой игры. Джордж, в свою очередь, испытывал благоговейный трепет перед толпой старших ребят, которые без предупреждения явились к нему домой, и за время первого свидания не произнес почти ни слова. Но, несмотря на всю свою нервозность, Джордж безупречно сыграл популярный инструментал Билла Джастиса «Raunchy», и даже Джон остался под большим впечатлением.
И все же Джорджу не сразу предложили войти в «Куаримен». Он затесался в группу постепенно, неотступно, словно верный пес, следуя за Джоном, которого сделал своим кумиром — и участвовал в репетициях или концертах, если Род Дэвис или Эрик Гриффитс не могли на них присутствовать.
Поначалу Джон не слишком радовался этому вездесущему поклоннику и даже злился, если его видели вместе с Джорджем. Пол, несмотря на свою юность, был не по годам развит и самоуверен. Едва ли то же самое можно было сказать о Джордже, которого мы считали маленьким наивным мальчиком. И окончательное принятие Джорджа лидер-гитаристом «Куаримен» произошло главным образом из-за его упорства и настойчивости.
Еще одним плюсом для Джорджа была его добросердечная мама. Луиза Харрисон не имела ничего против того, что ее младший сын убивает столько времени на усердные занятия гитарой и постепенно она стала нашей первой покровительницей и поклонницей — сначала «Куаримен», а затем и БИТЛЗ. Не страдающая мелкобуржуазной претенциозностью Мими, Луиза, как и ее муж Гарри, водитель автобуса, на удивление спокойно относилась к кричаще-розовым рубашкам, желтым жилеткам и узким брюкам Джорджа. А молчаливое неприятие, которое Мими выказывала этому маленькому тедди-бою с беззастенчивым простонародным выговором, в свою очередь, лишь усиливало его стремление быть другом ее племянника.
Но в любом случае, ни Пол, ни Джордж не смогли бы продержаться в группе Джона, будь они даже достойны места в филармоническом оркестре, если бы он не полюбил их как людей. Все остальные члены первого состава постепенно «выбыли» — не столько из-за музыкальной бесперспективности, сколько оттого, что они наскучили Джону.
Совсем иной была ситуация со мной. Хотя мы с Джоном прекрасно уживались, у меня не было ни музыкальных способностей, ни каких бы то ни было честолюбивых целей. Видя, как быстро продвигаются дела у Джона и Пола, я имел все основания полагать, что мои дни в «Куаримен» сочтены. Но из боязни доставить Джону неприятные минуты, я не решался сказать об этом открыто. Кроме того, на сцене наш разговор состоял из одних остроумных реплик, и какой-то откровенный и чистосердечный разговор о моей роли в группе выглядел бы просто неуместно.
И все же Джон прекрасно чувствовал мое состояние при выходе на сцену, не говоря уж о явной неспособности сделать нечто большее, чем просто выдалбливать метрономический ритм на моей дурацкой стиральной доске. В конце концов, он нашел очень удачное решение, избавившее нас обоих от необходимости обсуждать эту проблему.
Эта развязка произошла после вечеринки на открытом воздухе в Токстете, уже тогда очень хулиганском районе, которую устроила тетя нашего ударника Колина Хантона. Выступив с «Куаримен» на импровизированной сцене — фургоне грузовика — мы с Джоном пошли в дом нашей доброй хозяйки. Когда мы к своему восторгу обнаружили, что всех нас там ожидает неограниченное количество пива, и Джон, и я тут же решили первый раз в жизни напиться вусмерть (хотя выпить мы смогли не больше 3–4 кружек на брата).
Когда вечеринка подошла к концу, мы уже сидели на полу, посреди своих инструментов и пустых бутылок. Несмотря на состояние сильного опьянения, Джон был в прекрасной форме и отпускал одну хохму за другой. Когда же я, наконец, впал в икающую истерику, он властным движением занес надо мной стиральную доску и обрушил ее на мою голову.
«Вот мы и решили нашу проблему, а, Пит?» — он всегда умел принимать быстрые решения. Деревянная рамка скиффл-доски повисла у меня на шее и слезы от смеха с новой силой брызнули из моих глаз. Я даже не почувствовал боли, я только понял, что уничтожение моей доски, которую я, естественно, не собирался ремонтировать или заменять, наилучшим образом избавляет меня от всех дальнейших обязанностей, как члена «Куаримен».
Глава шестая: Твой блюз (Yer Blues)
После того, как мы с Джоном завершили свою карьеру в Квари Бэнк, завалив все выпускные экзамены, ни у него, ни у меня не было ни малейшего представления о том, что нам делать дальше. Впрочем, благодаря энергичному проталкиванию и поддержке Мими, Джон все же умудрился со скрипом попасть в Ливерпульский Художественный Колледж, который случайно оказался расположенным недалеко от школы Пола и Джорджа. Я же, тем временем, по настоянию родителей, подал заявление с просьбой о восстановлении меня в старший класс Квари Бэнк. Но, к моему облегчению, м-р Побджой заявил, что не видит никаких перспектив в моем «отставании на второй год».
А в итоге все кончилось к удивлению всех, в том числе и меня самого, поступлением в Ливерпульский полицейский колледж. Такой весьма непроизвольный выбор был инспирирован, главным образом, брошюрой этого колледжа, полной фотографий кадетов, играющих в снукер и плещущихся в большом бассейне. Это обещало веселое времяпрепровождение.
Я вовсе не горел желанием действительно стать полицейским, но все же прошел весь курс обучения. Нужно отметить, что тогда само отношение к этой профессии было совсем не таким отрицательным, как в наши дни. Дети тех лет все еще питали иллюзии по поводу традиционного образа дружелюбного и всегда готового помочь английского «бобби». И, во всяком случае, отец Найджела Уэлли был одновременно и офицером и джентльменом.
Во время первого года своей учебы мы с Джоном продолжали регулярно встречаться. То, что я больше не был «Кваррименом», не мешало мне часто бывать с ним в компании во время выступлений группы, которые я с радостью наблюдал уже как зритель.
Кроме того, иногда я даже ощущал некоторое преимущество перед ребятами на сцене, ибо их растущей популярности среди девушек, тэдди-кавалеры нередко противопоставляли свою яростную ревность. Разодетые в сверкающие ковбойские сапоги и рубашки с кисточками и держа в руках кожаные ремни, эти «крутые ребята» имели малоприятную привычку, доставлявшую им удовольствие: забираться на сцену и разглядывать группу «в упор».
Подобное поведение, несмотря на всю нашу расположенность к тэдди-боям, неизменно вызывали в нас ощущение, что мы — безоружные миссионеры, попавшие в дебри джунглей. Обычно такое случалось в глухом хулиганском районе Гарстона. Официально это место носило название Вилсон-холл, но чаще, и более точно, называлось «Кровавые ванны».
Субботние «танцы» в Вилсон-холле, на которых играли «Кварримены», были, по сути, всего лишь предисловием к тотальной войне, начавшейся между бандами.
После одного из таких концертов вултонские Род Джонсон и Джорджи Вилсон в компании еще одного-двух подобных хулиганов решили «проводить нас домой». Эта легендарная пара злонамеренных молодых работяг достаточно долго угрожала лидеру «Кваррименов», чтобы тот извлек из этого урок. По их поведению было совершенно ясно, что на сей раз они хотят сдержать свои обещания. Убегая во весь дух, словно от смерти, мы с Джоном бросили «чайную басуху», которую несли с собой, и в самую последнюю секунду успели запрыгнуть на заднюю площадку двухэтажного автобуса. К счастью, в тот вечер Джон был без своей гитары.
Однако, наша радость была недолгой. Уже на следующей остановке длинноногие Род, Вилло и их дружки нагнали автобус и заскочили в него. Они почти сразу нашли нас на втором малолюдном этаже, где мы прятались за задними сиденьями у самой лестницы. Без лишних разговоров, они тут же пустили в ход кулаки, а мы с Джоном старательно прикрывали лицо руками. Поскольку эти жлобы были намного старше, выше и хулиганистей нас, будущее казалось абсолютно безнадежным до того мгновенья, когда автобус подъехал к следующей остановке и Джон, неожиданно совершив эффектный прыжок, слетел вниз по лестнице.
Наши мучители тут же бросились по горячим следам своей главной «добычи», ибо я их интересовал лишь постольку-поскольку, и выскочили из автобуса, который уже медленно ехал вдоль обочины. Посмотрев в заднее стекло, я увидел удаляющиеся фигуры Рода и Вилло, с тупым видом стоящих на тротуаре и никак не сообразящих, куда мог убежать Джон. Но, к их великой досаде и моей великой радости, он словно в землю канул.
Оказалось, что Джон вовсе не выпрыгивал из автобуса. Вместо того, чтобы бежать ночью куда глаза глядят (что сделал бы любой другой), он просто соскочил на первый этаж и скромно сел между двух старушек. Там я его и нашел — целого и невредимого, но только очень бледного. Так он еще раз спасся от беды благодаря своей сообразительности и хитрости.
Что касается «чайной басухи» «Кваррименов», то она на несколько недель стала достопримечательностью вултонских окраин. Получая постоянные пинки от проезжающего транспорта, она дефилировала между тротуаром и серединой дороги. В последний раз, когда я ее видел, она каким-то образом почти добралась до трамвайной линии.
Как ни странно, но годы учебы в полицейском колледже оказались гораздо более приятными, чем я ожидал. Выяснилось, что многие кадеты поступили в него из тех же соображений, что и я. Дисциплина там была очень слабой и все мы могли только желать продолжения подобного хода дел всю жизнь. Помимо плавания и игры на биллиарде, меня приводили в восторг и сами занятия, где на первом плане стояло трехмесячное обучение по всем подразделениям сил полиции, т. е. дорожная инспекция, уголовное отделение и местные тюрьмы. Наиболее интересными на наш взгляд были отряд полиции по борьбе с проституцией, игорными домами и т. д. и архивный отдел, где мы могли изучать досье на самые колоритные темы, связанные с проституцией, изнасилованиями и тому подобным. Для английского подростка, росшего в сексуально репрессированные 50-е, все это было настоящим образованием!
По случайности, ежегодная церемония окончания колледжа проводилась на поле, непосредственно примыкающем к дому Пола МакКартни. И вот, в завершающий день первого года своей учебы, чеканя шаг вместе с остальными кадетами колледжа на торжественном марше, я вдруг увидел на крыше его дома Джона, Пола и Джорджа с ведрами на голове и швабрами на плечах, изображавших пародию на наш парад. Думаю, незачем объяснять, каких усилий мне стоило сохранить серьезное выражение лица и не сбиться с шага.
Как только церемония окончилась, я сразу бросился в дом МакКартни. «Это что за х…ня, Джон?! — взорвался я. — Из-за тебя я опять чуть не вляпался в г…!»
К тому времени я уже не хотел подвергать опасности свое пребывание в полицейском колледже.
Что касается Джона, то его первоначальный энтузиазм по поводу Художественного колледжа быстро пропал. Ожидая учебы в богемной среде, где можно было бы развивать свои уникальные артистические таланты, он обнаружил, что имеет очень мало общего с сокурсниками, которые предпочитали разбиваться на снобистские группировки, и в целом отвергали рок-н-ролл, предпочитая ему традиционный джаз, а Джон его всегда ненавидел. Но хуже всего было то, что его художественный класс казался ему не таким вдохновляющим, как наши уроки в Квари Бэнк.
На занятиях по каллиграфии Джон должен был проводить большую часть времени за вычислением размеров различных букв алфавита.
«Это все та же проклятая арифметика», — ворчал он.
Даже когда он получал возможность порисовать, его отчитывали за нетрадиционное чувство пропорции и перспективы, которые, как говорили преподаватели, были просто «НЕНОРМАЛЬНЫМИ».
Все это привело к тому, что Джон стал «срываться» с занятий еще чаще, чем в Квари Бэнк. Но здесь уже не было директоров, которые пригрозили бы ему розгами, и он безнадежно все больше и больше отставал по всем предметам.
К концу первого года учебы в Художественном колледже язвительность и цинизм Джона успели приобрести устрашающие размеры. И тут — 15 июля 1958 года — его жизнь потрясла трагедия.
Была теплая субботняя ночь и, не имея никаких планов, я решил заскочить к Найджелу Уэлли. Как только он открыл дверь, я понял, что произошло нечто ужасное. Он был очень бледен и сильно дрожал.
«Маму Джона… — сказал он, — только что убили…»
Пока я пытался осознать эту страшную новость, Найдж сбивчиво рассказал, что час или два назад он заходил к Джону, но не застал его, а встретился с Мими и Джулией, весело болтавшими у ворот сада. (По горькой иронии судьбы, Джон проводил тот уикэнд в Аллертоне, в доме Джулии). Джулия уже собиралась домой и Найджел предложил проводить ее до автобусной остановки. Они обменялись несколькими шутками, после чего Джулия попрощалась и начала переходить Менлав-авеню.
В следующую секунду Найдж услышал визг тормозов. Оглянувшись, он увидел в воздухе тело Джулии, с силой подброшенное мчавшейся машиной. Когда он и Мими подбежали к ней, она уже была мертва.
Найдж и по сей день терзается мыслью о том, что скажи он ей тогда еще несколько слов — она, возможно, и сейчас была бы жива… Он переживал смерть Джулии столь же глубоко, как и ее сын.
На следующий день я встретил Джона в Вултоне.
«Мне очень жалко твою маму», — запинаясь пробормотал я.
«Я знаю, Пит», — спокойно ответил он.
Для нас с Джоном этих слов было достаточно и больше мы к этой теме никогда не возвращались. Ведь никакими словами невозможно было выразить, не говоря уж о том, чтоб облегчить ту молчаливую боль, которую он должен был испытывать.
Кроме того, Джон решил продолжать жить так (конечно, внешне), словно ничего особенного не произошло. Но я прекрасно понимал, что это только видимость; все, кто хорошо знал Джона, не могли не заметить перемен, которые происходили в нем.
Впервые в жизни он начал пить в запой. Однажды ночью я наткнулся на Джона, распластавшегося на заднем сидении последнего автобуса, шедшего в Вултон. Приведя его в полусознательное состояние, я пришел к выводу, что он провел в этом автобусе уже несколько часов и не один раз съездил в пригород и обратно. Эта одиссея закончилась тем, что я выволок его из автобуса и кое-как дотащил до постели в Мендипс.
Поскольку Джону приходилось жить на скудную студенческую стипендию (его деятельность все еще не давала доходов), он взял в привычку поддавать во всевозможных ливерпульских притонах и нелегальных питейных заведениях, донимая своим краснобайством и попрошайничеством несчастных клиентов. Вместе с тем, Джон чувствовал себя очень жалким и униженным, когда приходилось выпрашивать немного мелочи и имел обыкновение с пугающей жестокостью отвечать тем, кто смеялся над ним или раздражал его.
В одной забегаловке, например, он почувствовал неприязнь к пианисту с еврейскими чертами лица по имени Рубен, который мне лично показался вполне приятным парнем. Пока Рубен мужественно продолжал бренчать по клавишам, Джон, как всегда, в стельку пьяный, упорно пытался сорвать выступление, выкрикивая: «жид ползучий!» и «тебя со всеми остальными надо было сунуть в печь!». В конце концов он довел беднягу до слез.
Однако, персона Джона была настолько устрашающей, что у очень немногих хватило смелости не спасовать перед ним, не говоря уж о том, чтобы выгнать его вон. Как бы то ни было, его появление воспринималось всеми, кроме маленького круга его друзей, как очень неприятное событие. Даже я порой опасался, что его ожидает дорога на Скид-Роу.
Заслуга в том, что Джон, в конце концов, образумился, принадлежит, главным образом, двум очень непохожим людям, с которыми он подружился в Ливерпульском Художественном колледже. Первой из них стала Синтия Пауэлл, почти исконно респектабельная девушка из средней буржуазии Хейлэйка, — богатого пригорода, расположенного «за рекой», где люди разговаривали на классическом литературном языке без примесей просторечия.
Примерно недели через две после того, как они начали гулять вместе, я забежал в Мендипс за несколько минут до ее прихода. Меня где-то ждали, но Джон настаивал, чтобы я остался.
«Когда ты ее увидишь, ты не пожалеешь, — сказал он. — Это, конечно, не Бриджит (Бордо), но она очень даже ничего.»
Меня это удивило, ибо я не помнил, чтобы Джон был так взбудоражен какой-то девушкой. Он даже ежеминутно подбегал к окну спальни, чтобы увидеть, когда подойдет ее автобус. Когда Син, наконец, появилась, меня сразу поразило, как выгодно отличалась эта привлекательная и воспитанная девушка от всех «чувих» из низших классов, с которыми Джон имел дела прежде. Син оказалась необычайно вежливой и почти болезненно застенчивой. Мне она показалась очень хрупким цветком для грубых рук Джона.
Но если Джон и бывал с ней груб, я никогда не узнавал об этом «из первых уст», а самозабвенная любовь Синтии, конечно, помогала немного ослабить боль Джона от утраты Джулии. И все же Джон получал огромное удовольствие, когда шокировал Син жестокими высказываниями и нецензурщиной.
«Господи, Джон, — изумленно ахала она, — как у тебя язык только поворачивается такое говорить?» Тут он, конечно, выдавал что-нибудь еще похлеще.
Главным препятствием в их отношениях была миссис Лилиан Пауэлл, чья доминантная фигура и откровенно консервативная система ценностей оказались прямо противоположными всему, что нравилось Джону и во что он верил. За те годы, что я знал Син, она почти полностью оставалась под влиянием своей вездесущей матери, которая не смогла избавиться от неприязни к Джону, даже когда тот стал Битлом-миллионером. (Мими, в свою очередь, с самого начала была не менее пренебрежительна к Син, чьи верительные грамоты милой девушки из среднего класса казались безупречными. По-видимому никто не был достаточно хорош для «ее» Джона.)
По необычному совпадению, в то же время Найджел Уэлли начал гулять с другой девушкой из Хейлэйка по имени Пэт, которая стала одной из лучших подруг Син, и на которой Найдж позднее женился. И все же и Син, и Пэт, как и все прочие наши подружки, в целом приходили в уныние от наших отношений. Мы как «северяне» («северяне» — имеются в виду жители Ливерпуля и других городов севера Англии) до мозга костей, по-прежнему предпочитали держать своих жен и подруг в отдельных герметичных сосудах, отчего я хорошо узнал Син, только став частым гостем в доме Джона уже на вершинах эры БИТЛЗ.
Кроме того, в Художественном колледже Джон встретился со Стюартом Сатклифом, необычайно одаренным молодым художником, с которым завязал очень крепкую дружбу. Маленький, бледный и мечтательный Стюарт, в отличие от Джона, казался и был очень восприимчивым и романтическим художником. Под влиянием Стюарта Джон стал гораздо лучше разбираться в искусстве вообще и искренне полюбил Винсента Ван-Гога и французских импрессионистов. В 1959 году он даже перебрался из Мендипса к Стю в его мансарду на Гамбиер-Террас, где не было горячей воды.
Хотя Стю был не музыкальнее меня, ему тоже нравился рок-н-ролл, и темные очки, яркие рубашки, узкие джинсы довели его некий своеобразный внешний имидж до нужного уровня. А когда одну из картин Стю какой-то ливерпульский коллекционер купил за 60 фунтов — неслыханная сумма для простой студенческой работы, — Джон уломал своего нового друга истратить все до последнего пенни на электрическую бас-гитару, что, в свою очередь, открывало Стю дорогу в группу Джона.
Таким образом, повторилось то, что произошло со мной в 1956 году и повторилось еще раз в конце 60-х с Йоко Оно. Поскольку Джон воспринимал музыку, как нечто естественное, ему и в голову не приходило, что кто-то из его самых близких друзей может не участвовать в этом. Во всяком случае, накопление музыкального опыта Стю в группе, теперь уже именуемой «Johnny & The Moondogs», было столь же болезненным, как и мое.
Но, к сожалению, нам со Стюратом не представилась возможность обменяться мнениями по этому поводу: он был единственной важной фигурой в жизни Джона, с которой я не был знаком. Завершив обучение, я, в конце концов, для благовидной альтернативы дал уговорить себя поступить на службу в полицию. К моему ужасу, меня тут же направили на патрулирование (куда бы вы думали?!) в Гарстон, место «Кровавых ванн»! Мало того, меня еще назначили в ночную смену, при этом моим вооружением был традиционный свисток, да карманный фонарик — и этим я должен был защищаться от диких зверей тех печально известных гнусных улиц! Мне тогда не было и двадцати и, обходя свой участок, я испытывал неимоверный страх, поэтому неудивительно, что через полтора года я уволился из полиции.
В течение этого периода я сравнительно мало контактировал с Джоном, который, в свою очередь, был поглощен новой жизнью со Стюартом и Синтией. Наши встречи участились после того, как я стал партнером владельца кафе «Старуха» («Old Dutch»), более или менее приличного места сборищ возле Пенни-лэйн. «Старуха» была одним из немногих заведений в Ливерпуле, которые не закрывались до поздней ночи, и долго служила удобным местом встреч Джона, Пола и всех наших старых друзей.
Джон и Пол часто засиживались там ночью, после выступлений группы, а потом садились на свои автобусы на конечной остановке «Пенни-лэйн». К тому времени, когда я начал работать в «Старухе» в ночную смену, они уже избрали своей униформой черные кожаные куртки и штаны и перекрестили себя в БИТЛЗ. Когда я поинтересовался происхождением этого странного названия, Джон сказал, что они со Стюартом искали что-то зоологическое, вроде «Медвежат» Фила Спектора и «Сверчков» Бадди Холли. Перепробовав и отбросив варианты, вроде «Львы», «Тигры» и т. д. они выбрали «Жуки» («Beetles»). Идея назвать свою группу такой низкой формой жизни пришлась по вкусу извращенному чувству юмора Джона, и, не в силах устоять перед каламбуром, он тут же заменил вторую букву «е» на «а» — как в «beat music».
Но, несмотря на новое название и одежду, перспективы БИТЛЗ, и Джона — в особенности, выглядели, мягко говоря, обескураживающе. К 1960 году Мерсисайд буквально кишел сотнями рок-н-ролльных групп, и некоторые из них, например «Рори Сторм и Ураганы» или «Джерри и Задающие темп», имели гораздо больше поклонников, чем БИТЛЗ, у которых еще и не было постоянного ударника. К тому же, в Ливерпуле, занимавшем среди прочих городов достаточно скромное место, желания добиться первенства в рок-н-ролле как самоцели, не было даже у Рори и Джерри. Однако Джон уже тогда убедил себя в том, что рано или поздно вся страна, если не весь мир, станет учиться произносить слово «beetles» с буквой «а».
Глава седьмая: Становится лучше (Getting Better)
Первое по-настоящему эффектное впечатление БИТЛЗ произвели в далеком Гамбурге — после того, как мерсисайдский деляга и пройдоха Аллан Вильямс добился для них ангажемента в Рипербане, печально известном районе этого, родственного Ливерпулю, порта Германии. Тем самым карьера Джона в Художественном колледже была пущена под откос. Буквально за день до отбытия, в августе 1960 года, Пол МакКартни уговорил остальных пополнить состав группы молчаливым юным ударником, которого звали Питер Бест. После этого Аллан Вильямс лично перевез Джона, Пола, Джорджа, Стю, Пита и их аппаратуру в своем полу-разбитом зелено-кремовом фургончике в Германию — и, как говорится, остальное уже принадлежит истории.
Гамбург — ни много, ни мало — превратил шалопаев-любителей в настоящих профессионалов. Но это вовсе не означает, что они прилизали выступления и отшлифовали свое действо, или перестали есть, пить, курить, ругаться и дурачиться на сцене — отнюдь. И все же, Гамбург вынудил Джона и всех остальных подчинить свое безумство какой-то системе. И только вернувшись из Германии, БИТЛЗ полностью осознали, ЧЕГО они достигли. Короче говоря, Гамбург сделал БИТЛЗ.
Продолжительная и тяжелая работа, которую группа была вынуждена выполнять в клубе «Кайзеркеллер», конечно, подвергла серьезному испытанию и выносливость, и музыкальные способности, и сам репертуар — ведь если каждую ночь приходится играть по восемь часов, уже не обойдешься долбежкой одних и тех же десяти песен.
Но самое главное, что БИТЛЗ должны были победить в этих изнурительных марафонах, несмотря на полное безразличие их аудитории. Первое время почти никто не приходил в клуб специально для того, чтобы послушать музыку. Туда приходили за выпивкой, за девочками или с надеждой на традиционную кровавую драку, а группа служила ни многим больше, чем красивым музыкальным автоматом.
При таких экстремальных обстоятельствах БИТЛЗ должны были пройти нелегкий путь к умению овладеть вниманием своей аудитории, или, как говорили немцы, «мак шоу». У Джона это выразилось в гротескном пародировании не только знаменитых «звезд» рок-н-ролла (в особенности — получившего серьезную травму Джина Винсента), но и бесчисленных анонимных калек и эпилептиков, и даже последнего немецкого фюрера. «Зиг хайль! — истошно орал Джон, — а ну, проснитесь, вы, ё…ые нацисты!» Кроме того, он прославился еще тем, что однажды вышел на сцену в трусах, единственным дополнением к которым было сиденье от унитаза, болтающееся на его шее. В то же время, группа прибегала и к таким простым приемам, как предельная громкость усилителей и топанье ногами «в унисон» для поддержки все еще нечеткого ритма барабанов Пита Беста.
Внешне БИТЛЗ выражали полное безразличие к тому, реагируют зрители на их все более изощренные хохмы или нет. В Гамбурге Джон (прежде всего), Пол и Джордж отработали высокомерное и надменное отношение к своей публике и вели себя так, словно только так и надо, словно это нечто само собой разумеющееся. «Запатентовав» эту уникальную смесь артистизма и безразличия, которая сослужила им добрую службу в дальнейшей карьере, БИТЛЗ в конце концов (и с лихостью) покорили матросов, пьяниц, проституток и всевозможных «крутых ребят», частенько собиравшихся на Рипербане.
Вскоре к этим бывалым типам добавилась и толпа юных богемных художников и самозваных экзистенциалистов, которых Джон тут же «укоротил» до «экзисов». Клауса Формана, Юргена Фольмера, Астрид Киркхер и их друзей, наверное, можно назвать первыми настоящими битломаньяками и, конечно, их первым «интеллектуальным» окружением.
Экзисы восхищались Битлами не меньше, чем Битлы — экзисами. Наиболее ощутимым проявлением влияния экзисов стала «французская прическа» (впоследствии мир узнал ее под названием «битловская прическа»), которую Стю, Джордж, Пол и Джон, именно в такой последовательности, в конце концов предпочли своим зализанным назад тедди-боевским кокам. Астрид тем временем предпочла Стю Сатклифа своему другу Клаусу.
Кроме того, БИТЛЗ завязали близкую дружбу с некоторыми другими английскими рок-н-ролльщиками, которые быстро становились неотъемлемой частью эстрады Рипербана. Сюда вошли и талантливый певец и гитарист Тони Шеридан, и некто Ринго Старр, он же — Ричард Старки, игравший на ударных в конкурирующей группе из Ливерпуля «Рори Сторм и Ураганы». («Rory Storm & Hurricanes» на слух воспринимается как «Ревущий шторм и ураганы» — прим. пер.)
И все же первая поездка в Гамбург закончилась катастрофой после того, как БИТЛЗ в нарушение условия контракта с «Кайзеркеллером» начали выступать в соперничающем с ним клубе «Топ Тен». Поэтому, наверное, не было ничего удивительного в том, что полиция «вдруг» сделала запоздалое «открытие» того, что Джорджу Харрисону еще только 17, а это на год меньше минимального возраста для работы в легальных ночных клубах, под предлогом чего Джорджа и выслали из страны. Вскоре Пола МакКартни и Пита Беста арестовали, когда они перетаскивали свое барахло из «Кайзеркеллера» за то, что они (якобы) устроили пожар в своей «Черной дыре» — комнатенке в духе Калькутты — и их тоже «выперли» из Германии. После этого Джону не оставалось ничего, кроме как в одиночку выбираться назад в Ливерпуль, с усилителем на спине, где в два часа холодной осенней ночью он разбудил гневную Мими, швыряя камни в окно ее спальни. (На следующий день он зашел ко мне и занял пол-кроны.)
Только через несколько недель унылые Битлы кое-как собрались с духом и по приглашению матери Пита Беста, Моны, начали выступать в ее клубе «Касба». И только тогда они поняли, что ливерпульская публика — пустяк по сравнению с гамбургской. «Касба», «Пещера», «Лизерленд Таун Холл», «Ливерпул Эмпайр»… После Гамбурга БИТЛЗ могли покорить кого угодно.
Но несмотря на все передряги и тяготы поездки в Гамбург, Джон чувствовал, что этот город больше всего подходит для него. Он даже пытался уговорить меня присоединиться к БИТЛЗ в одной из их предстоящих поездок и мне пришлось выдержать всю мощь умения Леннона убеждать так, словно он пытался втянуть меня в жуткую аферу. «Тебе там очень понравится, Пит, — твердил он. — В любое время дня и ночи ты будешь иметь все, чего только пожелаешь. Такое надо УВИДЕТЬ своими глазами; представить такое невозможно.»
К сожалению, главным образом из-за финансовых соображений тех лет, я не согласился; хотя Синтия Пауэлл сумела присоединиться к Джону во время их второй поездки в Германию. Позднее Джон рассказал мне, что именно из-за нее он однажды чуть было не перечеркнул свою жизнь. Это было нехарактерное проявление отважного благородства, которое произошло в агонии битловского выступления в клубе «Топ Тен». Джон увидел здоровенного парня, облапившего Синтию. Не думая о последствиях, Джон в одно мгновение отбросил гитару, спрыгнул со сцены, схватил бутылку, попавшуюся под руку и обрушил ее на череп поклонника Синтии. К ужасу Джона, его соперник даже не шелохнулся. Он спокойно, с застывшим лицом и фигурой, повернулся назад; по его лицу стекала кровь, смешанная с выпивкой и падали осколки стекла. Это продолжалось целую минуту, к исходу которой Джон, потеряв все свое мужество, был уверен, что смотрит прямо в глаза смерти.
Но когда этот раненый парень все же заговорил, его единственными словами были: «Я прошу прощения, что побеспокоил вас…»
«Ну ладно, — прорычал Джон угрожающе, насколько это было возможно при тех обстоятельствах, — но больше так не делай!» После этого он развернулся и пошел на сцену, надеясь, что никто не заметит, как дрожат его руки, когда он одевал гитару.
И все же, несмотря на подобные жуткие инциденты, Джон получал удовольствие, окунаясь в рипербановские подводные течения бессмысленной жестокости и извращенного секса. Имея глаз, наметанный на человеческие «странности» и ненасытный аппетит к новым ощущениям, Джон любил все это: и стриптиз-клубы, и порно-клубы, и проституток, и сводников, и транвеститов, и мелких уголовников, и гангстеров, не говоря о немецком пиве, которое Битлам, ревностным любителям, постоянно подносили прямо на сцену.
Но больше всего Джон любил «прелли», прелюдиновые таблетки для похудения, всегда имевшиеся за стойкой, которые давали группе возможность перекрывать прежние барьеры выносливости. Несомненно, эти «прелли», вскоре вытесненные «пурпурными сердцами» и «черными бомбардировщиками», заряжали Джона (и других) на безумные выходки, которые он вытворял в Гамбурге — главным образом оттого, что от них очень хотелось пить, а это вело к тому, что он пил все больше и больше. Вскоре Джон начал глотать амфетамины пригоршнями — независимо от того, играли БИТЛЗ или нет. Это и было его первым шагом в удивительный мир наркотиков, этих волшебных химикалий, сыгравших столь важную роль во многих последующих рассказах о Джоне Ленноне.
После того, как Джорджу исполнилось 18 и Аллан Вильямс выманил у западногерманского консула в Ливерпуле пять разрешений на работу, БИТЛЗ снова отправились в Гамбург по 3-месячному ангажементу клуба «Топ Тен». Именно во время этой поездки Джон, Пол, Джордж и Пит и сделали свой дебют в звукозаписи — в качестве сопровождающей группы для выпущенного в Германии сингла Тони Шеридана «My Bonny».
К этому времени Стюарт Сатклиф ушел из группы, уступив свое место Полу МакКартни, который уже давно мечтал стать бас-гитаристом. Когда все вернулись в Ливерпуль, Стю остался в Гамбурге: он хотел жениться на Астрид и поддерживать контакт со знаменитым художником Эдуардо Паолоцци.
Но все учащающиеся приступы головной боли лишили молодого художника его прекрасного будущего. 10 апреля 1962 года, за день до третьего приезда БИТЛЗ в Гамбург, Стюарт умер от кровоизлияния в мозг. Ему был всего 21 год.
Как и после смерти Джулии, Джон не дал своим эмоциям выйти наружу. Однако, духовно он был опустошен. По его просьбе я сходил вместе с ним к миссис Милли Сатклиф через несколько месяцев после трагедии. В своей обычной грубой и бесцеремонной манере Джон попросил ее отдать ему одну из картин Стюарта. Выбранное полотно надолго стало его едва ли не самым ценным сокровищем.
Через несколько лет, когда Джон сочинил свою первую искренне-трогательную и душевную песню «In My Life» — о строчках «друзья, которых я до сих пор помню: некоторые уже умерли, другие еще живы», — он поведал мне, что двумя такими людьми, которых он прежде всего имел в виду, были Стюарт Сатклиф и я. И тогда он ошеломил меня словами, которых при мне прежде никогда никому не говорил — по крайней мере — мужчине: «Знаешь, Пит, — тихо сказал он, — я очень люблю тебя. Но, — быстро добавил он, — Стюарта я тоже очень любил…»
В промежутках между поездками в Гамбург БИТЛЗ утвердили за собой звание «домашнего оркестра» клуба «Пещера». Расположенный в полуподвале бывшего склада на Мэтью-стрит, булыжной улочке в центре Ливерпуля, джаз-клуб «Пещера» (официально все еще так именуемый) тогда только-только открыл свои двери рок-н-роллу. Поначалу БИТЛЗ и им подобные ангажировались на обеденные представления — и вскоре это новшество стало необычайно популярным у девушек из офисов и клерков из магазинов прилегающего делового района.
Восемнадцать каменных ступенек, ведущих в «Пещеру», были дорогой в другой мир. Из респектабельной суеты делового Ливерпуля и яркого дневного света вы опускались в мрачное душное подземелье, лишенное окон или каких-либо других средств вентиляции, заполненное ушераздирающим рок-н-роллом и такой накуренной атмосферой, что впору было топор вешать. Помещение клуба состояло из трех связанных между собой тоннелей из полу-развалившихся рыжеватых кирпичей, которые, как, впрочем, и все прочее в «Пещере», постоянно покрывалось теплой смесью влаги и юношеского пота. Группы выступали на самодельной сцене в конце центрального тоннеля; остальная его площадь была сплошь заставлена расшатанными деревянными стульями. Для танцев отводились боковые тоннели, но даже те, кто сидел в центре, за несколько минут промокали насквозь.
В отличие от других местных групп, игравших в «Пещере», БИТЛЗ неизменно избегали всего, что отдавало шоу-бизнесом или профессионализмом в обычном смысле слова. Они не следовали какой-то программе, а предпочитали просто играть то, что предлагали члены группы или кто-то из зала. Джон из-за своей вечной неспособности запоминать стихи, зачастую на ходу придумывал слова к своим любимым рок-н-роллам, подсаливая знакомые всем мелодии всевозможными хохмами, нецензурщиной и фрагментами своего неподражаемого лексикона. Нередко это приводило к тому, что группа уже автоматически выбивалась из ритма и захлебнувшиеся ноты тонули во всеобщем хохоте. Джон, Пол и Джордж по-прежнему курили и жевали прямо во время концерта и даже приносили на сцену свои обеды. Такая очевидная стихийность и непосредственность, вкупе со внушающей благоговение зажигательностью и «крутизной» группы, когда она приступала к «делу», прекрасно вписывались в окружающую первобытную атмосферу и дали БИТЛЗ возможность неизменно затмевать все остальные «мерсибитовые» группы, предшествовавшие или следовавшие за ними по расписанию пещерной сцены.
Почти двадцать лет спустя, впервые увидев панк-рок-группы вроде «Sex Pistols», Джон сказал: «Именно так вели себя в «Пещере» и МЫ, пока Брайан (Эпстайн) не запретил нам ссориться, жевать и материться на сцене… Мы были абсолютно естественными.»
Обладатель благозвучного голоса и мастер по части церемоний, диск-жокей «Пещеры» Боб Вулер, заслуживает упоминания в качестве первого «рекламера» БИТЛЗ. Боб, которому было уже за тридцать, никогда не упускал возможности продвинуть карьеру группы благодаря своему влиянию, остроумию и безграничному энтузиазму. Когда БИТЛЗ вернулись из второй поездки в Германию, Вулер решил с характерным размахом отметить это событие концертом «Добро пожаловать домой!» с участием ливерпульских «героев-покорителей». Это была чистейшей воды реклама, ибо в то время БИТЛЗ едва ли можно было назвать «звездами» даже в Гамбурге. И все же эта шумиха, несомненно, привлекла в «Пещеру» огромные толпы; вместе с остальными попали туда и такие чинные граждане, как тетушки Джона Мими и Хэрри.
Уже то, что тетушки «опустились» до уровня такой норы, как «Пещера», было замечательным достижением, ибо прежде Мими лишь постоянно корила своего племянника за неприглядную деятельность с типами, вроде Пола и Джорджа. В нужный момент Боб Вулер представил группу переполненному залу, слегка обыграв слова: «А сейчас… БИТЛЗ (жуки) будет играть для тетушек (муравьев) (Aunts — тетушки, ants — муравьи — прим. пер.). Как и Джон, Боб был неуемным любителем каламбуров.
Примерно тогда же Боб начал оттачивать свое словесное мастерство в пользу БИТЛЗ на страницах новой газеты Билла Харри «Мерсибит», для которой Джон время от времени писал свои оригинальные стишки и короткие рассказы. В удивительно пророческой статье, опубликованной в августе 1961 года, Боб провозгласил «фантастических БИТЛЗ» «ритмическими революционерами», «подлинным феноменом» и «тем, из чего делается визг». Он также обзавелся германской пластинкой «My Bonnie» и постоянно проигрывал ее в перерывах между концертами. Ребятишки, в свою очередь, начали докучать местным продавцам грамзаписей, и в особенности — Брайану Эпстайну из магазина НЭМС — по поводу пластинки Тони Шеридана в сопровождении БИТЛЗ.
Вместе со все возрастающим числом местных подростков я стал часто заходить в «Пещеру» на концерты БИТЛЗ. То, что я работал в ночную смену, давало мне возможность быть с Джоном после обеденного выступления и посвящать остаток дня нашим обычным поискам развлечений и приключений.
К тому времени популярность Джона, главным образом у женской аудитории, уже достигла солидных размеров. И со своей обычной щедростью Джон всегда подбивал меня разделить с ним его долю.
Обычно девушки приходили в «Пещеру» парами и поэтому, заметив нечто подходящее, Джон спрашивал мое мнение о ее подружке. Если она меня не устраивала, мне достаточно было сказать: «Нет, посмотри вон на тех двух…» Самым главным для него было наше взаимное согласие своим выбором.
После того, как мы находили то, что искали, счастливые победительницы, как правило, приводили нас к себе домой в маленькую спальню. Нередко эти девушки не только жили вместе, но и спали в одной постели на двоих. В результате, вскоре мы всей толпой заваливались на одну кровать и проводили остаток дня, предаваясь любви в «большой и счастливой» куче-мале.
И хотя эти веселые эскапады чаще всего были одноразовыми мероприятиями, мы с Джоном довольно надолго полюбили компанию двух девушек, работавших в стриптизе, которые жили в одной квартире, удобно расположенной в нескольких шагах от кафе «Старуха». Пэт и Джин одно время были манекенщицами и прошли школу самого первого в Мерсисайде ночного клуба. Они были очень своенравны и остры на язык и не заботились о том, что о них думают — а в те дни их профессия вызывала глубокие подозрения добропорядочных жителей Ливерпуля. Именно поэтому Джон и обращался с Пэт и Джин со всем уважением, которое только был способен уделить обычной женщине. Он считал их чуть ли не родными душами — своими в доску — и заслуживающими гораздо меньше презрения, чем так называемые «респектабельные девушки», которых он, тем не менее, всегда с радостью «прихватывал».
Пэт и Джин устраивали нам задушевный стриптиз на дому, полностью подготавливая нас с Джоном к безумным сценам, неизменно следовавшим за этим. Обе обладали роскошнейшими телами и беззастенчивой страстью к половым сношениям, крайне редко встречавшейся у молодых женщин и девушек, во всяком случае, нам с Джоном, в те мрачные времена.
Но, несмотря на столь притягательный соблазн, а, быть может, именно из-за него, моя близость с Джин началась довольно пессимистично, когда мой член упорно не хотел напрячься в нужное время. Тогда Джин попыталась подбодрить меня, поведав, что один из Битлов (его имя останется тайной) испытывал точно такие же трудности при своей первой попытке.
Помимо успешного соблазнения «пещерных» обитательниц, однажды вечером я впервые ощутил, что БИТЛЗ становятся чем-то неординарным — когда я, по обыкновению, вкалывал в «Старухе». В кафе вошла толпа девиц — выпить кофе — с сумками, на которых были вышиты различные надписи. С великим удивлением и восхищением я прочел: «Я люблю Джона!», «Я люблю Пола!» — и «Я люблю БИТЛЗ!».
Эта доисторическая манифестация «увековечивания БИТЛЗ» предвещала скорое превращение группы в народных героев Ливерпуля: все моложе двадцати пяти вдруг начали говорить о БИТЛЗ, во всяком случае, так это выглядело. Дошли эти разговоры и до слуха 28-летнего Брайана Эпстайна. И хотя его магазин NEMS находился в каких-то ста метрах от «Пещеры», миры БИТЛЗ и Эпстайна в остальных отношениях были бесконечно далеки.
На первый взгляд, Брайан Эпстайн мог показаться сплошным перечнем того, что Джон всей душой презирал: своим аккуратным светским акцентом, безупречной прической и костюмом и чопорными и учтивыми манерами. Брайан определенно попахивал респектабельностью. Вместе с тем, едва ли можно было ожидать от столь представительного горожанина чего-то иного, кроме неприязни к неопрятному, неуважительному и сквернословящему Джону Леннону. И хотя остается фактом то, что семья Брайана — неважно, что они евреи — относилась к той же социальной прослойке, что и Мими, главным отличием было то, что Джон всегда отвергал все, так усердно культивируемое Брайаном.
Странная прихоть, затащившая благородного и застенчивого продавца грампластинок в сырое мрачное подземелье, была порождена добросовестным правилом ВСЕГДА удовлетворять покупательский спрос, и, естественно, он решил узнать подробности о немецком сингле, для того, чтобы выписать его для своего магазина, у самих странно именуемых БИТЛЗ. Вряд ли бы он захотел вернуться туда еще раз или даже отсидеть целое отделение, если бы не одно обстоятельство: он не мог отвести глаз от Джона Уинстона Леннона.
То, что Брайан Эпстайн был гомосексуалистом, мало удивит (не то что шокирует) большинство нынешних читателей, а тогда, в Ливерпуле 61-го года, «гомики» считались чем-то НЕЕСТЕСТВЕННЫМ, и все, страдавшие этим, предусмотрительно держали ЭТО в страшной тайне. (В те дни на стороне «гомосековых побоищ» стоял закон; гомосексуализм по-прежнему считался уголовным преступлением, а насилие, шантаж и домогательство были неотъемлемой частью жизни гомосексуалистов.) Но не будь Брайан гомосексуалистом, вполне возможно, что никто за пределами Ливерпуля или Гамбурга так никогда и не услышал бы о БИТЛЗ и история поп-музыки — равно как и история вообще — могла бы пойти совсем иным путем.
Как Брайан позже признался Джону, первое время музыка БИТЛЗ интересовала его меньше всего. Его также не слишком впечатлило симпатичное личико Пола, простодушие и молодость Джорджа и даже хваленое «угрюмое великолепие» Пита Беста. Брайан был не просто гомосексуалистом; его сексуальное возбуждение определялось именно тем, что оскорбляло и угрожало ему: вульгарность, наглость, грубость и агрессивность, столь богато воплощенные в лице ритм-гитариста БИТЛЗ. И с того момента, как Брайан увидел этих четырех оборванцев в кожаных куртках, его окончательно и бесповоротно загипнотизировал тот, чье поведение больше всего походило на поведение зверя, загнанного в клетку.
При последующих посещениях «Пещеры», фантазии Брайана о возможной близости с Джоном еще больше распалились и открытием ряда других его качеств: остроумия, интеллекта, чувствительности и сырого, неотшлифованного таланта. И вот, в конце концов, Брайан, чей опыт и понятие о менеджменте равнялись большому нулю, решил стать менеджером БИТЛЗ.
Конечно же, Гарри и Квини Эпстайн испытали серьезное огорчение, когда узнали, что их старший сын путается с бандой хулиганов, играющих рок-н-ролл в грязном подвале на Мэтью-стрит. Но для такого прилежного мальчика, как Брайан, крушение надежд, возлагавшихся на него его респектабельной еврейской семьей, было вызвано ни много, ни мало, как пылкой страстью.
И хотя сам объект этой страсти лично Брайан Эпстайн (поначалу) мало волновал, Джон с готовностью ухватился за это неожиданное предложение. Те самые завитушки респектабельности, которые он так презирал, сулили вместе с тем деньги и влиятельность. И если этот простофиля хочет отдать и то, и другое в распоряжение БИТЛЗ, что ж…
«Ну ладно, Брайан, — сказал Джон, — будь нашим менеджером.»
Мое первое знакомство с Брайаном состоялось в клубе «Голубой ангел». Этот клуб, владельцем которого был пронырливый Аллан Вильямс, был одновременно и местом «водопоя» всех ливерпульских групп, и местом первоклассных развлечений. Закрывался он в четыре часа утра (для старой доброй Англии время неслыханное), а во время работы предлагал такие забавы, как игорный стол на верхнем этаже и «живую» группу — зачастую вместе с будущей звездой — комедиантом Фредди Старром — в подвальном помещении. Как-то вечером мы с Джоном по обыкновению встретились в «Голубом» и он между делом коротко представил меня своему новому менеджеру.
Примерно через час Джон решил уйти. Заметив, что я сижу один на один с бокалом, Брайан счел уместным пересесть ко мне. Поначалу я не представлял, что этот величественный джентльмен в темном костюме, стоящий у столика, как всегда молчаливый и совершенный, словно статуя, может сказать такому оборванцу-бездельнику, как я.
«Я вот подумал, — наконец произнес он с акцентом школьника публичной школы, — нельзя ли с тобой поговорить о Джоне.»
«А, конечно, — с готовностью согласился я. — А что именно Вас интересует?»
«Видишь ли, это слишком серьезно, чтобы говорить об этом здесь: очень многолюдно, — сказал Брайан. — Лучше сделать это наедине.»
«Ну ладно, — опять согласился я. — А куда мы пойдем?»
«У меня тут на углу стоит машина. Наверное, лучше всего будет там.»
Как оказалось, Брайан был владельцем «Ягуара-10», и это меня достаточно впечатлило, чтобы с готовностью залезть в него, ибо я никогда еще не видел «Яга» изнутри.
«Да, неплохо», — согласился Брайан с нарочитым пониманием в голосе и, забравшись следом, предложил мне сигарету.
«Ну, так в чем же дело с Джоном?»
«Честно говоря, Пит, — ответил он, — я привел тебя сюда под фальшивым предлогом. Я вовсе не собираюсь говорить с тобой о Джоне», — и с этими словами он придвинулся ко мне.
Я, не зная, что и сказать, нервно затягивался сигареткой. Что все это значит? Я судорожно пытался найти ответ, но в голову ничего не приходило.
«Джон так много рассказывал мне о тебе, — продолжал он тем временем, — что я не мог дождаться встречи с тобой. Мне так хотелось бы узнать тебя получше… Ты сможешь придти ко мне на квартиру сегодня ночью?»
«Зачем?» — подозрительно спросил я.
Брайан с удивлением посмотрел на меня. «Я думаю, ты знаешь зачем», — произнес он наконец — и тут до меня дошло. Может быть, я просто был туповат в этом отношении, но в те дни мы не так часто встречались с откровенными гомосексуалистами, мы только слышали от кого-то или где-то читали.
«Нет, нет, Брайан, — пробормотал я в конце концов, — это не для меня.»
«Ну что ж, хорошо, — сказал он возможно более непринужденно, — никаких проблем. Я надеюсь, ты не обиделся…»
«Нет, не обиделся. Правда, — я изобразил усмешку. — Я воспринял это как… комплимент!»
Брайану эти слова понравились. Во всяком случае, он всегда помнил. Ведь шансы разделить со мной постель вряд ли превышали шансы получить и гораздо более жестокое и грубое отвержение.
Мы тут же вернулись в клуб, где пропустили еще по паре стаканчиков и проболтали о том — о сём до самого закрытия. Казалось, он был искренне заинтересован всеми перлами мудрости, срывавшимися с моего заплетавшегося от выпитого языка. «Нет, Брайан — отличный парень», — решил я.
И действительно, я всегда считал его одним из самых прекрасных людей, встречавшихся мне. Он неизменно обращался со мной с удивительным великодушием, теплом и заботой. Во всяком случае, по отношению ко мне Брайан Эпстайн всегда был настоящим джентльменом.
К августу 1962 года мучительные переговоры Брайана с лондонскими звукозаписывающими компаниями дали, наконец, свой результат — контракт с «Парлофон Рекордс», сравнительно непрестижной дочерней фирмой от «И-Эм-Ай», которой управлял Джордж Мартин, одновременно работавший и как продюсер. Через несколько недель БИТЛЗ предстояло поехать в столицу и записать свой первый настоящий сингл — песню Леннона-МакКартни «Love Me Do», характерное звучание которой придавала губная гармошка Джона. И, предвидя приближение удачи и славы, Джон, Пол и Джордж решили, что состав БИТЛЗ необходимо «более точно настроить».
В результате несчастного Пита Беста выгнали вон. Но Джон, Пол и Джордж были слишком трусливы, чтобы сделать это собственноручно, поэтому несчастный Брайан Эпстайн, который ничуть не был заинтересован в замене наиболее симпатичного Битла таким коротышкой, как Ринго Старр, был вынужден сыграть двойную роль и экзекутора, и козла отпущения. Поскольку на сцене Брайан Эпстайн появился совсем недавно, фаны, естественно, решили, что в изгнании Пита виноват один только новый менеджер БИТЛЗ. В итоге Брайану пришлось даже обзавестись телохранителем для того, чтобы защищать себя от ярых сторонников Пита Беста всякий раз, когда он осмеливался появиться у «Пещеры».
То, что завсегдатаи «Пещеры» обожали Пита, не вызывает сомнения — он был их настоящим фаворитом. Это-то и не нравилось Джону, Полу и Джорджу, которые никогда всерьез не считали его «настоящим» Битлом. Они взяли его к себе в те времена, когда выбирать не приходилось и когда они отчаянно нуждались в ударнике, который вписался бы в состав. И вот теперь БИТЛЗ переманили на место «прорехи» своего старого приятеля из «Рори Сторм и Ураганов» — Ринго Старра.
То, что Пит никогда не разделял с остальными духа товарищества, как это ни иронично, объяснялось главным образом его привлекательностью для фанов. Он был «таинственным членом группы», тем, кто бросал приятные взгляды из дальнего конца сцены, кто никогда не улыбался, не пел и даже не говорил ни слова — ни на сцене, ни вне.
Конечно, иногда «молчаливые типы» таят за своим молчанием очень много; они просто слишком скромны и застенчивы, или слишком умны, или же слишком заняты собственными возвышенными мыслями, чтобы что-то сказать. Но мое личное впечатление о Пите таково, что ему и вправду нечего было сказать по поводу чего-либо.
Свою роль сыграло и НЕблагоприятное мнение о способностях Пита как барабанщика, сложившееся у Джорджа Мартина, но главным было то, что Пит Бест НАДОЕЛ Битлам, и это, конечно, было фатальным концом. И все же Пит ввел в антураж Битлз постоянное лицо — своего лучшего друга Нила Эспинола, который после лихорадочных метаний согласился остаться дорожным менеджером группы. В 1963 году к Нилу добавился второй «дорожник» — хладнокровный великан, Мэл Эванс, который долгое время дружил с БИТЛЗ и выполнял в «Пещере» обязанности вышибалы.
Мы частенько виделись с Ринго еще задолго до того, как он стал Битлом. Нас познакомил Джордж в кабачке под названием «Виноградины» — прямо на противоположной стороне Мэтью-стрит, напротив «Пещеры». «Пит, — сказал он, — я хотел бы познакомить тебя с моим старым другом Ринго из «Ураганов». В ту же секунду я оказался лицом к лицу с худеньким бородатым существом, облаченным в «ковбойские шмотки» и с кольцами почти на всех пальцах; его венчала обычная зализанная прическа тедди-боя (с пучком преждевременной седины).
«Вот уж действительно Ринго! (от ring — кольцо — прим. пер.) — подумал я про себя. — Что он, ковбоем прикидывается, что ли?»
Но Ринго оказался настолько славным и милым парнем — дружелюбным, скромным и «земным», если хотите, что пришлось сразу простить ему и его нелепое имя, и нелепый вид. И хотя близкими знакомыми мы стали лишь несколько лет спустя, я ничуть не удивился, когда БИТЛЗ решили взять его в группу.
23 августа 1962 года, ровно через неделю после отставки Пита Беста, Джон и Синтия тайно поженились в присутствии только Пола, Джорджа, брата Син Тони и Брайана Эпстайна, в регистрационном бюро «Маунт Плезант», где 24 года назад Джулия Стенли связала себя брачными узами с Фредди Ленноном. Если бы Син не обнаружила, что беременна, эта церемония, возможно, никогда и не состоялась бы: в те дни, сделав свою подругу беременной, приходилось на ней жениться — и точка. Аборты тогда были чем-то неслыханным, не то что законным. Поскольку Мими не одобрила неприглядные обстоятельства венчания ее племянника, Брайан великодушно представил в их распоряжение маленькую квартирку, которую прежде использовал для своих сексуальных дел.
Несколько месяцев Джон и Син продолжали отрицать факт их официального замужества, так как Брайан опасался, что новый статус Джона может снизить его популярность среди фанов. Даже мне эта новость стала известна лишь через несколько недель, когда я поведал Джону о планах жениться на своей подруге Бет в марте будущего года.
«Ну, а как ты, Джон? — поддразнил я его, прекрасно зная о презрении Леннона к святому свадебному обряду. — Когда же вы с Син поженитесь?»
«А мы уже поженились», — сказал он со смущенной улыбкой и тут же переменил тему разговора. Он воспринял свою свадьбу просто как мелкую неприятность, о которой и говорить-то не стоило.
«Жениться, — позднее признался он, — было все равно, что ходить в нелепых носках или с расстегнутой ширинкой.»
К тому времени Джон с Брайаном Эпстайном стали настолько близки, что какой-то год назад это показалось бы просто невероятным. Такие нововведения Брайана, как черные галстуки и облегающие мохеровые костюмы, заменившие Битлам их старые кожаные куртки, Джон воспринял по-философски. Не встретили отпора и настойчивые требования Брайана прекратить есть, курить, и ругаться на сцене и готовить отрепетированные программы. Несмотря на сетования Джона (изреченные им десять лет спустя, о том, что Брайан заставил БИТЛЗ «продаться»), Брайан попросту не мог ЗАСТАВИТЬ Леннона сделать то, чего тот не хотел. В 1962 и 1963 годах главной целью Джона было стать богатым и знаменитым, а прилизывание имиджа в то время было сравнительно низкой платой для достижения этой цели.
«Ладно, — уступил человек, некогда питавший отвращение к школьной форме, — я буду носить костюм. Я одену что угодно, если только мне будут платить. Я не настолько помешан на коже.»
Брайан и Джон, мечтая о будущем БИТЛЗ и обсуждая разные планы, проводили так много времени вместе, что казались почти неразлучными. А в апреле 63-го года дело дошло до того, что Джон согласился составить Брайану компанию в поездке в Испанию «на каникулы», бросив Син одну с новорожденным сыном. За время отсутствия этой довольно странной пары по городу поползли слухи.
Я побывал у Джона через несколько дней после его возвращения в Англию. Когда он начал восторгаться тем, как ему понравилась Испания, я не удержался и решил постебаться над ним. «И, конечно, вы с Брайаном недурно провели время?» — ухмыльнулся я и, подтолкнув его локтем, многозначительно подмигнул.
Я несколько опешил, когда Джон — против ожидания — тоже ухмыльнулся. «Да, …, — проворчал он, — не то, что ты, Пит!»
«Что значит — не то, что я?»
«А то, о чем все п…т.»
«Да брось ты, Джон! Не принимай этого всерьез. Ей-Богу, я просто пошутил.»
«Честно говоря, Пит, — тихо сказал он, — однажды ночью кое-что все же произошло.»
Улыбка мгновенно сошла с моего лица. Если бы я даже и допускал, что в этих слухах есть доля правды, я никогда не сделал бы попыток открыть ее первым. Я по-прежнему стоял за Джона, и он, конечно, знал это, и я предоставил бы остальным самим разбираться и выносить моральный приговор, даже если бы он сказал мне, что совершил УБИЙСТВО. И Джон, несомненно, поступил бы точно так же. В конце концов, такова и есть настоящая дружба.
«А случилось вот что, — пояснил Джон. — Эппи все донимал и донимал меня, и вот как-то ночью я в конце концов стащил свои штаны и сказал ему: «Да ради Бога, Брайан, на, е… мою ё… ж…!» Но он сказал: «Честно говоря, Джон, я этим не занимаюсь. Мне это не нравится».
«Ну чего же ты тогда хочешь? — спросил я. И он сказал: «Я очень хотел бы дотронуться до тебя, Джон». Я дал ему, и он заставил меня кончить. Это — то, что было. Конец истории.»
«И это все? — спросил я. — Ну и что же с того? Что тут такого особенного?»
«Какого х..! Эх, бедолага — ему ох…нно тяжело, что ни говори…» Под этим он имел в виду «мясников-докеров», которые несколько раз отвечали на предложения Брайана превращением его в кробавую отбивную.
«Ну, а что в этом такого плохого, Пит? — риторически спросил Джон. — Ведь ничего плохого! Он просто несчастный ё…тый бедняга и ничего не может с собой поделать.»
«Да что ты мне объясняешь? — воскликнул я. — Я же все понимаю и не из тех, кто п…т. Что значит подобная х…ня для друзей?»
После этого мы перешли на другие темы и никто из нас никогда больше не вспоминал об этом случае. А что касается меня, то настоящим откровением для меня в тот вечер стало не то, что у Джона с Брайаном «что-то было», а то, что он продемонстрировал (правда, в своей грубой манере) такое великодушное сострадание к самому безнадежно преданному из своих поклонников.
К сожалению, некоторые ливерпульские знакомые, которые и не предполагали, что в их утверждениях есть доля правды, не могли даже высказаться до конца. Все это произносилось, конечно, в шутку, но Джон по-прежнему слишком дорожил своим имиджем «настоящего» мужчины, чтобы безболезненно воспринимать какие бы то ни было сомнения в его 100-процентной гетеросексуальности.
Одна из таких «разборок» произошла 18 июня 1963 года, во время 21-го празднования дня рождения Пола МакКартни, во всех других отношениях очень веселом мероприятии. В честь этого события в саду тетушки Пола Джин был установлен специальный шатер. За несколько дней до этого Пол забежал к нашему старому приятелю Биллу Тернеру и попросил его обязательно привести с собой и меня. А я решил преподнести Джону сюрприз, а мы не виделись уже около двух недель, и появиться там, не предупреждая его.
И дом, и сад были битком набиты пьянствующей толпой, включавшей несколько поколений МакКартни и подлинных представителей «кто есть кто в Мерсибит». Поначалу я подумал, что Джон не пришел, но вскоре обнаружил его в каком-то дальнему углу, с трудом сидящего и посасывающего виски с кокой с самым мрачным выражением на лице. Однако, увидев меня, он сразу просиял. «Ё… т… м…, Пит! Откуда ты взялся? — оглушительно заорал он, вскочив на ноги, чтобы обнять меня. — Пошла на х… эта ё… вечеринка! Давай-ка лучше с тобой выпьем!» Хотя я так и не узнал, что именно его тогда терзало, мое появление, похоже, озарило его настроение, как нежданный луч солнца посреди долгого ненастного дня.
Мы пошли в сад, где нас атаковал внушительный грохот «Формоуст». После нескольких стаканчиков душевное состояние Джона вроде бы стало улучшаться, особенно, когда он стал замечать в толпе разных знаменитостей, в том числе, если не ошибаюсь, одного или двоих из «Шэдоуз». Джон всегда был почитателем «звезд» (и эта черта надолго сохранилась и после того, как он сам стал одной из самых великих «звезд» мира). «Сегодня даже Клиф Ричард может объявиться», — с благоговейным трепетом произнес он.
«Клиф Ричард? — потрясенно переспросил я. Казалось бы, Джон не должен был испытывать к этому самому праведному и порядочному из британских доморощенных суррогатных рок-н-ролльщиков ничего, кроме презрения. Но Клиф Ричард все же был КЛИФОМ РИЧАРДОМ (хотя он так и не появился на вечеринке Пола).
После еще нескольких стаканчиков, а, возможно, и больше, чем нескольких, я, пошатываясь, побрел в «заведение», предоставив Джона самому себе. В ту самую минуту к нему, видимо, и подкрался Боб Вулер, вооруженный колкими остротами насчет «медового месяца в Испании». В ответ на них Джон сбил Боба с ног и начал методично бить его по лицу — насколько я понял — садовой лопаткой. После этого физиономия Боба оказалась настолько изуродованной, что пришлось вызвать «скорую помощь» и срочно везти его в больницу.
Когда я вышел из туалета, Джона уже нигде не было видно, а за время моего короткого отсутствия вся вечеринка, казалось, превратилась из праздника в похороны. Несомненно, произошло нечто УЖАСНОЕ, но я никак не мог понять, что именно, пока ко мне не подлетел Билл Тернер и не выпалил: «Джон только что отпи…л Боба Вулера!»
«Что за х…ня, не может быть! — опешил я. — Я же минуту назад был здесь!»
Билл подвел меня к шатру, где на полу сидел Леннон и, обхватив голову руками, прятался от колющих взглядов участников вечеринки. «Ты сволочь, Леннон!» — сказал кто-то и плюнул в него.
«Да оставьте вы его в покое! — вмешался я. — Идите вы все отсюда на х..!
Я еще не знал всех кровавых подробностей, но понял, что Бобу Вулеру уже ничем не поможешь: дело было сделано. Теперь меня больше волновал Джон.
«Из-за чего все началось-то?» — отважился я наконец спросить, как только толпа разошлась.
«А-а-а!.. Эта сука слишком далеко зашла в своих шутках обо мне и Брайане, — вздохнул Джон. — Наверное, это и стало последней каплей». Но, похоже, его уже терзало раскаяние. «Что я наделал? — вдруг застонал он, схватившись за голову. — Что я наделал, что я наделал?»
«Да брось, Джон, — сказал я. — Ни х… тут не поделать! А Полу сегодня 21. Давай пойдем и выпьем по этому поводу!»
С вечеринки мы уехали только на рассвете и к тому времени Джон был уже изрядно навеселе и настолько, что с трудом передвигался. Впрочем, то же было и со мной. Пока мы ждали, когда наши утомленные ожиданием Бет и Син заберут нас, Джон устроил дискуссию по вопросу об обмене женами — об этом мы тогда только-только узнали из бульварных газеток. По мере того, как он говорил, эта идея все больше и больше возбуждала его.
«Ну, как ты на этот счет, а, Пит?! — воскликнул он наконец. — Давай поменяемся женами на одну ночь?»
«То есть, ты хочешь обменяться НАШИМИ девушками?» — скептически спросил я.
«Ну конечно, — пришел в восторг Джон. — Это здорово! Давай устроим это!»
«Ну нет, Джон! Пошел ты на х…! Я такой ерундой заниматься не собираюсь.»
«Да ладно, ладно, — рассмеялся Джон, — я просто пошутил, Пит.» Но он не шутил. Джон всегда был готов и хотел испытывать все новое: новые химикалии, новые разновидности секса, все новое — хотя бы раз!
Последним моим воспоминанием об этом памятном вечере было то, что мы буквально выкатились на улицу, раздираемые хохотом от какой-то хохмы Джерри Марсдена (из «Джерри и «Задающих темп»). Я, к сожалению, не помню, чем именно Джерри нас так разобрал, но, несомненно, он заслуживает здесь краткого упоминания, как прекраснейший комедийный актер, когда-либо возглавлявший одну из групп Мерсибита.
Несмотря на возвращение хорошего настроения, в ту ночь Джон глубоко переживал свое нападение на Боба Вулера. Его ярость вышла за все обычные пределы, на которые он считал себя способным.
Драки на кулаках были обычным явлением для Ливерпуля, если их участники строго придерживались определенного кодекса чести. Но бить кого-то по лицу лопаткой, или, скажем, бутылкой, — к такому не прибегал ни один уважающий себя драчун. К тому же, Боб Вулер ничем не напоминал уличного драчуна и (в отличие от невозмутимой жертвы Джона в Гамбурге), конечно же, был одним из самых добрых поклонников, помощников и друзей Джона.
И хотя Боб пролежал в больнице несколько недель, он все же решил не подавать на Джона в суд после того, как Леннон и Брайан Эпстайн принесли формальные извинения и 200 фунтов наличными. В конце концов, все было прощено и забыто.
А Джон со своей стороны навсегда отрекся от насилия и старался не прибегать к нему больше никогда…
Глава восьмая: Детка, да ты богач (Baby You're A Rich Man)
После того, как успешная продажа «Love Me Do» в Мерсисайде помогла первому синглу БИТЛЗ войти в «горячую десятку» Великобритании, Джордж Мартин нашел ту песню, которая должна была превратить группу в национальную «звезду». Это была «How Do You Do It?», сочиненная профессиональным песенником Митчем Мюрреем. Однако, Джон дерзко потребовал, чтобы группе дали возможность выпустить вместо нее еще одну композицию «Леннона-МакКартни». В конце концов, Мартин предоставил молодым дебютантам свободу — и песня «Please Please Me», которую Джон давно уже задумал, как пародию на Роя Орбисона, стала не только их первым великим хитом, но и навсегда перечеркнула мнение о том, что поп-певцы не способны выбирать (не то что писать!) свой собственный репертуар.
Следом вышли сингл «From Me To You», наскоро слепленный на заднике фургончика и занявший первое место через две недели после выпуска, и первый альбом «Please Please Me», записанный за один день и державшийся на вершине списков альбомов целых полгода. Вера Джона и Пола в свои сочинительские способности еще больше укрепилась, когда одна из вещей с их диска — «Do You Want To Know A Secret?» в исполнении Билли Джей Крамера также взлетела на первое место. Теперь уже пришла очередь Джона и Пола создавать СВОИ композиции для всевозможных начинающих «звезд», вплоть до и включая их будущих архивариусов — «Роллинг Стоунз».
Между тем, БИТЛЗ почти беспрерывно совершали турне по Британии. Сначала они были четвертыми в программе после детских «звезд», вроде Хелен Шапиро, а затем сами стремительно дошли до статуса «звезд». В мае 1963 года даже идол Джона Рой Орбисон снизошел до роли «закуски перед БИТЛЗ». А спрос на билеты стал таким, что фаны устраивали палаточные лагеря возле касс за двое суток и более до начала продажи билетов.
К августу БИТЛЗ даже могли похвастаться собственной еженедельной радиопередачей по Би-Би-Си и официальным ежемесячным журналом для фанов. Но лишь с появлением в том же месяце их четвертого сингла «She Loves You» за БИТЛЗ окончательно утвердилось звание первого британского домашнего феномена в поп-музыке. Со своими бодрыми «йе-йе-йе» в припеве, которые для многих миллионов надолго стали мелодией-автографом «Потрясной Четверки», песня «She Loves You» быстро стала «самой продаваемой» из когда-либо выпущенных в Великобритании пластинок.
Вероятно, из-за отсутствия подобного прецедента, рядовым остроглазым журналистам с Флит-стрит понадобилось еще два месяца, чтобы разглядеть «битломанию», но зато они быстро наверстали упущенное после выступления БИТЛЗ 13 октября в популярном эстрадном шоу «Воскресный вечер в лондонском «Палладиуме», когда истерия фанов и в театре, и за его пределами транслировалась непосредственно в миллионы британских квартир.
Впечатление было таким, что вся страна за одну ночь помешалась на БИТЛЗ. Выдающиеся психологи, представители духовенства, педагоги, критики классической музыки и политики — все начали играть высокопарными фразами, анализируя с осуждением или (гораздо чаще) превознесением этих «длинноволосых парней из Ливерпуля». Те первые рок-н-ролльщики, которые прорвались через возрастные и классовые барьеры, прежде ограждавшие эту музыку почти от всех, кроме рабочей молодежи, и не мечтали о таком, а БИТЛЗ даже играли для принцессы Маргарет и королевы на ежегодном «Эстрадном Королевском Представлении». Перед запуском обычно заканчивающей концерт «Twist & Shout» Джон, кивнув в сторону королевской ложи, выдал безошибочную комбинацию наглости и обаяния, ставшую знаменитой «шпильку»: «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а остальные — трясите своими драгоценностями…»
Как писала на следующий день «Дэйли Миррор»: «Нужно быть брюзгой в квардрате, чтобы не полюбить этих пикантных, шумных, счастливых и милых БИТЛЗ…»
Когда упомянутый выпуск попал на прилавки, Брайан Эпстайн уже летел в Америку, где до этого ни один британский поп-певец не добился сколько-нибудь заметного успеха, с ацетатной копией следующего сингла БИТЛЗ — «I Want To Hold Your Hand», предвосхищая уже запланированные встречи с Браун Мепс из «Кэпитол Рекордз» и «легендой телеэкрана» Эдом Салливаном.
7 декабря 1963 года БИТЛЗ отпраздновали свое триумфальное возвращение домой в крупнейший театр Мерсисайда «Эмпайр», во время первого общенационального турне уже после «открытия» битломании прессой. Хотя расписание работы исключало мое присутствие на концерте, Джон — в состоянии сильнейшего возбуждения — позвонил мне в «Старуху» и попросил встретиться с ним у тетушки Мими после концерта.
Когда я пришел в назначенный час, Мими сказала мне, что Джон только что убежал в гости к тетушке Хэрриет, которая жила в нескольких кварталах от них. Я бросился за ним к тетушке Хэрри, где первым делом увидел заднюю часть Леннона, торчавшую из угла шкафа, в котором хранилось его барахло, когда он еще ребенком играл там.
«Привет, Джон, — сказал я, — ты что там делаешь?» Он выглянул из-за шкафа и улыбнулся. «Да просто хочу собрать кой-какие свои старые книжки, которые хотел бы взять с собой в Лондон и кое-что из рисунков и разной ерунды, которую я написал и не хочу потерять».
Джон никогда не признался бы мне, но я думаю, что на том сверкающем перекрестке своей жизни и карьеры он инстинктивно хватался за памятные вещи из детства — словно эти ободряющие знакомые предметы могли как-то облегчить его переход в неизвестное будущее. И, несмотря на свою хулиганскую фасадную сторону, Джон Леннон не был лишен сентиментальности. И еще в нем всегда было что-то от старого скряги, запасающего на черный день.
После того, как Джон набил большой брезентовый мешок книгами и листками бумаги, я помог ему перевязать пачку рисунков, большая часть которых относилась к периоду, когда он не рисовал ничего, кроме лошадей. Затем мы перетащили все эти сокровища в дом тетушки Мими, где, наконец, получили возможность посидеть вместе в любимой комнате Джона возле кухни и обменяться новостями. Несмотря на явное счастье от созерцания своего ставшего знаменитым племянника, Мими была твердой сторонницей раннего отхода ко сну.
Однако, Джон был слишком возбужден, чтобы думать о сне. И хотя его тетушка не держала в доме ничего крепче чая, мы с Джоном все больше и больше балдели, глотая одну чашку за другой, и он с восторгом рассказывал о сенсационном успехе БИТЛЗ. Мы вместе приторчали от визжащих толп и спасательных лимузинов, знаменитостей, с которыми они встречались, и девиц, которых они натягивали в своих гардеробных. Он рассказал, как их «дорожник» Мэл Эванс проводил осмотры во время каждого концерта БИТЛЗ и делал четырем самым очаровательным обладательницам билетов предложения, которые почти никогда не отвергались.
Но как бы Джон ни был возбужден всем, что происходило с ним, не совсем правильно было бы сказать, что его это удивляло. В конце концов, Джон всегда считал, что однажды он станет богатым и знаменитым, легендой своего времени. «Если б я теперь смог получить Америку, — сказал он, — я получил бы весь этот ё…й мир!»
Два года назад БИТЛЗ были всего-навсего культом клуба в подвальчике, через год — уже народными героями Мерсисайда, теперь же они стали любимцами всей Британии. Но сверхчеловеческие амбиции Джона все еще были неудовлетворены. Вновь и вновь в тот вечер его монолог возвращался к стране его мечты, «Америка, Америка, Америка», — повторял он почти как заклинание. Тем не менее, он поведал, что БИТЛЗ решили придерживаться осмотрительной политики: играть для публики с отдачей независимо от успеха.
Когда он ненадолго замолчал, мы автоматически перешли в кухню, чтобы поставить чайник на плиту. Обычно во время таких «антрактов» Джон менял тему разговора. «Ну, а как идут дела у тебя? Как успехи в «Старухе»?»
«Неплохо, неплохо. Продвигаются…» На самом же деле бизнес в «Старухе» шел из рук вон плохо и я еле-еле «продвигался».
«А каким будет твое Рождество?»
«Думаю, все будет, как положено», — приврал я. Тут Джон извлек из кармана коричневый конверт и вложил его в мою руку. «Пусть твое Рождество будет приятным, Пит».
«Что это?»
«Моя обычная получка.»
«Мне она не нужна, Джон, — сказал я, тщетно стараясь вернуть ему конверт, — мне не нужна твоя ё…я зарплата.»
«Засунь в карман и забудь об этом», — грубо буркнул Джон. Он унес чайник в другую комнату, давая понять, что вопрос исчерпан.
«Спасибо, Джон, — бросился я вслед, — это просто здорово!»
«Выбрось эти мысли на х…».
Я так и сделал, пока на следующий день не обнаружил, что конверт до сих пор не вскрыт. Несмотря на все те состояния, которые БИТЛЗ начали создавать, Брайан по-прежнему выплачивал им понедельную зарплату. И конверт с получкой Джона содержал десять 5-фунтовых купюр, что эквивалентно примерно 500 фунтам или 1000 долларам по курсу 1983 года, в то время как я каждую неделю приносил домой около 12 фунтов. Он не вскрыл его и не сказал «вот 10 фунтов» и даже не оставил десяти фунтов себе. Для Джона характерным было то, что он хотел отдать мне всё, не задумываясь, что ему самому придется занимать где-то, чтобы прожить следующую неделю. Чтобы вам было понятнее, что означали 50 фунтов в 1963 году, подарка Джона с лихвой хватило на покупку нового плаща, билетов на поезд до Лондона и обратно и случайные расходы на мое недельное пребывание в его квартире в Кенсингтоне.
Однако, на этом щедрость Джона не окончилась. Вернувшись к нашему разговору о «Старухе», он потребовал, чтобы я признался, счастлив ли я работой в этом старом грязном кафе, занимаюсь ли я тем, о чем мечтал. Я признался, что моей тайной мечтой было открыть когда-нибудь тотализатор (азартные игры тогда только-только получили право на легальность).
«Так чего ж ты его не откроешь?»
«Как это?.. А на какие шиши?»
«Сколько тебе нужно? Двух тысяч хватит?»
«Перестань, Джон. Это ни к чему.»
«Слушай, Пит, будь ты на моем месте, ты бы иначе поступил, а?»
Я признал, что в этом он прав.
«Ну вот, — сказал Джон, — а если я не смогу сделать для тебя даже этого, значит, я вообще ничего ни для кого не могу сделать.»
Я был ошеломлен.
«Это уж слишком фантастично, Джон», — пробормотал я.
«Я немедленно переговорю с Брайаном, — сказал он, и все устрою. Понимаешь, я не имею 2000 фунтов наличными — до этого еще не дошло, — но я уверен, Брайан их тебе выдаст.»
«А что, если Брайану эта идея не понравится?»
«Да е…л я Брайана! Это МОИ ё…е деньги и я какого х… с ними захочу, такого и сделаю. Но не думаю, что Брайан будет против.»
Только тут мы вдруг заметили, что уже светает, и Джон вспомнил, что утром в Лондоне запланированы какие-то битловские дела. Он договорился с Джорджем Харрисоном, что встретится с ним у Мими в 9 часов, а уже была половина восьмого.
«О, Господи, — воскликнул я, — моя жена, наверное, теряется в догадках, где я.»
«Мне бы хотелось повидать Бет, пока я здесь», — сказал Джон.
«Тогда почему бы нам не заехать к ее матери? — предложил я. Мы с Бет по-прежнему жили с ее мамой. — Звякни Джорджу и скажи, что мы встретимся там.»
Сделав соответствующие звонки, мы поехали к Бет на моем старом драндулете, купленном за 15 фунтов. Моя жена всегда получала удовольствие от стряпни для Джона, который неизменно уничтожал все, что она (или еще кто-то) ставила перед ним, с такой жадностью, словно это был его последний кусок, и приготовила нам яичницу с беконом. Вскоре подъехал Джордж Харрисон в своем «Ягуаре», который купил «с рук», и который был его самой большой гордостью и самой дорогой покупкой с тех пор, как начали притекать битловские деньги. Джордж наспех выпил чашку чая, и после этого все начали прощаться.
«Пит, а почему бы тебе не поехать с нами?» — импульсивно спросил Джон. — Ты сможешь провести со мной и Син все Рожество (без буквы «д») и посмотреть все наши концерты в Финсбери-парк».
Мы с Бет обменялись настороженными взглядами. «Извини, Джон, спасибо за приглашение, — ответил я, — но я должен провести Рождество со своей семьей.»
«Ах, …, …, …! Ну тогда я вот что скажу. Вы с Бет приезжаете в Лондон на неделю сразу после Рожества. Концерты продолжаются и после Нового года, так что вы еще сможете почувствовать вкус всего этого безумия вокруг БИТЛЗ.»
Как выяснилось, Брайану Эпстайну идея Джона помочь мне открыть свое «дело» очень понравилась. Польщенный и вдохновленный необычайно высоким мнением Брайана обо мне, я договорился о времени встречи для получения чека. Но когда я приехал в офисы на Чэпел-стрит, обычно пунктуальный Брайан почему-то все еще не появлялся. «Я знаю, что м-р Эпстайн ждет вас, — извинилась его секретарша. — Он должен вот-вот вернуться. Если хотите, вы можете подождать в его кабинете. Чувствуйте себя, как дома».
Едва я успел налить себе кока-колы из впечатляющего коктейль-бара Брайана, начал звонить его личный телефон. Он все звонил и звонил, пока я, наконец, не решил, что не будет ничего страшного, если я сниму трубку. «НЕМС Энтерпрайсез» — с важностью произнес я.
«Здравствуйте, — отозвался еле слышный американский голос на другом конце провода. — Это говорит м-р Эпстайн?»
«Нет. Его сейчас здесь нет, но он скоро вернется. Ему что-нибудь передать?»
«Скажите ему, что звонили из офиса Эда Салливана, и что м-р Салливан хотел бы как можно скорее переговорить с м-ром Эпстайном.»
Совершенно не подозревая о значительности Эда Салливана в мире американского шоу-бизнеса, я кратко отметил его просьбу и телефонный номер и сразу забыл о них, пока через несколько минут не вернулся Брайан. За это время я невзначай прочел пометку в деловом дневнике, лежавшем на его столе в раскрытом виде: «Стрижка для Джорджа». Насколько я понял, Брайан очень серьезно относился к делу по уходу и глянцеванию БИТЛЗ. А уж я-то знал, как Джордж ненавидел парикмахерские!
«Здравствуй, Пит, — сказал Брайан и, пройдя кабинет большими шагами, пожал мне руку. — Очень рад видеть тебя. Как твои дела?»
«Спасибо, очень хорошо. Особенно с тех пор, как я услышал, что ты не против идеи Джона выдать мне немного денег.»
«Я счел эту идею превосходной, — сдержанно и учтиво произнес Брайан. — У меня нет никаких возражений. Желаю тебе самых больших успехов.»
«Да, между прочим, — бросил я вскользь после еще нескольких взаимных любезностей, — пока тебя не было, я ответил на звонок из Америки. С тобой хотел поговорить какой-то м-р Салливан…»
Эти слова, словно случайно произнесенное волшебное заклинание, оказали на проворного и речистого менеджера БИТЛЗ магическое воздействие. Всю его обычную сдержанность вдруг как водой смыло, и он начал подпрыгивать с нескрываемым ликованием. «Невероятно! Фантастика! — кричал он. — Да ты понимаешь, кто такой Эд Салливан?! Ты понимаешь, что все это значит?! Это значит, что они добились его! Они добились его в Штатах!!»
«Сегодня настоящий праздник! — счастливо заливался он и, кое-как собравшись с мыслями, выписал чек на 2000 фунтов, который вручил мне с пышным театральным жестом. — Ну, а теперь мне надо заняться Эдом Салливаном!»
«Спасибо, Брайан, всего хорошего!»
«До свидания, Пит. Счастливо тебе!»
Я уже почти вышел за дверь, когда Эпстайн вдруг попросил меня вернуться. «Пит, — сказал он, — а ты не хотел бы… стать моим личным ассистентом?»
«Личным ассистентом?! — опешил я. — Да зачем тебе такой оборванец, как я? Это испортит твой имидж.»
«Ты ведь так четко справился с этим звонком, а мне как раз такой человек и нужен.»
Но, подумав, я все же заподозрил, что моими главными достоинствами была близость к любимому Битлу Брайана и мое некритичное отношение к его гомосексуализму. И уж, конечно, он не забыл моих небрежных слов в ту ночь нашего первого знакомства. Позднее я подумал, что он, наверное, тогда просто почувствовал, что полностью доверяет мне. Но в ту минуту моя голова трещала от противоречивых чувств. Несколько секунд назад я упивался возможностью открыть свое собстенное дело — а тут Брайан Эпстайн хочет, чтобы я стал его личным ассистентом! «Ну, а какими будут мои обязанности?» — недоуменно спросил я.
«Просто путешествовать со мной по всему свету, помогать в делах БИТЛЗ, бывать на всех их концертах — в таком вот духе…»
«Мне нужно хотя бы немного времени, чтобы все это хорошенько обдумать», — сказал я.
«Хорошо, — согласился Брайан, — сколько это займет?»
«Если у тебя найдется свободная минута, я позвоню завтра и сообщу свое решение.»
Брайан пометил мое имя в своем переполненном деловом блокноте и еще раз пожал руку. «Только не забудь, Пит. Я очень надеюсь снова увидеть тебя завтра».
Размышляя над предложением Брайана, я быстро предался соблазнительным мечтам о себе — колесящей по свету правой руке менеджера вскоре станущих всемирно знаменитыми БИТЛЗ, к чьим успехам и благополучию я испытывал отнюдь не праздный интерес. С другой же стороны, я был вполне счастлив в Ливерпуле, где всего девять месяцев назад женился и поэтому очень тяготился перспективой проводить почти все время вдали от дома.
Однако, решающим фактором стала щедрость Джона, позволившая мне осуществить свою давнюю мечту — открыть свой собственный бизнес. Несмотря на все счастье, выпадающее на долю БИТЛЗ и мое личное уважение к Брайану Эпстайну, принятие его предложения могло бы уменьшить мой статус до статуса маленькой рыбки в огромном пруду. И, независимый по натуре, я решил, что гораздо лучше будет чувствовать себя огромной рыбой в маленьком прудике, который к тому же будет моим собственным.
Поначалу, когда я сообщил ему о своем решении, Брайан не мог поверить своим ушам. Но когда я объяснил все причины, стоявшие за этим, он отнесся к этому уже с полным пониманием и сочувствием. «Что ж, может так оно и лучше», — заключил он, и еще раз пожелав всяческих успехов, проводил меня до двери. В конечном счете эта работа досталась молодому журналисту из «Дейли Экспресс» по имени Дерек Тейлор, одному из самых прекрасных и чутких людей, когда-либо встреченных мной.
Через день после Рождества мы с Бет, как и обещали, приехали в Лондон. Преодолев шесть лестничных пролетов, мы оказались у дверей новой квартиры Джона в Кенсингтоне, где нас радостно встретили Синтия Леннон, ее мама и крошка Джулиан, которого я прежде не видел. Джон тогда уже был с остальными Битлами в театре «Астория» в Финсбери-парк. «Он звонил каждые десять минут и справшивал, не появились ли вы», — рассказала Син. В следующую секунду раздался телефонный звонок. Конечно же, это был Джон.
«Пит!! Как здорово, что ты приехал! — восторженно крикнул он. — Ты уже видел Джулиана? Правда, славный мальчик?!»
«Это чудесный ребенок, Джон, но как странно слышать такое от ТЕБЯ!» До рождения Джулиана Джон никогда — мягко выражаясь — не восторгался детьми.
После того, как мы обменялись еще несколькими любезностями, Джон начал настаивать, чтобы я срочно мчался в театр, иначе я опоздаю на концерт БИТЛЗ.
Поручив Бет нежным заботам Син и миссис Пауэлл, я помчался вниз по лестнице и поймал такси. Однако, когда мы подъехали к Финсбери-парк, скорость движения стала настолько безнадежно медленной, что я решил завершить свое путешествие пешком. И тут я попал в самый настоящий пандемониум, свидетелем которому никогда еще не был. Все улицы были забиты визжащими подростками и десятками возбужденных полицейских, тщетно пытающихся наладить автомобильное движение и держать под контролем истеричную толпу. И все это — в честь моего старого приятеля Джона Леннона и его группы ребят из Мерсисайда! Только тут я наконец сообразил, что у меня нет билета. Собрав всю силу своего умению убеждать (не говоря о грубой физической силе), я кое-как смог одолеть речами несколько полицейских баррикад, проложив перед этим путь сквозь массу пышных девичьих тел.
Добравшись до фойе «Астории», я назвал свое имя и был приятно удивлен, когда сам директор театра, предупрежденный о моем «неминуемом появлении» не кем иным, как Битлом Джоном, кланяясь и расшаркиваясь, подошел ко мне.
«Я очень, очень сожалею, м-р Шоттон, — сказал он, — но у нас не осталось ни одного билета. Боюсь, Вам придется стоять, если Вы не возражаете…»
Если я не ВОЗРАЖАЮ! «Ладно, так и быть!» — грубо буркнул я, осваиваясь со статусом ОВП — очень важная персона (VIP — very important person — прим. пер.) и давая понять, что делаю ЕМУ честь, не настаивая на сидячем месте. Но, как бы то ни было, этот наш «обмен» почти полностью утонул в визге битломании, исходящем из самих стен театра.
К тому времени, когда я нашел себе удобное место в самом конце зала, концерт БИТЛЗ уже начался, впрочем, мощно усиленный рок-н-ролл был почти не слышен из-за могучей силы легких женской части поклонников группы. Оглядевшись вокруг, я вдруг с изумлением увидел нашего старого приятеля — первого менеджера «Кваримен» — Найджела Уэлли «Ё…, …, Найдж! — заорал я изо всех сил. — А ТЫ что тут делаешь?!» Я точно знал, что он прочно осел в Кенте и стал профессиональным игроком в гольф и никто из нас не видел его уже несколько лет.
«Я узнал, что они приезжают, — заорал он в ответ, — и решил приехать и попробовать сюда попасть.»
«Как же, …, ты смог сюда попасть? Джон знает, что ты здесь?»
«Нет, нет. Я просто зае…л всем мозги и пробрался.»
Найдж, как я с теплотой вспоминаю, всегда имел способность зае…ть мозги кому угодно и попадать куда угодно. Слабый академически, как его характеризовали, он обладал «уличными мозгами», стоившими всех наших вместе взятых. В те далекие буйные дни на улицах Ливерпуля мы всегда знали, что Найдж вытащит нас из самой безвыходной ситуации.
Наконец, мы с Найджем переключили свое внимание на спектакль, разворачивающийся вокруг. Из конца зала БИТЛЗ выглядели одной общей прической «лохматая голова», и серыми безворотничковыми костюмами Пьера Кардена походили на четыре милые игрушки — изрядное изменение прежнего образа в «Пещере»!
Девушки стояли на сиденьях или карабкались друг по другу, пытаясь приблизиться к своим идолам. Одни тихо плакали, другие — визжали и издавали леденящие душу вопли, особенно, когда Пол и Джордж трясли своими блестящими локонами «в унисон», создавая фальцетом типичное для многих ранних хитов БИТЛЗ «у-у-у-у!»
Некоторые девушки рвали на себе волосы и одежду, забрасывая сцену градом конфет «jelly-babies», которые Джордж как-то раз неосмотрительно назвал своими любимыми. Казалось, все фаны пребывают в состоянии затяжных судорог всеобщего оргазма. Было так, как гласила возникшая поговорка: «В зале не было ни одного сухого места…» Концерт БИТЛЗ, помимо прочего, включал и квази-викторианский скетч, в котором Джорджа, одетого в женское платье, некий коварный и злобный «Сэр Джэспер» (его играл Джон) привязал к железнодорожным рельсам и которого освободил «Бесстрашный Стрелочник Пол». Однако, для меня кульминацией концерта стала пауза между песнями, когда Джон вдруг крикнул в микрофон: «Здорóво, Пит!!» Я заорал в ответ и помахал ему рукой, хотя и не мог понять, как близорукий Джон Леннон смог заметить меня, стоящего в самом конце зала. Потом он рассказал мне, что попросил директора театра дать ему условный сигнал из-за кулис, как только я появлюсь.
После выступления мы с Найджем прошли к БИТЛЗ за кулисы, и Джон встретил нас обоих с таким восторгом, словно МЫ были героями-покорителями; несомненно, он был счастлив внезапному появлению пропавшего Найджа не меньше, чем я. И хотя можно было ожидать, что все остальные БИТЛЗ будут слишком поглощены своим ослепительным успехом, чтобы найти время для старых ливерпульских знакомых, наше счастливое воссоединение прониклось духом товарищества. Я был особенно тронут, когда Ринго, с которым у нас до сих пор было всего лишь «шапочное знакомство», приветствовал меня, как старого друга, и предложил мне сигарету. (Это было очень необычно, поскольку БИТЛЗ, в отличие от многих сограждан, как правило, не предлагали своих сигарет в качестве дружеского жеста.)
Отпраздновав это событие традиционным возлиянием битловского «виски с кокой», мы с Джоном решили сбежать из осажденного театра. Но наши попытки тихо проскользнуть через боковой выход неизбежно срывались бдительными битломаньяками, предательские визги которых каждый раз спускали на нас с цепи всю толпу. В рукопашную схватку бросились десятки полицейских и с трудом смогли расчистить лишь узкую полоску асфальта между выходной дверью и поджидающим «Роллс-Ройсом»; казалось, они и сами хотели приблизиться к одному из БИТЛЗ как можно ближе и поэтому сдерживали ребятишек лишь настолько, насколько это было совершенно необходимо. Впоследствии Джону не один раз пришлось спасаться от сотен цепких молодых рук, одержимых манией приобрести фрагмент анатомии какого-нибудь Битла.
«Ради всех х…в, протащи меня к машине!» — панически крикнул Джон, когда еще одна рука вцепилась в знаменитые лохмы.
Прикрывая его собой от обезумевших поклонников, я кое-как смог затолкнуть Леннона в лимузин. Наш «Роллс» был полностью окружен, и со всех сторон на него лезли девушки. Сквозь мощный визг битломании и вой полицейских сирен мы расслышали крик одного из «бобби»: «Трогайте! Быстрее уезжайте!!»
После этих слов шофер поехал прямо на колышущуюся стену человеческих тел, медленно увеличивая скорость, и толпа с неохотой расступилась. Вскоре даже самые упорные фаны оставили попытку задержать машину. Вокруг нас материализовался эскорт полицейских мотоциклов, и мы исчезли в ночной темноте.
«Вот это жизнь!» — восхищенно произнес я и повернулся к Джону, ожидая подтверждения. Но он не улыбался, а лицо его было белым, как мел. «Нет, Пит, — сказал он, — это страшно. И однажды эти маньяки все же доберутся до меня и разорвут на ё…е клочки.»
Как я заметил, во многих дальнейших случаях, подобная близость к толпе с безумными глазами почти неизменно вызывала у Джона ответную реакцию, переходящую в паранойю. Это напомнило мне то, как он всегда стеснялся физического контакта, даже со своей семьей и близкими друзьями. И, конечно, он испытывал отвращение, когда его касались руками незнакомые люди (это звучит иронично, потому что никто на свете не привлекал своим физическим демонстрированием больше «незнакомцев», чем Джон Леннон).
Впрочем, когда мы вернулись в его квартиру, Джон вновь обрел веселое настроение. Приехал и Найдж в компании своей жены, Пэт, которая щеголяла «ульевой прической», самой невероятной из виденный мной. Присутствие Найджа стало хорошим стимулом и для Джона, и для меня, и мы провели остаток ночи за выпивкой, курением, обменом своими новостями и гримасничанием перед фотоаппаратом Найджа. Когда же в четыре часа утра мы все спустились вниз усадить Найджа и Пэт в их «Мини», веселье Джона стало настолько безудержным, что он принялся прыгать и дурачиться посреди дороги, принимая гротескные и нелепые позы для нашего развлечения и поучения. Свое «выступление» он завершил катапультированием на крышу машины Найджа — чтобы тут же слететь вниз с другой стороны. Через несколько секунд он показался из кювета, прыгая на одной ноге, ухватившись за лодыжку и стеная, лицо его теперь выражало неподдельную боль и немалое смущение тем, что акробатический трюк вышел ему боком.
Поскольку Джон был не в состоянии подниматься по лестнице, мне пришлось тащить его на себе все те шесть проклятых лестничных пролетов. «Это тебе будет нех…вая наука, — кудахтал я, погружая сильно посиневшую лодыжку Джона в таз с горячей водой. — Вздумал прыгать через машины, как какой-то ё…й идиот!»
«Ну, хоть ты-то, Пит, не вали на меня! Мне и так уже досталось!»
Через час лодыжка Джона приобрела еще более удручающий вид. Весь следующий день он был просто не в состоянии ходить, а доктор в недвусмысленных выражениях посоветовал отказаться от вечернего выступления. «Х… вам! — огрызнулся Джон. — Я не дам аннулировать концерт из-за меня!»
В конце концов, его доволокли до самой сцены, откуда он, кривясь от боли, доковылял к своему микрофону. Все представление он стоял на месте, перенося весь вес на здоровую ногу; но играл и пел с небывалым апломбом, и я уверен, что никто в зале не заметил, что их герой бьется в мучительной агонии.
К следующему вечеру нога Джона настолько поправилась, что мы, сбежав в очередной раз от битломаньяков, решили взять с собой наших жен и прокатились по наиболее фешенебельным заведениям Лондона. И мы настолько там разошлись, что когда последний ночной клуб закрылся, нам все еще не хотелось ехать домой.
«Давай тогда устроим ранний завтрак», — предложил я. Но Лондон в четыре часа утра едва ли не самый безжизненный город, и единственным местом, куда мы смогли заехать, оказался кафетерий аэропорта в Кенсингтоне — на той же улице, где был дом Джона.
Когда мы покончили с яичницей и беконом, пустой кафетерий начал оживать. Вид путешественников, садящихся на первые автобусы до аэропорта «Хитроу» быстро возбудил в мозгу Леннона типичный порыв: «Давай тоже туда рванем и сядем в какой-нибудь … самолет! В первый самолет, который попадется!»
«Ты, наверное, шутишь», — сказал я.
«Нет, наоборот, давай, уедем отсюда на х… и улетим!»
«Да у тебя же вечером снова концерт!»
«А! Х… с ним! Успеем! Мы только слетаем на Канарские острова или еще куда на пару часов — и вернемся назад.»
Без дальнейших церемоний Джон приказал своему многострадальному шоферу мчать нас в аэропорт «Хитроу». Развалившись на заднем сиденье «Роллс-Ройса» и глядя на пригородный ландшафт, озаряемый серым лондонским рассветом, я боролся с соблазном заснуть. «Это какая-то страна исполнения желаний, — сказал я сам себе. — Еще несколько дней назад я вкалывал в старом дурацком кафе, а теперь лечу на день на Канарские острова!»
Но в справочном отделе аэропорта нас ожидало сокрушительное разочарование. «Какой следующий рейс?» — спросили мы, затаив дыхание.
«Манчестер».
Трудно было вычислить более точное слово для уничтожения нашего сказочного путешествия: Манчестер расположен в 25 милях от Ливерпуля и имеет репутацию самого сырого города Великобритании.
И тут, рассматривая расписание в поисках более экзотического маршрута, мы вспомнили, что даже не взяли с собой паспорта. После этого с большой неохотой мы признали, что самым мудрым будет отправиться домой спать.
Эта фантастическая неделя пронеслась незаметно. Каждый вечер мы с Бет ходили на концерты БИТЛЗ и потом полуночничали с Джоном и Син до утра. Днем мы с хозяином дома почти не виделись, ибо он постоянно был занят профессиональной деятельностью. Насколько мне известно, наиболее приятной ее частью было чтение пробных оттисков его первой книги «Джон Леннон в своей манере письма», выпуск которой был намечен на март наступающего года. (Я был в квартире, когда приехал Роберт Фримэн и сфоторафировал автора на кухне — для оформления обложки книги).
Джон с гордостью показал мне непереплетенные страницы и я сразу узнал несколько гротескных рисунков и его нелепые четверостишия тех бесславных лет, которые мы провели в Куари Бэнк, где Джон часто разнообразил серые дни, украдкой подбрасывая на мою парту клочки бумаги — в те секунды, когда учитель отворачивался. Затем он поведал мне, что поначалу собирался открыть «В своей манере письма» посвящением: «Питу, который первым прочел все это». Но, зная, что Мими будет возмущена, если он посвятит книгу мне, а не ей, Джон решил отвести страницу для посвящений рисунку таинственного кудрявого паренька, на голове и руках которого сидели странного вида птицы. Как сообщил мне Джон, это была его карикатура на Вашего покорного слугу — и способ скрытого посвящения этой книги мне без оскорбления чувств его тетушки. И без слов понятно, что я был необычайно польщен…
В праздничный новогодний вечер к нам присоединились Джордж и Ринго. Они дали согласие отправиться на вечеринку, устроенную Джоном Блумом, печально известным магнатом стиральных машин, который упорно искал расположения БИТЛЗ. Всю свою жизнь Джон, словно сладкое, привлекал к себе «изобретателей чудес» всех мастей. «Блум говорит, что если мы дадим ему миллион фунтов, то через месяц он вернет нам два милилона!» — восторженно повторял он. «Ты будь поострожней, — сказал я. — Если кто-то действительно может такое сделать, он сделает это для себя, а не для тебя». Мои опасения, наверное, разделял и Брайан Эпстайн, ибо Блум, чьи беспрецедентные финансовые аферы привели в конце концов к огромному национальному скандалу, так и не смог запустить лапу в битловские деньги. Во всяком случае, большую часть предновогоднего вечера мы бродили по улицам, тщетно пытаясь отыскать дом Блума.
К нашим досадам добавились и приставания многочисленных прохожих, в том числе и элегантной женщины средних лет в меховом пальто. «Это он! — завизжала она. — Живой Битл! Я глазам своим не верю! Ах, подожди, я сейчас всем расскажу!»
«Вот, смотри, Пит, — шепотом пробормотал Джон и повернулся к этой даме с дружелюбной улыбкой. — Ты, старая ё…я корова, — произнес он приятным тоном. — Неужели тебе ни х…я не стыдно за такое поведение посреди улицы в твои-то годы, старая ты п…?»
Совершенно не замечая злобных оскорблений Джона, эта изысканная дама продолжала орать в своей истеричной манере: «Джон Леннон из БИТЛЗ! Надо скорее рассказать моему мужу!»
«Ну конечно, — с улыбкой кивнул Джон, — уё…й на х..й. Иди и расскажи всем, что ты видела великого Джона Леннона. Будь здорова, с Новым годом!»
«Ты видел, Пит? Люди настолько ослеплены имиджем Битла, что даже не слушают меня. Такие люди не услышат ни единого моего слова, что бы я ни говорил.»
Время понемногу приближалось к полуночи. Отчаявшись попасть к знаменитому м-ру Блуму до наступления 1964 года, мы помчались на другую заманчивую вечеринку.
Там было полным-полно пьянствующих знаменитостей шоу-бизнеса, но тем не менее, когда наступила торжественная минута и веселье и оживление достигли своего пика, меня вдруг захлестнула волна мрачной депрессии. Я взглянул на Джона Леннона, в тот момент очень образно изъяснявшегося, и затем внимательно посмотрел на себя самого. Наши достоинства необычайно контрастировали, а мой образ жизни в сравнении с его казался почти невыносимо скучным.
Это не значит, что я завидовал успеху Джона или хотел бы продержаться в «Кварримен» достаточно долго, чтобы стать Битлом-блондином. (В действительности я, наверное, был единственным в то время молодым человеком в Англии, который НЕ мечтал стать поп-звездой. Благодаря опыту, полученному в «Кварримен», я уже в раннем возрасте понял, что быть исполнителем — не говоря уже музыкантом — просто не по мне.) Истинным сожалением было то, что мы с Джоном были единомышленниками большую часть своей жизни и посвятили себя совместному поиску приключений и возбуждения — и вот теперь Джону предстояло испытывать самые немыслимые приключения и возбуждения, а мне — менее чем через 24 часа — вернуться к скуке и рутине ливерпульского небытия.
Я незаметно перешел на кухню поплакаться наедине со своим бокалом, но Джон и Джордж выследили меня и приложили все усилия, чтобы ободрить меня. Напомнив о моем решении открыть тотализатор, Джон заверил меня, что в мире нет ничего такого, что я не смог бы получить, если только пожелаю. «Так что, все будет отлично, Пит, — сказал Джон, — а сейчас пошли все в зал». Ободренный теплыми словами Джона и Джорджа, я почувствовал, что моя депрессия рассеивается, как маленькая темная тучка.
Веселье достигло своей вершины, когда Джордж и Ринго начали шумно изображать гоночные машины. Толпа тут же расчистила пол, и два Битла принялись носиться по комнате на своих задницах, изображая звуковые эффекты гонки, над, под и вокруг элегантной мебели, а Джон и его приятели по вечеринке громко «болели» за них. В такой вот игривой и веселой манере БИТЛЗ встретили и начали год, в котором им предстояло покорить Европу, Америку и весь мир.
Глава девятая: Это слишком много (It's All Too Much)
Америка — а значит, и весь мир — пала перед БИТЛЗ в первые недели февраля 1964 года.
Двумя месяцами раньше никто в Штатах и слыхом не слыхивал о БИТЛЗ. В самом деле, за два месяца до этого само утверждение о том, что какая-то британская поп-звезда может добиться успеха в США показалось бы абсурдным всем, кроме Брайана Эпстайна или Джона Леннона. В Америке, как заметил Пол МакКартни, за несколько часов до того, как БИТЛЗ впервые приземлились там, «всегда всего хватало. С какой стати БИТЛЗ должны делать там деньги? Что мы сможем им предложить из того, чего у них еще нет?» Рок-н-ролл ведь, так или иначе, был исконно американским, как и Статуя Свободы, кока-кола и Микки-маус.
И тем не менее, 7 февраля в нью-йоркском аэропорту Кеннеди БИТЛЗ приветствовала самая огромная и шумная толпа, с которой им доводилось когда-либо встречаться. Через два дня после этого 73 миллиона американцев смотрели на телеэкране дебют группы в шоу Эда Салливана. «I Want To Hold Your Hand» уже стояла на первом месте национального парада популярности, «She Loves You» — на втором, а в течение несколькоих недель БИТЛЗ заняли еще 3 следующих места — подвиг, который ни до, ни после них не повторял никто.
Оставшиеся месяцы 1964 года БИТЛЗ предстояло оставаться на первых страницах Америки и утвердить за собой подлинную монополию на «Первую сороковку» страны. Их успех в Штатах «за одну ночь», закрепленный двухнедельным блиц-кригом в Нью-Йорк, Вашингтон и Майами, во всех смыслах казался не иначе, как чудом. Но как бы то ни было, американцы, сами того не зная, уже давно ждали кого-то или чего-то подобного БИТЛЗ.
К 1963 году от рок-н-ролла, так возбуждавшего Джона в 50-х, в Штатах осталось лишь слабое эхо. Те идолы подростков, которые не превратились во «взрослых» эстрадных певцов, казалось, все канули в тюрьмы и безвестность, либо погибли в автомобильных и авиационных катастрофах. И несмотря на несколько ярких «звезд» на горизонте — продукцию «звуковой стены» Фила Спектора, детройтские соул-группы фирмы «Тамла-Мотаун» и калифорнийских «Бич Бойз», кстати, очень любимых Джоном и остальными Битлами — в начале 60-х в американской поп-музыке полностью доминировали сделанные на заказ «свиданья с грезами», напрочь лишенные оригинальности, жизненности или таланта.
Неосознанная тоска американцев по новому звуку, новому исполнителю и новым трюкам выходила далеко за сценические рамки поп-музыки и шла по следам убийства президента Кеннеди, совершенного 22 ноября 1963 года. В качестве антипода газетным заголовкам тех мрачных недель американская пресса активно искала новую историю: историю, которая была бы легкой, оригинальной и — главное — веселой. Именно с этой точки зрения и восприняла Америка удивительную британскую эпидемию, известную как Битломания, и четырех парней из Ливерпуля, игравших, по выражению «Ассошиэйтед Пресс», «новую причудливую музыку, делающую рок-н-ролл как бы ручным» и новые прически, которые были столь забавными и невероятно «длинными», что многие американские комментаторы с полной серьезностью заговорили о битловских «париках».
И хотя немногие статьи предполагали, что и Америка не сможет устоять перед Битломанией, в целом же они возбудили у американской дочерней фирмы от «И-Эм-Ай» — «Кэпитол Рекордз» — запоздалый интерес к БИТЛЗ и их новому синглу «I Want To Hold Your Hand». А потом быстро последовало приглашение на «Шоу Эда Салливана» и в ньюйоркский «Карнеги-Холл» — и тогда-то «Кэпитол» решила выделить беспрецендентную сумму — 50.000 долларов — на «сокрушительную рекламную кампанию». На стенах, фонарных столбах и телефонных будках всех пятидесяти штатов в течение одной ночи материализовались 5 миллионов плакатов с надписью «БИТЛЗ ПРИЛЕТАЮТ!!»
Американцы, как и англичане, быстро поняли, что за БИТЛЗ стоит нечто большее, чем прическа, реклама, удачный момент и пара привлекательных хитов. В отличие от всех прежних идолов тинейджеров, Джон, Пол, Джордж и Ринго были забавными, остроумными и земными. В течение первых секунд после своего прибытия в Нью-Йорк, на первой пресс-конференции они «полностью разоружили» большую часть американских журналистов.
«Это правда, что вы умеете петь?» — крикнул кто-то.
«Деньги — на бочку», — парировал Джон.
«Ваше послание американским подросткам?»
«Наше послание… покупайте побольше пластинок БИТЛЗ!»
«Когда вы собираетесь подстричься?»
«А я вчера подстригся», — сказал Джордж. Ринго добавил: «Видели бы вы его днем раньше!»
«Современные «Братья Маркс» — прозвали их журналисты. И все же, несмотря на все «прилизывания» их имиджа Брайаном Эпстайном, БИТЛЗ высказывали свои суждения гораздо более свободно, чем любые другие поп-звезды; они даже баловались спиртным и сигаретами на глазах у общественности. Одним из ключей к их успеху стало уже то, что они оказались «настоящими людьми» посреди поля, долгое время занятого безмозглыми пустозвонами.
Вторым послужило то, что БИТЛЗ были НАСТОЯЩЕЙ ГРУППОЙ, в отличие, скажем, от «Сверчков» Бадди Холли или «Комет» Билла Хейли, которые периодически сменялись вокруг единственной «звезды» — исполнителя. БИТЛЗ смогли предложить почти для всех хотя бы что-то, дав своим фанам возможность выбирать одну из четырех определенных личностей, сила каждой из которых дополняла остальных и вместе с тем маскировала или сглаживала любые возможные личные недостатки. «Химия» группы была оптимальной, а сочетание их четырех талантов — непобедимым.
Пол был артистом группы, самым обаятельным и самым симпатичным. Джорджа, худого и задумчивого, сочли за наиболее серьезного и опытного музыканта БИТЛЗ. Ринго гордился наиболее распространенными чертами характера и внешности, и его грустные глаза и скромные манеры пробудили защитный, материнский инстинкт в женской части его поклонников. А Джон был «женатым Битлом» и «литературным Битлом», наиболее выразительно говорившим и самым находчивым из четверых, которого нельзя было застать врасплох или вынудить потерять хладнокровие, тем, кого журналисты и маленькие девочки слегка побаивались и, вне всякого сомнения — движущей силой группы. Возможно, поэтому и не кажется случайным, что имена БИТЛЗ слетали с уст людей именно в этом порядке: Джон, Пол, Джордж и Ринго.
Помимо своих композиторских талантов, о которых говорилось в предыдущей главе, БИТЛЗ были необычны, по крайней мере, в еще одном отношении: они всегда давали покупателям хороший товар за их деньги. В отличие от всех прочих поп-звезд, освободивших вторые стороны синглов и большинство записей альбомов под очевидную чепуху или «наполнитель», БИТЛЗ хотели, чтобы ВСЁ, что они выпускают, было столь же хорошо, как и хиты с синглов, и, добиваясь этого, пришли к созданию альбома, как жизнеспособной формы поп-музыки. Более того, БИТЛЗ никогда не довольствовались простым повторением проверенной формулы, каждый раз, входя в студию, они хотели попробовать что-то новое.
По этой же причине группе хотелось, чтобы неизбежный битл-фильм стал чем-то большим, чем просто повтор избитого мюзикла а-ля Фрэнки Авален, Клифф Ричард или даже Элвис Пресли. Они наняли первоклассного режиссера (Ричарда Лестера) и сценариста (ливерпульца Элуна Оуэна) — и прекрасно справились с тем, что оказалось сатирическим «днем из жизни» Потрясной Четверки.
Премьера «A Hard Day's Night» («Вечер трудного дня») 6 июля в Лондоне, в присутствии принцессы Маргарет и визжащих фанов, до отказа заполнивших Пикадилли-сёкус, через четыре дня повторилась в торжественной обстановке в Ливерпуле; перед этим, специально в честь БИТЛЗ, был устроен обед не кем иным, как самим нашим лорд-мэром.
В тот день весь бизнес Мерсисайда приостановился, так как магазины и оффисы были закрыты ввиду триумфального возвращения «наших БИТЛЗ» домой. К тому времени, когда их самолет коснулся земли в аэропорту «Спик», каждый метр 7-мильного шоссе к Ливерпульской ратуше был плотно забит встречающими. Когда я занял свое место в толпе возле кафе «Старуха», где я все еще работал, для меня стало настоящим открытием то, что все они так страстно любят БИТЛЗ. Можно было подумать, что они ждут церемонии коронации Королевы, а не возвращения какой-то рок-н-ролльной группы: налицо были люди всех поколений, а некоторые пожилые горожане даже сжимали в руках небольшие флажки «Юнион Джек»!
Окруженный эскортом полицейских мотоциклов, лимузин БИТЛЗ вызвал безумные размахивания флагами, крики, визги и приветствия, причем от консервативно одетых бизнесменов и старушек — не меньше, чем от «скримэйджеров» (screamagers — образовано от teenagers — «подростки», заменой «teen» на «scream» — «визг» — прим. пер.).
БИТЛЗ смотрели на все это с выражением полного безразличия, едва шевеля кончиками пальцев, словно они устали от этого безумия.
Однако, когда их лимузин медленно проезжал мимо «Старухи», Ринго вдруг заметил мое лицо в толпе. «Пит! Пит!» — закричал он — и тут все четверо мгновенно оживились, принялись подпрыгивать на своих сиденьях и энергично махать мне через заднее стекло, постепенно скрываясь вдали.
Вскоре Джон, посреди церемониальных обязанностей, улучил минуту и позвонил в «Старуху» и мы договорились встретиться в тот же день вечером у Мими.
И снова мы просидели всю ночь, и Джон возбужденно рассказывал о последних новостях с битловского фронта — и снова он в конце концов сменил тему разговора и поинтересовался моей «блестящей карьерой». «Ну, — решился он, — а где же твой тотализатор?»
Тут я начал перечислять подробный список всех препятствий и запретов, портивших мои деловые планы. Усиленный поиск подходящего места, в то время когда большая часть удобных заведений была прибрана к рукам в самом начале недавней легализации азартных игр, привел меня наконец к зданию магазина, стоявшего через дорогу от футбольного поля в Энфилде. Учитывая, что каждую субботу в его окрестностях собиралось около 50.000 болельщиков ливерпульской всемирно известной футбольной команды, оно показалось счастливой находкой. Тем не менее, я должен был ждать еще около месяца до дня, назначенного судом, когда местным жителям предоставлялась возможность высказать все возражения, которые они могли иметь против моих намерений.
На мою беду, энфилдский священник решил возразить против создания столь сомнительного заведения по соседству с его церковью. «Тогда давайте заключим сделку, — сказал я. — Я не буду вмешиваться в ваш бизнес, если вы не будете вмешиваться в мой. Каждое воскресенье мое заведение будет закрыто, если вы обещаете не проводить службы в остальные дни недели.»
Хотя мои замечания вызвали несколько смешков на зрительской галерке, судья отнюдь не был восхищен ими и резко отверг мои возражения. В итоге, я вернулся на исходную позицию за одним небольшим исключением: я успел истратить большую часть из двух тысяч Джона. Это последнее, весьма постыдное признание Джон воспринял с веселым хохотом. «Ё… в рот, — покатился он со смеху, — будь у меня два куска в кармане, я бы сделал то же самое!» Мы еще немного посмеялись над этим и тут он снова стал серьезным. «Теперь слушай, Пит, — сказал он. — Все эти дни я буду очень занят. Со всего света на нас сыплются кучи денег. Ну почему бы тебе не найти что-нибудь хорошее?»
«Что ж, — кивнул я, — мне по-прежнему нравится идея тотализатора.»
«Да плюнь ты на него! Не страдай х…ей! Найди себе что-нибудь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошее.»
«А что ты подразумеваешь под действительно хорошим?»
«Слушай, мне плевать, что это будет и сколько на это понадобится. Это не важно. Найди себе хороший бизнес, для которого понадобится куча денег — и когда найдешь то, что тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравится, прибери его к рукам.»
На этот раз я понял его лучше, и не стал возражать, или, наверное, правильнее было бы сказать, что ошеломляющий карт-бланш Джона буквально лишил меня дара речи. Это было столь же невероятно, как и возможность открыть тотализатор полгода назад. Благодаря феноменальной щедрости Джона я почувствовал, что меня неожиданно забросило на такую высоту, которую большинство обычных смертных может надеяться достичь только после упорной многолетней борьбы.
Когда я наконец смог говорить, наше рандеву пошло почти точно по рельсам последнего «заседания у Мими». Мы опять досидели до рассвета, и снова Джон вдруг вспомнил, что на утро у него намечено дело (на этот раз — радио-концерт в Манчестере). Только на сей раз Джон — к великому ужасу педантичного Эпстайна — все-таки опоздал на выступление.
«За это Брайан как следует надавал мне по шее», — усмехнулся Джон, вспомнив об этом при нашей следующей встрече.
Пока я продолжал поиски подходящего и привлекательного бизнеса, БИТЛЗ собрались в свое первое турне по Штатам. Там, по мнению Джона, все аспекты безумия вокруг БИТЛЗ были увеличены и умножены просто до сумасшедшего масштаба. Во время одного из полетов над бескрайними просторами Америки, например, один говорливый техасский магнат предложил ему 3 млн. долларов за исключительное право создать по всем Штатам вагончики с «битл-булочками». И хотя Джон не считал, что «битл-булочка» звучит очень аппетитно, он кивнул в знак согласия, и этот жирный толстосум предложил пробную партию. «За такие деньги мне уже все равно, КТО использует наше название», — признался позднее Джон. Однако, Брайан Эпстайн наложил на битл-булочки свое вето из-за их плохого вкуса и качества.
Не только деньги текли к БИТЛЗ в Америке с фантастическим изобилием, столь же обильным был и секс Битлов. Джон как-то похвастался особенно ярким воспоминанием о вечеринке, на которую он и его коллеги были приглашены в качестве почетных гостей и где их одежда была буквально сорвана с них. «Весь дом был полон старлеток и модисток — самых фантастично выглядящих девиц, каких мне доводилось видеть. Я просто не мог спокойно смотреть на них! Я схватил одну и вые…л ее под лестницей, потом другую — в спальне, потом третью — в ванной, потом еще одну — на полу в кухне. Это была какая-то фантастика! Ничего подобного я прежде не видел — и это продолжалось всю ночь. Всего я «натянул» семерых.»
Если у меня и были какие-то сомнения по поводу желания всех тех девиц переспать с Битлами, то они были быстро забыты, когда я принялся читать письма фанов, адресованные Джону. Обычно каждый день он получал, по крайней мере, один большой мешок писем со всех концов света. Для того, чтобы прочесть их все, не говоря уж о том, чтобы ответить, понадобился бы целый штат сотрудников, но нашей любимой забавой в дни посещений его дома было устраивание «веселых нырков» в ежедневный мешок с почтой Джона. Поразительное большинство писем, извлекаемых нами наугад, содержало недвусмысленные предложения от юных поклонниц. Помимо своих телефонных номеров, многие из них прилагали снимки в изрядно обнаженном виде. И некоторые из них, по нашему обоюдному мнению, выглядели исключительно аппетитно.
«Так какого же х…я ты здесь сидишь, — удивился я, — когда все эти пташки там ждут — не дождутся, чтобы раздвинуть для тебя свои ножки в любую минуту? Как ты можешь спокойно сидеть дома и глотать свой чай?»
«А-а… Их всегда полно, — возразил он. — Они есть всегда, везде и повсюду, где мне только захочется этим заняться. Я просто надеюсь, что мой х… выдержит все это — и всё!»
«Так слушай, Джон, — сказал я. — если ЭТИ тебе не нужны, может, я мог бы подкатить к ним и сказать: «Извини, милашка, Джон приехать не смог, но, может, и я на что сгожусь?»
«Пошел ты на х…, — рассмеялся он, — я тебя на свою беговую дорожку не пущу!»
Джон и на самом деле никогда не откликался на такие письма, сколько бы соблазнительным ни было предложение. Попав под давление битломании, он быстро спрятался под своего рода защитный панцирь: он не проявлял никакой инициативы с незнакомцами — настолько, что даже не хотел взяться за телефонную трубку. В те дни все само шло к нему, а иначе ему было плевать. Кроме того, похоже, он оставлял дань увлечениям молодости для турне и более-менее входил в роль семейного человека во время передышек между ними. Но это не означает, что в 1964 или 1965 годах возможность видеть семью представлялась ему часто, ибо БИТЛЗ почти непрерывно были «в бегах».
Как бы то ни было, Джон на том этапе своей карьеры смотрел на фанов просто как на толпу визжащих идиотов и отнюдь не тех, с кем он хотел бы провести день, конечно, кроме случаев, когда они, девушки, сами бросались в объятья.
Впечатление было такое, что Джон воспринимает свой феноменальный успех, как нечто естественное, словно все происходившее с ним уже давно было запланировано. Во всяком случае, он сказал мне, что «все эти деньги и слава ничего не меняют, если каждое утро я по-прежнему должен вытаскивать себя из постели, умываться, бриться, натягивать свой ё…й костюм и заниматься х…ей, как и все остальные. Сколько бы у тебя не было денег, от этого не избавиться».
Конечно, новый статус нисколько не изменил его отношения ко мне, как, впрочем, и моего отношения к нему. Но был и такой период, когда Джон, как и Пол, и Джордж, все же дал самоуверенности перерасти в непоколебимое высокомерие в отношениях с окружающими. Во время стремительных турне, всяческим высокопоставленным доброжелателям вход в комнаты БИТЛЗ был категорически запрещен. Отказ группы от встречи с Ноэлем Коуардом через несколько лет вспоминался Джоном с особым сожалением, ибо тогда он уже испытывал здоровое уважение к достоинствам других артистов и писателей.
В дни турне по Америке в 1965 году такого рода «поза» чуть не стоила БИТЛЗ возможности встретиться с их любимым героем. Мучительные переговоры между Брайаном Эпстайном и менеджером Элвиса Пресли — полковником Томом Паркером — едва не сорвались, когда БИТЛЗ потребовали, чтобы Элвис приехал К НИМ в отель. Естественно, Элвис был еще более убежден, что эти четыре претендента на его трон должны приехать к нему сами, что они в конце концов и сделали.
Будучи фанатичным поклонником Элвиса, я испытал немалую зависть, прочитав в газетах о визите БИТЛЗ в особняк Пресли в Лос-Анджелесе. Встретившись с Джоном в очередной раз, я, затаив дыхание, потребовал подробного рассказа.
«Знаешь, Пит, — рассмеялся он, — ты не много потерял. Не произошло ничего интересного, по крайней мере, со стороны Элвиса.»
Когда БИТЛЗ предстали перед «Королем Рок-н-Ролла», он сидел на диване, непрерывно бренча на гитаре под свои собственные гремевшие через колонки хиты. Удостоив своих прославленных гостей едва заметным кивком, Элвис перевел свое внимание на беззвучно мерцавший цветной телевизор с неестественной контрастностью.
Вечер был спасен от катастрофы Томом Паркером, решившим развлечь БИТЛЗ воспоминаниями о своей карнавальной жизни до открытия Великого Элвиса. Он расказал о своем знаменитом номере со львом, когда он стоял один на один с внешне очень свирепым зверем, у которого (о чем зрители не знали) все зубы и когти были удалены. Этот полукоматозный лев оживал, издавая жуткий рев, каждый раз, когда Паркер тыкал его палкой, в которой, как оказалось, было запрятано мощное электрозарядное устройство.
Джон слушал его, ошеломленный, а полковник тут же поведал о своих потрясающих «танцующих цыплятах», знаменитое выступление которых проходило под запись «Turkey In Yhe Straw» («Индюк в соломе») и несчастные крохотные существа изображали «танец»; здесь весь «секрет» был в электрической плитке, вмонтированной в дно клетки.
Джону Паркер очень понравился. «Это отличный и настоящий пробивной шоумен, — сказал он мне, которому все это было не известно: мы тогда по-прежнему считали Паркера «отеческой фигурой» государства. — А Элвис… он был совершенно безжизненным. Казалось, что это какой-то ненормальный. Может, он наглотался пилюль или травки, или же просто обожрался, но в любом случае, он был совершенно апатичным и некоммуникабельным.»
Конечно, к 1965 году Пресли предпочел своим роковым корням мишуру и блестки Голливуда, Лас-Вегаса и рядового шоу-бизнеса. В нем уже нельзя было узнать восхитительного юного бунтаря, который так гипнотизировал и заводил нас десять лет назад. И все же встреча Джона со стареющим и растолстевшим «Королем» произвела на него огромное впечатление и тем самым помогла укрепить в нем осознанное решение никогда не погрязать в такой же смертельной рутине. Следующие годы своей жизни Джон не только избегал собственных творческих повторов, но и намеренно старался сбить с толку прессу при каждой возможности. То, что он любил шокировать окружающих, равно как и не выносил чьих-то «классификаций» со стороны, привело, в конце концов, к саботированию популярного мифа о том, что БИТЛЗ в отличие от, скажем, «Роллинг Стоунз» «респектабельны».
Из всего прочитанного нетрудно заключить, что, по сути, ни в одном из БИТЛЗ не было «респектабельности». Даже Пол — единственный, кто сознательно боролся за создание «чистого имиджа», отнюдь не был наивным подпевалой-паинькой, каким хотел себя изобразить. А Джон, несомненно, был редкостным грубияном и невежей.
Ведь БИТЛЗ, в конце концов, были просто четырьмя парнями из провинции, взявшими в руки инструменты с общим желанием немного повеселиться, «натянуть» нескольких девиц, немного побалдеть и сыграть «Be-Bop-A-Lula». Но окружающие почему-то сочли, что все столь одаренные и знаменитые люди должны быть не иначе, как лучшим цветом британской молодежи. Казалось даже, что пресса и общественность хотят превратить своих любимых «лохматиков» в баловней судьбы.
Результатом этого стала невероятная по масштабам «лакировка». От начала и до конца эры Битломании пресса ни словом не упоминала о беспорядочной половой жизни БИТЛЗ, их пристрастии к пилюлям, марихуане и (позднее) ЛСД — несмотря на то, что об этих грешках Четверки прекрасно знали все журналисты, колесившие с ними по планете. Даже если определенные детали их полного перемен прошлого и попадали в печать (например, когда какая-то газета сообщила, что во время съемок своего второго фильма — «Help!» — БИТЛЗ обозвали известную хозяйку Багамских островов «старой жирной б…») — это уже было не важно: все постарались побыстрее простить и оправдать «своих» БИТЛЗ и забыть об этом оскорбительном инциденте.
Когда Джон вернулся с Багам, он рассказал, как в один из выходных дней каждый Битл арендовал по «Кадиллаку». Устроив гонки в районе Нассау на скоростях, превышавших 100 миль в час, они очутились возле заброшенной каменоломни, где решили поиграть «в бамперы». «Это невероятное ощущение, — восторгался Джон, всего несколько недель назад получивший водительские права. — Мы вдребезги разбили все эти новенькие сверкающие лимузы.»
Игра кончилась тем, что, разбив последнюю машину, Джон, Пол, Джордж и Ринго пешком вернулись в свой отель, предоставив четырем изуродованным лимузинам ржаветь в каменоломне. «И однажды на нас придет ох…нно большой счет за это», — беспечно заметил Джон. Но такой счет так никогда и не пришел.
Короче говоря, БИТЛЗ все сходило с рук. Джон, конечно, играл свою роль в этой шараде и, регулярно надевая битловскую форму, якшался с именитыми государственными деятелями и людьми высшего общества, которых когда-то всей душой ненавидел. И ему ничего не оставалось, как хотя бы подсаливать свои критические высказывания. Например, его ходовая «В своей манере письма» состояла именно из тех рискованных и безумных рисунков, которые доставляли ему столько неприятностей от администрации средней школы Квари Бэнк.
Но иногда истинные чувства Джона все же открывали публике его лучшую сторону. Как он сам сказал несколько лет спустя, «это чертовски трудно, когда ты Цезарь и все говорят, какой ты великий и несут тебе любое барахло и любых девиц, пробиться через это и крикнуть: «Я не хочу быть королем! Я хочу быть НАСТОЯЩИМ!» Но до конца Битломании Джон, фактически, именно это и говорил.
12 июня 1965 года Британский истеблишмент поставил на БИТЛЗ свою окончательную печать одобрения: королева Елизавета наградила их членством самого выдающегося ордена Британской империи (ЭмБиИ). Джон прибыл на инвеституру в Букингемский дворец с такой же радостью, с какой играл на Королевском эстрадном шоу два года назад. Джон, при всей его непочтительности к дворцовым церемониям, тем не менее, искренне радовался получению этой медали. МБИтлз, как окрестила их пресса, были первыми поп-музыкантами в истории, удостоенными такой чести и в то время Джон не догадывался о том, что появление во дворце в каком-то смысле может скомпрометировать его неподкупность. Он скорее испытывал упоенность триумфом, уместным для негодного мальчишки, пролезшего туда, где, конечно, ему было не место.
Таким, в двух словах, было общее отношение Джона к объятиям истеблишмента и буржуазии, пока до него не начало доходить, что это истеблишмент взял от него все лучшее, а не наоборот.
Впоследствии Джон приколол свой MBE на грудь тетушки Мими, заявив, что она его заслуживает больше, чем он. Эта медаль украсила ее телевизор, совершенно забытая своим обладателем на четыре года, пока он вдруг не решил отправить ее назад к королеве в знак антивоенного протеста.
Глава десятая: Что происходит? (What Goes On?)
К Рождеству 1964 года Джон, Джордж и Ринго по повелению своих бухгалтеров купили себе по особняку в «биржевом поясе» близ Суррея. Джон поселился в «Кенвуде», псевдо-тюдоровском дворце за 40.000 фунтов стерлингов на вершине холма Св. Георгия, очень солидном доме в пригороде Уэйбридж. Ринго купил «Солнечные высоты», аналогичный особняк на холме Св. Георгия, а Джордж выбрал себе дом в расположенном поблизости Эшере.
Первоначально Джон планировал, что все четверо БИТЛЗ будут жить рядом и поэтому был немало озадачен, когда Пол, наиболее независимый участник группы, решил остаться в Лондоне. В то время связь Джона с остальными была настолько прочной, что он просто не представлял себе, что другие трое могут жить от него дальше нескольких минут ходьбы. До появления на сцене Йоко Оно, Джон постоянно испытывал почти маниакальную необходимость окружать себя близкими друзьями, чтобы, как всегда, оставаться «лидером банды». (Есть какая-то ирония в том, что дом, который Пол в конце концов купил в Лондоне, находился на Кавендиш-авеню в лесу Св. Иоанна, а дом Джона на холме Св. Георгия — на Кавендиш-роуд.)
Я же тем временем продолжал подыскивать себе новую жизнь, которую Джон столь великодушно обещал субсидировать, но до самых рождественских праздников, когда мы с Бет, моей сестрой Джин и ее мужем Фрэнком приехали к ним в Фэйрхем на южное побережье Англии, так и не нашел ничего подходящего.
Послонявшись несколько дней из угла в угол, я устал от безделья и решил выбраться в Фэйрхем (для чего бы вы думали?) — что бы подстричься, и эта стрижка, как оказалось, изменила мою жизнь. Выйдя из парикмахерской, я случайно обратил внимание на агентство «Трансферт бизнеса» и импульсивно зашел туда, чтобы выяснить, что мне могут предложить. Хоть я прежде и не помышлял о бизнесе за пределами Ливерпуля, мне показалось небезинтересным узнать, что и за сколько продается в этой части страны.
Выяснив, что я подыскиваю что-нибудь в пределах 20.000 фунтов, агент пустился в лирическое описание воскресного супермаркета, дополняемого почтовым отделением, на острове Хэйлинг, хотя меня супермаркеты совершенно не интересовали. И все же из простой вежливости я сунул в карман проспекты, которые он мне совал, и заверил его, что всесторонне обдумаю это предложение.
В тот же вечер во время незатейливой беседы за обедом я рассказал о своей поездке в Фэйрхем и о визите в агентство. Когда я упомянул супермаркет на острове Хэйлинг, глаза Фрэнка загорелись. Остров Хэйлинг! — воскликнул он. — Разве ты не знал, что прежде чем переехать сюда и найти себе этот дом, мы временно жили в одном доме-фургончике на Хэйлинге? Это отличный маленький курорт с пляжами и всем прочим. И вот что я посоветую, — продолжал он, — если завтра будет хорошая погода, мы можем туда съездить. Я буду не прочь снова повидать те места.»
Ясное солнечное утро следующего дня оказалось идеальным для такой экскурсии — и уже через несколько секунд после преодоления дамбы, соединявшей островок с «самым большим островом», я понял, что влюбился в Хэйлинг. Супермаркет находился на самой вершине острова. Я выбрался из машины, глубоко вдохнул соленый морской воздух, оглядел здание — и сказал: «Это — то!»
Вернувшись в Ливерпуль, я позвонил бухгалтерам Джона, рассказал им об этом супермаркете и попросил дать ему оценку. Через несколько дней пришло заключение о том, что это отличное место для бизнеса, и что нам с Джоном едва ли попадется что-либо лучшее. И вот к Пасхе 1965 года я уже занялся своей новой карьерой — управлением супермаркетом на маленьком острове, о котором четыре месяца назад даже не знал.
На мой взгляд, одним из главных достоинств острова Хэйлинг было то, что он располагался менее чем в часе езды от Уэйбриджа. Несколько следующих лет я проводил почти все свободные выходные дни вместе с Джоном, если, конечно, он не был занят битловскими делами. Он даже отвел мне в Кенвуде персональную комнату — голубую — названную так из-за своих голубых обоев, мебели и украшений.
Читателя, должно быть, удивляет, что великий Джон Леннон предпочитал мою компанию обществу прославленных и удивительных людей, с которыми он теперь постоянно общался. Одной из причин этого, наверное, являлось просто то, что я был не из мира индустрии развлечений и поп-музыки. Я и в самом деле был тем единственным человеком (помимо его жены), с которым он мог «отключиться», избавиться от необходимости говорить о музыке, бизнесе, вести себя как «звезда» или покоряться бесконечным «заседаниям» вопрос-ответного характера. Все в мире могло измениться, но мы двое всегда оставались теми же старыми Джоном и Питом.
Джон практически никогда не давал своему битловскому статусу в какой-то мере вмешиваться в отношения, установившиеся между нами так много лет назад. Если уж на то пошло, то это МНЕ иногда трудно было увязать бесподобный образ первых страниц и телеэкрана с образом моего старого приятеля из Вултона. Наверное, только те читатели, которые сами выросли вместе с будущей знаменитостью, могут полностью меня понять. Однако, что касалось наших отношений с Джоном, они были столь же прочными, как скалы Гибралтара.
«Я чертовски рад, что у меня есть ты, — однажды сказал он. — Ты — единственный человек, с которым я могу нормально поговорить и которому нравиться говорить нормально, а не лезть со всей этой мутью про Потрясную Четверку.» (Может показаться слишком самоуверенным, а сам я никогда не допытывался об этом у Джона, но мне лично показалось, что строка его песни «Help!» «я так благодарен тебе за то, что ты рядом», была адресована мне).
И все же Джон подстрекал меня пожинать коммерческие выгоды от нашей дружбы. «Слушай, Пит, — говорил он, — я хочу, чтобы ты имел как можно больше денег от знакомства со мной.»
«Перестань, Джон, — сказал я наконец, — я не хочу рисковать тем, что есть у нас с тобой. Ты же понимаешь, что все происходящее между нами совершенно конфиденциально. И если я начну фотографировать тебя, продавать свои рассказы о нас репортерам или вообще как-то наживаться на том, что я — твой приятель, это может разрушить твое доверие ко мне. Так что пусть лучше все останется, как есть.»
«Как хочешь, — пожал он плечами. — Тут все зависит от тебя.» (Единственными двумя писателями, пробившими брешь в моем обете молчания при жизни Джона были Хантер Дэвис, создатель «авторизованной биографии БИТЛЗ», которому я дал интервью по личной просьбе Джона, и Филип Норман, автор биографии БИТЛЗ «Shout!», которому я неофициально рассказал о Джоне — о событиях и пьянках в кабаках — после того, как он заверил меня, что его книга будет просто общей историей ливерпульской поп-музыки).
В те дни частные владения Джона представляли собой крепость, окруженную высоким забором и колючей проволокой. Кенвуд, как таковой — равно как и Уэйбридж — мало интересовали его. Они были для него просто крышей над головой и убежищем от Битломании.
Переехав в Кенвуд, Джон сразу истратил еще 40.000 фунтов — сколько стоил и сам особняк — чтобы построить в нем плавательный бассейн, привести в порядок лужайки и лесонасаждения, и отремонтировать, обставить и украсить 20 комнат особняка, из которых он пользовался только тремя. Остальные содержались домохозяйкой Джона, Дороти Джарлет, в первозданной чистоте и были отведены его любимым котам, которые бродили по дому и размножались по своему усмотрению.
Сохранив многолетнюю привычку, Джон встречал утренние часы в маленькой прямоугольной комнатке, расположенной возле кухни в задней части дома. Здесь он проводил многие часы, играя на пианино и валяясь на старом крохотном канапе, которое неизменно предпочитал дорогим и витиеватым диванам и софам, которые понаставил по всему дому. Цветной телевизор непрерывно работал целый день (часто с отключенным звуком) даже если Джон читал, писал или просто сидел и смотрел в окно.
Вторая его любимая комната, домашняя студия звукозаписи, находилась на верхнем этаже. Там он хранил свои гитары и орган «Vox», около дюжины магнитофонов и множество прочих технических устройств. В ней Джон и создал многие демонстрационные записи своих песен, а также экспериментировал с «пленочными петлями» и другими «не от мира сего» звуками.
И наконец, третьей была огромная спальня хозяина дома с 8-футовой кроватью (2,40 м — прим. пер.), которую он разделял со своей женой, хотя часы, проводимые ими там редко перекрывались, поскольку Синтия любила рано ложиться спать, а Джон предпочитал не спать всю ночь.
К 1965 году между Джоном и Синтией установились отношения точнее всего определяемые как «мирное сосуществование». У них не было ничего общего — и оба хорошо это знали — и все же их семейную жизнь нельзя было назвать несчастливой. Единственное памятное разногласие произошло из-за желания Син купить «Порше». Джон категорически возражал против ее стремления водить такую убийственно скоростную машину, но в конце концов уступил.
Сам я за «кенвудские годы» стал гораздо ближе к Син и часто проводил с ней те часы, когда Джон где-то задерживался. Всегда чуткая и вежливая, она не считала за труд приготовить мне что-нибудь поесть в любое время дня и ночи, и делала все для того, чтобы я почувствовал себя членом их семьи.
Стремящаяся как можно меньше попадать под внимание общественности, Син редко интересовалась работой и карьерой мужа. Но она по-прежнему обожала Джона и в безуспешной попытке возродить его энтузиазм, даже «выпрямила» свой римский нос. В Кенвуде Син занималась кухней и уходом за ребенком и придавала хозяйству Леннона рациональный, аккуратный и почти буржуазный характер, который Джон, нонкомформист и бунтарь, втайне находил вполне уютным. Свободное время она проводила за чтением, вышивкой и в компании жен остальных БИТЛЗ. Почти все это происходило в другом конце дома, в просторной библиотеке — эквиваленте любимой утренней комнате Джона.
Кроме того, Джон утратил свой первоначальный интерес к сыну по мере того, как Джулиан взрослел. И хоть он и получал удовольствие, балуя мальчика самыми восхитительными и дорогостоящими игрушками, он быстро раздражался, если ребенок путался под ногами и часто выставлял Джулиана за дверь по малейшему поводу, заявляя, что он «очень занят» или «разговаривает с Питом». (Несмотря на то, что сам Джон получал от своего отца еще меньше внимания, через несколько лет он вспомнил игнорирование Джулиана с глубоким раскаяньем, что и послужило одной из причин самозабвенной отеческой любви к его второму сыну — Шону).
Домохозяйка Дот считалась почти полноправным членом семьи. Необычайно приятная, заботливая и добродушная женщина примерно сорока лет, Дот нежно любила Джулиана, содержала дом в безупречном порядке, постоянно следила за содержимым кошачьих мисочек и отменностью любимых завтраков Джона, помогала Син по кухне и зачастую даже разделяла свою трапезу с хозяином, который требовал, чтобы она звала его просто по имени.
Муж Дот, м-р Джарлет, обычно каждый вечер заходил за ней. Имя этого джентльмена — Бернард — настолько забавляло Джона, что он в конце концов нарек им одного из своих котят. И Дот, не подозревавшая о смысле этого явно сардонического жеста, была глубоко тронута.
У Джона также в полном распоряжении находился здоровенный шофер, ранее служивший в Уэлше и беспрестанно жаловавшийся на тяготы нынешней работы. В свете того, что Джон редко куда-либо ездил, если не находился в турне или студии, за исключением домов Ринго и Джорджа, это казалось непостижимым: поездкам на выходные можно было только радоваться.
«Этот парень, — сказал я однажды, — настоящий м…к. Он только и делает, что заё…т всех жалобами на тебя.»
«Ну и х… с ним, — заявил Джон. Он всего-навсего водитель. Какое мне дело до того, что он думает?»
«Я с тобой согласен, — сказал я. — Но будь я на твоем месте, я не стал бы платить столько ради содержания такого говна.»
Третьим работающим у Джона полный день был садовник, которого он никогда не замечал, пока однажды ранним утром, через год после переезда в Кенвуд, мы с Джоном не досидели до рассвета. Мы накурились очень крепкого гашиша и решили перед сном побродить немного по холму Св. Георгия. По дороге нам попался садовник, возившийся на цветочной клумбе, и мы остановились поболтать с ним.
Он оказался вовсе не деревенщиной, которая могла бы вызвать у Джона антипатию, напротив, это был необычайно эрудированный джентльмен, потрясший нас обоих своими энциклопедическими знаниями об экзотической флоре, процветавшей в Кенвуде, о чем Леннон и не догадывался. Удивление Джона еще больше возросло, когда этот садовник поведал, что имеет ученую степень физических наук, но отказался от крысиных гонок и избрал своей профессией «первую любовь» за мизерную плату несколько фунтов в неделю.
«Вот те на, — изумился Джон. — Этот парень постоянно перекапывал мой сад — человек вне общества и мира сего занимался своим делом, и никто даже не сказал мне об этом!»
Еще одним персонажем жизни Джона в Кенвуде стала его теща. Несмотря на плохо скрываемую неприязнь Лилиан Пауэл к Джону, он никогда не высказывал вслух недовольства ее постоянным присутствием. Напротив, он организовал для нее щедрое ежемесячное содержание, которое обеспечил также тетушке Мими и нескольким другим близким родственникам, и даже купил ей поблизости персональный дом.
И тут выяснилось, что у Джулиана появился еще один прародитель, скрывавшийся в радиусе нескольких миль от Кенвуда. Это произошло, когда в один из отелей в Эшере устроился работать посудомойщиком Фредди Леннон.
Джон впервые узнал о местонахождении отца из статьи в газете, в которой Фредди рассказал о своей жизни и выразил горячее желание встретиться со своим знаменитым сыном. Это известие привело Джона в замешательство: он испытывал понятную злость за то, что Фредди бросил его, но, с другой стороны, испытывал глубокое волнение от возможности снова увидеть отца через двадцать лет.
В конце концов, Джон все же согласился на встречу, устроенную при помощи доброжелательного офиса «Дейли Экспресс». На следующий день я застал Джона в состоянии восторга. «Это просто здорово! — сообщил он. — Это забавнейший старик — такой же шизик, как и я!»
Но хотя Фредди Леннон и разделял с Джоном наплевательское отношение ко всему и начал с гордостью называть его «мой сын Джон», но был он все-таки всего-навсего спившимся бродягой.
Несмотря на их поразительное внешнее сходство, Фредди не мог похвастаться остальными подкупающими чертами Джона. Лично мне казалось, что старику эти частые поездки в Кенвуд стоили многих нервов, которыми он добивался явной выгоды от своих вновь возобновленных семейных отношений. Не удовлетворенный ежемесячным содержанием, заполученным у Джона, Фредди попытался начать карьеру звукозаписывающегося артиста и записал собственную песню, названную «That's My Life». Он даже дошел до того, что женился на молодой поклоннице БИТЛЗ.
Однако в конце концов Фредди исчерпал пределы терпения Джона — когда попытался соблазнить свою собственную невестку. Син была очень смущена, когда узнала, что Джон вышвырнул отца из дома и наотрез отказался встречаться с ним впредь. После этого Фредди вернулся к анонимной безвестности искателя приключений, и в таком амплуа он и умер от рака в 1977 году.
Тремя людьми, с которыми я больше всего общался во время регулярных поездок в Кенвуд помимо Джона были Пол, Джордж и Ринго. Я с ними очень подружился, хотя Пол, всегда самый обаятельный и дружелюбный с окружающими, всегда оставался и самым недосягаемым для НАСТОЯЩЕЙ дружбы: он был тем Битлом, который «играл, держа карты у самого подбородка». Особенно я полюбил Джорджа и мы остаемся с ним друзьями и по сей день. (Джордж, между прочим, предлагал уплатить половину за мой супермаркет на Хэйлинге, но Джон все-таки уплатил всю сумму сам).
В первый раз мы с Джоном посетили Джорджа через несколко дней после того, как я — наконец-то! — сменил свой старый драндулет на новенький «Спитфайр». «Он совсем как игрушечная машинка!» — воскликнул Джон, заметив его на тротуаре рядом с примелькавшимися «Роллс-Ройсами» и «Феррари». Он так вдохновился новизной этой обычной спортивной машины, что тут же предложил «сгонять» на моем «Спитфайре» к Джорджу. Более того, Джон захотел лично вести машину.
Прекрасно зная, что он — самый плохой в мире водитель, я все же уступил ему. После этого мы пронеслись от Уэйбриджа до Эшера на визжащих тормозах и голосовых связках, а Джон беспрестанно переключался не на те скорости. «Джон! …, …, …!!! — завопил я. — Ты же раскурочишь коробку передач!»
«Не переживай, — отозвался он, — я тебе куплю еще десять таких!»
«А мне не нужны десять других, — твердо сказал я. — Мне нужна эта.»
Как это ни странно, но мы — водитель, пассажир и машина — доехали до Джорджа в более-менее сохранном состоянии.
Дом Джорджа оказался очень длинным одноэтажным бунгало, стены которого он впоследствии разрисовал яркими психоделическими красками. Джордж с гордостью показал мне свое сокровище: рисунок, подаренный ему его (и Джона) тогдашним идолом, Бобом Диланом, и плавательный басейн, имевший форму гитары и разукрашенный мозаикой по иллюстрациям к «Своей манере письма» Джона.
Наш следующий визит достиг кульминации во время веселой ночной попойки, когда четверо БИТЛЗ и их девушки раздели Бет догола и бросили ее в бассейн. После этого Джордж включил прожектора, а остальные аплодировали Бет и подбадривали ее.
Как и Джон, Джордж привык к роли гостеприимного хозяина, ни в чем не ограничивавшего остальных БИТЛЗ и их друзей, жен и подруг. Даже Пол с регулярной частотой наведывался на «биржевые» земли, в свою очередь, его дом в Лондоне становился штаб-квартирой БИТЛЗ во время записей на Эбби-роуд. Но самым любимым местом группы, наверное, все же были «Солнечные высоты», возле которых Ринго возвел пристройку, известную под названием «Клуб». Оснащенный игральными автоматами и первым на моей памяти столом для игры в пул (разновидность бильярда — прим. пер.), который Ринго специально выписал из Штатов. Этот фешенебельный клуб предназначался только для четверых БИТЛЗ и нескольких избранных друзей.
Никогда еще не существовало и, возможно, не будет больше такой замкнутой и дружной группы, какой были БИТЛЗ в те дни. Их таланты и характеры сочетались удивительно гармонично. И до 1968 года я не был свидетелем и не слышал ни об одном серьезном разногласии между кем-то из них.
Однако, близкие отношения редко бывают простыми, и в отношениях Джона к Полу и Джорджу были определенные полутона, которые впоследствии и стали создавать проблемы. Только с Ринго у него всегда были честные отношения: Джон никогда не считал его чем-то большим (или меньшим), чем добрым простодушным парнем из Дингла, которому, как поется в песне, нужна была «маленькая помощь его друзей».
Пол был единственным из БИТЛЗ, кто мог соперничать с Джоном в авторитете и таланте. Понимая, что именно он является королем замка, и это само собой разумеющийся факт, Джон одновременно понимал, что держать в руках Джорджа и Ринго не так уж трудно, а более-менее равным себе он считал только Пола. Джон особенно уважал и восхищался — и в то же время слегка раздражался — независимостью Пола, его самодисциплиной и всесторонними музыкальными способностями: во всех этих качествах Джон уступал ему. Тем не менее, он никогда не забывал, что БИТЛЗ начинали как ЕГО группа, и когда Пол иногда забывал об этом, его это выводило из себя.
К Джорджу Джон относился почти как к младшему брату; он испытывал к нему искреннюю привязанность и, вместе с тем, не мог принимать его всерьез. В его глазах Джордж по-прежнему был маленьким мальчиком, который ходил за ним по пятам, умел играть на гитаре и за счет этого и добился включения в группу, но, по сути, как и Ринго, оставался немногим более, чем ассистентом, помощником, «второсортным Битлом». И много лет ни Джону, ни Полу, считавшим свои собственные творческие гении единственным ключом к продолжающемуся успеху БИТЛЗ, просто в голову не приходило, что юный Джордж тоже может обладать каким-то своим талантом.
Естественно, как только Джордж вырос из преклонения перед коллегами, в группе стали возникать все более и более возрастающие разногласия. Когда же он утвердил себя как плодовитый композитор и поэт, Джон и Пол стали иногда уделять ему место на альбомах БИТЛЗ, но делали это с тем нежеланием, с каким бросают собаке кость, чтобы она замолчала. И когда через несколько лет такие композиции Харрисона, как «While My Guitar Gently Weeps» и «Here Comes The Sun» были провозглашены одними из наилучших вещей соответствующих альбомов, Джон был необычайно удивлен. Лично мне казалось, что творчеству Джорджа долгое время мешали монументальные самомнения Леннона и МакКартни. И хотя я понимал, что не мне им об этом говорить, я уверен, что его таланты расцвели бы еще раньше, будь их отношение к нему ободряющим, а не снисходительным.
Естественно, что за уэйбриджский период я очень часто виделся и с женами и подругами БИТЛЗ. Однако все они, подходя под изречение Джона о том, что «женщина должна быть развратной и бессловесной», порхали на заднем плане, если только не поджидали своих «хозяев». БИТЛЗ, по укоренившейся северной традиции, все еще оставались убежденными сторонниками мужского шовинизма, хотя Пол и Джордж в этом отношении были несколько менее строгими по сравнению с остальными двумя.
Главным камнем преткновения был в те дни Джон. Он не сделал исключения даже для Бет, присоединявшейся ко мне иногда на «воскресные визиты». «Почему бы тебе не приезжать просто одному? — спросил он. — Зачем нам женщины, которые путаются под ногами?»
11 февраля 1965 года Ринго стал вторым женатым Битлом — и Морин Кокс Старки оказалась точно такой же приятной и земной, как и ее муж. «Мо», с которой Ринго был знаком примерно со времени включения в БИТЛЗ, работала раньше парикмахершей в Ливерпуле и за своими скромными манерами прятала немалый артистический талант. «Солнечные высоты» были усеяны ее уникальными творениями, одним из которых была большая фигура некоего гуманоида, собранная из кусков сверкающего серебристого металла и возвышавшаяся над комнатой, где жил Ринго.
Если у группы шла запись, Морин обычно терпеливо ждала, нередко до 5 часов утра, когда ее «Ричи» вернется домой. Из всех четырех жен БИТЛЗ она была не только самой преданной своему мужу, но и самой наивной и простодушной. Меня поразило ее необычайно болезненное восприятие всеобщего безумия, вторгавшегося в их жизнь.
Пэтти Бойд появилась вскоре после того, как Джордж встретил ее на съемках «A Hard Day's Night», но фактически поженились они только 21 января 1966 года. Пэтти одно время работала модельершей и поэтому за ней утвердилось первенство в моде в среде женского антуража БИТЛЗ, и даже Джон не мог скрыть своего восхищения ее нимфоподобными чертами. И если не принимать во внимание некоторую взбалмошность ее характера, Пэтти была очень милой девушкой с огромным чувством юмора.
Между Син, Морин и Пэтти сложились отношения близости и взаимопонимания, весьма напоминавшие отношения самих БИТЛЗ. «Чужой» оказалась лишь невеста Пола Джейн Эшер, рыжеволосая лондонская аристократка, считавшая себя слепленной из более качественного теста, нежели жены остальных Битлов. Талантливая актриса сама по себе, Джейн была единственной из них, считающей наиболее важным собственную карьеру. И ее нежелание перейти к семейной жизни и воспитанию детей Пола, по сути, стало одним из факторов их последовавшего вскоре разрыва.
На мои регулярные визиты в Уэйбридж Джон ответил всего один раз — уже когда заболел боязнью ехать или идти куда-то, если это не было совершенно необходимо. Собираясь время от времени, скажем, «навестить Пита и посмотреть на его знаменитый супермаркет», Джон всегда мог рассчитывать на неожиданное появление серьезного повода, чтобы остаться дома. В конце концов, он может просто заблудиться. Или машина попадет в аварию… Или его атакует визжащая толпа битломаньяков…
И все же как-то раз, днем, когда я уже собирался возвращаться на Хэйлинг после нескольких дней, проведенных вместе с семьей в Ливерпуле, зазвонил телефон моей матери, и не кто иной, как Джон с нескрываемой злостью заявил с другого конца линии: «Я торчу на этом ё…м острове… Какого черта ты там делаешь? Я чуть не зае…ся, пока сюда доехал, а тебя и на месте нет!»
«Нет, это я хотел бы спросить, какого черта ты там делаешь, — рассмеялся я. — Ничего, это приучит тебя заранее предупреждать по телефону.» Но когда я сказал ему, что уже собираюсь выезжать, он решительно заявил, что будет ждать меня пять часов или около того.
Вопрос о том, почему он сам решил туда приехать разрешился, когда я узнал, что Джон отправился на эту экскурсию в компании своего двоюродного брата Стэнли, который проводил те выходные в Кенвуде. Много лет назад Джон с заметным благоговением считал Стэна почти за старшего брата. Похоже на сей раз готовность развлекать Стэна превзошла даже его паранойю и летаргию. Когда я вернулся на Хэйлинг, они уже расположились «как дома» в моей маленькой квартирке прямо напротив магазина, а Бет усердно угощала их виски с кокой.
Я предложил Джону попутешестовать по супермаркету. «Это просто фантастика, — сказал он. — Я могу стащить отсюда все, что захочу — и никто меня не тронет!» После этих слов он принялся носиться от полки к полке, хватать разные вещи и распихивать их по карманам.
Но это шумное веселье было неизбежно прервано толпой местных ребят, просивших его автограф. Последовала цепная реакция, и Джон со всех ног помчался в мою квартиру, что, конечно же, не остановило его фанов, которые побежали за нами по лестнице и принялись заглядывать в окна и непрерывно стучать в дверь. «О, ё…й ужас! — застонал Джон. — Ну сколько можно! Пора отсюда съё…ть!»
Настояв на том, чтобы мы со Стэном поехали ночевать в Уэйбридж, Джон предложил устроить гонки, выставив своего когда-то зеленого «Феррари», которого он перекрасил в матово-черного, против моего маленького «Спитфайра». После этого я пережил самую жуткую поездку своей жизни (удивительно, что она не стала последней!). Преодолев несколько первых миль от Хэйлинга, мы вылетели на шоссе Портсмут-Лондон и поравнялись с белым «Ягуаром» марки «И», водитель которого сообразил, чем мы занимаемся, и присоединился к нашей забаве. Следующие 45 миль мы сознательно пытались обогнать друг друга, нарушая все правила дорожного движения.
В конце концов победа досталась «Феррари» Джона. Мой автомобиль, чихая и фыркая, въехал в Уэйбридж с почти разбитым двигателем, но я утешал себя сознанием того, что мой «Спитфайр» все же обогнал «Ягуара». Даже несколько часов спустя у Джона тряслись руки, но, тем не менее, он был в восторге. «Я уже сто лет не переживал ничего подобного, — восклицал он. — Надо будет повторить это в ближайшее время.»
В результате он начал подбивать на такие гонки по пустынным дорогам биржевого пояса остальных Битлов. Но они потеряли энтузиазм к любительским сумасшедшим гонкам после того, как Ринго, мчась в своей «Файсел Вега» на скорости 150 миль в час (около 240 км/час — прим. пер.), чуть не врезался в задник машины, неожиданно выехавшей на дорогу всего на 70 милях в час. Хотя никто и не пострадал, Ринго и Джон были глубоко потрясены пережитым ощущением, и по крайней мере Джон с тех пор предоставлял возможность сидеть за рулем другому.
Глава одиннадцатая: Я не хочу испортить вечеринку (I Don't Want To Spoil The Party)
После появления БИТЛЗ, вся страна претерпела изменения, о которых британские подростки поколения Джона и мечтать не могли. Вдруг уже Англия, а не Америка, начала утверждать все новые направления в музыке и моде. Некогда монументальная столица Великобритании теперь осваивалась с новой необычной ролью главной молодежной мекки мира под названием «Разгульный Лондон» (Swinging London). Это была эра модов, мини-юбок и малолитражек, эра стремительного роста числа бистро, супермаркетов и квази-викторианских антикварных магазинов, эра удивительных новых цветов, идей и звуков.
Благодаря «британскому вторжению», начатому «прорывом обороны» Штатов Битлами, даже юные американцы, казалось, начали считать Англию мощным источником возбуждения и романтики. Точно так же, как БИТЛЗ и их сверстники когда-то «торчали» на американском рок-н-ролле (вспомним также сверкающие американские машины и костюмы, и экзотические географические названия, вроде «Мемфис, Теннесси»), теперь американские подростки фантазировали о возможных сценах и звуках Разгульного Лондона: о «Сохо» и «Челси», «Кернеби-стрит» и «Кингз-роуд». Получив заряд вдохновения от БИТЛЗ, Роллинг Стоунз, «Kinks», «Yardbirds» и «The Who», целое новое поколение длинноволосых американских ребят взялось за гитары и образовало такие группы, как «Birds», «Loving Spoonful» и «Jefferson Airplane».
Юные британцы уже не были обязаны считать свою страну безнадежно второсортной и несовременной. В жалкие останки Британской Империи Разгульный Лондон сделал столь остро необходимое вливание новых идей, новых денег и жизненной энергии. Это было то время, когда молодые мужчины и женщины равнодушной провинциальной массы в короткий срок одержали победу над наследственностью привилегий и традиций (вспомним символическую значимость награждения Битлов орденами МВЕ королевой Елизаветой). Действительно, в новом вверхтормашном порядке вещей, созданном эпохой Разгульного Лондона, новой королевской властью стали Джон, Пол, Джордж и Ринго.
БИТЛЗ были частыми посетителями ряда модных лондонских ночных клубов, или «дискотек», как их тогда только начали называть. Первым таким стал «Ad Lib» («Экспромт»), отделанный дубом и освещаемый коконами канделябров и расположенный на вершине самого высокого здания Лондона. За ним появились «Скотч Св. Иакова», «Мешок гвоздей», и, наконец, «Спикизи» («Говори непринужденно»), «Блейз» и «Сибилла», совладельцем которого был Джордж Харрисон. Эти места и стали практически единственными, не считая домов других БИТЛЗ и случайных частных вечеринок, куда Джон осмеливался и решался выбираться вечером.
Правда, один раз он все же согласился, но с большим нежеланием, пойти со мной «выпить в спокойной обстановке» в один солидный паб в Уэйбридже. Это вылилось в постоянный поток охотников за автографами в котелках, в один голос утверждавших, что просят его роспись для своих жен и детей. «Ну, теперь ты видишь, Пит? — устало вздохнул Джон. — Давай, ради Бога, поедем домой!» Он терпеть не мог, когда его разглядывали и донимали незнакомцы.
В «Экспромте» или «Спикизи» Джон мог не волноваться за просьбы дать автограф. Там все были слишком заняты сохранением своей сверхмодной маски, чтобы допускать подобную бестактность. Для того, чтобы попасть в клуб, прежде всего нужно было быть, или, по крайней мере, быть знакомым с известным членом аристократии Разгульного Лондона. Говоря языком одного из хитов той эпохи, нужно было быть «в контакте с избранной толпой, чтобы ходить туда, куда ходит избранная толпа».
Как это ни странно, именно Джон иногда больше всего волновался от присутствия рядом знаменитостей. Когда мы однажды сидели вместе в «Спикизи», он узнал Грэхема Нэша из «Холлиз» и подошел к нему для коротенького разговора. Джон вернулся к нашему столику с торжествующей улыбкой, но все же признался, что не нашел нужных слов. «Я никогда не знаю, о чем говорить с этими поп-звездами», — сказал он. Со временем, однако, он близко подружился со многими из них.
Обычно, практически все крупнейшие британские поп-звезды собирались в каком-то одном клубе, с этого самого момента получавшего звание «места сбора избранных». БИТЛЗ, «Роллинг Стоунз», «Кинкз», «Ху», «Энималз», «Ярдбердз», «Холлиз», «Крим», «Джимми Хендрикс Экспириенс», «Муди Блюз» и еще несколько других групп и составили то, что Джон однажды назвал избранным «мужским курительным клубом». Со своими сверстниками Джон чувствовал себя достаточно раскованно, чтобы проспорить до утра о музыке и о делах в мире. А иногда, после того, как клуб официально закрывался и почти все расходились по домам, кто-нибудь из БИТЛЗ, Роллинг Стоунз и их избранных друзей забирался на крошечную сцену «Спикизи» и устраивал марафонский джем-сешн.
Из всех соперничающих с БИТЛЗ британских групп Джон больше всего выделял Роллинг Стоунз — и в плане личной дружбы, и в плане профессиональной конкуренции. Он любил не только общество Мика Джэггера и Брайана Джонса, хотя и не настолько, чтобы скажем, пригласить их в Кенвуд, но и восхищался бескомпромиссным ритм-энд-блюзовым звучанием ранних записей Стоунз и завидовал их «хулиганскому» имиджу. Но его восторги пропадали по мере того, как Стоунз, по его мнению, начали копировать БИТЛЗ. (Джон считал, что «As Tears Go By», «Paint It Black», «We Love You» и «Their Satanic Magesties Request» слишком напоминали по духу соответственно «Yesterday», «Norwegian Wood», «All You Need Is Love» и «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», а обложка альбома «Bagger's Banquet» была воспринята им как производная от «Белого альбома» БИТЛЗ).
Но, в отличие от Пола, Джон не стремился не отстать от успехов лондонских собутыльников. Пластинки, которые он слушал в Кенвуде, почти все были американскими. (Вместе с тем, Джон не разделял продолжающихся восторгов Пола и Джорджа от «Бич Бойз».) Обычно он почти беспрерывно проигрывал синглы, вроде «Lighting Strikes» («Удары молнии»), Лоу Кристи и «What's So Easy For Two Is So Hard For One» («То, что просто для двоих, очень сложно для одного») Мэри Уэллс, равно, как и альбомы «Бердз», и больше всего — Боба Дилана.
Фактически, первое впечатление от Дилана на Джона было сравнимо с эффектом, произведенным Элвисом десятью годами раньше. Как можно заключить из материала, написанного им в 1965 году, Джона больше всего впечатлило и восхитило то, как Дилан легко играл словами. Он часто и с огромным удовольствием цитировал такие строчки, как «даже президенту Соединенных Штатов иногда полезно побыть голым». К тому же, в отличие от Элвиса, Бобби оказался приятным компаньоном, и именно он познакомил БИТЛЗ с марихуаной.
Со временем Джон со все большей неохотой покидал свое любимое канапе, телевизор и пластинки Дилана, чтобы уезжать на ночь в клубы. Возможно, отчасти это произошло оттого, что смыслом этих клубов прежде всего оставались танцы, а Джон, как уже ранее упоминалось, ненавидел это занятие. Поскольку и Джордж разделял его антипатию, мы с Терри Дораном нередко уезжали с Син и Пэтти за город на ночную прогулку. С Терри, очаровательным парнем, мы познакомились как с одним из ливерпульских собутыльников Брайана Эпстайна. Его неистовое чувство юмора и бескорыстная привязанность к БИТЛЗ, в конечном итоге помогли ему попасть в число самых верных друзей группы. И Терри, как и Син, Пэтти и я, очень любил танцевать. Что касается Морин, то ей редко требовался кавалер, ибо Ринго никогда не уставал от посещений клубов и часто танцевал всю ночь напролет.
И все же, иногда Джона можно еще было раскачать на посещение вечеринок, постоянно устраиваемых его знаменитыми приятелями. А Силла Блэк, старая подруга из Ливерпуля и единственная женщина в непрерывно растущей команде артистов Брайана Эпстайна, прекрасно организовала празднование 25-летнего юбилея Джона, которое достигло своего апогея во время беспрерывного потока заздравных песен, перемежаемых вылазками домой в передвижном коктейль-баре, устроенном в «Роллс-Ройсе» Джона. Брайан также постоянно организовывал щедрые вечеринки и пикники, хотя не все они предполагали присутствие БИТЛЗ. (Однажды Ринго и Морин решили нанести Брайану неожиданный визит — и неожиданно попали в чисто мужскую компанию, где участники танцевали и обнимались так, словно это было самым обычным занятием).
Из всех вечеринок, на которых я побывал с БИТЛЗ, наиболее точно отразился дух той эпохи на вечеринке, устроенной одним из любимых приятелей Брайана по шоу-бизнесу, Лайонелом Бартом, прекрасным молодым композитором, незадолго до этого поставившим четыре мюзикла, которые конкурировали между собой в театрах лондонского Вест-Энда. Он жил в роскошном особняке «Челсия», который увенчивали изящные башенки, и который стоил, по словам Барта, около 100.000 фунтов. Каждая комната — от загроможденной античностью гостиной до личного кинотеатра — несомненно, была отмечена печатью Разгульного Лондона, т. е. оригинальностью, жаждой наслаждений и огромным богатством. Один из его туалетов был не чем иным, как элегантным резным царским троном, поставленным на устланом богатыми коврами подиуме с несколькими ступенями, возвышавшими трон над ванной.
К вящему восхищению и восторгу Джона хозяин дома превратил свой дом в настоящий лабиринт с опускающимися дверьми, потайными лестницами, тайными выходами и полупрозрачными зеркалами (некоторые из которых занимали стратегическое положение на потолках спальных комнат, где обычно располагались миловидные гостьи хозяина). Бродя с Джоном по этому дому, мы постоянно натыкались на стены в местах, где всего мгновение назад виднелись комнаты и коридоры.
Что касается самой вечеринки, то на ней концентрация знаменитостей была самой большой из всех памятных мне случаев. Краем уха я услышал, как популярный диск-жокей Кенни Эверет жаловался Битлам, что Би-Би-Си «не дает ему развернуться». «С ними просто нужно драться, — сказал Джон. — И в конце концов ты сможешь их одолеть, если не дашь им прежде повалить себя.»
Тем временем «звезда» британского телевидения Лайонел Блэир демонстрировал женам БИТЛЗ свои знаменитые танцевальные номера. После этого, он показал никем у нас прежде не виденный фотоаппарат «Поларойд» и дал нам немного побаловаться этой удивительной новой игрушкой.
Как и всегда, при подобных сборищах позволительны были всевозможные экзотические штучки и к концу вечера некоторые знаменитости начинали заниматься довольно необычными делами. Однажды Бет по случайности забрела в одну из комнат для гостей, чтобы воспользоваться туалетом, а когда вышла назад, увидела двух голых мужчин, кувыркающихся в постели. Она попыталась незаметно выскользнуть из комнаты, и тут обнаружила, что дверь заперта. Но, к счастью, те два парня были слишком увлечены друг другом, и не заметили ее отчаянных и, в конечном итоге, успешных поисков ключа.
Одной из групп, с которой Джон продолжал часто видеться, были «Муди Блюз», жившие вместе неподалеку от Уэйбриджа. «Мудиз» регулярно устраивали открытые субботние «вечеринки на дому», где всегда были лучшие закуски, лучшая выпивка, лучшая «травка» и лучшие старлетки и модистки. Именно на одной из таких вечеринок я увидел впервые мини-юбку. Однако Джона больше всего привлекали сами «Мудиз», которые, несмотря на унылость своей музыки, были, наверное, самыми веселыми ребятами, встречавшимися нам с Джоном.
В типичном номере «Муди Блюз» их гитарист Денни Лэйн, сейчас больше известный как одно из «Крыльев» Пола МакКартни, выступал в роли крутого старого сержанта, а прочие участники группы — в роли взвода желторотых новобранцев. Каждый раз, когда Денни выкрикивал свои хриплые команды, они выполняли их так, словно ничего не поняли: шагали не в ногу, ставили подножки и маршировали прямо на стены. Как комедийные актеры, они обладали превосходным чувством ритма и неизменно доводили нас с Джоном до коликов в животе от смеха.
Если Джон был в хорошем настроении, он нередко брал в руки гитару и устраивал воодушевленные всеобщие песнопения. Впрочем, иногда мы довольствовались и глупыми играми в фанты и им подобными. Мне запомнился один типичный случай.
«Тук-тук», — сказал Джон.
«Кто там?» — хором ответили мы.
«Синайл.»
«Какой Синайл?»
«Повидай друга Найла за рекой», — выпалил он, вызвав смех и аплодисменты всех, знакомых с песней «Кинкз» «See My Friend Across The River» («Повидай моего друга за рекой») (игра слов. Первый ответ: «Senile» — имя, на слух воспринимается и как «повидай Найла» (See Nile). Второй ответ: изменение названия песни «Кинкз» с превращением «See My Friend» в близкое по звучанию «See Nile Friend» — прим. пер.).
Джон по-прежнему оставался мастером моментальных каламбуров, хотя, к сожалению, большая часть его «пенок» и «перлов» с тех пор забылась. Говоря бессмертными словами Доктора Уинстона О'Буги, «нужно было присутствовать при этом».
Другой группой, находиться с которой доставляло Джону особое удовольствие, были «The Monkees» («Обезьянки»). Это тем более иронично, если вы вспомните, что образ этой группы был бесстыдно скопирован (не кем иным, как американским телевидением) с ранних БИТЛЗ. А между тем, вне поля зрения журналистов и телекамер они были гораздо более склонными к фарсу в духе «A Hard Day's Night», чем сама Потрясающая Четверка.
Мы с Джоном обнаружили это в одну из субботних ночей во время их первого визита в Лондон, когда Джон импульсивно решил поехать к ним в отель на вечеринку. Особенно невменяемым «шизиком» оказался Микки Доленц.
Безумные коронки «Обезьянок» были настолько увлекательны, что только на рассвете я вдруг вспомнил, что должен вернуться на остров Хэйлинг, чтобы открыть свой магазин. Видя, что Джон еще слишком возбужден, чтобы ехать домой спать, Микки Доленц очень любезно предложил мне услуги своего шофера, дабы я смог заехать в Кенвуд за ключами и своей машиной.
Однако, когда мы выехали за город, этот водитель, видя возрастающую загруженность улиц машинами, едущими в Лондон, начал все больше беспокоиться приближением утреннего часа «пик». Как он объяснил, через два часа «Манкиз» должны быть в аэропорту. В итоге я попросил его высадить меня в Эшере, откуда я попытался доехать до Уэйбриджа автостопом. Но когда стало ясно, что никто в «биржевом поясе» не собирается тормознуть ради длинноволосого юнца в цветастой рубашке, я с радостью взял такси.
И только тут меня озарила страшная догадка, подтвердившаяся быстрым обследованием карманов, что предыдущим вечером я уехал с Джоном без ключей и денег вообще. Раздраженному этим водителю такси пришлось довольствоваться обещанием уплаты в будущем (и закладом моих дорогих часов) и высадить меня в Кенвуде, где передо мной предстали устрашающие изгороди из колючей проволоки, замки и сигнализация. Вдобавок, Синтии дома не оказалось. В конце концов я все же умудрился перепрыгнуть «на ту сторону» и взобраться на второй этаж к окну, которое оказалось приоткрытым. Дергаясь и извиваясь, я уже пролезал внутрь, как вдруг услышал шум подъехавшей машины Джона.
«Эй, Пит! Какого черта ты там делаешь? — крикнул Джон, покатываясь от созерцания моих ног, торчавших из его окна. — Ты пропустил самую интересную часть вечеринки!»
Однако, в 1966 году даже вечеринки становлись все более редкими, ибо Джон все более и более превращался в отшельника. Начальное трепетное волнение от славы осталось далеко позади, а сверкающая поп-сцена постепенно перестала его занимать. При всем этом, Джон продолжал оставаться страстным искателем новых направлений и новых воплощений. Саркастические строки о «человеке из ниоткуда, сидящем в своей ниоткудашней земле» фактически были адресованы не кому иному, как ему самому.
Глава двенадцатая: Любитель однодневных путешествий (Day Tripper)
По мере того, как Джон все глубже прятался под своим панцирем, казалось, что мои визиты становятся для него все более важными. Как только наступал воскресный вечер, он неизменно пытался уговорить меня не уезжать, и приходилось напоминать, что наш супермаркет едва ли останется жизнеспособным деловым предприятием, если директор не откроет его утром в понедельник. Впрочем, иногда я все же устраивал дела в Хэйлинге так, что мог проводить с Джоном и будние дни. Наверное, в 1966-67 гг. я виделся с ним чаще, чем кто-либо, за исключением членов семьи, хотя он с ними почти не контактировал, и, конечно, остальных Битлов.
В личной жизни в Кенвуде, Джон всячески старался избегать даже видимости однообразия и рутины. Если он был вдохновлен, утомлен или голоден, он предпочитал, естественно, работать, спать или есть. А если рядом оказывался я, он зачастую стремился провести всю ночь за разговорами и играми — и в подобных случаях редко появлялся из спальни раньше двух часов следующего дня. Как можно заключить из песен «I'm So Tired» («Я так устал») и «I'm Only Sleeping» («Я всего лишь сплю»), единственным занятием, которое Джон ненавидел больше, чем лечь в постель, было вылезти из нее на другой день. Поэтому он иногда вообще не ложился спать, а ночью долго не «отключался» после того, как прекращали работу обе британские телестанции. Но, по крайней мере, в одном Джон был предсказуем: всякий раз, когда он все же решался пойти спать, он неизменно тянулся за коробочкой, в которой хранился его запас гашиша. «Ну, Пит, пора спать», — говорил он, скручивая себе свой дорогой «ночной колпак».
Точно так же Джон мог начать требовать обед ночью, — словно это было самое обычное для этого время, — пока Син или Дот не ставили перед ним еду. Он по-прежнему считал процесс приема пищи всего-навсего жизненно необходимым процессом, с которым нужно разделываться возможно более быстро и бесцеремонно. Его вкусовые предпочтения отдавались таким основным английским продуктам питания, как яйца, бифштексы, бекон, жареный картофель и хлеб с маслом, наряду с большим количеством экзотических американских утренних сериалов: глазированные хлопья («глазики») и sugar pops. Не удивительно, что к концу 1965 года на прежде стройной фигуре Джона начало проглядывать заметное брюшко.
Как-то днем мне довелось принять важный телефонный звонок от Дэвида Фроста с телевидения в тот момент, когда Джон принимал душ. С этой новостью я и ворвался к нему в ванную. Затрудняюсь сказать, кто из нас был больше испуган и удивлен: Джон, который при внезапном вторжении отпрыгнул за километр, или я, который не видел его некоторое время голым.
«Это что еще за чертовщина у тебя там отвисает?» — спросил я.
«Да, он становится жутким, это верно, — согласился Джон. — Надо с ним что-то сделать, не то я стану настоящим Жирненьким Баобабиком!»
Второй причиной толстения Джона явилось то, что его единственным физическим упражнением был бег до спасительного лимузина во время турне БИТЛЗ. В Кенвуде же, где он лишь изредка удосуживался прогуляться по саду, его энергозатраты обычно не превышали усилий на то, чтобы переключить каналы своего телевизора.
Если бы между 1966-67 годами его полностью предоставили себе, он, наверное, месяцами сидел бы на своем канапе, смотрел телевизор, слушал диски и читал книги, журналы, и главное — газеты. Он подписывался на все крупные британские газеты и по воскресеньям их хватало на то, чтобы занять его внимание на весь день. В отличие от большинства людей, Джон не ограничивался какими-то отдельными статьями или определенными наиболее интересными разделами. Он в буквальном смысле прочитывал все воскресные газеты от первой страницы до последней.
Другим его любимым занятием в Кенвуде были боурд-игры. Многие ночи мы с Джоном провели за марафонами по «Монополии» и игре по всеобщему захвату под названием «Риск». Они доставляли ему такое удовольствие, что он послал в крупнейший игрушечный магазин заказ на все подобные игры, имевшиеся у них, чтобы занять нас хотя бы на один месяц.
Джон увлекся также игрушечными гоночными машинами модели «Схейлэкстрик» и купил их целых 20 наборов. «Если собираешься чем-то заняться, — заметил он, — лучше к этому подготовиться основательно.» Две большие чердачные комнаты были реконструированы с тем расчетом, чтобы вместить самые фантастические из виденных мной наборы гоночных машин, дополненные мостами и холмами, импровизированно созданными с помощью различных предметов, помещенных под сотни соединенных звеньев горы. Для большего эффекта Джон даже установил там динамики, издававшие правдоподобные звуковые эффекты сумасшедшей автогонки. Однако, уже через несколько недель он полностью потерял к ним всякий интерес и больше никогда на них не смотрел.
В конце концов, эти экстравагантности вызвали большое недовольство битловских счетоводов, намекавших, что при такой скорости трат у Джона может ничего не остаться на тот день, когда пресловутый «мыльный пузырь», наконец, лопнет.
«А это мои деньги, — огрызнулся он, — и я буду покупать, тратить и делать с ними все, что мне вздумается.»
Но, по-моему, сами счетоводы обходились с его деньгами с не меньшей бесцеремонностью. В конце 1964 года, вскоре после того, как он купил свой первый подержаный «Роллс», я съездил вместе с ним по делам в офис его бухгалтеров и с восхищением посмотрел на три превосходных новеньких «Роллс-Ройса», припаркованных рядом на улице.
«Ох…е штуки, правда, Джон?»
«Ага, — сказал он. — Это наших счетоводов.»
«Ты хочешь сказать, что эти три «Роллса» принадлежат тем самым счетоводам, которые говорят, что ты можешь купить себе только подержаный? Но ведь эти деньги получаешь ты. По всей справедливости они должны иметь подержаные «Роллсы», а у тебя должно быть три новых. Ты пойми, что они работают на тебя, а не наоборот!»
«Да, черт, это и вправду немного странно, — согласился он. — Я никогда раньше не смотрел на это с такой стороны.»
Вскоре после этого один из доверенных финансовых консультантов БИТЛЗ уговорил их создать на Багамских островах убежище от налогов. На это мероприятие Брайан Эпстайн соответствующим образом вручил ему более 750.000 фунтов. По словам Джона, с тех пор никто не видел ни тех денег, ни того консультанта. Уже тогда было совершенно ясно, что Брайан, несмотря на всю свою преданность БИТЛЗ, был не слишком проницательным бизнесменом. А что касается Джона, то он вообще был самым бездарным из встречавшихся мне по части контроля за финансами.
Но как бы то ни было, все эти дорогие игрушки и развлечения не могли залечить скуки и неугомонности Человека Из Ниоткуда. Для того, чтобы бороться со скукой, Джон даже попробовал подбить меня помочь ему совершить великое ограбление. «Думаю, я вполне могу стащить Бриллиантовую Корону, — сказал он. — Ведь БИТЛЗ могут пройти куда угодно. А меня не заподозрит никто.»
«Но главное тут не в том, чтобы войти туда, — возразил я, — а в том, чтобы выйти оттуда.»
«Все равно. Мне чертовски хочется это сделать, — упорствовал он. — Я просто балдею от мысли, что нам может сойти с рук кража чего-то грандиозного.»
«Ну что ж, давай, раз тебе так хочется, — рассмеялся я. — А я потом буду навещать тебя в тюрьме.»
В ретроспективе подобные эпизоды не кажутся удивительными. Всегда экстравагантный для стандартных мерок, Джон в возрасте 25 лет достиг всего того, за что большинство борется всю свою жизнь. И, как и другие молодые миллионеры британской поп-сцены, в том числе и Джордж Харрисон, которого из-за его всепоглощающего интереса к индийской музыке и религии тоже сочли немного «чокнутым», Джон ощущал потребность найти для себя новые цели, чтобы не свихнуться окончательно. «Чем больше у меня есть, чем больше я вижу и чем больше испытываю ощущений, — признался он как-то ночью, — тем меньше я понимаю, кто я есть и какого черта ради живу.»
Поначалу Джон очень живо заинтересовался национальными и мировыми проблемами, особенно — расовой дискриминацией и войной во Вьетнаме — незачем говорить, что и то, и другое он страстно осуждал! — и выражал глубокую тревогу за всех обездоленных и отринутых обществом. Несмотря на его знаменитые имитации калек и уродов, как я узнал однажды вечером, когда Би-Би-Си транслировала программу о детях, Джон испытывал к калекам глубокое сострадание.
«До чего же это должно быть страшно, — заметил Джон, — когда ты не можешь контактировать с остальным миром и все вокруг относятся к тебе, как к слабоумному, хотя ты и знаешь, что ты не глупее их.» Он тут же дал своим счетоводам распоряжение перечислить в один из фондов пожертвование в 1.000 фунтов стерлингов.
Стремясь расширить кругозор и придать своему существованию смысл, Джон начал перепахивать трактаты по психологии и религии. Он изучал работы Фрейда, Джанга, Вильгельма Райха и ряда других менее известных авторов, включая и того, чье волшебное всеизлечение требовало просверливания дырки во лбу пациента. Эта теория настолько заинтриговала Джона, что он даже захотел предложить для такого необычного лечения себя самого.
«Но с дырками в голове ты никуда не сможешь пойти», — запротестовал я.
«Ну и х… с ним. Если это получится, я пойду на это», — отрезал он.
Джон также окунулся в чтение Библии и, по наущению Джорджа, таких восточных религиозных текстов, как «Бхагават Гита» и «Тибетская книга мертвых». Однажды ночью он даже заперся в туалете и попросил Бога явиться ему. «Я встал на колени, как м…к, — поведал он позднее, — и заорал: «Бог, Иисус или х… знает, кто ты там еще… и где ты там…, пожалуйста, хотя бы разок скажи мне просто, какого черта я должен делать в этой жизни?»
Нечто вроде ответа на этот вопрос появилось в неожиданной форме — кусочков сахара, которые дантист Джорджа, как-то вечером развлекавший Леннонов и Харрисонов в своей квартире в высотном доме, подбросил им в кофе. Когда они вскоре после обеда собрались уходить, он поставил их в известность о том, что добавил в их напитки нечто под названием ЛСД.
Джона, Син, Джорджа и Пэтти эта маленькая шалость нисколько не порадовала и, не обращая внимания на его предостережения, они без промедления ушли. Далее, вместе с дантистом, последовавшим за ними, они отправились в клуб «Эд Либ», где Пэтти первой начала ощущать таинственный эффект наркотика уже когда они ехали вверх на лифте. Визжа от ужаса, она кричала, что лифт горит. На этой тревожной ноте и отправились двое Битлов и их жены в свое первое наркотическое путешествие.
Когда они, наконец, покинули клуб, Джордж, который вел машину, обнаружил, что он не в состоянии оценить, на какой скорости они едут: три километра в час или триста. Тем не менее, он каким-то образом умудрился провести свою «Мини» по лондонским магистралям, мимо знакомых зданий, которые казались плавящимися, горящими или как-то иначе неузнаваемо преображенными, до самого Эшера. Там Джон, уверенный, что бунгало Джорджа — это огромная субмарина, и он — ее капитан, всю ночь не сомкнул глаз.
На следующее утро Джон и Син согласились в том, что они словно только что вернулись из Алисиного Зазеркалья. Но если Син сочла испытанные ощущения самым жутким кошмаром во всей своей жизни, то Джон не мог дождаться следующей возможности повторить ЭТО.
Так началось его трехлетнее увлечение ЛСД. Он воспринял «кислотку», как некий Божий дар, волшебный ключик к неведомым областям собственного сознания и потенциальное лекарство от многих своих личных психологических проблем. ЛСД дал ему почти осязаемую форму восприятия мира, как сюрреалистического карнавала, и возможность в любое время и безо всяких усилий, не вставая со своего кресла, созерцать образы мистических видений и даже общаться с Богом. К весне 1966 года, когда БИТЛЗ начали работать над «Револьвером», и Джон, и Джордж глотали этот наркотик почти ежедневно. Они в буквальном смысле ели его, как конфеты.
Несмотря на все стремления Джона познакомить меня с «прекрасным новым миром», я, как и Пол МакКартни, отклонял его настойчивые предложения почти год. Мои личные духовные устремления все еще заметно отставали от его, а перспектива бесконтрольного галлюцинирования попросту пугала меня.
Но, как всегда, наши отношения не портились моим желанием оставаться «праведным» в то время, когда Джон достигал границ своей психики, хотя, конечно, я не мог представить, что именно он испытывал, до тех пор, пока сам не попробовал бы это магическое химическое соединение. С другой стороны, позиция Джона меня нисколько не удивляла, ибо он сразу ухватывался за все необычное. А помимо всего прочего, Джон обладал удивительной выносливостью ко всевозможным стимуляторам и крепким напиткам.
Но, как бы то ни было, в те дни влияние ЛСД на Джона в определенном смысле было благотворным. Этот наркотик вернул ему жизнерадостность, энтузиазм и вдохновение на создание самых лучших песен. Он также помог сгладить острые края его характера и в конечном итоге, излечил его от высокомерия и паранойи. Джон распахнул ворота Кенвуда и разрешил фанам бродить по саду, а иногда даже звал их на чашку чая. У него стало привычкой, во всяком случае, на некоторое время, вставать с восходом солнца. Он также отрекся от мяса и алкоголя, а новая строго вегетарианская диета быстро ликвидировала его брюшко. Мне помнится, что он даже занялся тщательным изучением Нового Завета в поиске упоминаний о вкусовых предпочтениях Христа, безуспешно пытаясь убедиться в том, что Иисус был вегетарианцем. Заставая меня за поглощением бифштексов и гамбургеров, которые он некогда считал очень вкусными, он терзал меня безжалостным взглядом и говорил: «А ты не задумываешься, что съедаешь сейчас чью-нибудь маму?»
Но я, как ни старался, так и не смог перейти на «соевые бюргеры» и «немясные сосиски», которыми Джон теперь до отказа забил свой холодильник. Однако я, в конце концов, все же дал ему и Терри Дорану уговорить меня составить им компанию в «трипе на ЛСД» во время празднования 4-летия Джулиана.
С этого дня мы с Джоном «путешествовали» довольно часто. В течение своей «жаворонковой» фазы, он практически каждое утро появлялся в моей спальне с подносом для завтрака, где непременно была чашка чая и таблетка «кислотки».
Конечно же, Ринго и Пол к тому времени тоже «сдались», и тем самым дали начало метаморфозам: из «Потрясной Четверки» они превратились в «Оркестр Сержанта Перца».
Однажды в субботу вечером, приехав в Кенвуд, я застал Джона и Тэрри за пульверизаторной раскраской фасадной стороны дома в психоделические люминисцентные цвета. Не удовлетворившись итогом дня, проведенного в брожении по Кенвуду и перекрестном обстреле одиноких предметов садовой мебели и скульптур из чудных новых аэрозольных баллончиков для рисования, они решили аналогичным образом разделаться и с самим особняком.
Едва Джон успел мне об этом рассказать, как недовольная Синтия высунула голову в окно спальни и, чихая и кашляя, крикнула: «Что в доме такое творится? Тут везде дым!»
«А, кстати, Пит, — сказал Джон, — давай-ка зайдем туда. Там наверху сидит один грек, с которым я очень хочу тебя познакомить. Это волшебник. Его зовут Алекс.»
Бросив аляповато-красные, желтые, пурпурные и зеленые краски, Джон затащил меня в редко посещаемый рабочий кабинет, где мы увидели худощавого и изрядно обросшего парня, сидевшего на полу и внимательно изучавшего какие-то схемы. «Он изобретает летающее блюдце», — пояснил Джон.
Встав для приветствия, Алекс удостоил меня пронизывающего взгляда. «Это Пит Шоттон, мой старый приятель из Ливерпуля», — сказал Джон.
«О-о-очень славный м-м-малый», — произнес «изобретатель» и его взгляд переплавился в ангельскую улыбку. Алекс прекрасно говорил по-английски, но страдал сильным заиканием, которое постепенно исчезало по мере того, как новое лицо завоевывало его доверие.
По-настоящему его звали Алексис Мардас, но Джон всегда упоминал его как «Волшебного Алекса». Алекса, утверждавшего, что он — сын одного из важных членов правого военного правительства страны, и Джона познакомил их общий друг — владелец картинной галереи «Индика» Джон Данбар.
Не знаю, действительно ли он обладал своими хвалеными учеными степенями нескольких престижных университетов Европы, но он мог похвастаться впечатляющими способностями в электронике. Кроме того, он обладал удивительным обаянием и способностью убеждать, и быстро завоевал место в узком кругу близких друзей БИТЛЗ. Что касается Джона, то он думал об Алексе Бог знает что, и ничего не соображая в электронике, всерьез считал его могучим волшебником.
Однажды ночью, через несколько недель после нашего с Алексом знакомства, мы с Джоном о чем-то болтали, когда он вдруг вспомнил, что на следующий день у этого грека должен быть день рождения. Джон редко переживал по такому поводу, но его уважение к Алексу было настолько огромным, что на сей раз день рождения стал исключением из правила.
«Ах, ё… твою мать! — воскликнул он, — завтра же приезжает Волшебный Алекс, а я еще не приготовил ему никакого подарка! Что бы ему такое подарить, а, Пит?»
«Не знаю, — сказал я. — А что ему нравится?»
«Ага… — произнес Джон после секундного раздумья. — Ему очень нравится мой «Айсо Гриффо». Джон имел в виду восхитительную итальянскую спортивную машину, за которую совсем недавно на автомобильной выставке в Эрле заплатил кучу денег. В то время он, фактически, был единственным владельцем «Айсо Гриффо» в Великобритании. «Давай тогда подарим ему этот ё…й «Айсо»!» — воскликнул он.
Джон без промедлений разыскал несколько мотков атласной ленты и подозвал меня к машине. Мы со всех сторон украсили ее лентами, а на крышу водрузили огромный бант. «Вот тебе подарок на день рожденья», — между прочим сказал Джон Алексу, приехавшему на следующее утро. Ясное дело, «именинник» был достаточно впечатлен.
Волшебный Алекс в свою очередь подарил Джону множество оригинальных новинок, вроде «Ящика из ниоткуда», на который Джон мог смотреть часами, пытаясь предсказать, какая из мигающих красных лампочек загорится в следующую секунду. Помимо этого Алекс соорудил в Кенвуде первую из слышанных мной квадрофоническую систему. Он также заверял Битла-миллионера, что все остальные «технические безделушки», вроде локального силового поля, антигравитационных машин и летающих блюдец появятся сразу, как только он получит финансовую поддержку, необходимую для их воплощения в жизнь.
Глава тринадцатая: Это всего лишь северная песня (It's Only A Nothern Song)
Несмотря на затворнический образ жизни, Джон никогда не выносил полного одиночества, даже если сочинял свои песни. Немалая часть времени, проведенного мной в Кенвуде, была посвящена праздному чтению или сидению у телеэкрана в нескольких шагах от Джона, бренчавшего на пианино или царапавшего стихи на клочке бумаги.
Когда же стихотворение или мелодия начинали обретать определенную форму, я становился своеобразным резонатором, вплоть до того, что иногда подбрасывал отдельные строчки или фразы в тех местах, где он застревал. Таким образом, в конечном итоге, я оказался слегка причастным к нескольким песням Джона, начиная с тех, которые он написал для альбома «Help!». И когда БИТЛЗ все-таки использовали мои крохотные «вклады», я испытывал трепетный восторг, но, конечно же, не приписывал себе никаких особых заслуг. Я всегда воспринимал свое участие в сочинительстве Джона, как нечто вроде игры с другом в головоломку. Один помогал другому просто потому, что он был рядом. Но эти песни все равно были бы завершены и без моего участия, просто тогда рядом оказался я.
Точно так же и Мэл Эванс, и Нейл Эспинол, и остальные Битлы — Джордж, Ринго и, конечно, Пол — порой вносили в композиции Джона свои предложения, если рядом оказывались они.
И хотя Джон, несомненно, оказывал такие же услуги Полу, строка авторства «Леннон-МакКартни», которая продолжала украшать все их творения, была всего лишь «манифестацией» неуверенности Джона и еще одним проявлением его странной боязни «остаться одному». Вместе с тем, присутствие Пола немало способствовало предохранению Джона от ухода в самоамбициозность и непонятность, равно как и влияние Джона сдерживало сентиментальные и банальные аспекты творчества МакКартни. И, по крайней мере, поэтому «Леннон и МакКартни» смогли создать именно то, что было бы не под силу Джону и Полу поодиночке.
В Кенвуде Джон обычно сочинял только в том случае, если у него было вдохновение, за исключением, конечно, тех дней, когда БИТЛЗ предстояло собираться в студии для записи нового альбома. В таких случаях он на одну-две недели безжалостно приковывал себя к буквально непрерывному сочинительству. В такие дни его усилия нередко наталкивались на труднопреодолимый «сочинительский комплекс». «Больше всего меня пугает то, что во мне, быть может, уже не осталось песен, что я никогда больше не смогу написать что-то новое», — признался он мне в один из таких периодов. Но, к счастью, рано или поздно, муза все же возвращалась к нему.
Мое «сотрудничество» с Джоном в сочинительстве началось в то время, когда он только начал отрекаться от визитных сантиментов ранних хитов БИТЛЗ. В этом отношении на него сильно повлияли стихи Боба Дилана. До того, как он услышал Дилана, Джон и не задумывался о том, что слова поп-песни могут или должны означать больше, чем просто бессмысленная халтура, и он вполне удовлетворялся тем, что направлял свои литературные таланты в маленькие книжки. Успех Дилана стал для Джона настоящим вдохновением и он вдруг понял, что ничто не мешает ему выражать свои поэтические и даже политические идеи в рамках музыки БИТЛЗ.
Отправной точкой для песен, написанных им в Уэйбридже, обычно служило то, что он увидел или услышал — телереклама, старая афиша, газетный заголовок или даже, как в случае с «Lucy In The Sky With Diamonds», рисунок его сына Джулиана. Слова почти всегда предшествовали музыке, которая в свою очередь чаще сочинялась на фортепиано, чем на гитаре. Написав стихотворение, Джон ставил его на пюпитр пианино в маленькой утренней комнатке и начинал перебирать пальцами клавиши в поиске подходящей мелодии. Но, в отличие от Пола МакКартни, он никогда не утруждал себя попытками научиться хорошо играть на нем. Для создания своих мелодий ему, как и Ирвину Берлину, вполне хватало одного пальца.
По мере того, как творческий стиль Джона становился все более личным, его песни становились уже главами творящейся музыкальной биографии. «Помоги!» и «Человек из Ниоткуда», написанные в 1965 году поведали о смятении и неуверенности, охватившими его в то время, а вещи, скажем, с «Револьвера» 1966 года отражали его таинственные эксперименты и опыты с наркотиками.
Пусть в основном неосознанно, но Джон очень хотел превратить каждую композицию БИТЛЗ в озорную игру слов, целью которых было «протащить» как можно больше ассоциаций с сексом, наркотиками и другими темами из области табу. Например, в «Day Tripper» («Любительница однодневных путешествий») было не только его первое преднамеренное упоминание об ЛСД, но и строчка «she's a prick teaser, she took me half the way there» («…она задирает «палки», она впустила меня туда наполовину»), которая не помешала радиостанциям всего мира передавать ее каждые десять минут. Как с сожалением понял Джон, «Потрясной Четверке» все может сойти с рук.
Первой битловской песней, сочиненной в моем присутствии, была «You've Got To Hide Your Love Away», мой вклад в которую заключался в «Хэй», начинавшем припев. Поначалу, в этой вещи в духе Дилана была строка «I can't go on feeling two foot tall» (я стану беспомощным и маленьким; буквально: «я ничего не смогу поделать, чувствуя себя, как коротышка в два фута»). Но исполняя эту песню в первый раз для Пола МакКартни, он по ошибке спел «two foot small» («на два фута униженнее»; выражение «to feel small» означает «чувствовать себя униженным», т. е. буквально: «я ничего не могу поделать, чувствуя себя униженным на два фута»). Он остановился, чтобы поправиться и вдруг расхохотался. «А давайте так и оставим, — воскликнул он. — Этим псевдам такое чертовски понравится.»
Иногда Джон умышленно писал загадками, пряча за ними какой-то грешок. Так, например, «Norwegian Wood» («Норвежское дерево» (как материал); «Норвежский лес») была хроникой его любовной связи с одной опытной журналисткой. В то же самое стихотворение он умудрился вставить (по привычке) далекую ассоциацию с днями бедности в художественной школе, когда они со Стюартом топили камин мебелью. К тому времени Джон взял в привычку соединять между собой слова, фразы, темы и идеи, которые прежде никем еще не соединялись. Песни Джона, как и «Алиса в Стране Чудес», или, в данном случае, «трип на кислотке», подчинялись какой-то своей необычной логике сновидений и мечты.
И «Человек из Ниоткуда» и «Норвежское Дерево» были написаны для «Rubber Soul», альбома 1965 года, который был воспринят всеми, как первое большое артистическое достижение БИТЛЗ. Еще одна вершина «Rubber Soul», песня «In My Life» («В моей жизни»), была задумана, как ностальгическое воспоминание о ливерпульской юности и стала первой сознательной попыткой Джона сочинить какое-нибудь искреннее личное заявление. Но, к сожалению, он не смог до конца сохранить первоначальное вдохновение, и вторая половина песни сошла на уровень стандартных романтических клише.
Однако в песнях, написанных им для «Револьвера», от клише уже почти ничего не осталось; в них Джон впервые применил необычный синтез бескомпромиссного реализма и калейдоскопической фантазии. «I'm Only Sleeping» прекрасно отражает состояние химически вызываемой летаргии, в которую Джон теперь погружался, а «Tomorrow Never Knows» и «She Said She Said» построены на дословных цитатах соответственно из «Тибетской книги мертвых» и мрачного разговора с Питером Фонда, происшедшего, когда и тот, и другой были «в трипе на кислотке».
Песней «Dr. Robert» Джон отдал сардоническую дань уважения реальному доктору из Нью-Йорка, чье настоящее имя было Чарльз Робертс и чьи необычные рецепты снискали ему славу в окружении Энди Уорхола и самих БИТЛЗ, когда те бывали в этом городе. Когда Джон в первый раз проигрывал мне ацетатный оттиск «Доктора Роберта», он был вне себя от ликования, представляя, как миллионы покупателей с невинным видом будут подпевать этой песне.
Точно такое же удовольствие доставила Джону и моя неспособность определить, кто из БИТЛЗ поет в «Yellow Submarine». Конечно же, «Револьвер» стал альбомом, в котором их музыка изменилась до неузнаваемости и включала уже гобои и струнные октеты, водевильные рояльчики и джазовые ансамбли, ситар и табла и, как похвастался одному журналисту Пол МакКартни, «звуки, которых прежде никто еще не создавал». Возможно, Пол (вместе с неустанным и услужливым продюсером Джорджем Мартином) и заслуживает похвал за введение элементов классики, равно как и Джордж — за свои экскурсы в «рага-рок». Однако звуки, которых прежде НИКТО еще не слышал — пленочные петли, обратные воспроизведения записей и причудливые звуковые эффекты — почти всецело были делом рук Джона.
Многие из них впервые были созданы в Кенвуде, где было задумано и оформление обложки «Револьвера», которая, как и сама пластинка, представляла собой сюрреалистический монтаж. Как-то мы с Джоном и Полом посвятили вечер просмотру огромной кипы газет и журналов в поисках фотографий БИТЛЗ, из которых вырезали лица и склеили их все вместе. Позднее наша аппликация была наложена на рисунок Клауса Формана, их старого приятеля из Гамбурга.
Как ни странно, но песней из «Револьвера», в создании которой я принял самое непосредственное участие и о которой лучше всего помню, была «Элеонора Ригби» Пола. И хоть Джон, чья память могла быть крайне рассеянной, в одном из своих последних интервью приписал себе в заслугу почти весь ее текст, по моим личным воспоминаниям «Элеонора Ригби» была классическим образцом «Леннона-МакКартни», вклад в который Джона практически равнялся нулю.
Правда, большая ее часть была написана в доме Джона во время одного из моих визитов на уик-энд. К обеду приехали трое других Битлов и их жены. После обеда все мы собрались у телевизора в любимой библиотеке Синтии, как и любая другая группа из 8-10 человек. А именно так — прозаично и обыденно — проводили чаще всего свои свободные вечера БИТЛЗ. Но как раз в этот вечер Джону, который весь день был не в духе, телевизор быстро надоел. «Хватит смотреть эту х…ню, — сказал он. — Пойдем наверх немного поиграем.»
Все ребята — Пол, Джордж, Ринго и я — последовали по лестнице за Джоном и собрались в комнатке, примыкавшей к его маленькой студии звукозаписи. Женщины, конечно, остались внизу у телевизора. Пол, как обычно, принес с собой гитару, которую расчехлил и начал на ней что-то наигрывать. «У меня тут есть одна маленькая мелодия, — сказал он, — она все время вертится у меня в голове, но я никак не могу «довести ее до ума»". После этих слов он спел первый куплет «Элеоноры Ригби». Мы все уселись вокруг и стали делать предложения и подбрасывать отдельные строчки или фразы — все, за исключением того самого Битла, который первым предложил сешн. Затем Пол перешел к куплету, где поется о духовном лице, которое он нарек «Отцом МакКартни». Ринго тут же предложил строчку об отце МакКартни, «штопающем по ночам носки», которая всем понравилась.
«Подожди-ка, Пол, — вмешался я. — Все подумают, что ты поешь про своего несчастного отца, покинутого в одиночестве в Ливерпуле и штопающего себе носки.»
«Ах, черт, — рассмеялся он, — об этом я не подумал. Лучше будет изменить фамилию. Как бы нам его обозвать?»
Поскольку всем понравилась идея «Отец Мак-Такой-то», было предложено несколько «Маков», но ничего подходящего не нашлось. Тут я заметил валявшийся поблизости телефонный справочник и сказал: «Давайте глянем фамилии на «Мак — " в абонементной книжке».
Больше всего нам пришлась по вкусу «МакВикар» (т. е. «МакВикарий»), но она не слишком хорошо вписалась в строчку, когда Пол пропел ее. Тогда я попросил его попробовать «Отец МакКензи» и эта замена всем показалась удачной.
После того, как мы смастерили еще несколько фраз, Пол вдруг сказал: «Вся беда в том, что я не представляю, как закончить эту песню.»
Весь захваченный творческим процессом, я выдал неожиданную блестящую идею. «А почему бы не кончить тем, что Элеонора Ригби умирает, а отец МакКензи отслуживает на ее похоронах — выпалил я. — Это, в конце концов, соединит двух одиноких людей — но слишком поздно.»
На мой взгляд, это было не такое уж плохое предложение, но тут Джон выдал свой первый комментарий за весь сешн: «По-моему, Пит, ты ничего в нашем деле не смыслишь.»
Этого замечания было достаточно, чтобы подрубить идею под корень. Срывать сочинительские сессии было совсем не в духе Джона, не говоря об оскорблении меня на глазах у Пола, Джорджа и Ринго, и я не нашел сказать ничего иного, как: «Пошел ты на х…, Джон!» Пол зачехлил свою гитару, и мы все вышли из комнаты. Даже после сигаретки с марихуаной, предложенной Джорджем, я не мог избавиться от обиды на необоснованный сарказм Джона. А может, мое «великое предложение» вовсе и не было таким уж великим…
Как бы то ни было, впрочем, этот инцидент быстро забылся и в следующий раз я услышал «Элеонору Ригби» уже по радио в моей машине. Это была фантастичная вещь; вместо акустической гитары здесь звучали струнные в духе Вивальди и, естественно, я был счастлив услышать все те мелочи и кусочки, которые придумал в тот вечер. Но более всего я прибалдел, увидев, что Пол в конце концов прекрасно использовал мое первоначальное предложение о конце этой песни. Быть может, думал я, это Джон по какой-то причине не понял ничего в «нашем деле». А может быть, у него были свои заманчивые идеи, о которых он нам не рассказал.
Примерно пять лет спустя, уже после распада БИТЛЗ, я случайно столкнулся с Полом на одной из узеньких улочек возле Кинг-роуд. «Привет, Пит! — воскликнул он. — Сто лет тебя не видел! Ну, как там твои дела?» Он был в очень хорошем настроении и возбужденно рассказал мне о своем новом сольном альбоме «Ram». «Как забавно, что я тебя увидел, — добавил он затем. — Я вот как раз сейчас пытался вспомнить, в какой песне ты мне так здорово помог.» Я назвал несколько вещей, все это были песни Джона, в которых я принял маленькое участие. «Нет, нет, — качал головой Пол, — была одна, в которой ты действительно очень помог мне.» Через пару минут после того, как мы расстались, я понял, что это, конечно, была «Элеонора Ригби».
Такие песни, как «Норвежское дерево» и «Элеонора Ригби» провозгласили Джона и Пола не только выразителями своего поколения, но и как бы лауреатами его поэзии. Хотя Джону льстило и доставляло удовольствие, если его работу принимали всерьез, он зачастую обнаруживал, что трактовка его стихов критиками не достойна даже самой низкой оценки. Больше всего он раздражался, когда видел, что его собственные песни подвергают такому же тяжеловесному анализу, каким учителя разрушали наш интерес, скажем, к Шекспиру или Китсу.
Однажды днем, забавляясь «веселыми нырками» в ежедневный мешок фэновской писанины, Джон, к нашему обоюдному удивлению, вытащил письмо от какого-то школьника из Куари Бэнк. После стандартных выражений своего восхищения и обожания, этот парень сообщил, что его учитель литературы проигрывает на уроках песни БИТЛЗ. Выслушав попытки ребят проанализировать их стихи, он сообщал им свою собственную трактовку того, что на самом деле хотели сказать БИТЛЗ. Конечно же, это было то самое учебное заведение, директор которого охарактеризовал будущее Джона словами: «Этот парень обречен на неудачу».
Мы с Джоном долго смеялись над абсурдностью всего этого. «Слушай, Пит, — сказал вдруг Джон, — а что это была за песенка про глаз дохлой собаки, которую мы пели в Куари Бэнк?» Я на секунду задумался, и выпалил:
«Точно! — воскликнул Джон. — Фантастика!» — он отыскал ручку и принялся писать: «сладкий крем из желтков течет из глаза дохлой собаки…» Так и появилась на свет «I'm The Walrus» («Я — Морж»). Строки о самом Морже возникли позже, буквально перейдя в песню со страниц «Зазеркалья» Льюиса Кэрролла.
Вдохновленный картиной того, как куарибэнковский учитель литературы будет с важным видом разглагольствовать о символизме в творчестве Леннона и МакКартни, Джон выдавал самые нелепые образы, какие только мог создать. Он подумал о «манке», безвкусном пудинге, который мы ели в детстве, и «сардине», рыбе, которой мы часто кормили своих котов. «Манная сардина лезет на Эйфелеву башню…» — нараспев читал Джон и с явным удовольствием записывал все это на листке.
Он обернулся ко мне с улыбкой: «Ну что, Пит, пусть эти ё…ри попробуют разобрать ЭТУ!»
Глава четырнадцатая: Спасай свою жизнь (Run For Your Life)
Все Битлы, за исключением, может быть, Пола МакКартни, уже давно воспринимали турне, как некую мучительную пытку. Былой веселый блицкриг превратился в заколдованный круг из аэропортов и трансконтинентальных полетов, бессмысленных пресс-конференций и роскошных апартаментов отелей, где они пребывали в заточении, скрываясь от безумных толп, не говоря уж об огромных спортивных аренах, на которых БИТЛЗ даже не слышали своей музыки из-за визжащих фанов. Последнее больше всего раздражало Джона: в то время, когда он только начал пытаться сказать что-то в своих песнях, никто из слушателей и не думал обращать внимания на его слова.
Недовольство БИТЛЗ еще более возрастало по мере того, как в их записях стали звучать струнные, ситар и всевозможные электронные звуки. О том, чтобы воссоздать и повторить на сцене при помощи барабанов и трех гитар звучание хотя бы одной вещи с «Револьвера» не могло быть и речи. Да БИТЛЗ и не пытались это сделать. Отправляясь в турне, последовавшее за выходом в свет альбома, они были вынуждены исполнять почти исключительно старые избитые вещи, и то на самом низком уровне. Ринго постоянно стучал поперек ритма, а Джон, чья память по части песенных текстов всегда была слабой, попросту пел все, что приходило в голову.
Даже «сатириконоподобные» оргии стали казаться скучной рутиной — в то время, как наркотики, с помощью которых БИТЛЗ пытались выйти за пределы окружавшего их замкнутого пространства, гораздо удобнее было принимать в располагающей обстановке их собственных домов.
Вдобавок ко всему, кругосветное турне 1966 года оказалось настолько нервным и напряженным, что во время него Джон не на шутку перепугался за свою жизнь. Днем 5 июля, отыграв концерт для 100-тысячной аудитории в манильском «Аранита Колизеум» (Филиппины), они, ничего не подозревая, включили телевизор и вдруг узнали, что жена президента Маркоса провела прошедший час в тщетном ожидании БИТЛЗ на обед, устроенный в их честь. «Мы все переглянулись, — поведал мне потом Джон, — и в один голос сказали: «Что это еще за чертовщина! Нас где-то там ждут, а мы об этом ни х…я не знаем!»
Однако, вся страна расценила это оскорбительно-пренебрежительное отношение к «первой семье нации» как «надругательство над патриотизмом». По дороге в аэропорт старая полуразвалившаяся машина, которую Мэл и Нейл с трудом умудрились завести, после того, как в знак протеста их лимузины «конфисковали», была атакована визжащими толпами, жаждущими разорвать Битлов на куски. Но на сей раз мотивом была не безумная любовь, а безумная ненависть. Полиция и работники аэропорта и таможни не утруждали себя наведением порядка, напротив, они предпочитали «случайно» ударить Битлов прикладами своих винтовок и задерживать их безо всяких оснований на несколько часов из-за ничтожных формальностей. Носильщики единодушно отказались помогать им, и Битлам и двум «дорожникам» пришлось самим перетаскивать весь багаж и оборудование до самолета, а джентльмены в белых рубашках тем временем осыпали их оскорблениями и всякой мелкой дрянью, попадавшейся под руку. Говорили также, что Брайану Эпстайну разрешили вылет только после того, как он возвратил часть заработанных на концерте денег.
«Это было невероятно жутко, — рассказывал мне Джон, — и напоминало те случаи, когда за нами гнались тэды и мы ни у кого не могли попросить защиты — только намного, гораздо страшнее. Буквально вся страна превратилась в одну чудовищно огромную толпу хулиганья.»
Вернувшись в Англию, БИТЛЗ устроили небольшую передышку перед предстоящей поездкой в Америку. И там их тоже ждала беда, на этот раз — как прямое следствие привычки Джона говорить все, что попало, не думая о последствиях.
Как он вспоминал, Брайан Эпстайн «…всегда просил нас увиливать от ответов, касающихся Вьетнама. Но пришло время, когда мы с Джорджем сказали ему: «Слушай, если нас еще раз об этом спросят, мы ответим, что нам эта война не нравится и мы считаем, что они должны убираться вон.» И именно так они и сделали. В те времена это было необычайно радикальным высказыванием, особенно для «Потрясной Четверки».
«Прежде мы придерживались политики умалчивания и не отвечали на «деликатные вопросы», хотя я лично всегда читал газеты, в том числе и политические. А постоянное осознание того, что творится в мире, делало мою молчанку постыдным делом. И я взорвался, потому что не мог больше играть в эту игру, это было выше моих сил.»
Однако фраза «мы теперь популярнее, чем Иисус Христос», конечно же, стала наиболее полемической.
«Я не знаю, что выйдет на первое место, — заявил Джон, — рок-н-ролл или христианство. Иисус был отличным парнем, но его апостолы были просто толстыми и недалекими. И то, что они исказили учение, разрушает его ценность.»
Эти провокационные замечания были вырваны из контекста большого глубокомысленного интервью, которое Джон дал Морин Клив из «Ивнинг Стэндард», журналистке, которой он доверял и которая ему очень нравилась — до такой степени, что он регулярно приглашал ее в Кенвуд.
«Я просто упрощенно пересказал то, что почерпнул из книги Хью Джей Шонфилда «The Passover Plot» («Пасхальный заговор»), — пояснил Джон позднее. — В ней рассказывается о том, насколько было искажено учение Христа его апостолами и подтасованы последовавшими за ними — для достижения корыстных целей — настолько, что на сегодняшний день оно значительно утратило свою ценность…
Я уверен, что то, что люди называют Богом, есть НЕЧТО в каждом из нас. Я считаю, что все, о чем говорили Иисус, Магомет, Будда и все остальные, правильно. Просто толкование этого стало ошибочным.
Иисус говорит что-то одно, а потом во всех этих клубах начинают давать этому свою трактовку и все искажается. Это вроде игры в «передай другому», когда стоят в ряд шесть человек и я шепчу соседу «люби ближнего» или «все должны быть равны». И когда моя фраза дойдет до последнего, она будет иметь уже другой смысл.»
Оригинальные высказывания Джона соответственно истолкованные на предгрозовых страницах американских газет, тут же побудили всех диск-жокеев Штатов не только вычеркнуть музыку БИТЛЗ из своих списков, но и присоединиться к организации церемониального сожжения пластинок и атрибутов БИТЛЗ, инспирированного духовенством фундаментального учения (ортодоксальная система христианских воззрений, отвергающая дарвинизм — прим. пер.). Наши «веселые нырки» в ежедневный мешок писем Джона стали вылавливать и письма с ненавистью и даже угрозами смерти от набожных христиан «Библейского пояса» Америки.
«В этом и таится опасность быть правдивым, — сказал Джон. — Ты пытаешься говорить правду, хотя иногда тебе все же приходится лгать, ибо вся эта штука фальшива и лжива сама по себе, как какая-то игра. Но порой тебе хочется верить, что если ты с кем-то будешь откровенен, то и они перестанут кривляться и тоже ответят тебе откровенностью. Однако за пределы игры никто не выходит и иногда я остаюсь голым праведником, в которого бросают камни. И это очень больно.»
В недоброй памяти «Иисусовское турне», БИТЛЗ отправились с немалым беспокойством и волнением. Публичное «извинение» на первой пресс-конференции в аэропорту — «Если бы я сказал, что телевидение стало популярнее, чем Иисус, мне бы это сошло с рук… Я ведь не говорил, что мы лучше или значительнее, чем он» — лишь незначительно ослабило напряженность обстановки.
«Я тогда постоянно был в страхе, — рассказал мне Джон. — Где бы мы ни играли, я все время ждал, что вот-вот должно произойти нечто ужасное. Я настолько сильно ощущал ненависть и угрозы, что не мог расслабиться ни на минуту.
Один совершенно жуткий случай произошел в Мемфисе. Я тогда пел на сцене и вдруг неожиданно услышал громкий хлопок, очень походивший на выстрел. Моей мгновенной реакцией было осмотреть себя и убедиться, не ранен ли я. «Ё…й ужас, — подумал я, — по крайней мере, меня не задели!» Затем я огляделся — все ли остальные невредимы. Оказалось, это была просто шутиха, но она страшно напугала меня.»
«Я никогда, НИКОГДА больше не поеду в турне, — поклялся он. — это было в последний раз. Я просто больше не могу!»
И Джон сдержал свое обещание. Хотя БИТЛЗ и не делали об этом официального заявления, но их концерт 29 августа 1966 года в парке «Кэндлстик» в Сан-Франциско стал последним. Джон чувствовал, что БИТЛЗ отплатили свой долг сполна и теперь имеют полное право на уединение.
Каждый член группы, за исключением Ринго, посвятил осень своим личным планам. Джордж отправился с новым наставником, Рави Шанкаром, в Индию, Пол сочинял киносценарий, а Джон, в свою очередь, смело принял приглашение Ричарда Лестера на роль рядового Грипвида в антивоенной кинокомедии «Как я выиграл войну», большая часть которой была снята в Испании.
Одним из требований роли для Джона, как ни странно, была необходимость носить очки «National Helth», которые он так ненавидел в юности. Он не только нашел их не такими уж плохими, но и с капризным удовольствием сделал из них свою «фирменную эмблему». «Если задуматься, то все очки предназначены для улучшения зрения, а эти, круглые, — как раз самые эффективные и удобные в пользовании», — сказал он.
Свободное время в Испании Джон посвятил созданию песен, которым отныне суждено было исполняться только за закрытыми дверьми студий «И-Эм-Ай» на Эбби-роуд. И когда в конце 1966 года БИТЛЗ наконец вновь собрались там, им ничего не оставалось, кроме как создать гениальнейшие творения, навсегда изменившие облик того, что некогда называлось «поп-музыкой».
Глава пятнадцатая: Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)
В студиях звукозаписи «И-Эм-Ай» на Эбби-роуд я впервые побывал в декабре 1966 года, вскоре после того, как БИТЛЗ начали работу над ожидавшимся с нетерпением следующим за «Револьвером» альбомом. Это произошло вечером не то в пятницу, не то в субботу, когда я по обыкновению прехал к Джону в Уэйбридж из Хэйлинга. Синтия сообщила мне, что ее супруг все еще «сидит» на Эбби-роуд с остальными Битлами и я, не раздумывая, решил поехать в Лондон и удивить его неожиданным визитом прямо в студии.
Несмотря на мою неосведомленность о схеме дорог столицы, прекрасное описание маршрута, полученное от Синтии, помогло мне без особого труда разыскать Эбби-роуд. Гораздо больше усилий пошло на убеждение секретаря «И-Эм-Ай» в том, что я действительно являюсь большим другом Джона, особенно если учесть, что в те дни политика БИТЛЗ сводилась к тому, чтобы отбить охоту у всяких прихлебателей, коллег и, главное, своих жен и подруг мешать их работе в студии. Но, в конце концов, Джон подтвердил по селектору, что меня действительно ждут и я влетел в святилище БИТЛЗ как раз в тот момент, когда они заканчивали какое-то наложение на запись для новой песни.
Вскочив с винтового стульчика для бурного приветствия, Джон сразу добавил: «Погоди чуть-чуть и послушай эту штуку, Пит!»
Признаться, поначалу мне больше хотелось просто поболтать с Джоном, но услышав первые же аккорды, я напряг свое внимание. По мере мысленного осознания образов, я постепенно понял, что Пол пел о Пенни-лэйн, пригородном автобусном кольце, с которым было связано столько наших воспоминаний о детстве! Проработав три памятных года в кафе «Старуха» на Пенни-лэйн, я с особенным чувством принял эту ностальгическую песню.
«Ну как, понравилось?» — спросил Джон, всем своим видом напоминавший кота, слопавшего канарейку.
«Это просто п…ц!» — воскликнул я.
Тем временем кто-то из Битлов изготовил огромную сигарету, начиненную табаком и гашишем, и мы все столпились за занимавшим стратегическое положение звукопоглощающим экраном «на несколько затяжек». На том этапе БИТЛЗ по-прежнему старались щадить восприимчивость чопорного Джорджа Мартина, колдовавшего со своими ассистирующими инженерами в кабинке, возвышавшейся над студией. По воле случая Ринго передал мне самокрутку в тот самый момент, когда неожиданно из-за экрана материализовался Джордж Мартин, собиравшийся обсудить с БИТЛЗ какие-то технические аспекты той записи. На свою беду, перед этим я зажег еще и обычную сигарету и в итоге оказался в критическом положении, держа в каждой руке по сигаретке.
«А, Джордж! — обрадовался Джон. — Это Пит Шоттон, мой старый приятель из Ливерпуля. Я уверен, что не раз говорил тебе о нем.»
«Ах, да, конечно, — сказал Джордж Мартин и дружелюбно протянул мне руку. — Здравствуй, Пит. Как дела?»
При таких обстоятельствах мне не оставалось ничего другого, кроме как сунуть самокрутку в рот и уже после этого пожать руку м-ра Мартина. Я сомневаюсь, что этот педагогичный продюсер догадался, что именно я курил, но его насмешливый взгляд несомненно говорил: «Ну и странный же это парень — курит сразу две сигареты!». Так вот я и познакомился с Джорджем Мартином.
Несмотря на анти-посетительскую политику, а даже Брайан Эпстайн появлялся на сессии звукозаписи только по важным, неотложным делам, Джон впоследствии десятки раз приглашал меня на Эбби-роуд. Если бы он этого не делал, мы вряд ли виделись бы так часто в те месяцы. По мере того, как их новые записи становились беспрецедентно сложными и претенциозными, БИТЛЗ буквально сутками не выходили из студии.
Следующей услышанной мной песней была «Strawberry Fields Forever», ода Джона тому самому готическому приюту, где мы проводили многие дни детства в Вултоне. Хоть она и была намного абстрактнее «Пенни-лэйн», которая в основном была заслугой Пола, ее воздействие на меня превзошло по силе все прежние песни БИТЛЗ и, возвращаясь домой, я думал лишь о том, насколько далеко вперед ушла «Потрясная Четверка» от «She Loves You» и «I Want To Hold Your Hand». Как и «Пенни-лэйн», «Земляничные поля», сочиненные Джоном в Испании, были задуманы как часть их нового альбома. Но когда стало ясно, что до конца весны диск завершить не удастся, БИТЛЗ решили заполнить брешь, выпустив «два воспоминания» о Ливерпуле в виде сингла.
Мои продолжающиеся визиты на Эбби-роуд позволили мне также намного ближе познакомиться с Нейлом Эспинолом и Мэлом Эвансом, двумя преданными дорожниками, что выглядело несколько архаично после полного ухода БИТЛЗ в студию. И тот, и другой продолжали выполнять роль мальчиков на побегушках, а порой — и козлов отпущения, стоически выдерживая накал страстей всякий раз, когда какие-то мелочи не получались. Добавлю к этому еще и то, что меня всегда восхищало, особенно — в дни концертных гастролей, то, что закулисная организация «самого популярного в мире развлечения» в значительной степени сводилась всего к двум людям: Мэлу и Нейлу.
Из этой пары — «Нэл», до встречи с БИТЛЗ работавший бухгалтером, был более «земным» и подчеркнуто интеллигентным. Спокойный, скромный и исполнительный, он, по-существу, выполнял роль личного ассистента БИТЛЗ. В процессе своей работы он неосознанно перенял столько личного манеризма и особенностей речи своих работодателей, что порой казался каким-то жутким воплощением всех четверых Битлов одновременно. Вместе с тем, Нейл всегда был самым «подтянутым» в битловском окружении. Он постоянно держал себя в отличной физической форме, почти всегда носил пиджак и галстук и уже начинал понемногу лысеть. По крайней мере, при мне он часто благоговейно относился к блистательным хозяевам, с которыми свела его судьба, словно не понимал, что ОН САМ был незаменимым винтиком во всей этой «машине».
Мэл, напротив, больше напоминал грубовато-добродушного английского чернорабочего, говорившего именно то, что он думал, даже если его мнение было диаметрально противоположным мнению хозяев. Так, например, во время одной из сессий звукозаписи, Мэл, устанавливая аппаратуру БИТЛЗ, услышал ненароком, как Джон вел вместе с нами оживленную дискуссию о студенческих демонстрациях, происходивших в последнее время по всей Америке и Европе. «Будь моя воля, — бесцеремонно вмешался Мэл, — я бы их всех к черту поставил к стенке!» На это БИТЛЗ, уже вошедшие в фазу «мира-любви-и-цветов», ответили свистом и шиканьем.
Помимо присмотра за аппаратурой и исполнением любых прихотей БИТЛЗ, Мэл и Нейл иногда играли также незначительную — и вместе с тем важную — роль в их творческом процессе. Так, Мэл не только придумал знаменитое название «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Перца», но и внес бесценное предложение о том, чтобы этот воображаемый ансамбль олицетворял собственные персоны Битлов, и чтобы весь альбом был построен в форме непрерывного выступления «группы» Сержанта Перца. Так был дан толчок к созданию диска и с того момента все, вовлеченные в дело, были охвачены таким вдохновением, какое редко бывало — если бывало — даже у БИТЛЗ.
Я был с Джоном и когда он сочинял многие из своих песен для «Сержанта Пеппера» за роялем в Кенвуде. Например, «Being For The Benefit Of Mr. Kite» была создана путем почти дословного цитирования фраз с подлинной викторианской карнавальной афиши, висевшей в студии Джона. Сочиняя ее, Джон щурился на афишу с другого конца комнаты и подбирал кусочки мелодии, подходящие для таких непривлекательных фраз, как «Мистеры Кэй и Эйч заверяют публику, что их номер никому не покажется второсортным». Мой годовалый сын Мэтью обеспечивал небывалое вдохновение тем, что постоянно дергал композитора за ноги.
Мне также довелось быть в Кенвуде в тот день, когда Джулиан принес из школы пастельный рисунок лица своей подружки-одноклассницы Люси на фоне разноцветных звезд. Необычайно впечатленный творением сына, Джон спросил, как этот рисунок называется. «Это Люси в небе с бриллиантами», — ответил Джулиан.
«Фантастика!» — воскликнул Джон и тут же вставил эту запоминающуюся фразу в свою новую песню.
Конечно же, когда эта запись вышла в свет, нашлись комментаторы, которые не только заметили, что первые буквы главных слов ее названия — «Lucy In The Sky With Diamonds» — это LSD; они еще и с понятным недоверием восприняли заверения Джона в том, что эта галлюциногенная фраза была придумана его пятилетним сыном. Хотя Джон тогда действительно постоянно глотал огромное количество «кислотки», такой каламбур был попросту обычным совпадением. Но это вовсе не значит, что он не получил удовольствия от последовавшего «разоблачения».
По общему мнению, наиболее грандиозным стал финал «Сержанта Пеппера» — песня «А Day In The Life» («Один день жизни»), составленная из двух песенных фрагментов, одного — Джона и второго — Пола, которые ни тот, ни другой не могли закончить врозь. И хотя я плохо помню, как Джон сочинял свои сегменты «Одного дня жизни», я никогда не забуду сессий, на которых БИТЛЗ выдавали этот шедевр звукозаписи с маленькой помощью своих друзей — симфонического оркестра.
В назначенный день в студию на Эбби-роуд длинной вереницей вошли 42 музыканта, чьи черные «бабочки» и строгие вечерние костюмы составляли разительный контраст с яркими вельветовыми брюками, цветастыми рубашками и недавно отросшими усами Битлов. Тем не менее, все эти джентльмены выразили горячее желание участвовать в такой необычной встрече различных культур и продемонстрировать БИТЛЗ все преимущества своего исполнительского мастерства.
Казалось, БИТЛЗ тоже хотят извлечь из такого случая все возможное — но не в атмосфере, которая могла бы не понравиться господам из оркестра. После того, как эти, в основном пожилые, гости заняли свои места и настроили инструменты, каждому из них вручили по картонной маске или еще какому-то атрибуту вечеринок и маскарадов. Дирижеру достался ярко-красный нос, а первой скрипке — огромная лапа гориллы, которой он обязан был держать свой смычок. Словно для полного разочарования музыкантов, если не сказать потрясения, Пол МакКартни попросил, чтобы они играли возможно более нестройно и хаотично. Этот момент был использован для космического крещендо «Одного дня жизни», причем, в роли «дирижера» с явным удовольствием выступил сам Пол. И только после нескольких попыток музыканты смогли наконец исполнить крещендо достаточно хаотично, чтобы удовлетворить требованиям БИТЛЗ.
19 мая 1967 года, через несколько недель после завершения работы над «Сержантом Пеппером», Брайан Эпстайн устроил в своем лондонском доме шикарную вечеринку по поводу предстоящего выпуска этого альбома, имевшую также целью дать избранным представителям британской прессы и мира поп-музыки возможность его предварительного прослушивания. Для этой цели Брайан и его закадычный друг Питер Браун, со своим обычным вкусом и талантом организовали такой изобильный «буфет», что им остался бы доволне и Римский император.
Несмотря на присутствие в доме огромного числа более знаменитых гостей, Брайан вдруг решил поболтать со мной. «Ну как, Пит, тебе здесь нравится?» — спросил он в своей заботливой манере.
«Это обалденная вечеринка, — заверил я его, — и я здесь просто балдею.»
«Прекрасно, — усмехнулся он и начал поддразнивать меня: «Ты конечно же, успел уже попробовать этот суп.»
«Нет, еще нет.»
«О, ты непременно должен попробовать гаспачо, — сказал Брайан. — Это нечто совершенно изумительное. Погоди-ка, я сейчас принесу тебе тарелку.»
Через несколько секунд он вернулся с тарелкой, полной супа, и принялся внимательно наблюдать, как я пробую его гаспачо. «Ну как, Пит? Правда, изумительно?»
«Да, — пробормотал я, — но он холодный, как лед.»
К моему смущению, Брайан разразился хохотом. «Ох, Пит, ну какой ты смешной!»
«Слушай, Брайан, — сказал я, — я не собираюсь никого смешить. Я говорю тебе: этот суп холодный, как лед!»
«Пит, дорогой мой, — ласково произнес он, — да он и ДОЛЖЕН быть холодным. Гаспачо подают холодным.»
Как человек, всю жизнь проживший на картошке и яйцах, я и слыхать ничего не слыхивал про гаспачо и сама мысль о холодном супе до сих пор кажется мне каким-то абсурдом.
Тем временем все Битлы были в необычайно приподнятом настроении от процедуры «торжественного открытия их нового альбома», несколько сигнальных экземпляров которого были тут же вручены определенным именитым гостям. «А тебе, что, диска не досталось?» — спросил Джон. Когда я ответил, что нет, он бросился, чтобы принести его и мне, но к его разочарованию выяснилось, что уже все роздано.
«Да ладно, Джон, — сказал я, — получу в следующий раз.»
«Нет, не получишь, — упорствовал он. Ты должен получить его сейчас, немедленно.»
В конце концов он попросту заставил одного из гостей отдать подаренный ему экземпляр «Сержанта Пеппера» мне с тем, чтобы я оказался среди первых обладателей альбома, который, по убеждению Джона, был самой грандиозной вещью из когда-либо созданных БИТЛЗ.
День официального выхода в свет «Сержанта Пеппера» — 1 июня 1967 года в Великобритании (днем позже — в Соединенных Штатах) — для миллионов, достигших в 60-е совершеннолетия навсегда останется таким же памятным, как и даты убийства президента Кеннеди или первой в истории высадки человека на Луну.
Говоря терминами поп-сцены, «Сержант Пеппер» произвел ошеломляющее воздействие. Его музыкальные и технические достижения установили совершенно новые стандарты и критерии в самой индустрии, и по следам «Сержанта Пеппера» как грибы стали расти «концептуальные альбомы», многократные наложения и использования оркестров. Теперь, для того, чтобы заверить окружающих в том, что следующий альбом следует расценивать, как «важное артистическое заявление» нельзя было не провести несколько месяцев в студии, истратив при этом более 100.000 долларов. Даже тщательно продуманное оформление обложки, дополненное сувенирными снимками для вырезания и текстами всех песен, разбило все прежние каноны и убедило, что отныне оформление конверта становится самостоятельным видом искусства.
Но влияние «Сержанта Пеппера» далеко выходило за рамки просто музыкального бизнеса. За менее чем сорок минут звукозаписи БИТЛЗ с поразительной точностью выкристаллизовали почти все грани зарождавшейся молодежной контр-культуры — будь то «восточный мистицизм» (Within You Without You) или же «разрыв между поколениями» («She's Leaving Home»). Поскольку у БИТЛЗ уже было такое огромное число последователей, их новые «подпольные» откровения немедленно впрыскивались в сознание большинства Западного общества, а также в сознание миллионов впечатлительных молодых людей. Многие из них не только приняли песни БИТЛЗ за гимны своей контр-культуры, но и начали считать Джона, Пола, Джорджа и Ринго некими пророками и суперменами, или, как выразился проповедник ЛСД Тимоти Лири, «прототипами новой расы свободных и смеющихся, эволюционными посредниками, ниспосланными Богом и наделенными таинственной волшебной силой создавать новых людей.»
Естественно, такие наркотики, как ЛСД и марихуана, выступили наряду с прочими признаками этой контр-культуры — длинными волосами, впервые введенными «Потрясной Четверкой» несколькими годами раньше, и оппозицией к войне во Вьетнаме и власти правительства вообще. И хотя галлюциногенное содержание таких песен, как «Tomorrow Never Knows» и «Strawberry Fields Forever» не могли не быть очевидными для всех, экспериментировавших с психогеными химикалиями, БИТЛЗ никогда открыто не заявляли о своей наркомании, до тех пор, пока — подумать только! — Пол МакКартни не проболтался об этом какому-то репортеру через несколько дней после выпуска «Сержанта Пеппера». Он заявил: "«Кислотка» открыла мне глаза. Она сделала меня лучше, честнее, я стал более терпимым членом общества.»
Вслед за гневными выкриками, сравнимыми с полемикой «об Иисусе», Джон, Джордж и Брайан Эпстайн продемонстрировали свою солидарность с Полом, признавшись, что они также пробовали ЛСД. А вскоре четверо Битлов и их менеджер поставили свои подписи под воззванием на целую страну лондонской «Таймс», призывавшим к легализации марихуаны. Восприятие БИТЛЗ в качестве королей хиппизма еще более усилилось необычностью их образа жизни и многоцветием гардероба. Одним из наиболее известных символов метаморфоз «Потрясной Четверки» стал «Роллс-Ройс» Джона. За «неплохую» сумму в 2.000 фунтов он нанял группу цыганских художников для того, чтобы они разукрасили снаружи машину психоделическими цветами и завитушками. И Джон, (и я) остались довольны результатом работы, однако многие сограждане нашего восторга не разделяли и всякий раз, когда мы отваживались проехаться в психоделическом «Роллсе», осыпали нас отборной бранью. В одном из районов «биржевого пояса» одна старушка даже атаковала нашу машину своим зонтиком. «Свинья! Свинья! — визжала она. — Как ты смеешь делать такое с «Роллс-Ройсом»!»
Для нее, как и для многих других взрослых британцев, художества цыган казались осквернением. По их мнению, яркие цветы «на своем месте — это хорошо», но, скажем, для одежды джентльмена или фасада здания, не говоря уж о незыблемом символе величия БИТЛЗ — «Роллс-Ройсе» — это нечто совершенно неуместное. Одним из важных вкладов БИТЛЗ в эру 60-х стало, поэтому, их полное отвержение унылых монотонных цветов, которые нам насаждали, как «правильные» — и попутно с этим, утверждение о том, что ЛЮБОЙ аспект жизни человека может и должен быть пестрым, богатым и главное — интересным и веселым.
Глава шестнадцатая: Дурак на холме (The Fool On The Hill)
Вне всякого сомнения, самым триумфальным моментом исполнения Битлами роли «Пестрых Дудочников Века Водолея» стало их выступление в телепрограмме «Наш мир». Поскольку этот концерт впервые в истории транслировался с помощью спутников во все страны земного шара, в его программу была включена целая плеяда «звезд», среди которых БИТЛЗ — вполне заслуженно — удостоились чести представлять Соединенное Королевство.
Для этого события Джон сочинил «All You Need Is Love» («Все, что тебе нужно — это любовь»), гипнотический припев которой состоял из одно- и двусложных слов, которые были понятны даже тем, кто очень плохо знал английский. Сверкая «бусами братской любви» и костюмами Нехру и сопровождаемые аккомпанементом струнного оркестра, духовых и вооруженные флотилией разноцветных воздушных шариков, Джон, Пол, Джордж и Ринго выступили с премьерой своего нового гимна 25 июня 1967 года перед беспрецедентной телеаудиторией в 200 миллионов человек.
Несмотря на откровенные отрывки, заимствованные из национального гимна Франции и «She Loves You» самих БИТЛЗ, песня «All You Need Is Love» была одним из самых искренних и вдохновенных творений Джона. Он полностью осознавал значимость платформы, выдвигаемой БИТЛЗ и «All You Need Is Love» была именно той идеей, которую он хотел высказать всему миру.
Вместе с тем, повторяя навязчивое «любовь, любовь, любовь» в качестве панацеи от всех бед человечества, Джон все еще не мог найти ключа к познанию и осознанию себя самого. Продолжающиеся «трипы на ЛСД» давно уже утратили свою новизну и, в конечном счете, не намного приблизили его к четкому ощущению духовной полноты или просветленности. Следовательно, Джон пребывал в крайне восприимчивом состоянии и был полностью готов к восприятию того, что Джордж и Пэтти Харрисон рассказали ему о Махариши Махеш Йоги и трансцендентальной медитации (ТМ).
В ТМ Джона привлекло два момента. С одной стороны, простейшие методы Махариши требовали минимум усилий и самодисциплины. Для достижения обещанных сказочных благ требовалось лишь одно: дважды в день закрывать глаза на двадцать минут и повторять про себя тайное магическое слово или заклинание. В результате этого достигался естественный НЕнаркотический кайф, который, как утверждалось, впоследствии будет достигать своего пика в «перманентном состоянии космического сознания».
Для Джона личные предписания Махариши о том, что медитирующие должны хотя бы для начала отречься от всех «запретных вещей», показались сравнительно низкой платой за новоиспеченное кредо индийского гуру о немедленной карме. В не меньшей степени впечатлил Джона и тот факт, что ТМ, несмотря на индусские корни, не примыкает к какому-то определенному религиозному учению или вероисповеданию. Любой человек, независимо от социального положения и религиозных убеждений мог попробовать испытать трансцендентальную медитацию. По словам Махариши, ТМ позволяла кому угодно, будь он индусом или христианином, коммунистом или консерватором, поп-звездой или чернорабочим, стать более собранным во всем, чего он хочет достичь в жизни.
Благодаря бурной фантазии, Джон сразу увидел в ТМ потенциальное средство для объединения людей всего мира. Пожалуй, наиболее ярким свидетельством отношения Джона к ТМ стала его прекрасная песня «Across The Universe», которую он написал в 1967 году, но которая появилась только на альбоме «Let It Be» в 1970 году.
Энтузиазм Джона оказался настолько заразительным, что в День Посвящения вместе с ним в лондонские апартаменты движения «За духовное возрождение» Махариши отправилась и большая толпа друзей и коллег. Там каждый из нас получил по персональной мантре, т. е. заклинанию, в обмен на чистый белый платочек, три кусочка фруктов, и, последнее, но не менее важное — заработную плату за неделю. Для меня это составило 25 фунтов, что в то время составляло лишь ничтожную часть еженедельных доходов Джона. Среди присутствующих по этому знаменательному случаю были: Синтия Леннон, полный ассортимент БИТЛЗ, Мик Джэггер и его подружка Мэриан Фэйсфул, моя жена Бет, я сам… и Йоко Оно, которой меня там впервые представили.
При таких «критических» обстоятельствах, молчаливая и неулыбчивая Йоко казалась всего-навсего навязчивой приспешницей, самым последним приобретением в коллекции человеческих странностей Джона. Они познакомились примерно за полгода до этого, когда Джон посетил выставку ее «концептуального искусства», проходившую в галерее «Индика», владельцем которой был его друг и бывший муж Мэриан Фэйсфул Джон Данбар. «Незаконченные скульптуры» Йоко, включавшие гниющее яблоко, стоившее 200 фунтов, привлекли Джона своим нестандартным юмором, и он продолжал, если не с осторожностью, то с некоторой озадаченностью считать ее художницей.
Возможно и неоправданно, но все мы были склонны считать, что интерес 34-летней японки к 26-летнему Битлу-миллионеру держался на надежде на получение субсидий для организации ее будущих выставок. Во всяком случае, в тот вечер наше внимание всецело было поглощено волшебными заклинаниями, поэтому присутствие этой длинноволосой художницы прошло почти незамеченным для всего битловского окружения.
По окончании Посвящения Джон спросил, не против ли я подбросить Йоко до ее квартиры на Парк-Роу. Что ж, таковы были наши отношения, конечно же, я был не против, хотя он и никогда не принимал ничего за само собой разумеющееся. После того, как Йоко уселась за Леннонами на заднем сиденьи моей машины, ни она, ни Джон не обменялись ни единым словом до самого пункта назначения.
Когда Махариши вновь появился в Лондоне 24 августа, БИТЛЗ были удостоены личного приема в отеле этого святого в «Парк Лэйн Хилтон». Они тут же решили отправиться на следующий день вместе с ним в Бангор (Северный Уэльс), где Махариши должен был провести 10-дневный семинар по трансцендентальной медитации.
Джон был (необъяснимо) покорен личностью Его Святости не меньше, чем его идеей медитации. Он начал подсаливать свои речи цитатами Махариши Махеш Йоги, в том числе и такими лаконичными пословицами, как «время есть понятие, служащее мерой вечности» (позднее измененная им в первом соло-альбоме — «Бог есть понятие, служащее мерилом нашей боли»). Хоть я и не побывал на вершине «Парк Лэйн Хилтона», как не поехал и в Бангор, должен признаться, что я до сих пор не могу понять, что Джон нашел в том жалком лохматом гуру. Когда же я, наконец, снова встретился с ним через несколько месяцев, это был очень и очень странный человек. Он страдал постоянными смешками и хихиканьями, и ничто из того, о чем он говорил нам, не показалось мне особенно сложным и глубокомысленным.
Тем не менее, несомненно, трансцендентальная медитация дала много — если только это под ее влиянием на Джона сократилось драматическое количество принимаемых наркотиков. То, что он может испытывать радость и без заглатывания чего-то, показалось ему великим откровением.
Вскоре Джон начал подбрасывать планы, по которым БИТЛЗ смогли бы обеспечить финансирование международной сети приютов ТМ, информационных центров и специализированных институтов. Как-то днем я сидел с Битлами у экрана телевизора в доме Ринго, когда Джон вдруг заявил, что они, в сущности, являются апостолами Махариши. «Если мы пойдем по миру, прославляя трансцендентальную медитацию, — с серьезным видом сказал он, — мы подключим к этому миллионы людей.»
Но не кто иной, как Ринго тут же затушил эту блестящую мысль ушатом холодной воды. «Ладно, я не прочь иногда слегка помедитировать, — проворчал он. — Но мне это и на х… не нужно постоянно. Я просто хочу немного развлечься.»
Тут Джордж предложил провести групповую медитацию. Для этого звук телевизора убрали до отказа, и все закрыли глаза на двадцать положенных минут. Мне посчастливилось выйти из своего ТМ-транса раньше остальных — вообще, точно выдержать и ощущать время в течение медитации довольно трудно, — и, оглянувшись, я увидел, что Джон, Пол и Джордж, отключенные от всего мира, сидят с закрытыми глазами и скрещенными руками. Глаза Ринго, напротив, были открыты и по-прежнему следили за развитием событий все той же сентиментальной пьески. Когда он понял, что я его «застукал», он озорно подмигнул мне.
Вообще-то скромный и трудолюбивый ударник БИТЛЗ в безрассудные дни того «Лета Любви» зачастую казался единственным членом группы, все так же твердо стоящим на земле. Несмотря на последовавшее вскоре публичное отречение от ЛСД, амбиции Джона, Пола и Джорджа постепенно начали разрастаться до грандиозно-утопических, особенно, после неожиданного ухода из жизни того человека, который прежде был в силах удерживать их вместе.
Глава семнадцатая: Нет ответа (No Reply)
К лету 1967 года Брайан Эпстайн стал уже ненужным для карьеры БИТЛЗ, во всяком случае, так это выглядело. Двумя его главными заданиями было так или иначе упаковать, преподать их оригинальный «игрушечный» имидж и организовать марафонское турне. Теперь же, когда его «мальчики» перестали выступать на сцене и уже сами принимали все решения, они начали чувствовать, что «переросли» своего наставника и удивляться, не слишком ли большим несоответствием его уменьшающейся роли являются те 25 процентов комиссионных, которые он получал. Хотя все участники группы, быть может, за исключением Пола, оставались с Брайаном в прекрасных отношениях, его практическая деятельность по контракту свелась, по сути, просто к номинальному месту в кабинете.
Брайан отлично понимал все происходящее, и это сыграло свою роль в его трагической деградации. Несмотря на славу и богатство, и практически безграничные возможности, которые они предоставляли его карьере, он совершенно не мог представить себя иначе, кроме как менеджером БИТЛЗ. Теперь, поскольку его дитя выросло и улетело из родного гнезда, ему стало незачем жить.
Хотя иногда Брайан и был еще способен с лихостью «развернуться», как, например, при «обнародовании» «Сержанта Пеппера», его личная жизнь пребывала в полном упадке. Неизлечимое и пагубное пристрастие к наркотикам, алкоголю, азартным играм и разоряющим юношам со своей стороны все чаще не давали ему возможности выполнять свои теперь совсем немногочисленные обязанности как менеджера БИТЛЗ, и его уже редко видели в офисе раньше пяти часов дня. Но больше всего Брайан боялся приближающегося истечения срока действия 5-летнего контракта о менеджменте, подписанного Битлами осенью 1962 года.
В 1966 году, пересматривая условия контрактов с «И-Эм-Ай» и «Кэпитол», он незаметно подсунул им на подпись клаузуму, обуславливавшую автоматическую перекачку 25 процентов доходов БИТЛЗ в его собственную компанию NEMS. Не подозревая о скрытом смысле той короткой строчки, БИТЛЗ, к своему последующему великому сожалению, добросовестно поставили свои подписи в надлежащем месте. Но страхи Брайана находили свое оправдание именно в БИТЛЗ, так как они уже решили, хотя и с явным сожалением, прервать с ним всякие профессиональные связи. Это решение, кроме того, входило в рамки плана БИТЛЗ образовать свою собственную компанию, которую хотели назвать просто «Яблоко».
Как заметил Джордж в песне «Taxman» («Сборщик налогов»), в те дни британская налоговая система была настолько безжалостной, что ее ножницы обрезали в пользу Финансового Управления почти 95 процентов заработка БИТЛЗ. Самым простым способом уменьшить налоговую травлю было капиталовложение в различные предприятия: парикмахерские салоны, конструкторские бюро и тому подобное, к чему они питали слабый интерес и понимание. Но к 1967 году, тому времени, когда само слово «бизнес» уже имело уничижительный оттенок, понятный любому дураку, БИТЛЗ наконец поняли, что они могут с таким же успехом вкладывать деньги и в свое собственное предприятие.
Несмотря на то, что они по-прежнему не имели никакого понятия о структуре этой защитной компании и даже о том, какие товары и продукцию она может выпускать, БИТЛЗ твердо решили, что «Эппл» должна как-то отражать их личные интересы, т. е. музыку, звукозапись и искусство вообще, а также идеалы хиппистского «андэграунда». Во всяком случае, одной из ее функций было управление делами группы, и Брайан Эпстайн не мог не заметить, что ему не предложили стать партнером этой зарождающейся компании.
Как-то вечером, бездельничая со мной в своей домашней студии в Кенвуде, Джон завел разговор о состоянии Брайана. «С Эппи творится что-то ужасное, — мрачно сказал он. — Его голова забита черт-те чем, и всех нас это очень беспокоит. Но мы ни х…я не представляем, что тут можно поделать. Нам остается только идти своим путем — и все. Послушай-ка вот это», — добавил он, поставив на магнитофон «Бруннель» какую-то кассету. Из динамиков понеслось едва ли не самое душераздирающее представление, когда-либо слышанное мной. С трудом только можно было догадаться, что это человеческий голос, постоянно стонущий, бормочущий и орущий что-то, выдавая порой отдельные слова, не имевшие однако никакого смысла или связи. Несомненно, этот человек пребывал в состоянии сильнейшего эмоционального стресса — и скорее всего, под влиянием каких-то чрезвычайно сильных наркотиков.
«Что это за х…ня?» — спросил я скептически.
«Ты что, не узнаешь голос? Это же Брайан! Он записал это для меня в своем доме. Не знаю, зачем он мне это послал, но он явно пытается мне что-то сказать — и х… его разберет, что именно! Похоже, он уже просто не может нормально общаться с нами…»
На следующие выходные я остался с семьей на острове Хэйлинг, чтобы традиционо в августовские дни позагорать на пляже. БИТЛЗ были в центре внимания, ибо их медитация в Уэльсе неизбежно стала цирковым представлением для средств массовой информации, когда в воскресенье днем все радио и телепередачи были прерваны для краткого сообщения о том, что Брайана Эпстайна только что обнаружили мертвым в спальне его лондонского дома.
Большую часть того вечера я просидел в ошеломленном молчании возле своего телевизора. Глядя на непрерывные репортажи о смерти 32-летнего Эпстайна, я снова и снова вспоминал ту запись, прокрученную в доме Джона. Услышав о немедленном возвращении потрясенных БИТЛЗ в Лондон, я решил поехать на следующее утро к Джону и оказать ему свою поддержку.
Когда примерно через 12 часов я ехал к его дому, на небе не было ни облачка и, казалось, вся страна пребывает в праздничной атмосфере последнего летнего уик-энда. Когда я уже подъезжал к Уэйбриджу, по радио звучал хит «Прокол Харум» «Whiter Shade Of Pale», который был фаворитом всего окружения БИТЛЗ, в том числе и Брайана Эпстайна. Волшебная музыка сделала залитую солнцем английскую сельскую местность еще более идиллической, и то, что столь грустный день может быть вместе с тем настолько прекрасным, поразило меня, как жесточайшая ирония.
К моему великому удивлению выяснилось, что Джон вовсе не считает такую погоду неподходящей. Когда я застал его сидящим на кирпичной стене, окружавшей дом, он приветствовал меня улыбкой до ушей. «Здорово, Пит, ну, как дела? — весело спросил он. — Чудный денек, правда?»
«Да, конечно, запинаясь пробормотал я, — но как же с такими х…ми новостями о Брайане?»
«Да, это тяжело, — согласился он. — Это дурные вести. Но мы сейчас должны думать о Брайане только хорошее и веселое, и тогда с ним все будет в порядке. Махариши объяснил нам, что смерть — это только видимость, и что мы не должны отчаиваться и переживать. Мы все должны теперь думать о нем только с хорошей стороны — и тем самым помочь ему дойти туда, куда он сейчас идет.»
Хотя меня эта трансцендентальная логика не слишком убедила, я испытал определенное облегчение от того, что Джон так стойко держится. Я ожидал застать его подавленным и жалким и нуждающимся в дружеском утешении. Но, оказалось, наоборот — Джон решил подбодрить меня мудрыми словами Махариши.
БИТЛЗ с такой готовностью хотели отдать бывшему менеджеру все свои «добрые флюиды», что 17 октября едва не явились в лондонскую синагогу на Эбби-роуд в своих самых цветастых одеждах. В конце концов, однако, их убедили надеть скромные темные костюмы из уважения к чувствам матери Брайана — Куини.
К тому времени экспертиза установила, что Брайан умер от случайного превышения дозы снотворных таблеток. Но лично Джон оставался сторонником того, что Брайан на самом деле совершил самоубийство. Это, конечно, не означает, что роковая доза таблеток была принята умышленно. Однако, сильные страдания Брайана из-за неминуемого разрыва с БИТЛЗ, наряду с его безрассудно саморазрушительным образом жизни привели, по крайней мере, к тому, что его уже не волновало, умрет он или нет.
В то же время Джон продолжал считать, что Брайан умер только в физическом смысле и что с его духом по-прежнему можно общаться. Для этого он даже пригласил в Кенвуд профессионального медиума. Мне посчастливилось приехать к Джону за несколько часов до этого события, и я был настолько заинтригован, когда он рассказал мне об этом, что попросил его разрешить мне присутствовать.
«Нет, Пит, ты уж извини, — ответил Джон, — но там должно быть только нас четверо.» Это было единственным на всей моей памяти случаем, когда меня исключили из какой-то деятельности группы, хотя, конечно же, я понимал, что кому-то еще, кроме БИТЛЗ, будет неуместно присутствовать при этом.
Как бы то ни было, я едва дождался разговора с Джоном по телефону на следующий день. «Ну, как это произошло?» — затаив дыхание спросил я.
«А-а! Это была просто сплошная х…ня, — сказал он. — Этот медиум начал странным голосом уверять, что через его посредство говорит Брайан Эпстайн. Но это было явной ерундой, и когда мы попытались задавать Брайану вопросы, он ни на что не смог ответить и ничего не знал. Все это было попросту напрасной тратой времени.»
Глава восемнадцатая: Магическое мистическое путешествие (Magical Mistery Tour)
За несколько недель до смерти Брайана Эпстайна мы с Джоном сидели на полу в позе «лотос» и болтали о разных пустяках, когда он вдруг спросил меня: «Ну, так когда ты переезжаешь в Лондон?»
«Что ты имеешь в виду? — не понял я. — Я в Лондон не переезжаю.»
«Тогда быстро переезжай», — твердо сказал он.
«Да зае…л ты меня! Зачем мне туда переезжать?»
«Чтобы работать в «Эппл», зачем же еще.»
«А что мне в «Эппл» делать?»
«А что хочешь, Пит. Переезжай сюда жить, и мы будем почаще видеться.»
«Конечно, звучит это здорово, — сказал я, — но мне нужно подумать…»
«Да х…ли тут думать! — воскликнул Джон. — Собирай свои шмотки и переезжай.»
Однако, через неделю, возвращаясь в Уэйбридж, я все еще не пришел к окончательному решению. Конечно, в принципе, я был не против идеи работать с БИТЛЗ и ежедневно видеться с Джоном. Но с другой стороны, я достаточно уютно устроился со своей женой, маленьким сыном и супермаркетом на Хэйлинге.
Выяснилось, что в тот день Джона дома не было. Когда же Син сказала мне, что он торчит у Пола, я поехал прямо в Сент-Джонс Вуд. К немалому моему удивлению, Джон и Пол встретили меня, как какого-то героя, обняли меня с двух сторон за шею и повели в дом.
«Как здорово, что ты приехал, Пит! — говорил Пол. — И как здорово, что ты будешь работать с нами в «Эппл»!»
Я понял, что мое принятие в «Эппл» было уже свершившимся фактом. Уверенный, что я согласен войти в компанию БИТЛЗ, Джон уже рассказал всем об этом. Ну а поскольку мне не могло не польстить то, что Пол был настолько воодушевлен этой идеей, я тут же решил прекратить сопротивление.
Позднее, в тот вечер я попытался выпытать у Джона, в чем будет заключаться моя работа в «Эппл». «Ну, мы планируем открыть для начала магазин одежды. Потом мы организуем сеть универмагов модной одежды по всему миру, но первый должен быть именно в Лондоне. Ну, а поскольку тебе о магазинах известно все, почему бы тебе не стать его директором?»
«Но я не знаю всего о магазинах одежды…»
«Ну, не знаешь, так узнаешь. А если это тебе не понравится — х… с ним, найдем тебе еще что-нибудь.»
Джон уже много лет говорил, что БИТЛЗ неплохо бы было открыть дело, основанное на моде, но я всегда считал, что он только шутит. «Мы сможем продавать что угодно, — нередко говорил он мне, — если БИТЛЗ начнут носить костюмы с одним оторванным рукавом, то весь мир тоже захочет их носить. И мы сможем получить до х…я денег!»
Окончательное решение БИТЛЗ по этому поводу в основном было инспирировано появлением в их окружении группы чудаков под названием «Простак». Возглавлял эту четверку Саймон Постхьюма, прекрасный молодой голландский художник и модельер, сравнительно недавно попавший в водоворот лондонского «андэграунда» вместе со своей женой Марийкой Когер и еще одной прекрасной голландской девушкой с мечтательными глазами — Джози Лигер. Четвертым участником «Простака» был их британский менеджер и издатель Барри Финч.
Саймон, Марийка и Джози выглядели так, словно они только что сошли прямо со страниц сказок Братьев Гримм или «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина. Они неизменно носили костюмы ручной работы из чудно окрашенного шелка, сатина и вельвета, представлявших «огонь», «воду» и «воздух». Благодаря неустанной рекламе Барри, «Простак» смог привлечь к себе внимание лондонских воскресных издателей, пищущих о моде. Как писала «Санди Таймс» в одной из таких статей: «Саймон одет так, чтобы олицетворять Воду. Его пиджак — это сверкающий люрекс голубоватых и зеленоватых оттенков, брюки же — из синего вельвета. Марийка — это природа, она — в синем и зеленом, на ее лифе изображена пасторальная сценка. Джози олицетворяет Космос и ее полночно-синие брюки искрятся наклееными желтыми звездами». Такие портняжные описания вполне подходили под пропитанное «кислоткой» настроение Лета Любви и, конечно же, Оркестра Сержанта Пеппера.
Новая карьера «Простака» в качестве костюмеров и дизайнеров БИТЛЗ началась после телепредставления «All You Need Is Love». А когда эти голладские художники потрудились над бунгало Джорджа и любимым пианино Джона, БИТЛЗ согласились финансировать «Простака» (в размере примерно 100.000 фунтов) и обеспечить коммерческий выход их экстатической моде, которым, как оказалось, я и должен был управлять.
В течение трех недель, что по моим ленивым темпам стало чудом быстродействия, я смог уговорить свою мать, прежде лет десять управлявшую небольшим универсамчиком в Вултоне, взять на себя мой супермаркет. Учитывая то, что моя сестра жила поблизости от Хэйлинга, в Фэйрхеме, это место оказалось идеально подходящим для нашей мамы, поскольку в Ливерпуле у нее не было близких родственников. Тем временем, моя жена и сынишка продолжали жить в нашей квартирке на Хэйлинге, а я обрек себя на прежнюю рутину: в течение рабочей недели я жил в Кенвуде у Джона, а на субботу и воскресенье уезжал на юг к своей семье.
Теоретически я собирался пробыть у Джона лишь до тех пор, пока не подыщу для нас с Бэт и Мэтью квартиру. Но вскоре я узнал, что некий безвестный битловский счетовод посадил меня на жалкие 37 фунтов в неделю, в то время как снять в Лондоне квартиру дешевле, чем за 20 фунтов в неделю было практически невозможно. Мне, кроме того, обещали еще 1 процент доходов «Эппл», что конечно же, составляло 1 процент от нуля. Не желая беспокоить кого-то из Битлов по таким прискорбным финансовым пустякам, я удовлетворился этими 37 фунтами и стал почти «регулярным гостем» Джона.
Тем временем БИТЛЗ поговаривали также и о переезде — подумать только! — на какой-то доселе необитаемый остров в Эгейском море. По наущению Волшебного Алекса и по разрешению в виде исключения от канцлера казначейства и будущего премьер-министра Великобритании Джеймса Каллагена, они только что купили у правого греческого военного правительства за 100.000 фунтов маленький райский островок и пять окружающих его более мелких. Когда Джон показал мне битловский проект на Шангри-Ла, я вспомнил об огромном пауке. Там планировались регулярные пути сообщения, разбивка на личные сектора для каждой семьи БИТЛЗ. И по этим нереальным планам и проектам БИТЛЗ хотели перебраться туда и жить, едва только — ко всеобщей радости — будет окончательно образована фирма «Эппл». (Помимо того, что «Эппл» так никогда и не была «окончательно образована ко всеобщей радости», Джон и остальные, в конечном итоге, потеряли интерес к Греции и те острова были спокойно перепроданы почти без выгоды.)
Кроме того, в офисах NEMS, в современном здании Хилли-хаус состоялся ряд скандальных встреч по деловым вопросам. Одна из них была связана с отчислением Брайану Эпстайну 25 процентов комиссионных. Его брат Клайв, возглавивший теперь NEMS, проинформировал БИТЛЗ, что эти деньги выплачивались юридически не Брайану лично, а его компании. Клайв также указал, что ребята не так давно подписали контракт, предусматривающий, что NEMS будет получать четверть доходов еще 9 лет! Скрытый смысл этой строчки мелким шрифтом ознаменовал прозрение БИТЛЗ, наивно полагавших, что вместе со смертью Брайана прекратились и домогательства NEMS. Но наряду с бранью по адресу его брата, они в конечном итоге поняли и то, что единственным спасительным выходом будет самим выкупить NEMS.
Другая встреча, на которой я присутствовал, была посвящена налоговым проблемам БИТЛЗ, без которых и самой «Эппл», наверное, никогда не появилось бы. Насколько я понял со слов Джона, первоначальным назначением «Эппл» было служить хранилищем всех прибылей группы. БИТЛЗ теперь не получали деньги непосредственно «в руки», а оплачивали все свои расходы и счета через компанию.
Однако, один из битловских счетоводов представил гораздо более сложный план. «Значит так, ребята, — заявил он. — Мы решили, что наилучшим решением всех ваших проблем будет создать некую структуру из примерно 30 субсидируемых компаний. Мы подготовили список благонадежных и порядочных людей, которые будут числиться номинальными владельцами этих компаний и доли доходов будут оформлены на их имена. Главная идея состоит в том, что доходы будут постоянно перетекать из одной компании в другую, и мы устроим все так, что Финансовое управление потратит годы, пока сможет лишь начать разбираться в ваших налоговых задолженностях и платежеспособности.»
БИТЛЗ тем временем слушали все это с явным беспокойством и недовольством, особенно Джордж, всегда самый подозрительный и дотошный в финансовых делах группы — а этот счетовод начал зачитывать имена адвокатов и банкиров, которые должны были стать фиктивными владельцами компаний.
«Да на х… они нам сдались! — взорвался вдруг Джордж. — Я не собираюсь ставить под своей долей еще чье-то имя. Что это за б…я игра? Я не позволю надирать меня таким образом!»
«Но, Джордж, — запротестовал бухгалтер, — ведь все они порядочные и благонадежные люди…»
«А мне пое…, какие они там! Одно могу сказать: они моих денег не получат!»
«Хорошо, но послушай, Джордж, — примирительным тоном начал этот счетовод, — мы работали над этим проектом три месяца. Мы навели контакты со всеми этими людьми, обо всем с ними договорились, и, потом, это совершенно новая идея для сохранения кучи ваших денег…»
А мне пое…, сколько вы над этим работали, — отрезал Джордж, — мы вам за это платим. И я говорю тебе: можешь выбросить свою совершенно новую идею на х… на помойку!»
И без слов понятно, что на том все и кончилось.
Первое совещание правления «Эппл» (на котором БИТЛЗ решили не присутствовать) также планировалось в Хилли-хаус. Поскольку оно должно было стать моим официальным дебютом в качестве директора «Эппл», а не закадычного приятеля Битла Джона, собираясь выезжать из Кенвуда, я очень волновался. «Для меня все это так странно и необычно, — стонал я, — и я не представляю, какого х… мне теперь делать. Я даже не знаю, должен ли я одевать костюм и галстук для всех этих счетоводов и адвокатов.»
«Одевай то, в чем тебе удобнее, — успокоил меня Джон. — Все будет о'кей.»
В конце концов, я накинул что-то из предпочитаемых нами тогда полупсиходелических тряпок — и, по обыкновению, опоздал на совещание на пятнадцать минут. Все остальные, включая Терри Дорана, Клайва Эпстайна, протеже Брайана — Элистера Тэйлора, незаменимого м-ра «сделай-принеси», и солидную команду адвокатов и бухгалтеров, которых я видел первый раз в жизни, уже заняли места за огромным импозантным столом. Мое намерение скромно присоединиться к совещанию было нарушено: я вдруг с удивлением и смущением обнаружил, что все эти почтенные господа с нетерпением ожидали моего появления.
«Ну что ж, Пит, — начал кто-то, — я надеюсь, тебе известна цель нашего совещания, и что Джон сообщил тебе все, стоящее на повестке дня.»
«Вообще-то, не совсем, — сказал я. — Неплохо было бы, если бы кто-нибудь из вас сообщил мне, о чем здесь идет речь.»
К моему удивлению, за этим простым вопросом последовало долгое молчание. Каждый из собравшихся оглядывал сидящих за необъятным столом и ожидал, что первым заговорит кто-то другой. Наконец, Клайв Эпстайн прочистил горло и сказал: «Ну, насколько я понял, «Эппл» будет выпускать поздравительные открытки, и ребята уже дали согласие сочинять для них короткие стишки.»
Хотя слова Клайва повлекли за собой еще несколько подобных «личных разумений», они показались мне несколько нереальными и странными. У меня начало складываться впечатление, что меня занесло на чаепитие к Сумасшедшему Шляпнику, особенно после того, как Терри Доран повернулся ко мне и сказал: «Слава Богу, Приехал ты, Пит! Как видишь, здесь никто никого не понимает и не знает. Поэтому для организации всего этого дела нам и нужен такой человек, как ты.»
И только тут до меня дошло. Я вдруг понял, что все сидевшие вокруг почему-то были убеждены, что именно Я — почти без чьей-либо помощи — должен организовать многомиллионное предприятие БИТЛЗ! Не какой-то там магазинчик одежды (представляете?!), — а весь тот таинственный новый конгломерат, о функциях которого никто еще и не задумывался. Не успел я оправиться от замешательства, все, как один, встали со своих мест. «Поздравляю, поздравляю, Пит!» — выпалил Терри и, пожав мою руку, тут же шмыгнул за дверь. Все остальные счетоводы, адвокаты и прочие адъютанты БИТЛЗ, не теряя времени, последовали его примеру. «Удач и успехов, Пит! — говорили они. — Были очень рады повидать вас, м-р Шоттон! Всего хорошего, до свидания!»
Один только Элистер Тэйлор, известный своим пристрастием к коктейль-бару, счел уместным «побыть рядом со знаменитостью». «Ну что, Пит, отпразднуем и выпьем по этому поводу, а?» — подмигнул он. После того, как мы налили себе по скотчу, Элистер предложил тост за мое здоровье и успехи. «Поздравляю! Добро пожаловать в «Эппл» и всяческих тебе удач! Если что-то понадобится или я чем-то смогу быть полезен, сразу дай мне знать.»
Быстро опорожнив свой стакан, он тоже хлопнул дверью, оставив меня наедине с огромным столом. Я даже не знал, плакать мне или смеяться. И, поскольку делать больше было нечего и поговорить не с кем, мне также ничего не оставалось, как поехать домой.
Вернувшись в Кенвуд, я ворвался в утреннюю комнату. «Что это за чертовщина, Джон? — возмутился я. — Они все думают, что я заправляю и руковожу всей компанией!»
«Все правильно», — улыбнулся Джон.
«Ничего себе! Я всего-навсего был директором крохотного магазинчика на Хэйлинге. А ты хочешь, чтобы я возглавил какую-то ё…ю «Эр-Си-Эй» или еще похуже!»
Вместо ответа Джон залился истеричным хохотом.
«Я рад, что тебя это забавляет, — без улыбки сказал я. — Это твоя ё…я компания и это твои деньги на нее тратятся…»
«Все это х…ня, Пит, — сказал он. В двух словах ситуация такова: нам сообщили, что у нас есть 3 миллиона фунтов, которые, если мы не пустим их в оборот, заберут в виде налога. Значит, нам попросту нужно растратить их к ё…й матери! Так почему бы нам не пустить их в бизнес и немножко этим не позабавиться? Если получится — прекрасно, тогда у нас появится еще больше миллионов, которыми можно будет играть. А если нет — какая х…я разница! Это же те деньги, которые все равно забрали бы сборщики налогов!»
В конце концов БИТЛЗ решили, что их новую империю бизнеса, которую Пол остроумно прозвал Apple Corps (1. Корпорации «Эппл»; 2. Яблочные трупы — прим. пер.) — нужно разделить примерно на десяток субсидируемых компаний, каждая из которых будет заниматься определенными службами или выпускать товары. В нее должны были войти «Эппл Рилишн» (Розничная торговля), «Эппл Мьюзик», «Эппл Филмз», «Эппл Паблишн», — и как только будет достигнута договоренность с «И-Эм-Ай» и «Кэпитол» — «Эппл Рекордз». Помимо личной ответственности за «Розничную торговлю Эппл», я должен был выступать в роли связующего звена между боссами других отделов и самими БИТЛЗ.
Некоторые директора дочерних компаний, такие, как Деннис О'Делл из «Эппл Филмз» и Рон Кэсс из «Эппл Рекордз», были опытными «профессионалами», которых переманили из прежних компаний обещанием 30.000 фунтов в год. Но, в основном, это были просто старые приятели БИТЛЗ, вроде Терри Дорана, занявшего пост ответственного за «Эппл Мьюзик», или брата Джейн Эшер, Питера, которому суждено было стать главным продюсером «Эппл Рекордз». Еще одна дочерняя компания «Эппл Электроникс», была организована специально для Волшебного Алекса. А с назначением на должности управляющего директора и административного директора, соответственно Нейла Эспинола и Питера Брауна, мои плечи ощутили огромное облегчение.
Когда БИТЛЗ убедились, что их счетоводы уже сняли в аренду на продолжительный срок 4-х этажное кирпичное здание на углу Бейкер-стрит и Пэддингтон-стрит в центре крупнейшего торгового района Лондона, немедленно была дана заявка на обстановку для универмага. Поскольку на верхних этажах здания оставалось немало свободного места, дом по Бейкер-стрит, 94 стал также и временной штаб-квартирой «Эппл Корпс». Впоследствии компания арендовала для себя дополнительные офисы для «постоянного пристанища» в элегантном грегорианском здании за 500.000 фунтов по Сэвил-Роу, 3.
За свою хроническую нерасторопность и медлительность я вскоре поплатился еще раз — когда приехал в первый день на работу и обнаружил, что все приличные офисы уже заняты моими более пунктуальными коллегами. Оказалось, что незанятой оставалась одна лишь кладовочка без окон площадью всего 6 на 6 футов! Не желая вступать в конфронтацию с кем-то из других директоров, я безропотно устроил свой офис в этом чуланчике.
Несколько дней спустя Би-Би-Си отправила на Бейкер-стрит, 94 репортера и операторскую группу для того, чтобы взять у меня интервью. Мои посетители были немало удивлены, обнаружив босса новой компании БИТЛЗ в крохотной кладовочке. Тем не менее, они каким-то образом умудрились протиснуться ко мне со всем своим оборудованием, и это интервью было надлежащим образом передано по радио на всю страну.
Моей первоочередной задачей в «Эппл» было «подготовить» универмаг к 9 ноября. Поскольку БИТЛЗ уже объявили на весь мир, что в этот день их магазин будет открыт, мне оставалось всего каких-то два месяца на то, чтобы воплотить весь этот проект в жизнь.
После того, как толпа рабочих вытащила прежнее барахло из первого и подвального этажей, я был обязан следить за всеми деталями преображения магазина: от электропроводки, мебели и покраски до размещения и установки кассовых аппаратов. Моя задача еще более усложнялась личной разноголосицей БИТЛЗ по вопросам о внутреннем дизайне помещений. Например, как-то утром в магазин пришел Пол и показал нам, где установить перегородку. Едва это распоряжение было выполнено, явился Джон, хорошенько все осмотрел и сказал: «Что вы тут за х…ню понагородили? На кой черт здесь все это?»
«Пол попросил установить перегородки», — обяснил я.
«О, Господи! Убрать все это на х…! — приказал Джон. — Эти дурацкие перегородки мне тут и на х… не нужны!»
Опальные перегородки были тут же убраны.
На мою долю выпал еще и наем штата сотрудников, и дополнение его двумя тщедушными евреями-портными, которых, если не ошибаюсь, звали Габлик и Шликштейн, осуществлявшими пошив одежды по выкройкам «Простака». Будто этого было еще недостаточно для загрузки меня работой, БИТЛЗ решили, что «Эппл», которая представлялась ими, как «отличное место, где отличные люди смогут купить отличные вещи», должна кроме того вести торговлю широким ассортиментом товаров, начиная от антикварных восточных безделушек до психоделической мебели ручной раскраски и надувных кресел. Последние должны были стать «волной будущего», хотя лично я считал их более чем бесполезными. Каждый раз, когда я случайно задевал одно из таких кресел сигаретой, это непременно кончалось тем, что я грохался на пол. Одной из особенностей «Эппл» было и то, что всё в магазине продавалось. Если какому-то покупателю вдруг понравилась бы витрина или какая-то легкая движимость, за соответствующую цену он, в принципе, мог стать их обладателем.
Для меня было совершенно очевидно — и я полагал, что это должно было быть ясно всем остальным — что мне необходим помощник, чтобы не похоронить надежду открыть магазин вовремя. В итоге я прибег к услугам американки Фрэн Льюис, которая разделила со мной мой маленький чуланчик. Но в первый же день ее работы Джон позвонил мне из Хилли-хаус, где сидел с остальными Битлами на каком-то деловом совещании. «С какой это стати ты взял себе ассистентку, Пит? — спросил он. — Все хотят знать, зачем тебе нужна ассистентка.» (Одним из средств коммуникации в «Эппл», которое, замечу, действовало безотказно, были сплетни.)
«Зачем мне нужна ё…я ассистентка! — со злостью крикнул я. — А тебе что, ни х…я не понятно?!»
«Тише, Пит, спокойно! — перебил Джон. — Не ори на меня! Лучше приезжай сюда и объясни ситуацию всем остальным.»
Через несколько минут я ворвался в Хилли-хаус с намерением «сказать Битлам пару слов». «Значит, так, — сказал я им, — вы хотите, чтобы я за полтора месяца все переоборудовал и обставил и открыл магазин, вы хотите, чтобы я обеспечил готовую одежду, вы хотите, чтобы я был в курсе всех событий и дел — а для этого мне позарез нужен помощник. Я считаюсь директором всей этой х…ни, но если я не могу взять себе даже одну ё…ю асситентку, то все это попросту б…й бред!»
«Ладно, Пит, хорошо! — сказали БИТЛЗ хором в извиняющемся тоне. — У тебя есть ассистентка!»
Однако, даже с необычайно усердной помощью Фрэн, загруженность работой была такой, что мы редко покидали свой «офис» раньше полуночи. Я ехал в Кенвуд, валился с ног, спал несколько часов, завтракал вместе с Джоном — и снова возвращался прямо в свою кладовку еще на 12–15 часов работы. Стоит ли говорить, что я был мало обрадован, когда приехал однажды с опозданием и обнаружил на своем столе записку от главного бухгалтера Стефана Мальца: «Если Вам не угодно являться на работу к 10.00, будьте любезны ставить меня об этом в известность.»
В ответ на это я нацарапал поперек записки «Bollocks» и вернул его секретарше без комментариев. И хотя я никогда больше не получал подобных замечаний от Стефана Мальца, его записка, тем не менее, была символична для раскольничества, существовавшего в «Эппл» с самого момента ее образования. Стефан Мальц и ему подобные во всех отношениях были такими же энтузиастами, как и Терри Доран или я, но они смотрели на нашу компанию с точки зрения традиционного бизнеса. Помимо всего прочего, они были уверены в необходимости блюсти часы работы, время обеда и всегда носить галстук и пиджак — пусть даже психоделический. А когда я пообедал с ним вместе при первых попытках навести контакт, он сообщил мне по секрету, что уверен в полном успехе «Эппл» и перспективе получить королевскую Премию по Индустрии.
Но это не значит, что иметь дело с Волшебным Алексом или «Простаком» было намного проще. Сколько бы БИТЛЗ ни ассигновали на «Эппл Электроникс», Алекс всегда жаловался, что этого слишком мало для его фантастических изобретений. При этом он заявлял, что не покладая рук работает над созданием искусственного солнца, которое будет всходить над Бейкер-стрит и освещать небо над универсамом в вечернее и ночное время.
Хотя лично я считал Саймона Постхьюма из «Простака» очень славным молодым человеком и необычайно великодушным и щедрым, он становился непреклонным и непоколебимым, если подозревал меня в пренебрежении к его высоким художественным идеалам. Например, он требовал, чтобы все бирки и ярлычки для одежды, продаваемой «Эппл» были сделаны из чистого шелка. Когда я дал отказ на эту безумную экстравагантность, он так разъярился, что я решил обратиться с этим вопросом к Джону. «С точки зрения бизнеса, — заметил я, — это просто безумие. Бирки будут стоить дороже, чем многие вещи сами по себе.»
«Сделай так, как он хочет, — распорядился Джон. — И помни, Пит: мы не какие-то бизнесмены, мы — артисты. Для того и создана «Эппл» — для артистов.»
«Ну, ладно, — сказал я, — если ты не хочешь, чтобы бизнес был прибыльным — ради Бога.»
«Да х… с ней, с этой прибылью, — махнул рукой Джон. — Какая х…вая разница: заработали мы что-то или нет.»
Но даже после этого нашим поставщикам понадобилось несколько недель, чтобы изготовить превосходные шелковые бирки как положено. Их оформление всегда было подпорчено каким-то едва заметным недостатком, приводившим Саймона в бешенство. «Это катастрофа!! — гремел он каждый раз. — Хватит, больше так продолжать нельзя!» При всех своих заслугах, которых я находил у него немало, Саймон точно подходил под образ темпераментного художника. (Он даже обиделся на битловскую «The Fool On The Hill»!)
С другой стороны, «Простак», при всех своих несомненных чудачествах, работал с таким же энтузиазмом и усердием, как и все остальные в «Эппл». Получив какое-то определенное задание, они выполняли работу с такой расторопностью, что вгоняли всех остальных в краску.
В конце концов, БИТЛЗ столкнулись с неизбежным и согласились перенести день открытия «Эппл» на 7 декабря. Я же, тем временем, совершил пару незабываемых «деловых поездок» в Нью-Йорк и Марокко, оставив Фрэн Льюис «держать позицию» в моем чулане.
Поездка в Нью-Йорк — и мое первое посещение Америки — была инспирирована управляющим директором «Мэйси», обсуждавшим с Нейлом Эспинолом возможность введения в этом знаменитом манхеттенском универмаге секции «Эппл» как оригинальной формы «магазина-в-магазине». А поскольку лондонский универмаг с самого начала был задуман, как лишь первое звено в цепи таких магазинов, «опутавших весь мир», нас с Нейлом срочно отправили в Штаты переговорить с директором «Мэйси» лично. Кроме того, нас обязали выяснить реальность еще одной затеи БИТЛЗ — создания международной сети ультрасовременных «дискотек Сержанта Пеппера».
В аэропорту Кеннеди нас встретил могущественный американский адвокат БИТЛЗ, Нэт Уэйсс, который был одним из самых близких друзей и доверенных лиц Брайана Эпстайна. Несмотря на то, что багаж Нейла был забит ценными фильмами и пленками БИТЛЗ, нас пропустили через таможню без вопросов. Затем Нэт усадил нас в самый длинный из виденных мной «Кадиллаков», на каждом крыле которого развевалось по маленькому флажку Объединенного Королевства. А для того, чтобы мы почувствовали себя совсем как дома, по восьмидорожечному стерео-магнитофону, когда мы неслись к Манхеттену, гремела «Земля славы и надеж» («Land of Hope & Glory» — британский гимн — прим. пер.).
Первое впечатление о Нью-Йорке у меня сложилось благодаря шоферу, который не только запросто и весело болтал с нами, что было бы неслыханным в классовой Великобритании, но даже просунул нам через перегородку очень крепкую сигарету с марихуаной. После того, как мы с Нейлом устроились в отель «Уорвик», Нэт провез нас по нескольким манхеттенским клубам для избранных, где представлял нас всем без исключения, как «лучших друзей БИТЛЗ» или «директоров новой компании БИТЛЗ, «Эппл»". Соотвественно и принимали нас, как суперзвезд во всех отношениях, и девушки буквально отставивали очередь за нашими автографами. Кончилось все тем, что двух из них мы привезли с собой в отель, где провели фантастическую ночь без сна, большую часть которой вдыхали гашиш через соломинку.
И без слов понятно, что на другое утро ни Нейл, ни я не были «в форме», а нам предстояла встреча в «Мэйси». Дело еще больше усугубилось после того, как наш шофер во время поездки «развеселил нас» очередной порцией марихуаны. К тому времени, когда мы не спеша вошли в нарочито роскошные офисы управляющего директора «Мэйси», и Нейл, и я уже летали выше, чем битловский м-р Кайт. Директор сидел за громадным столом в компании 6–7 сотрудников, и ожидая нас, невозмутимо попыхивал сигарой.
В такой обстановке я выглядел и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке — в марокканских бусах братской любви, цветастой рубашке, шелковой расшитой куртке, зеленых вельветовых брюках и сапогах до колен. Тем не менее, все администраторы встретили наше предложение с готовностью и энтузиазмом, и заверили, что не предвидят трудностей, связанных с утверждением нашей договорености с директорами «Мэйси». Единственной проблемой было то, что из-за наркотиков, «сдвига биологических часов» и бессонной ночи мы с Нейлом не могли связать и двух слов и поэтому поторопились закончить встречу, как только была выработана общая форма договоренности. Мы пожали всем руки и пообещали поддерживать постоянный контакт.
Сомневаюсь, что за пять дней, проведенных в Нью-Йорке, мы с Нейлом оставались трезвомыслящими дольше пяти минут. Поскольку мы были странствующими посланниками БИТЛЗ, каждый вечер друзья Нэта Уэйсса по шоу-бизнесу щедро поили и кормили нас и постоянно потчевали наркотиками и роскошными девочками. За все время поездки я потратился на целых… 25 центов, сдав в гардероб пальто в каком-то фешенебельном клубе.
Вторым нашим главным заданием было подыскать в Нью-Йорке подходящее место для первой американской «дискотеки Сержанта Пеппера». Мы нашли прекрасное здание — огромный 4-этражный склад, забитый в то время десятками тысяч ламп. Записав всю необходимую информацию, мы заверили его владельца, что в скором времени БИТЛЗ или их представители наведут с ним контакт.
В последнюю ночь, когда мы с Нейлом были в каком-то клубе, к нам подсела аппетитная парочка пышногрудых черных модисток, которые не возражали, когда я — конечно же, вусмерть пьяный и «приторчавший» — вытащил грудь одной из них наружу из-за декольтированного платья. Нейл покатился со смеху, но часа через полтора-два он хохотал еще громче — уже в нашем номере — когда у этой девицы, пока я ее «натягивал», слетел парик.
Едва мы успели уснуть, в 6.30 зазвонил телефон и наш шофер сообщил, что пора ехать в аэропорт. Только тут вспомнив про свой рейс в 8.00, мы с Нейлом стали в панической спешке одеваться и собирать вещи. Однако, наши хмельные подруги восприняли толчки и пинки с таким негодованием, что мы наивно оставили их отсыпаться сколько им угодно и предложили заказать завтрак за наш счет.
Безмятежно проспавшим весь полет, ни Нейлу, ни мне не снилось, что мы востанавливаем силы после самой дорогой «потягушки» в нашей жизни. Когда через пару недель в «Эппл» пришел счет из отеля «Уорвик», обслуживание номера и стоимость телефонных разговоров за одно лишь последнее утро заметно превысили 1000 долларов! Эти две модистки не только позавтракали бефштексами, клубникой и шампанским, но и заказали пару ящиков выпивки, которую утащили с собой. Вдобавок, они на полную катушку использовали эту редкую возможность для того, чтобы позвонить своим подружкам и приятелям в Калифорнию и Европу. Мы с Нейлом быстро и молча подписали счет, моля Бога, чтобы наши коллеги — не говоря уж о БИТЛЗ — не обратили внимания на эти астрономические цифры. Но, как выяснилось, никто их не заметил.
Едва успев пробыть в Англии одни сутки, я должен был снова лететь — на этот раз в Танжер, в компании «Простака». За это время я успел заехать к Джону, которого результаты наших деловых встреч интересовали гораздо меньше, чем мой рассказ о девочках, «травке» и пьянках. «Да, вот уж вы покутили, так покутили! — с завистью сказал Джон. — Эх, мне бы с вами туда слетать, а не торчать тут и бездельничать!»
«Так что же тебе помешало это сделать? — удивился я. — Давай тогда полетим в следующий раз вместе.»
«Если бы я смог изменить свой е…ник, я бы полетел, — вздохнул Джон. — Но из-за всех этих жутких разборок — просто потому, что я — Джон Леннон — я не смогу расслабиться и делать то, что делали вы с Нейлом.»
Когда я намекнул, что хотел бы провести эту ночь на Хэйлинге, со своей семьей, Джон сказал, что у него нет сейчас свободных машин, и предложил воспользоваться одной из коллекции Ринго. В итоге я взял «Мини», которую Ринго только что переделал за несколько тысяч фунтов на заказ.
В ту самую ночь был шторм, и поскольку мы жили у моря, проснувшись утром, я обнаружил, что вся дорога — и любимая «Мини» Ринго! — по колено залиты соленой водой, переброшенной штормом через дамбу. К моему ужасу, машина даже не заводилась. Но, к счастью, я сумел оттащить машину в ближайший гараж, и потом на всех парах едва успел вернуть ее Ринго и не опоздать на свой самолет в Танжер.
С точки зрения лондонского «андэграунда» 1967 года, Марокко был «клевым» местом, и, естественно, я и «Простак» решили закупить там ювелирных изделий, тканей и украшений, которые были одновременно на редкость экзотическими и до смешного дешевыми (слава Богу, торговаться мы умели!). Путешествие, впрочем, началось довольно неудачно, когда в Танжерском аэропорту обычное появление «диковинного» квартета привело к тому, что нас на несколько часов задержали недоверчивые работники таможни. Впечатление было такое, что у всех в аэропорту был повод толпиться вокруг нас и глазеть, разинув рот. И так нас встречали повсюду; как за Пестрыми Дудочниками Хэмлина, за нами постоянно тянулись толпы зевак.
Из Танжера мы в большом «Вольво» отправились в «магическое мистическое путешествие», включившее Фез, Касабланку, Атласные горы и Маракеш. Перед самым выездом Саймон Постьхъюма успел навести в Маракеше контакты, и его знакомые с радостью согласились быть нашими гидами. Один из них, как ни странно, оказался мясником, который пригласил нас к себе на кускус (африканское блюдо из крупы, приготовленное на пару мясного бульона — прим. пер.).
После обеда все мужчины занялись курением гашиша через длинную трубку удивительной красоты. Женщины же, равно как и юный сын хозяина, были благоразумно исключены из этого ритуала. Но, с нашей точки зрения, наиболее необычной деталью обеда было стадо овец, нахально блеявших вокруг стола и испражнявшихся на пол когда и где им хотелось. Казалось, мясник очень боялся, что его овец украдут, если только они не будут все время у него на виду.
А однажды ночью друзья Саймона повели нас по касбе, и для этого случая мы одели длинные до пят накидки с капюшонами, которые называются бурнусами. Смешавшись с толпой фокусников, жонглеров, пожирателей огня и заклинателей змей, мы остановились в арабском кафе «отведать» пластичного опиата для жевания под названием «марджюн», эффект которого оказался настоль косильным, что мои спутники вывели меня из кафе под руки, как слепого. В течение следующего часа я видел одни только светящиеся разноцветные звезды.
Все это путешествие продолжалось десять дней, то есть почти вдвое дольше запланированного. Когда мы вернулись в Лондон, наши коллеги в «Эппл» уже начали беспокоиться, что нас похитили. На самом же деле мы были настолько очарованы окружающей местностью и так погрязли в своих деловых операциях на базарах, (ибо мы уже успели «просечь» местную систему торговли и не платили тех астрономических цифр, которые заламывали торговцы), не говоря уж о широко распространенном крепком марокканском гашише и кифе, что совершенно утратили чувство времени.
Однако с точки зрения бизнеса как такового, наша поездка в конечном итоге имела сомнительную ценность и выгоду. Большая часть товаров, не взятых с собой домой, таинственным образом затерялась при пересылке (если только они действительно были отправлены).
Одной из моих первоочередных задач после возвращения в Лондон было добиться у Вестминстерского муниципалитета разрешения на психоделическую роспись «Простаком» здания на Бейкер-стрит, 94. Однако в муниципалитете мне недвусмысленно дали понять, что даже БИТЛЗ не станут исключением из правила, требующего, чтобы все деловые здания в этом районе были выкрашены в однотонные черный, белый, коричневый или серый цвет.
В результате мы решили бросить Синим Паскудникам («Blue Meanies» — так-же «Синие Злыдни» — персонажи мультфильма «Yellow Submarine» — прим. пер.) дерзкий вызов. В последнюю минуту перед открытием универмага, после того, как все основные деловые предприятия закрылись на выходные, я дал распоряжение обнести здание лесами. «Простак» тем временем нанял группу местных студентов-художников, чтобы те помогли воплотить необычный дизайн на 20-метровой кирпичной стене, предоставив руководство росписью «Простаку» и их вдохновенным юным помощникам; я же уехал на Хэйлинг провести выходные с семьей.
Когда рано утром в следующий понедельник я вернулся на работу, грязноватый желто-кирпичный фасад «Эппл» был уже до неузнаваемости изменен удивительными иногоцветными галлюцинациями «Простака». Здание было окружено толпой глазеющих пешеходов, а улица на несколько кварталов была забита автомобилями, водители которых вытягивали шеи, чтобы получше увидеть огромного улыбающегося джинна и окружающие его радуги, звезды и луны. Общий эффект и впечатление превзошли все мои самые оптимистические ожидания.
Но не прошло и пяти минут, как позвонил представитель Вестминстерского муниципалитета. «Что это за безобразие вы сотворили на нашей кирпиичной кладке? — спросил он. Его нужно немедленно убрать!»
«Ну, этому не бывать!» — отрезал я и бросил трубку.
Следующим делом в моей повестке было закончить подготовку к вечеринке в честь открытия, намеченной на тот же вечер. Хоть я и специально распорядился, чтобы список приглашенных был разумно длинным, приглашения, казалось, попали в руки каждого лондонца — даже имеющего самое малое отношение к миру развлечений и моды, не говоря обо всех их друзьях и знакомых. В конце 1967 года приглашение на вечеринку БИТЛЗ считалось главным символом общественного статуса для всех, кроме самих БИТЛЗ. И Пол, и Ринго, исходя из своих соображений, нашли уважительные причины, чтобы не присутствовать там. Довольно подозрительно выглядело и отсутствие искусственного солнца, которым Волшебный Алекс обещал освещать Бейкер-стрит во время нашей праздничной вечеринки.
В типично ленноновском духе — под влиянием полученной сигареты с марихуаной — мы с Джоном попросили наших гостей прибыть ровно в «8.16», чтобы увидеть в «8.46» демонстрацию мод. Уж если мы должны придерживаться какого-то расписания, решили мы, почему бы нам не выбрать какое-нибудь необычное время? Однако еще задолго до 8.46, оба этажа универмага были настолько плотно забиты, что образовался поток людей, выходящих на улицу глотнуть свежего воздуха. Знаменитый комментатор Би-Би-Си Файф Робинсон посреди самого празднества упал в обморок, и его пришлось приводить в чувство дозой виски. Половина товаров в магазине, между тем, была буквально растоптана ногами.
После вечеринки Джордж Харрисон, одевший по этому случаю изумительный костюм в тонкую черно-желтую полоску, поехал со мной домой к Нейлу на Слоэйн-стрит. «Должен признать, что ты провел огромную работу, — сказал мне Джордж после праздной болтовни у Нейла. — Здание выглядит фантастично, особенно снаружи. А ведь я поначалу не был в восторге, когда мне сказал, что хотят, чтобы директором «Эппл» был ты.»
«Почему это?» — удивился я, немало озадаченный.
«Видишь ли, — улыбнулся Джордж, — я всегда считал, что ты оказываешь на Джона дурное влияние.»
«А теперь ты, значит, так не считаешь?»
«Нет, конечно, — сказал он, — это просто здорово, что ты с нами. Ты делаешь огромную работу, и теперь я понял, что ты влияешь совсем не дурно.»
«Вообще-то, хоть и стыдно признаться, — сказал я, — но мне нравится дурно влиять на Джона. Должен и я в чем-то быть неправ!»
Но только после того, как Йоко стала важной частью жизни Джона, я полностью понял смысл слов Джорджа. Все Битлы, не говоря об их окружении, смертельно боялись непостоянства Джона. После смерти Эпстайна они жили в ожидании того дня, когда он вдруг решит перевернуть «яблочную телегу» и испортит всем жизнь. Очевидно, Джордж полагал, что ИМЕННО Я могу толкнуть Джона на это.
Но, как бы то ни было, стенная роспись «Простака», от которой Джордж — и почти все остальные — были в восторге, смогла выдержать напор муниципалитета всего-лишь три-четыре недели. Когда власти, в конце концов, поставили меня в известность, что они решили отправить на перекраску здания группу маляров, причем, за эту «услугу» «Эппл» пришлось бы соответственно раскошелиться, мне ничего не оставалось, как отдать «свой» приказ и, скрепя сердцем, смотреть, как зрелищная фреска «Простака» навсегда укрывается саваном свежей белой краски.
Немного раньше, той же осенью, пока я занимался организацией «Эппл» и бездельничал в Нью-Йорке и Марокко, БИТЛЗ отправились в собственное злополучное «Магическое Мистическое Путешествие». Хотя сам этот телефильм был, в основном, творением МакКартни, Джон в то время тоже был вдохновлен его идеей. Он даже пытался уговорить меня поехать с ними в желто-синем автобусе «Магического Путешествия», но, к сожалению, загруженность делами «Эппл» исключила мое участие в этом «мероприятии».
Вдохновленный вольными приключениями Веселых проказников Кена Кэйси, описанными в книге Тома Вулера «The Electric Kool — Aid Acid Test», Пол предложил, что БИТЛЗ будут просто путешестваовать по сельской местности в автобусе, битком набитом толстыми тетками, карликами и прочими «клевыми человечками» — и снимать все, что будет с ними происходить. Чем-то вроде сценария стало либретто кинофильма, изданное в виде «комиксов БИТЛЗ», из трех строчек: «Высоко-высоко на небе среди облаков живут не то четыре, не то пять музыкантов. Произнося Волшебные Заклинания, они превращают Самую Обычную Поездку в Магическое Мистическое Путешествие…»
Впоследствии большую часть двух месяцев, запланированных на выпуск фильма, БИТЛЗ провели в монтажной комнате «Сохо». Пол был убежден, что «Magical Mistery Tour» будет признан еще одним шедевром БИТЛЗ. Зайдя к ним как-то раз днем, я застал его в превосходном настроении. Он даже крикнул в окно какому-то старому алкашу, распевавшему на улице песни, и пригласил его наверх к нам. Этот алкаш кое-как забрался по лестнице и, с бутылкой в руке, распевал с Джоном, Полом, Джорджем и Ринго старые застольные песни, вроде «There's An Old Mill By A Stream» («А возле ручья стоит старая мельница»). Казалсь, он совершенно не замечает, КТО его новые друзья, по его разумению, БИТЛЗ вполне могли быть обычной группой молодых бездельников из местного пивняка…
21 декабря, перед премьерой «Магического Мистического Путешествия» БИТЛЗ устроили для своих друзей, коллег и знакомых поп-звезд маскарад. Я поначалу собирался появиться там в костюме мушкетера, но в последнюю минуту Джон вдруг воскликнул: «Слушай, а давай будем тедди-боями и оденемся так, как нам всегда хотелось в школе! И давай на этот раз сделаем все, как положено!» Соответственно, мы перерыли необъятный гардероб Джона в поисках подходящих брюк в обтяжку и пары черных кожаных круток и зачесали набриолиненные волосы назад в стиле Тони Кертиса.
Наше появление произвело неотразимое впечатление, но, тем не менее, нас затмили вдохновенные «перевоплощения» Питера Брауна в короля Франции Луи XIV и пресс-секретаря Дерека Тэйлора — в Гитлера в нацистской форме. Силла Блэк и ее муж, Бобби Уиллис, пришли соответственно, как рабочий из Ист-Сайда и монахиня, а Джордж и Джуди Мартин произвели фурор, как Герцог Эдинбургский и Королева Елизавета, и все выстроились в ряд и совершали подобающие поклоны и реверансы, а «Филипп» и «Лиза» удостаивали нас вялых рукопожатий.
Но самого романтического перевоплощения смог добиться Фредди Леннон (с которым Джон все еще поддерживал официальные отношения), явившийся в костюме уборщика мусора. Как мне расказали, в то утро Фредди заплатил 5 фунтов своему мусорщику, чтобы тот поменялся с ним одеждой — и даже не позаботился, чтобы постирать эту робу. В результате, от отца Джона страшно несло помоями, и все остальные участники вечеринки старались держаться от него на безопасном расстоянии.
Ко времени, когда мы уселись на просмотр, Джон в лучших тедди-боевских традициях упился, как в добрые старые времена. Более того, точно как и в старые добрые денечки, казалось, что алкоголь выделил наиболее агрессивные аспекты личности Джона. Когда он узнал, что нас с ним рассадили за разные столы, он устроил Элистеру Тэйлору пренеприятную сцену, ибо тот был распределителем мест.
Еще одна неприглядная ситуация возникла уже в конце вечеринки, когда на сцену вышла какая-то группа и большинство гостей разбились по парам танцевать. Полностью игнорируя Син, которая в тот вечер была одета, как сказочная принцесса, Джон щедро одарил своим «вниманием и заботой» Пэтти Харрисон и дошел до того, что пригласил ее на танец, наверное, впервые за последние пять лет. И хотя Пэтти, несомненно, была чертовски соблазнительна в своем одеянии, оставившим живот едва прикрытым, ни Син, ни Джорджа откровенный флирт Джона нисколько не порадовал. Однако, в конце маскарада близкая подруга Син, тщедушная поп-певичка Лулу, изображавшая Ширли Темпл, вооружившись огромным леденцом на палочке, устроила пьяному Битлу-тедди-бою крутую разборку.
Посреди всеобщего веселья запланированный апогей вечерних развлечений — «Магическое Мистическое Путешествие» — не произвело большого впечатления даже на любителей польстить БИТЛЗ. И хотя лично мне фильм, в общем, понравился — во всяком случае, лица на экране были лицами моих друзей — «Мистическое Путешествие» все же вряд ли было чем-то большим, нежели какой-нибудь домашний 8 мм-вый фильм. Опытный сценарист или режиссер, вроде Элана Оуэна или Ричарда Лестера, возможно, и сделал бы из этого замысла нечто действительно достойное. Однако, БИТЛЗ вообразили, что все вдохновение и блестящие идеи как-то реализуются и без участия таких профессионалов-посредников, — и что спонтанная магия, всегда проявлявшаяся в их сочинительстве, и теперь с равным успехом послужит им в таких незнакомых областях, как, скажем, розничная торговля одеждой или кинофильмы. И вскоре это заблуждение обошлось им очень дорого…
26 декабря, вслед за выходом «Магического Мистического Путешествия» в эфир Би-Би-Си (в качестве рождественского телеподарка), все критики в один голос заговорили о первой неквалифицированной работе и провале БИТЛЗ. При всей возможной мстительности замечаний, колкости, вроде «хаотический», «ужасный», «невероятное чванство» и «откровенная чушь», были лишь немногими из шпилек, «воткнутых» в БИТЛЗ в утренних газетах на следующий день. Вместе с тем, они ознаменовали грубое пробуждение Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Впервые за многие годы Битлам напомнили, что они, может быть, и никакие не супермены.
Глава девятнадцатая: Витая (Flying)
«Magical Mistery Tour» был всего лишь наиболее заметным побочным продуктом умонастроения «Алисы в Стране Чудес», правивших почти всеми немузыкальными предприятиями БИТЛЗ, многие из которых были настолько заумно-странными или такими безжизненными, что и вовсе никогда не сдвигались с места. Конечно, группа не страдала от недостатка блестящих идей по поводу работы «Эппл Корпс». Но вместе с тем, Битлы полагали, что их идеи реализуются сами по себе и нередко разработку всех деталей в пределах наших, порой ограниченных, возможностей, предоставляли своим «пчелкам».
Джону, например, очень нравилась идея создания службы проката автомобилей — «Эппл Лимузинс» — и оживления однообразных улиц столицы парком психоделических «Роллс-Ройсов», переделанных по его модели. Это была милая идея, но, к сожалению, чем-то большим так она и не стала.
Тем временем, нашего старого вултонского приятеля Айвена Воэна, того самого, что познакомил нас с Полом МакКартни и с которым Пол поддерживал примерно такую же дружбу, как и я с Джоном, переманили с его занятий по воспитательной психиатрии и сделали ответственным за нечто совершенно неуловимое под названием «Эппл Скул» («Школа «Эппл»"). Джон решил, что дети БИТЛЗ и их сотрудников должны получать просвещенное и технически обеспеченное образование — в противовес традиционной системе, вызывавшей у нас сильную неприязнь. «Если у нас будет несколько по-настоящему клевых учителей, вроде Айва, — рассуждал Джон, — мы сможем создать правильную атмосферу, в которой наши дети действительно смогут чему-то научиться и что-то узнать.»
И я, и Нейл пытались убедить Джона, что такое амбициозное и дорогостоящее дело лучше бы отложить до тех пор, когда уже имеющиеся дочерние фирмы «Эппл» начнут давать прибыль. В конце концов наши аргументы подействовали, но лишь после того, как на личный банковский счет Айвена Воэна было перечислено 10.000 фунтов. А без подобной гарантии Айв, из своих соображений, отказывался взяться за такое предложение.
Следующей стала «Эппл Косметикс», которая должна была выпускать всевозможную парфюмерию — лак для ногтей и губную помаду в контейнерах формы яблока с пластмассовыми листочками. Когда я исследовал рентабельность этого предложенного бизнеса, выяснилось, что все эти товары имели до смешного низкую себестоимость, а значит, «Эппл Косметикс» вполне могла оказаться одним из самых выгодных предприятий. Но БИТЛЗ в очередной раз не захотели прибегать к помощи квалифицированных специалистов, и «Эппл Косметикс» последовала примеру «Эппл Лимузинс» и «Эппл Скул».
Такая же участь ожидала и «дискотеки Сержанта Пеппера», и заказанный у Мэйси универмаг, для которых меня и Нейла в свое время посылали в Нью-Йорк. А поскольку ни у кого в «Эппл» не было времени или деловой хватки, чтобы совладать со всеми этими финансовыми и юридическими сторонами идей БИТЛЗ, на трансатлантические звонки никто не отвечал, а деловая корреспонденция постепенно заполняла шкафы для хранения документов.
Еще один отвергнутый проект, для которого мы «забили» большое 4-этажное здание на Риджент-стрит, предусматривал создание торгово-развлекательного комплекса, сочетавшего кинотеатр, ресторан, сауну и дюжину различных магазинчиков на самом верху. В наши дни это рядовое явление, а для Лондона 1967-го года было совершенно новой идеей. Однако и она стала просто еще одной иллюстрацией пословицы «легче сказать, чем сделать».
Я попытался убедить Джона, что «Эппл» — и в особенности ее магазины отчаянно нуждаются в компетентных, опытных профессионалах. «Для того, чтобы управлять каким-то магазином, — заметил я, — недостаточно повесить пиджак на плечики и получать деньги. Если тебе нужен магазин, перво-наперво нужно получить делового человека, знающего, как им нужно эффективно управлять.»
«А мне ТАКИЕ люди и на х… не нужны», — резко ответил Джон и настоял на найме штата из хиппи, чья личная квалификационная годность заключалась в том, что они любили курить «травку» не меньше Битлов. Помимо этого, все важные деловые решения «Эппл» должны были получить одобрение И-цзиньско-таротского гадальщика по имени Калеб, который также составлял для Джона и многих директоров «Эппл» ежедневные гороскопы. Внешне — вылитый ангел Ботичелли со светлыми волосами до плеч, Калеб быстро стал моим преемником на месте директора универмага и не менее быстро окончил свой путь в сумасшедшем доме.
Впрочем, и несколько местных «профессионалов» «Эппл» отнюдь не были продуктивнее, чем хиппи и прихлебатели, хотя им и не давали хорошей возможности применить на практике свои впечатляющие верительные грамоты. Так, например, «Эппл Филмз» Денниса О'Делла не смогла выпустить ни одного фильма.
Некоторое время БИТЛЗ были очень воодушевлены идеей финансирования и участия в съемках экранизации «Хоббита» (хоббиты — сказочные существа, отличающиеся доверчивостью и добротой — прим. пер.), «The Lord Of The Rings» («Властелина колец») Джона Рональда Руэла Толкина, их любимой в то время книги. Они даже успели поделить между собой роли: Пол должен был играть доброго хоббита Бильбо Беггинса, Ринго — его преданного, верного слугу Сэма, Джон — гадкого и склизкого Дракона Смога (Горлума), а Джордж — мудрого волшебника Гэндальфа (ошибка Пита: главный герой «Властелина колец» не Бильбо, а Фродо Бэггинс, которого и собирался играть Пол; также далее: Дракон Смог — персонаж «Хоббита», тогда как Горлум, выбранный Джоном, — персонаж и «Хоббита», и «Властелина колец», не имеющий с драконом ничего общего; Сэм — слуга Фродо — прим. ред.).
Джон, любимым фильмом которого в то время была «Космическая Одиссея 2001 года», дошел до того, что встретился с самим Стэнли Кубриком, дабы заинтересовать его в возможности постановки фильма по Толкину. Однако, интервью получилось очень бледным, и Джон ушел со встречи громко возмущаясь, как это режиссер «2001 года» мог оказаться таким «не таким».
Но как бы то ни было, весь замысел окончательно лопнул, когда в «Эппл» прибыл агент Толкина. Ко всеобщему разочарованию, он заявил, что права на экранизацию, остававшиеся непроданными со времени публикации «Хозяина букмекеров» в середине 50-х, были какие-то 24 часа назад перехвачены компанией «Юнайтед Артистс».
Возможно, отчасти из-за того, что неблагосклонный прием «Магического мистического путешествия» охладил энтузиазм БИТЛЗ к созданию фильмов, Деннису О'Деллу (как и многим его коллегам) вскоре не осталось ничего иного, как радоваться трехчасовому обеденному перерыву и проведению остатка рабочего дня у телевизора за созерцанием скачек. Я, конечно, не обвиняю их в этом: на их месте я делал бы то же самое. Но думаю, здесь стоит вспомнить о сказанных позднее словах Джона: «Каждую неделю из «Эппл» утекало 20.000 фунтов — и никто не боролся с этим. Все наши приятели… попросту жили, ели и пили, как в римские времена… зная, что при таком положении дел мы в конечном итоге обанкротимся.»
И хотя у всех нас были свои оплошности и казусы (для нас с Нейлом к этому можно отнести наш «нью-йоркский завтрак в 1000 долларов»), те самые старые «приятели» БИТЛЗ были, по сути, единственными продуктивными и работающими людьми во всей компании. Пока наши «профессиональные коллеги», вроде Питера Брауна, обедали в фешенебельных ресторанах — естественно, за счет компании — мы с Нейлом и Терри едва успевали перебежать дорогу и купить себе тостеров с сыром. Мы даже никогда не задумывались над фактом, что наши бездельничающие коллеги получают, по крайней мере, раз в десять больше нас.
Примерно раз в неделю вся шутовская команда директоров «Эппл» отчитывалась об успехах перед БИТЛЗ на так называемом совещании за круглым столом. Такие собрания редко становились чем-то большим, нежели каким-то сюрреалистическим фарсом. Джон обычно являлся под дозой ЛСД, Пол предавался неисправимой привычке чиркать что-то на бумаге, думая совсем о другом, а Ринго попросту спал где-нибудь в уголке. Один только Джордж внимательно вслушивался в монотонное изложение статистики, (впрочем, иногда Джон или Пол оживляли совещание, выдавая какую-нибудь новую идею, которую соответствующие директора неизменно обещали реализовать в лучшем виде).
В действительности, общей чертой почти всех сотрудников «Эппл» было их низкопоклонство перед БИТЛЗ. Никто ни разу не решился сказать, что «король — голый». Когда же хаос империи стал очевиден даже самим БИТЛЗ, они устроили совещание, созвав всех 64-х штатных сотрудников: от директоров компаний до секретарш. «Мы решили собрать всех вас вместе, — сказал Джордж этой толпе, — потому что хотим, чтобы вы поняли, что мы всегда с радостью встретим любые идеи о том, как улучшить работу «Эппл» и чем она должна заниматься.»
И никто, ни один сотрудник не смог предложить ничего.
А до этого случая наш старый ливерпульский приятель Билл Тернер как-то днем заскочил на Бейкер-стрит, 94. Пол тогда как раз примчался в офис, чтобы проиграть нам запись нового сингла БИТЛЗ «Hello Good-bye». Едва только песня окончилась, все сотрудники взахлеб и наперебой начали источать превосходные степени, вроде: «удивительно, превосходно» и «О, Пол, это просто фантастика!». Заметив, что Билл не присоединился к общему хору, Пол спросил: «Ну, а что думаешь ты, Вильям?»
«Если говорить честно, Пол, — ответил Билл, — я считаю, что она несколько скучновата и уж, конечно, далеко не лучшая твоя вещь.»
Пол был заметно ошарашен. Какими бы ни были достоинства «Hello Good-bye», было ясно, что никто из друзей или коллег Пола не осмеливались говорить ему подобное уже много лет…
Когда прочитаешь до этого места, наверное, покажется, что «Эппл Корпс» была обречена с самого начала. Но в то время большинство из нас просто игнорировало первые предостерегающие сигналы и по-прежнему сохраняло свой оптимизм и энтузиазм. Несмотря на «Magical Mistery Tour», БИТЛЗ, чьи личные добрые намерения в «Эппл» никогда не вызывали сомнения, оставались на вершине всемирной популярностии влиятельности. К тому же в начале 1968 года «подпольная» контркультура все еще пышно процветала, и все в битловском кругу неукоснительно следовали ее анти-истеблишментовским позициям и идеалам, которые «Эппл», в свою очередь, и должна была пропагандировать. Вдобавок ко всему, праздная атмосфера в «Эппл» была такой (счета за спиртное были астрономическими, не менее доступной была и «травка»), что многие сотрудники уходили с работы среди дня, не испытывая никаких угрызений и мук совести.
Только в музыкальных делах мнение БИТЛЗ было уверенным, как и раньше. Звуковая дорожка к «Magical Mistery Tour», содержавшая помимо прочих примечательных вещей «Я — Морж» и «Дурак на холме», была встречена столь же хорошо, как и плохо был принят фильм. И хотя «Эппл Рекордз» еще только предстояло выпустить первые диски, Пол и Джордж уже начали воспевать ряд талантливых незнакомцев, в том числе — «Badfinger», Мэри Хопкинс, Билли Престона и Джеймса Тейлора, позднее прекрасно зарекомендовавших себя на рынке.
Даже магазин модной одежды подавал все признаки невероятного успеха. В период рождественских праздников магазин был битком забит, и товары исчезали с полок, и мы едва только успевали пополнять ассортимент. Но беда была в том, что заметная их часть исчезала из здания без какой-либо денежной компенсации. Наши сотрудники не только не удосуживались задерживать воров — из страха показаться нехиповыми — но и нередко сами прихватывали понравившиеся вещи. Даже «Простака» за постоянную экспроприацию собственности «Эппл» в конце концов привлекли к суровому ответу. (Испортив хорошие отношения с БИТЛЗ, Саймон, Марийка и Джози вскоре после этого уехали в Америку.) Всего за семь месяцев универмаг одежды потерял почти 200.000 фунтов.
Для меня уже было очевидно, что невероятная смесь идеализма и глупости БИТЛЗ совершенно неблагоприятна для организации выгодных и эффективно управляемых деловых предприятий. Настоящее прозрение пришло, когда я понял, что работа в «Эппл» не доставляет мне больше удовольствия. Вероятно, из-за отсутствия занятости, наши сотрудники все больше и больше погрязали в своих мелочных интригах и политике подсиживания и злословия.
Однако, большие глупости с идеализмом напополам продолжали двигать все новыми планами БИТЛЗ и их компании. Они помещали в музыкальных еженедельниках такие объявления с фото неизвестного молодого музыканта (на самом деле — Элистера Тейлора): «Этот человек талантлив, однажды он записал свои песни на магнитофон и, благоразумно приложив свою фотографию, отправил пленку по адресу: Эппл Мьюзик, Бейкер-стрит, 94, Лондон, Даблви-1. Если Вы хотели бы сделать то же самое — торопитесь! Сейчас у этого паренька — свой собственный «Бентли»!»
По-видимому, никого, кроме БИТЛЗ, не удивило, что от всех собравшихся стать звездами на нас посыпались коробки с пленками со всех концов страны, с записями чего угодно: от ситара и флейт до свистулек и варганов. Те, кто был менее музыкален, присылали романы, сценарии, стихи, рисунки и безумные деловые предложения, часть которых была адресована персонально.
Конечно же, никто в «Эппл» и не пытался разработать какую-то систему для переработки всего этого. Из тысяч рукописей и пленок лишь некоторые были прочтены и услышаны. Прочие же просто складывались в картонные коробки из-под яиц, которыми до потолка завалили наш маленький «макулатурный чуланчик» рядом (что весьма иронично) со студийными пленками самих БИТЛЗ. Если кто-нибудь останавливался и, глядя на эти коробки, представлял себе тысячи детишек, нетерпеливо ожидающих ответа от БИТЛЗ и своих «Бентли», его глазам представлялось душераздирающее зрелище.
Тем временем, по настоянию Волшебного Алекса «Эппл» приобрела пару подержаных компьютеров. За десять лет до начала массового производства микрокалькуляторов, Алекс пророчески уверял нас, что эти громоздкие машины одновременно являют собой дуновение будущего и стоят 20.000 штука. Единственной проблемой стало то, что никто — даже Алекс — не знал, что с ними делать, не говоря уж о том, как с ними работать. В конце концов, эти компьютеры стали просто собирать пыль в гараже у Ринго.
Мы также обеспечили Алексу собственную лабораторию в здании склада на Бостон-стрит, где он, по его словам, заканчивал работу над созданием — помимо прочих «мелочей» — летающего блюдца и нового типа краски, делающей предметы невидимыми. Однако за несколько дней до обещанной демонстрации достигнутого, лаборатория Алекса таинственным образом воспламенилась, и все его изобретения превратились в дым, в результате чего его расписание сдвинулось на несколько месяцев назад. Несмотря на убедительное изображение горя из-за такой катастрофы, греческому волшебнику, конечно же, был нужен убедительный довод для еще одного переноса даты.
Между тем, Волшебный Алекс сбил волну скептицизма, подарив Битлам и их близким друзьям и коллегам целую выставку оригинальных новинок. Мне он вручил радиоприемник, встроенный в телефон, причем, «набирать» нужную станцию можно было как телефонный номер — и затем слушать программу через трубку. Это было довольно милым подарком, но это было не совсем летающим блюдцем.
Мой главный спасительный клапан в «Эппл Корпс» появился в облике гениального 25-летнего австралийского модельера и производителя одежды Джона Криттля, заслужившего себе репутацию главным образом благодаря недавнему выдвижению Кингс-роуд на роль подпольной лондонской мекки мод. И поскольку БИТЛЗ, как и «Роллинг Стоунз» и многие другие британские поп-группы, долгое время финансировали рынок розничной торговли Джона Криттля — фирму «Дэнди Фэшнз», в конце концов они решили поставить его во главе еще одной дочерней компании — «Эппл Тэйлорин».
Мое знакомство с Джоном Криттлем состоялось в сентябре 1967 года, во временной штаб-квартире «Эппл» в Хилли-хаус. Я работал в той самой бесславной комнате со столом, когда секретарша Барбара сообщила по селектору, что меня хочет видеть «некий м-р Джон Криттль». По ее тону можно было подумать, что она только что увидела на своем столе дохлую крысу, и, похоже, она была немало удивлена, когда я попросил впустить его. Ожидая грядущего появления лихого деятеля молодежной моды, я, в свою очередь, оказался в некотором смятении, когда несколько секунд спустя в комнату ввалился неприятного вида бродяга. На нем было твидовое пальто до пят, плоская рабочая кепка и примерно пятидневная щетина. «Кто вы такой?» — с недовольством спросил я.
«Я — Джон Криттль. А вы кто такой?»
«Ах, гм, прошу простить, — заикаясь, пробормотал я и протянул руку. — Я — Пит Шоттон, рад Вас видеть.»
«Вот и хорошо, — сказал он, и его лицо осветилось заразительной улыбкой. — А теперь давай решим, чем бы нам с тобой заняться.»
И, усевшись на стол, он принялся перебирать листки бумаги, оставшиеся там после недавнего совещания «Эппл». «Скажи, Пит, ты когда-нибудь делал бумажные самолетики?»
«Да, помнится, в дестстве приходилось.»
«Ага, ну тогда давай, попробуй, — оживился Джон Криттль и вручил мне листок бумаги. — Проверим, не забыл ли ты, как они делаются.»
После того, как мы изготовили небольшую бумажную эскадрилью, он поджег один из «аэропланов» и запустил его с четвертого этажа. Пронаблюдав следующие полчаса, как наши горящие самолетики планируют на улицу, мы занялись делом.
И больше восьми месяцев — по мере того, как работа в «Эппл» становилась мне все более противной — роль Джона Криттля в моей жизни стала удивительно напоминать роль Джона Леннона десятью годами раньше. Примерно в том же духе, как мы с Джоном часто «срывались» из Куари Бэнк, теперь мы «срывались» из «Эппл» с Джоном Криттлем и полдня играли в китайский бильярд на Пикадилли-секус. Нередко у модного деятеля пробивались привычки бродяги, и он, используя возможность, «стрелял» у прохожих 6-пенсовик на чай.
В начале 1968 года я проводил многие часы рабочего дня в его магазине «Дэнди Фэшнз», якобы обсуждая его последующее превращение во второй лондонский магазин одежды «Эппл». На самом же деле, мы вовсю развлекались там с куколками, толпами бродившими по Кингз-роуд. Едва ли не самым нашим любимым времяпрепровождением было пялиться через полупрозрачные зеркала, установленные в дамских комнатах для переодевания. Наблюдать происходящее в таких местах, где люди не ожидают подглядывания, бывает очень и очень забавно. В одной из таких комнат была потайная дверь, ведущая в маленькую комнатку, удобно оснащенную матрацем. Там Джон Криттль имел обыкновение развлекать избранных покупателей женского пола, о чем его супруга Андреа, регулярно заходившая к нему и не догадывалась. Мне нередко приходилось объяснять ей, что ее дорогой Джон «ушел на обед», когда на самом деле тот «натягивал» какую-нибудь пташку буквально под самым ее носом. Если подворачивался случай, я тоже прибегал к услугам потайной берлоги Джона Криттля, как прибегал к ней и Леннон, и многие другие британские поп-идолы, наверняка не жаждущие увидеть свои имена упомянутыми в данном контексте.
Но, в конце концов, «Эппл Тэйлорин», как и многим другим субсидируемым компаниям, суждено было остаться только на бумаге. И все же, если бы не Джон Криттль, едва ли я смог бы продержаться в «Эппл» так долго.
Однажды ночью в Кенвуде, впервые после лекции по трансцендентальной медитации, Джон вдруг заговорил о Йоко Оно. «Похоже, ей сейчас довольно трудно, — сказал он. — А поскольку она художница, быть может, мне стоит помочь ей… Я не совсем понимаю, чего она хочет, но я предложил ей встретиться с тобой в «Эппл». Возможно, ты сумеешь сделать что-нибудь для нее.»
Когда на следующий день Йоко пришла в офис, она говорила крайне нервно и бессвязно. Из того же, что я смог постичь, я понял, что она хочет распилить несколько стульев пополам и выставить их под видом художественной выставки. Но для того, чтобы сделать все, как положено, ей нужна была небольшая сумма… тысячи две фунтов стерлингов. «Вообще-то, — сказал я ей, — мне не дано полномочий сразу так вот выдать вам две тысячи, но я узнаю об этом у Джона сейчас же.» Когда же я передал просьбу Йоко Джону, он пробормотал в ответ что-то утвердительное. Похоже, впоследствии эта идея Йоко — экспонировать распиленную мебель — побудила его организовать в лондонской «Лиссон Гэлери» выставку под загадочным названием «Йоко + Я».
Но все же и тогда еще не было заметно признаков того, что привязанность к этой японской художнице, столь непохожей на всех прежде встречавшихся Джону женщин, окажет главное влияние на всю его жизнь и карьеру. Особенно, если учесть, что Джон, несмотря на отход от «травки» и ЛСД, продолжал верить в то, что решения всех его проблем и неуверенностей могут быть найдены в трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги.
Скорее всего, первые зерна сомнения в мысли Джона заронил Волшебный Алекс — в день не отмеченной прессой встречи в Париже в конце 1967 года. Махариши тогда выступал во Франции с циклом своих лекций, и БИТЛЗ решили присоединиться к нему для того, чтобы наметить план собственных действий на благо ТМ.
По случайности я оказался в тот день в Париже по делам «Эппл» вместе со Стефаном Мальцем. Когда мы, наконец, покончили с делами и вернулись в аэропорт «Орли», мы с великим разочарованием узнали, что все вечерние рейсы в Англию отложены по метеоусловиям, и это тем самым вынуждало нас переночевать во Франции.
Пока мы со Стефаном ругали погоду и решали, что делать дальше, к нам подошел не кто иной, как Джордж Харрисон. «Привет, Пит! Привет, Стефан!» — выпалил он. — Какого черта вы тут делаете?»
«Да мы-то ладно, — изумленный от неожиданности, пробормотал я, — а ТЫ какого х… тут делаешь?»
«Я собрался было прихватить с собой Пэтти, — объяснил Джордж, — но говорят, все рейсы отложены. Так что, наверное, придется вернуться только завтра.»
Когда же я поведал ему нашу печальную историю, он предложил провести ночь в роскошном отеле, где БИТЛЗ по привычке заняли целый этаж. Именно поэтому я и оказался на тайной конференции с Махариши.
Его Святость принял нас в своих роскошных апартаментах, где мы и застали его сидящим на огромной куче подушек. Мы в положенном порядке уселись у его ног, и БИТЛЗ с благоговением вознесли на него взоры, а он принялся изливать свои проповеди. Однако вскоре Джон в компании Волшебного Алекса решился спросить Махариши о войне во Вьетнаме. «Мы все против того, чтобы наше правительство помогало американцам, — сказал Джон. — В Англии даже делают напалм, и мы хотели бы узнать, что Вы нам посоветуете сделать, чтобы положить этому конец.»
Первой реакцией Махариши стал типичный букет смешков. Когда же к нему вернулось самообладание, он принялся отвечать тем успокаивающим тоном, каким балующий отец разговаривает с непослушным сыном. «Вам посчастливилось, — сказал он, — жить при демократичном правительстве. У вас есть все права высказывать свое личное мнение, но в конечном итоге вы должны поддерживать демократическую систему своей страны посредством поддержки своего правительства, которое выражает волю народа.»
Если бы такой ответ Джону дал кто-нибудь другой, он бы тут же отверг его. Но в то время он принимал каждое слово Махариши, как слово Божие. Все остальные обдумывали эту краткую речь в неловком молчании, и один только Волшебный Алекс счел уместным бросить вызов Махариши в лицо.
«Я узнал тебя! — неожиданно воскликнул он. — Разве мы не встречались в Греции много лет назад?»
«Нет, нет, — хихикнул этот монах. — Я никогда не был в Греции.»
«Я точно помню, что уже видел тебя, — настаивал Алекс, — только в то время ты не звал себя Махариши. Ты путешествовал под другим именем и занимался кое-чем совсем не похожим на то, чем занимаешься сейчас!»
Ошеломленные безрассудством Алекса, БИТЛЗ быстро утихомирили его и начали обсуждать планы о проведении несколькоих месяцев в Гималаях вместе с Махариши. После окончания встречи Джон с яростью набросился на своего греческого друга. «Я УВЕРЕН, что встречался с ним раньше, — твердил Алекс. — Он совсем не тот, за кого вы его принимаете. Это просто жулик. Он занимается этим только ради денег.»
Но как бы Джон ни пытался игнорировать эти слова, обвинения Алекса вкупе с замасированной защитой британской политики в войне во Вьетнаме неизбежно впервые за все время вызвали у него сомнение: действительно ли Его Святость был достоин того превознесения, каким он и Джордж одаривали его?
Перед отъездом в Ришикеш (Индия) в феврале 1968 года Джон настойчиво уговаривал меня поехать с ним в ашрам Махариши. Однако в конце концов он согласился, что будет лучше, если я за время отсутствия БИТЛЗ поживу у Джона в Кенвуде и поработаю в «Эппл». Вместо меня компанию Джону составил Волшебный Алекс — и остался с ним, даже когда Ринго и Пол в скором времени поспешно вернулись назад в Англию.
В итоге Джон тоже вернулся домой неожиданно и почти на месяц раньше запланированного. Махариши, как он с горечью объяснил мне, оказался просто мошенником.
И без слов понятно, что не кто иной, как Волшебный Алекс распустил убийственные слухи о том, что этого святого видели балующимся с грудями самой пышнотелой молодой поклонницы медитации. Джордж и Син отказались поверить в это, но в конце концов согласились с решением Джона сделать Махариши очную ставку.
Когда Джон и все остальные ворвались в обитель гуру, его первой реакцией, естественно, было: «В чем дело?».
«Если вы и вправду такой космический, каким себя именуете, — ответил Джон, — вы уже должны знать, в чем дело!»
По словам Джона, Махариши мгновенно побагровел от ярости и тем самым выдал себя. Тут-то Джон и принял бесповоротное решение покинуть ашрам.
Несколько часов спустя Махариши показался вдали, когда Джон и остальные уже грузили свой багаж в два такси, которые Алекс откомандировал из ближайшей деревни. «Джон! Джон! — горестно звал гуру. — Пожалуйста, не бросай меня! Вернись, вернись!»
«Даже тогда, — рассказал мне Джон, — меня тянуло к нему, словно магнитом. Мне вдруг сразу расхотелось уезжать, но я заставил себя сделать это и съе…л оттуда, пока не было совсем поздно.»
«И вся эта шумиха, — поразился я, — из-за каких-то двух титек! Ну что за х…ня, Джон, мы же все любим подержаться иногда за девичью грудь. Он ведь тоже человек.»
«Да, — вздохнул он, — но он не такой, каким я его себе представлял.»
«Значит, ты хочешь сказать, что меня надрали на 25 фунтов?» — сказал я, намекая на недельную зарплату, которую у нас забрали при Посвящении, — а ты-то, наверное, угробил ох…ную кучу денег!»
От этих слов Джон разразился истеричным смехом.
«Честно говоря, Пит, — сказал он, — я ни за что не заплатил ему!»
Глава двадцатая: Будь моим водителем (Drive My Car)
Вскоре после того, как Джон расстался с Махариши, я решил, что не могу больше работать в «Эппл». После одного особенно идиотского рабочего дня я влетел в утреннюю комнату Джона и категорически заявил ему, что ухожу.
Нисколько этим не огорченный, Джон, который не мог не замечать моего постепенного разочарования «Эппл», сказал: «А почему бы тебе тогда не стать моим П.А.?»
«А что такое П.А.?»
«П…щий артист! — хохотнул Джон. — А вообще-то, это означает «персональный ассистент», что, конечно же, куча говна. А попросту это значит, что мы будем вместе еще больше.»
«Фантастика! — воскликнул я. — Но как же быть с машиной компании?» (БИТЛЗ незадолго до этого предоставили в мое распоряжение «Ягуар», дабы мне не было нужды одалживать их собственные лимузины.)
«Пользуйся ею, сколько хочешь, — ответил Джон. — Мы купили ее для тебя.»
И вот на следующее утро я начал «работать» в качестве персонального ассистента Джона. В мои довольно расплывчатые обязанности входило возить его, куда ему захочется, (что, впрочем, я и так делал уже не один год), а также разбирать его почту, оплачивать счета и следить за его личным счетом. Однако оба мы прекрасно понимали, что на самом деле я был нанят на эту работу «для компании».
Весной 1968 года Джон был таким одиноким, растерянным и несчастным, каким я его уже давно не видел. Хотя его отношения с остальными Битлами по-прежнему не были затронуты напряженностью, он все меньше и меньше виделся с Полом и Джорджем, которые теперь жили своими личными интересами и жизнью. Брайана Эпстайна не стало, жена была для Джона всего-навсего чужим человеком в его доме, и я чувствовал, что он постоянно нуждается в моей близости. Вместе с тем, утрата веры в Махариши вновь духовно опустошила его. Инстинктивной реакцией на это стало бурное возвращение к прежним наркоманским привычкам. (Джон вместе с остальными Битлами на все время пребывания в Индии отрекся от спиртного и наркотиков.)
Оглядываясь назад, легко заметить, что в тот период Джон был особенно «открыт» для чего-то или кого-то, что могло бы выбить его из этой проторенной колеи. Вместе с тем, время Йоко Оно еще не настало. И даже хотя Джон, пока был в Индии, переписывался с ней и держал на ночном столике сборник ее «стихов-инструкций», его влечение к Йоко оставалось чисто интеллектуальным. В конце концов, Йоко ничем не напоминала Бриджит Бордо, которую мы оба все еще считали идеальной женщиной.
Как раз вскоре после моего назначения личным помощником Джона, Дерек Тэйлор устроил для него обед вместе с единственной во всем мире Бриджит. И без слов ясно, что Джон был вне себя от возбуждения, что он на самом деле увидит во плоти женщину, о которой мечтал уже почти 15 лет. Конечно же, я просил его разрешить мне «сесть на хвост», но, поскольку Бриджит заверили, что это не будет просто встреча с толпой незнакомцев, составить ему компанию смог только Дерек.
Я же остался один в Кенвуде и, черной завистью завидуя Джону, с нетерпением ждал его возвращения. Он вернулся домой намного раньше, чем я ожидал и выглядел гораздо мрачнее, чем следовало по моему разумению. «Ну, что там было? Рассказывай, — затаив дыхание, сказал я. — Не томи!»
«А ни х…я там не было! — буркнул он в конце концов. — Я настолько ох…л от волнения, что перед встречей заглотил «кислотки» и тут совсем одурел. За весь вечер я только и сделал, что поздоровался с ней, когда мы увиделись. После этого она проговорила все время на французском со своими друзьями, а я даже не мог придумать, что ей сказать. Это был совершенно идиотский вечер — даже хуже, чем встреча с Элвисом. Вот и все дела.»
Как я понял, удивительная неуверенность и робость Джона в общениии с женщинами распространялась не только на Бриджит Бордо. Однажды вечером, например, я привез его на открытие картинной выставки, которой Джон оказал финансовую поддержку, его старого приятеля по Художественному колледжу Джонатана Хэчью. Как и следовало ожидать, присутствие в галерее настоящего живого Битла полностью затмило самого художника, и там одна молодая женщина, хотя и очень привлекательная, но далеко не Бриджит, так настойчиво таскалась за Джоном, что ее намерения не вызывали сомнений. Когда же мы собрались уходить, я спросил его: «Так где бы ты хотел вые…ть эту пташку?»
«Не знаю, — пробормотал он. — Я даже не уверен, что нравлюсь ей…»
И хотя, в конечном счете, он придумал, куда отвезти эту девицу, мне показалось слишком несерьезным, что суперзвезда уровня Джона может хоть на секунду усомниться в своей «желательности».
Через одну-две недели Джон, Нейл Эспинол и я приняли приглашение Дерека Тэйлора посетить с ночевкой его временную резиденцию в сельской местности — пресловутый особняк в японском стиле, которым владел Питер Эшер, расположенный на берегу сказочного по красоте озера вдали от каких бы то ни было людских поселений. Исходным поводом для этого путешествия было то, что Дерек очень хотел проиграть нам дебютный альбом доселе безвестного Гарри Нильсона, которого он провозгласил «американским Битлом».
Мы уже приехали, когда вдруг зазвонил телефон Дерека и — подумать только! — звонивший оказался не кем иным, как Гарри Нильсоном. После краткого обмена любезностями, Дерек повернулся к Джону. «Ты не хотел бы сказать пару слов Гарри? Он будет счастлив, если ты поговоришь с ним.»
«О чем же мне с ним говорить-то? — проворчал Джон, но все же собрался и подошел к телефону. — Привет, Гарри, — радостно сказал он. — Мне очень понравился твой диск… быть может, мы как-нибудь увидимся… ну, пока, привет…» Конечно же, в 70-е годы Гарри Нильсон стал одним из самых близких друзей Джона.
Когда детей Дерека уложили спать, мы заглотили немного ЛСД и выкурили по паре сигарет с марихуаной, и вновь и вновь слушали прекрасный диск Гарри. Наконец, мы с Джоном, шумя и крича, пошли к озеру, изумительно освещенному прожекторами, а альбом «Нильсон» тем временем гремел из колонок, стоявших на лужке. Через некоторое время начался дождь, мы вернулись домой, и там Дерек безотлагательно вручил Джону еще одну порцию ЛСД. «Эта особенно крута, — сказал он. — Раздели ее с Питом.»
Не расслышав последних слов, Джон проглотил всю дозу к ужасу Дерека, который тут же отозвал меня в соседнюю комнату. «Слушай, Пит, — прошептал он, — это страшно сильная штука. У Джона будет жуткий трип, так что нам надо держаться рядом с ним.»
Вдобавок, примерно в 4–5 часов утра, откуда ни возьмись из дождя возникла пухленькая средних лет жена смотрителя здания, несшая узелок с бельем. «Чуть не вымокла! — весело прощебетала она. — Но нельзя же без стирки!»
На следующее утро Джон признался, что увидев, как мы с Дереком сбежали в другую комнату после того, как он проглотил ЛСД, «сразу пере… это и начал мучиться от страха — что я такое съел?»
Еще больший страх объял его после того, как «кислотка» стала оказывать действие, и в итоге Дереку пришлось сидеть у его кровати до середины следующего дня. В попытке восстановить расшатанное ощущение своего «Я» Джона, он заставил его пересказать всю свою биографию, начиная с раннего детства. Дерек даже прошелся — строчка за строчкой — по всем песням Леннона-МакКартни, чтобы продемонстрировать Джону пределы его выдающегося вклада в музыку БИТЛЗ. Когда мы с Джоном в конце концов собрались уезжать, настроение и самочувствие Джона заметно улучшились.
Между прочим, Дерек впоследствии узнал, что его дом не только прежде использовался в качестве убежища одним из Грабителей Большого Поезда, но и что во время нашей кислотной вечеринки на деревьях вокруг прятались агенты отделения полиции по особо опасным преступлениям. Они тогда как раз только получили ложное уведомление о том, что этот бандит собирался «вернуться на выходные», и, наверное, были немало озадачены странными событиями той ночи, но все же не захотели выдать своего присутствия.
Отсутствие цели и интересов и общая неудовлетворенность жизнью отнюдь не облегчили жизнь и «персональному ассистенту» Джона. Даже со мной он становился постепенно все более раздражительным и замкнутым, и я начал изменять мнение о своей новой должности.
Как бы то ни было, наша дружба продлилась двадцать лет главным образом потому, что мы всегда считали друг друга более или менее равными. Теперь же я в первый раз в жизни работал уже непосредственно на него. Наверное, поэтому, я и стал неизбежно чувствовать себя, как какой-то подчиненный. И, как человек, всегда предпочитающий держать свою судьбу в собственных руках, я испытывал ощущение, что это вредно влияет на мою способность вести себя с Джоном так, как всегда.
Вместе с тем, всякий раз, когда я намекал, что для нас обоих будет лучше, если я найду себе другую новую работу, Джон начинал паниковать и просил меня остаться у него. «Кроме тебя, — твердил он, — у меня никого нет.»
Глава двадцать первая: Баллада о Джоне и Йоко (The Ballad Of John And Yoko)
Пожалуй, самый памятный вечер из всех, проведенных мной с Джоном, начался довольно обыденно и прозаично. В студии звукозаписи в дальнем конце его мансарды мы заглотили по порции ЛСД, выкурили несколько сигарет с марихуаной и нехотя забавлялись с хитросплетением магнитофонов «Бруннель».
Поскольку Джон был тогда без ума от работ Карлхайнца Штокгаузена, в те дни, в мае 1968 года, нашим любимым времяпрепровождением стало импровизирование с «конкретной музыкой» — баловство с воспроизведением записей задом-наперед и конструированием пленочных петель. На сей раз мы распахнули окна для свежего весеннего воздуха и принялись орать в сторону непонятливых деревьев все, что приходило в голову, а за нашими спинами тем временем вертелись магнитофонные кассеты. Я тогда и подумать не мог, что забавам именно того вечера суждено увековечиться в «Revolution № 9» на «Белом альбоме» БИТЛЗ.
Через какое-то время мы устали от всего этого и уселись на полу, скрестив ноги. Между прочим, Син тогда отдыхала в Греции с Волшебным Алексом. Наш разговор постепенно стал серьезным, и Джон поведал мне о разочаровании в Махариши и всех остальных, у кого он искал «руководства». Потом он погрузился в долгое молчание, а я рассеянно уставился на стену, на постер Бриджит Бордо, и представлял то, что я не прочь был бы сделать с ней, вспомнив при этом наши разговоры о Бриджит, когда мы были еще детьми.
Неожиданно я заметил, что Джон начал совершать вытянутыми руками волнообразные движения, напоминающие медленные взмахи крыльев, и вдруг произнес жутким шепотом: «Пит, мне кажется, я — Иисус Христос».
«Что??!! Ну-ка, повтори!»
«Да, — снова шепнул он, и я понял, что он не шутит, — мне кажется, я — Иисус Христос. Я… воскрес…»
Услышать подобное признание, даже я, привыкший к полнейшей непредсказуемости Джона Леннона, ожидал меньше всего. Но кто я такой, подумал я, чтобы судить об этом: ведь и Иисусу Христу в какой-то момент пришлось решить, что он — Иисус Христос…
«Ну и что же ты теперь собираешься делать?» — осторожно спросил я.
«Я должен рассказать всем об этом, — сказал он. — Я должен сообщить всему миру, кто я…»
«Но тебя просто убьют. Они не поверят.»
«Ну что же, тут ничего не поделаешь, — сказал он твердо. — А сколько было Иисусу, когда его убили?»
«Не знаю… Наверное, где-нибудь около 32-х».
Преодолев многолетнее отвращение к арифметике, Джон за несколько секунд произвел расчет на пальцах. «Черт возьми, — резюмировал он, — у меня есть, по крайней мере, четыре года!»
«Как же ты обо всем этом узнал?»
«Просто мне так кажется. В этом есть смысл моего существования.»
Приближался рассвет. Джон все больше и больше заводился; я же по-прежнему не представлял, как быть с его новой причудой.
«А разве тебе мало того, что ты — Джон Леннон?»
«Как это?»
«Ведь, будучи Джоном Ленноном, ты можешь сделать не меньше, чем Иисус Христос. И не забывай, что несет с собой религия. А как Джон Леннон, ты мог бы объединить всех людей мира, независимо от их расы, религии и вероисповедания.»
Но Джон оставался непреклонным и был абсолютно убежден, что он — Иисус Христос. «Завтра мы первым делом поедем в «Эппл» и всем об этом расскажем.»
В следующий момент мы услышали шаги Дот, домохозяйки, пришедшей на работу. Мы уже тогда полудремали, лежа рядом на полу и, одновременно открыв глаза, увидели Дот, удивленно смотревшую на нас.
Мгновенно проснувшись, Джон вскочил на ноги.
«О Господи, — буркнул он, — она еще подумает, что мы тут е…ли друг друга.»
«С какого это х…я она должна такое подумать? — удивился я. — Мы ведь одеты, прежде всего.»
Отнюдь не забыв метаморфозу прошедшей ночи, Джон быстро перешел к делу. В «Эппл» было назначено экстренное тайное совещание так называемого «внутреннего окружения» БИТЛЗ, куда входили сами Битлы, Дерек Тэйлор, Нейл Эспинол и я. На свои места все уселись с заметным волнением по причине неожиданности тайного совещания.
«Значит, так, — сказал Джон, — я хочу сообщить вам нечто очень важное. Я — Иисус Христос, который воскрес. Вот что я хотел сказать.»
Пол, Джордж, Ринго и их ближайшие друзья замерли в полном ошеломлении. Возникшая сцена показалась мне чертовски сюрреалистичной, и я смеялся про себя, и думал: «Что же он еще выкинет?» Это было его вечной загадкой — невозможность предсказать заранее.
Но даже когда к присутствующим вернулся дар речи, никто не решился подвергнуть Джона перекрестному допросу или просто уточнить его слова. Вместе с тем, никто не смог предложить новому Мессии какого-то плана действий, ибо все сошлись на том, что им необходимо некоторое время, чтобы обдумать заявление Джона и решить, как быть дальше. Совещание быстро закончили, и все так же единодушно согласились, что неплохо бы немного выпить и перекусить.
Пока мы ждали в ресторане столик, один приветливый пожилой господин узнал Джона и сказал: «Очень рад видеть вас. Как поживаете?»
«Честно говоря, — ответил Джон с самым честным выражением лица, — я — Иисус Христос.»
«Да-да, конечно, — вежливо согласился тот джентльмен, — мне очень понравился ваш последний диск. По-моему, он превосходен.»
Когда в тот же вечер мы вернулись в Кенвуд, я почти валился с ног от усталости. В отличие от Джона, которому ничего не стоило не сомкнуть глаз несколько ночей подряд, мне время от времени необходимо было поспать. Мы ненадолго улеглись покурить «травку» и тут, часов около десяти, Джон вдруг сказал: «Я бы не прочь побыть сегодня с женщиной. Ты не возражаешь, если я приглашу сюда кого-нибудь?»
«Нисколько, — ответил я, — я все равно скоро отрублюсь. Меня не хватит на вторую ночь.»
«Тогда я, наверное, позвоню Йоко.»
«Так она тебе нравится?»
«По правде говоря, я и сам не знаю, — сказал он. — Но ЧТО-ТО у меня к ней есть. Мне бы хотелось узнать ее немного получше… и сейчас как раз подходящее время, — размышлял он вслух, — жены дома нет и все такое…»
Через несколько минут Джон уже разговаривал с Йоко, отвергая ее возражения о приезде в Уэйбридж в такое позднее время с ее лондонской квартиры.
«Возьми такси, — сказал он, — когда оно приедет, я заплачу.»
Когда к дому Джона часом позже подъехало такси, он попросил меня «немного одолжить». (БИТЛЗ, как и королева Англии, не носили с собой наличных денег.)
«Я, право, и не знаю, найдется ли у меня», — ответил я с подколкой.
«Давай, давай, Пит, — сказал он с нервным смешком, — кончай п…ёж, быстро раскошеливайся!»
Хихикая от успеха шутки, я протянул ему деньги, и он занялся «ответственным делом»: встретил Йоко и расплатился с водителем.
После обычного обмена любезностями мы втроем перешли в просторную и редко посещаемую гостиную. Как и при нашей первой встрече в «Эппл», Йоко казалась очень стеснительной и неуверенной в себе и говорила еле слышным голосом. Джон чувствовал себя не менее неловко, и поэтому я сидел рядом дабы оказать ему моральную поддержку. Примерно через полчаса натянутого и принужденного разговора я, наконец, попрощался и ушел спать.
Проснулся я необычно рано, около восьми часов. Когда я спустился на кухню позавтракать, то в маленькой комнатке возле кухни вдруг заметил Джона. Он сидел за столом в коричневом халате в стиле кимоно, в котором часто ходил дома, и с жадностью заглатывал вареные яйца, запивая их горячим чаем.
«Здорово, Джон, — весело сказал я. — Ты что это сегодня так рано?»
«А я и не ложился.»
«Ни х…я себе! Ты еще одну ночь не спал?!»
«Да, я всю ночь был с Йоко.»
«Ну и как, вы хорошо провели время?» — сказал я с намекающей ухмылкой.
Но выражение его лица оставалось совершенно серьезным, и он ответил тихо и почти благоговейно: «Да, Пит. Это было удивительно».
(Чтобы нарушить молчание, Джон предложил Йоко два своих любимых занятия: ЛСД и «баловство с пленками». После того, как они добавили несколько штрихов к «Революции № 9», Йоко предложила сделать что-нибудь «своё». По мере того, как Джон с возрастающей непринужденностью крутил разные ручки, ее неуверенность пропала, и она разразилась своими фирменными визгами, пронзительными криками и прочими экффектами «раскованного вокала». Именно тут Джон и понял, что «еще кто-то так же шизанут, как и я», и что Йоко, по сути, была «я — в мешке!» На рассвете под щебетанье птиц за открытыми окнами, создававших Йоко контрапункты, они закончили свою первую композицию «неоконченной музыки», которую назвали «Два девственника». Затем Джон и Йоко впервые занялись любовью.)
Смекнув, что произошло нечто необычное, я плюхнулся в свое любимое кресло, поудобнее сложил ноги и приготовился услышать его рассказ. Но он сказал вместо этого: «Ты что-нибудь сегодня делаешь?»
«Нет, ничего особенного. А ты чем хочешь заняться?»
Я предплолагал обычные послеобеденные забавы — быть может, попойку или же поездку в «Эппл» для выполнения одного из импульсивных планов Джона.
«Слушай, Пит, ты не мог бы подыскать мне дом?»
«Дом?! На х… тебе нужен дом? У тебя же есть дом — ты сидишь в нем!»
Он рассмеялся своим коронным хохотком и сказал: «Мне нужен еще один дом.»
«Зачем это?»
Джон очень аккуратно поставил чашку на стол.
«Я буду жить там с Йоко.»
Эти слова потрясли меня не меньше, чем его «заявление» какие-то 24 часа назад о том, что он — Иисус Христос. Мне ничего не оставалось, как ловить ртом воздух от изумления.
«Да, Пит, — сказал он, — я хочу жить там с Йоко.»
«Ты это серьезно? — шепотом спросил я. — Ты это правда серьезно, Джон?»
«Да, это серьезно. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО! Вот оно, Пит! Я ждал этого всю свою жизнь. На х… все остальное! На х… БИТЛЗ, на х… деньги, на х… все это! Если надо будет, я стану жить с ней в самой б…й палатке!»
Я и Джон — в возбуждении и радости — вскочили на ноги.
«Но это невозможно, Джон!»
«Да, это невозможно. Это просто невероятно! Именно так мы и влюблялись в детстве. Помнишь, когда ты встречал девушку, тебе хотелось быть с ней ВСЕ ВРЕМЯ и ты все время ДУМАЛ о ней. Помнишь, как все мысли были только о ней одной? Так вот, Йоко сейчас наверху, и я не могу дождаться, когда вернусь к ней. Я так проголодался, что мне пришлось бежать сюда и сварить себе яйцо, но для меня невыносимо быть без нее даже ОДНУ СЕКУНДУ.»
Естественно, я был рад видеть Джона таким счастливым и не сомневался, что его счастье, если оно не будет коротким, сделает мою жизнь в Кенвуде еще приятнее. Я также понял, что он без колебаний пожертвует для Йоко всем — и Синтией, чье имя в то утро даже не упоминалось, — в первую очередь, что в свете того факта, что Джон и Йоко знают друг друга не больше двенадцати часов, казалось невероятным. Уже много лет Джон ждал человека подобной значимости, хоть я и не уверен, что его очень удивило, что «молния», когда она все же ударила, пришла именно из этого направления.
Кроме того, всю свою жизнь Джон запросто бросал свои прежние занятия, если появлялось что-то более интересное. Он никогда не держался за прошлое, не беспокоился о будущем или о далеко идущих последствиях своих мгновенных решений.
Йоко, не теряя времени, перетащила свои манатки, все, какие были, в Кенвуд. Когда Джон увидел состояние ее гардероба, он сунул мне в руку толстую пачку банкнот, до общения с которыми теперь так редко снисходил.
«Пит, ты не смог бы прокатиться с ней по магазинам? Ей нужно купить кой-какую новую одежду. А между делом, будь добр, расскажи ей о БИТЛЗ и всем остальном. Она даже не знает, кто есть кто!»
Хотя посещения магазинов ни в коей мере не соответствовали моим понятиям о приятном времяпрепровождении, я был рад возможности сделать что-нибудь для женщины, несомненно возродившей жизненную энергию Джона. За время езды в Лондон я прочел Йоко краткий курс о БИТЛЗ и «Эппл», после чего было совершено турне по универмагам Кинг-роуд. Похоже, ее впечатлили новомодные фасоны и мне пришлось тактично отговорить ее от покупки просвечивающей блузки. Вместо нее она купила белый кожаный жакет и несколько сравнительно более приличных блузок и брюк.
Но, конечно же, самой большой проблемой для меня было найти дом для Джона и Йоко.
«Посмотри тут неподалеку, — сказал Джон. — Ты знаешь, что мне нравится. Если он понравится тебе, значит, понравится и мне.»
Я обратился к агенту, специализировавшемуся на загородных поместьях и имениях. «Мне нужен дом в радиусе 50 миль от Лондона, — заявил я, — и чем больше земли, тем лучше. Желательны также лесные участки и озеро. Вопрос о цене не существенен.»
Большую часть следующей недели я осматривал дома, в среднем, по пять за день, пока, наконец, не забрался в своих исканиях на полкилометра в лес по грязной дороге. Я увидел конюшни, озеро с эллингом, а в конце дороги — готический замок с огромными настенными часами, окруженный сухим рвом.
Когда я прошел через подъемный мост, меня приветливо встретил джентльмен примерно лет шестидесяти, предложивший пройтись по всем комнатам, битком забитым старинными и антикварными предметами, в том числе десятками масляных портретов XVIII века, дубовыми корабельными сундуками с медной окантовкой и огромным чучелом анаконды. Полное отсутствие каких-либо современных электрических устройств — радио или телевизора — еще более усиливало иллюзию того, что я попал в другое столетие. 25-метровый обеденный зал, к примеру, был оснащен менестрельевой галереей, а в дальнем конце — огромным церковным органом.
Хотя этот господин (как и его отец, и дед) прожил там всю жизнь, он и понятия не имел, сколько именно комнат в имении, но полагал, что их, по крайней мере, пятьдесят. Из-за преклонного возраста он и его жена вынуждены были перебраться в крайние комнаты особняка, а теперь — и вовсе продать его. Я был глубоко взволнован страдательностью их положения, но все же считал, что само имение переходит в хорошие руки, ибо не сомневался, что Джон страстно его полюбит.
В следующее воскресенье я повез туда Джона и Йоко в переделанном «Мини-Купере», который он разрисовал яркой желтой и зеленой краской, оснастил темными стеклами, гоночными колесами и полной стерео-системой, что в 1978 году все еще было в диковинку. Для того, чтобы передохнуть после долгой езды, мы остановились перекусить в одной деревенской таверне.
Пока я пошел заказать нам пива и сэндвичей, Джон и Йоко уселись на траве в саду. Вся клиентура пивняка застыла в изумлении от вида этих двух чужестранных фигур на лужайке: Джон и Йоко тогда как раз начали носить все только белое, а их волосы ниспадали сзади на плечи. Таким вот было первое публичное появление Джона и Йоко как пары, хотя сообщение об этом по таинственной причине не достигло алчущих ушей Флит-стрит.
Я еще не успел остановить желто-зеленый «Мини-Купер» возле особняка, а Джон уже шумно выражал свое восхищение тем, что видел вокруг. Тем не менее, когда я постучал в дверь, мы инстинктивно собрались и настроились на критический лад. Я еще не сообщал фамилии потенциального покупателя, ибо хорошо знал о нелюбви Джона к бурной реакции незнакомцев. Однако, этот пожилой господин приветствовал нас доброй улыбкой и пригласил «на чашечку чая». Когда я, наконец, представил своего спутника по имени, он и глазом не моргнул. Мы с Джоном обменялись взглядами, говорящими: должно быть, это последний в Англии человек, не знающий о БИТЛЗ, поскольку Йоко была уже «просвещена».
Внутренний интерьер особняка впечатлил Джона еще больше, чем наружный. Немалых усилий ему стоило сохранять приличие и подавить свое желание поиграть на старинном церковном органе. У одной из комнат наш хозяин сказал в извиняющемся тоне: «Вам придется простить меня за следующую комнату, но мой внук так любит всю эту современную поп-музыку…» После этого мы вошли в комнату, стены которой от пола до потолка были обклеены фотографиями БИТЛЗ, в том числе и большим цветным плакатом Джона Леннона, возле которого (пока стоявший спиной пожилой джентльмен словоохотливо болтал), с едва сдерживаемой улыбкой позировал живой Джон Леннон.
Всю дорогу назад, в Уэйбридж, Джон заливался от радости. «Это именно то, что нужно, Пит! Покупай! Мне плевать, сколько это стоит, покупай и п…ц!»
Я тогда совершенно не обратил внимания на то, что за время нашей экскурсии Йоко не произнесла ни слова, что она вообще часто делала в моем присутствии. Высадив их в Кенвуде, я сообщил агентам по недвижимости, что особняк можно считать проданным.
Когда я позвонил Джону на следующий день, я упомянул об этом. «Извини, Пит, — пробормотал он, — ничего не выйдет. Йоко он не понравился…»
«Ну, раз такое дело, — сказал я, — мне этим больше нет смысла заниматься. Я прекрасно знаю, что нравится ТЕБЕ, а не что нравится Йоко. Я просто передам тебе все фотографии и описания, а дальше уж решайте все сами.»
Однако, в результате всего этого я купил себе небольшой домик в Эшере, позволивший мне проводить больше времени с женой и сыном, хоть я и продолжал каждое утро преодолевать короткий путь в Кенвуд и работать в качестве персонального ассистента Джона.
Большинство людей впервые услышали о Йоко 18 июня 1968 года, в день 26-летия Пола МакКартни. Поводом для этого послужила премьера «В своей манере письма», сценической переработки книги Джона Виктором Спинетти в «Нэшнл Сиэтр Компани», куда я и доставил в своем переоборудованном «Ягуаре» Джона, Йоко и Волшебного Алекса. Наверное, этому не следовало удивляться, но мы все же были поражены той огромной толпой репортеров и фотографов, что поджидали у театра Джона и Йоко, вооружившись фразами, вроде: «Что случилось с Синтией?» и «Где твоя жена, Джон?».
И без слов понятно, что исповеди передовиц утренних газет почти ничего не писали о самом спектакле, который, между прочим, Джону необычайно понравился. Еще через две недели Джон и Йоко вновь оказались в центре внимания, в связи с открытием их первой совместной выставки, названной «Ты здесь», в экспонаты которой вошли ящики для сбора пожертвований в пользу эпилептиков, прокаженных и дебилов и 365 белых воздушных шариков, наполненных гелием, которые Джон запустил в лондонское небо со словами: «Я объявляю эти шарики парящими высоко». И тут почти все в Англии, по крайней мере, так казалось, начали говорить о Битле Джоне — о его прелюбодействе и странной любовной связи со странной японской «художницей», которая была на семь лет старше него, сама была замужем и имела 5-летнего ребенка, и чьим величайшим достиженим было распиливание стульев пополам и продюсирование фильмов, где в течение часа показывали голые задницы.
Поначалу Джон получал немалое удовольствие от скептических сообщений прессы. Конечно, он не делал все это преднамеренно, но прекрасно понимал, что они с Йоко могут поразить мир, как самая странная пара, и даже наслаждался абсурдностью картины, которую они, несомненно, представляли для обывателей. Благодрая Йоко, Джон впервые за многие годы сумел совершенно сбить с толку своих поклонников и вырваться из «безопасного» мешка, в котором он пребывал в полном заточении как Битл. Однако к откровенной мести, обрушенной на него прессой и общественностью, просто за то, что он, по его словам, полюбил женщину, которая не подходила под их полные предрассудков взгляды, он относился с нескрываемым безразличием.
Я же, со своей стороны, мог только радоваться тому стимулирующему эффекту, который Йоко оказывала на Джона. Я бы даже сказал, что во всей его жизни она была лучшим «приобретением». Она была не только той самой Любовью его жизни, но и пробудила в нем желание быть тем, кем он больше всего хотел быть — Артистом с большой буквы. Благодаря Йоко, Джон вновь обрел твердые убеждения и взгляды, и смелость снова стать неистовым.
Одним словом, она помогла пробиться наружу ребенку, который всегда был в Джоне. Можно даже сказать, что она вернула его к жизни. Даже из чисто эгоистических соображений у меня была основательная причина приветствовать появление Йоко на сцене, ибо это должно было уменьшить зависимость Джона от меня и тем самым дать мне возможность заняться своей личной жизнью и всем, что ей сопутствует. Уверен, я делал все, чтобы Йоко всегда чувствовала себя в Кенвуде «желанным гостем», и не желал бы ничего большего, если бы мог сказать, что и она отвечала мне такой же обходительностью. Но, к сожалению, ревность и собственнические чувства или же, если угодно, неуверенность оказались у Йоко настолько велики, что она не могла спокойно смотреть, как Джон общается с кем-то так же близко, как и с ней.
Через несколько дней после того, как Йоко перебралась в Кенвуд, я постучал в дверь спальной с каким-то важным сообщением. Когда Джон открыл дверь, я заметил позади него Йоко, сидевшую на кровати — лицо ее почти полностью было скрыто за водопадом встрепанных аспидно-черных волос, — и поразился крошечности и «уязвимости» ее фигуры, которая терялась на 8-футовой кровати Джона. Впрочем, слово «уязвимое» едва ли подходило к описанию выражения ее лица, с которым она смотрела не только на меня, но и на всех остальных друзей и коллег БИТЛЗ. Осознав свою власть над Джоном и, следовательно, над всей битловской организацией, она претерпела поразительные метаморфозы от неловкой, застенчивой мышки до могучей и волевой тигрицы.
Однажды, удивительно прекрасным июньским утром я пришел в Кенвуд, использовав свое магнитно-закодированное удостоверение-пропуск, и влетел на кухню, заваленную первыми дарами природы. Там я застал Джона и Йоко за завтраком, а поскольку через час-другой мне нужно было явиться на совещание в «Эппл», я непроизвольно принялся напевать ему: «Йохо, Йохо, нам пора уходить на работу!» (из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»). Безобидно попытавшисть включить в эту шуточку Йоко, я тут же изменил стишок на «Йоко, Йоко, нам пора уходить на работу!». Мы с Джоном расхохотались от этого глупого каламбура, но быстро осеклись, встретив горящий обидой взгляд мисс Оно. Наверное, этот случай упомянут немного не к месту, но он возбудил во мне первое подозрение в том, что Йоко не испытывает особого восторга от моего присутствия в доме Джона.
Вскоре вернувшись из своего путешествия в Грецию, Синтия тоже застала Джона и Йоко за завтраком на кухне. Йоко вдобавок была в то утро одета в одну из ночных сорочек Син. Несколько следующих дней Синтия оправлялась от шока в квартире Волшебного Алекса. Затем Джон сплавил ее с Джулианом и миссис Лилиан Пауэлл в еще одно средиземноморское путешествие, на этот раз — в Пизару (Италия). Там, без ведома Джона, Син завела свой собственный роман с итальянцем Роберто Бассанини.
Всегда не очень решительный в неприятных конфронтациях, Джон, несмотря на все свои восторги от жизни, которую он предвидел с Йоко, мало задумывался, если вообще задумывался, о неизбежности развода со своей законной супругой. И лишь когда Син уехала в Италию, он принял окончательное решение возбудить дело о расторжении брака. Но даже тогда он не мог решиться сообщить ей об этом сам. Напротив, как это уже было пятью годами раньше, когда он вместе с остальными заставил Брайана Эпстайна выгнать из БИТЛЗ Пита Беста, Джон решил отправить с этим сообщением кого-нибудь другого, а именно — меня.
«Пошел ты на х…! — сказал я ему. — Я не собираюсь ехать в Италию и делать за тебя грязную работу, которую, как ты сам знаешь, черт тебя дери, ты должен делать сам.»
Произнесено это было в шутливом тоне, но, тем не менее, Джон все понял. Вместо меня полетел Волшебный Алекс.
По словам Алекса, его поиски Синтии долго были безуспешны из-за непонятного нежелания пизаранцев разглашать ее местонахождение, что он относил к указу Роберто своим местным друзьям. Как бы то ни было, в конечном итоге Алекс выследил неуловимую миссис Леннон и увез ее назад в Англию.
Условия развода были выработаны на встрече в Кенвуде, на которой присутствовали Джон и Йоко, Синтия и Миссис Пауэлл и, соответственно, их адвокаты. Хоть я тогда и находился в доме, я снова отказался «принимать участие»: при всей моей радости от новоявленного счастья Джона, за прошедшие годы я очень полюбил Синтию и воспринимал расторжение их брака довольно мучительно и болезненно. Но я все же вышел поздороваться с Син и ее матерью, когда они приехали на встречу. Син смущенно и слабо улыбнулась мне, давая понять, что не винит меня ни в чем, а ее мать, напротив, даже отказалась замечать меня и пронеслась в дверь с нескрываемым выражением злобы.
Когда через час-два они уехали, я спросил Джона, как прошла и чем закончилась встреча.
«Это был просто сплошной б…кий идиотизм! — воскликнул он. — Каждый раз, когда я пытался сказать что-нибудь Син, ее адвокат прерывал меня и говорил, что мне не разрешается говорить с ней. Я мог говорить только со СВОИМ адвокатом, который говорил это же ЕЕ адвокату, а ТОТ уже передавал все Син! В конце концов, я не выдержал и сказал: «Слушай, Син, забирай все, что хочешь, Договаривайтесь обо всем сами, потом скажите мне, и я все это вам на х… отдам!»
В итоге Син удовлетворилась 100.000 фунтов и попечительством над Джулианом. Однако, по словам Джона, миссис Пауэлл, получив разрешение не прибегать к услугам адвоката Син, высказала своему зятю все, что она думала о нем эти годы.
«Ты — быдло, ты — говно, ты — подлец, ты — волосатый стиляга! — визжала она. — Лучше бы моя дочь никогда не позарилась на тебя.» И это — от женщины, которой Джон купил дом и ежемесячно отчислял щедрое содержание!..
Еще одно печальное происшествие «при новом режиме» в Кенвуде случилось с преданной домохозяйкой Леннонов Дот Джарлет. За несколько дней до возвращения Син из ее первого путешествия в Грецию, Дот сообщила миссис Пауэлл о еженочных визитах Йоко. Когда Джон узнал об этом, он впервые за последние годы «раскалился добела».
«То, что происходит в МОЕМ доме, это МОЕ дело! — орал он на нее. — Ты здесь всего-навсего домохозяйка, и не имеешь НИКАКОГО права трепаться за моей спиной о том, что тут происходит!»
Сжавшись под таким яростным натиском в комок, Дот отчаянно пыталась загладить свою вину.
«Прости меня, Джон, извини, я не хотела. Я только хотела сделать для вас с Синтией, как лучше…»
«А мне в МОЕМ доме шпионы не нужны! Ты работаешь не на Син, а на МЕНЯ! Я тебя нанял, Я тебе платил — и больше не буду! Ты уволена!»
«Спокойно, Джон, спокойно, — предостерегающе сказал я, когда Дот со слезами выбежала вон из комнаты. — Ты же знаешь, как она тебя любит. Я уверен, она сделала это не со зла…»
«И ни х…я не спокойно, Пит! Нечего меня успокаивать, — отрезал он. — Я прав! И на этом — точка!»
Эти минуты были очень тягостны и печальны, ибо Дот всегда считалась почти что членом семьи Леннонов. Ее роковой ошибкой стало то, что это свое положение она стала считать само собой разумеющимся и забыла, что была всего-навсего нанятой домохозяйкой Джона.
И все же впоследствии Джон не смог найти ей достойную замену. Дот же была настолько убита горем, что попросила меня походатайствовать за нее. Не любящий держать на кого-то зла, Джон, в конце концов, согласился, — но Йоко сказала: «Нет!».
Глава двадцать вторая: Я хочу тебя (Она такая крутая) I Want You (She's So Heavy)
Через несколько недель после того, как Йоко Оно переехала в Кенвуд, БИТЛЗ собрались на Эбби-роуд, чтобы начать записть примерно тридцати новых песен, большая часть которых была написана в Индии. К тому времени Джон и Йоко стали буквально неразлучными — у них даже появилась привычка вместе ходить в туалет — и поэтому я нисколько не удивился, когда Йоко начала приходить в студию с Джоном. Это, конечно, было явным нарушением многолетнего запрета присутствия на сессии звукозаписи жен и подруг БИТЛЗ, хотя я уверен, что ни Пол, ни Джордж, ни Ринго никогда бы не решились оспаривать это чисто сексистское соглашение отчасти из боязни «а что на это скажет Джон?». Вряд ли кто-то из них стал бы нервничать, если бы Йоко не вмешивалась в их дела.
Однако Йоко и не думала быть тихоней. Она добилась того, что оставалась рядом с Джоном, даже когда группа записывалась «на веки вечные». А когда она плохо себя чувствовала, дело доходило до того, что в студию перетаскивали ее кровать.
Но самым большим нахальством, с точки зрения остальных Битлов было то, что Йоко безо всякого стеснения высказывала свою собственную критику их работы, о которой, конечно же, она попросту ничего не знала. Они также в один голос отвергли ожидания Джона и Йоко, что «Эппл», т. е. БИТЛЗ, будет оплачивать все расходы на артистические «хэппенинги» этой пары.
В лучшем случае, присутствие Йоко мешало творчеству остальных Битлов и разрушало те прекрасные взаимоотношения, что существовали между всеми четырьмя музыкантами прежде. В худшем — негодование Пола и Джорджа прорывалось наружу, вызывая тем самым защитную реакцию Джона, что еще больше усиливало напряженность.
Что же касалось Джона, то за один только месяц Йоко дала ему больше вдохновения, чем БИТЛЗ за все предыдущие годы. «Но, — как он сказал позднее, — я должен был выбирать: они или Йоко, и я выбрал Йоко — и это было правильным».
Как бы то ни было, последние следы духа старой команды быстро исчезли, когда Джон, Пол и изредка Джордж стали единолично создавать свои собственные композиции, используя остальных лишь в качестве сопровождающей группы.
Не привыкший выполнять чьи-то распоряжения, Джон вдруг решил, что ему нет никакого дела до непрогрессивной «бабушкиной» музыки, которую Пол заставлял их записывать. Джорджа, тем временем, все больше злило безразличие, которое Джон и Пол демонстрировали к ЕГО песням. А Пол не скрывал неприязни к некоторым наиболее «клевым» композициям Джона, особенно — к «Revolution» и «Revolution № 9».
Однако, в те дни «Revolution» значила для Джона больше, чем любая из написанных им прежде песен, и он был убежден, что она должна выйти на первой стороне дебютного сингла вскоре планируемой войти в строй «Эппл Рекордз». Помимо ознаменования возврата к возбуждающему крепко сбитому рок-н-роллу, который всегда оставался его первой музыкальной любовью, «Revolution» стала первой песней Джона (и БИТЛЗ), содержавшей четкое политическое заявление. И именно по этой причине Пол, в свою очередь, и воспринял ее так настороженно. Аполитичный до мозга костей, он хотел, чтобы БИТЛЗ избегали столь «тяжелой» тематики. Но, как бы то ни было, ненасильственное и очень современное содержание «Revolution» навлекло на БИТЛЗ яростные угрозы от такого воинствующего «подпольного» отребья, как Беркли Барт.
А «Revolution № 9» была, конечно, тем самым импрессионистским монтажем звуковых эффектов, составленных Джоном и мной во время нашего трипа на ЛСД, как раз перед тем, как он провозгласил себя Иисусом Христом. Впоследствии Джон с маленькой помощью Йоко дополнил его (несомненно, она убедила его, что это шедевр, достойный включения в следующий альбом БИТЛЗ).
«Это музыка будущего, — повторял Джон всем вокруг. — Всю нашу прежнюю х…ню можете забыть. Вот оно! Когда-нибудь такие вещи будут делать все! Для этого даже не обязательно уметь играть на музыкальных инструментах.»
Однако убедить в этом Пола было трудно и, принимая во внимание то, что «Revolution № 9» не создала сколько-нибудь заметных новых течений, пожалуй, Пол все же был прав.
Возможно, и несправедливо было бы винить Йоко за чисто музыкальные противоречия, пробивавшиеся на поверхность при создании того, что получило известность под названием «Белого альбома». Но, тем не менее, ее присутствие послужило катализатором той напряженности, которая могла бы оставаться в дремлющем состоянии или же решаться вполне полюбовно. К лету-осени 1968 года от былого веселья, смеха и товарищества не осталось и следа. Битловские сессии звукозаписи превратились в очень серьезную, строгую процедуру, мало чем напоминающую праздничную атмосферу, окружавшую сотворение «Sgt. Pepper».
И не кто иной, как Ринго, в конце концов решил, что не может больше этого выносить и заявил, что уходит из БИТЛЗ. Он уже давно подозревал, что остальные воспринимают его, как нечто само собой разумеющееся. По мере того, как записи и аранжировки группы все более усложнялись, он все чаще оставался не у дел и во время бесконечно долгого безделья после кратковременной работы за ударной установкой, часами резался в карты с Мэлом и Нейлом. Доводя обиду до оскорбления, Пол в последнее время принялся лично накладывать партии ударных для многих из своих песен.
Просидев дома в мрачном настроении около недели, Ринго все же согласился высказать остальным свою обиду и недовольство в бунгало Джорджа. Не помню зачем, но Джон затащил и меня на эту встречу, где Ринго поначалу проявил большое упрямство и своенравие и смягчился лишь после того, как все убедительно заверили его, что он — самый лучший рок-ударник в мире и такой же Битл, как и все остальные, и что без него группа не мыслит существования. Когда же Ринго наконец вернулся в студию, его барабаны утопали в цветах.
Однажды вечером, в конце июля 1968 года, Джон по телефону пригласил меня в лондонский дом Пола. БИТЛЗ, как он сказал, хотят обсудить со мной что-то очень важное. Когда я прибыл на встречу, Джон и Пол были настолько возбуждены, что бросились обнимать меня.
«Пит, Пит! — закричали они хором. — Мы закрываем наш магазин! Мы решили раздать одежду всем, кто будет входить!»
«Чего? — недоверчиво протянул я. — Вы хотите сказать, что хотите просто раздать все и закрыть магазин, так, что ли?»
«Да, точно! — воскликнул Джон. — Разве это не отличная идея?! Это будет потрясающий хэппенинг!»
«А с чего это вдруг все, Джон?»
«Да просто мы зае…сь строить из себя лавочников!»
«Ох, е…ть меня в рот, — простонал я. — Не надолго же вас хватило! А меня, по правде говоря, после того, как я вложил в эту х…ню кучу сил, это не слишком радует…»
«Да ладно, не переживай, Пит, — сказал Джон успокаивающе, — это все ерунда. А перед тем, как заявить об этом, мы можем сами сходить туда и утащить, что получше.»
И в ночь перед бесплатной раздачей, БИТЛЗ и их близкие друзья и коллеги совершили налет на магазин «Эппл» и урвали себе свой «кусок добычи» — причем, похоже, по крайней мере Джон не осознавал, что так радостно воруемое было его личной собственностью. На следующее утро 31 июля первому покупателю, пришедшему в «Эппл», было между прочим заявлено, что за выбранный им товар платить не нужно. Едва только сообщение о раздаче стало достоянием гласности, магазин забила огромная алчная толпа и вынесла из него все, что только можно было вынести — вплоть до вешалок и магазинной мебели.
Однако последними смеялись не БИТЛЗ. Товары на сумму 10.000 фунтов, от которых в то утро избавилась «Эппл», тем не менее попали под закон о налогах на покупки. Налоговое управление не интересовало, что все это было роздано бесплатно.
Теперь уже и БИТЛЗ поняли не только то, что в «Эппл Корпс» царит хаос, но и то, что им позарез нужен хороший бизнес-менеджер, чтобы сделать компанию финансово жизнеспособным предприятием. Одним из наиболее вероятных кандидатов на это место был Ронан О'Рахилли, человек, который, как основатель «Радио Каролина» был почти единолично ответственным за явление «радиопиратства», быстро освободившего британский эфир от ига правительственной Би-Би-Си, или, как Джон насмешливо звал ее, «тетушки Биб». Установленные на кораблях, плавающих у самой границы территориальных вод Великобритании, эти коммерческие станции буйно процветали с 1964 до 1967 года, пока парламент наконец не спровоцировал «разгон». Как проницательный и предприимчивый бизнесмен с безупречными верительными грамотами, Ронан О'Рахилли, казалось, был для БИТЛЗ ангелом-спасителем.
Желая получше познакомиться с Ронаном, Джон решил пригласить его провести с нами уик-энд «подальше от всего этого». После размышлений над несколькими сравнительно удаленными от Британских островов маршрутами, Джон вдруг вспомнил о Дорнише, крохотном необитаемом двойном островке к северо-западу от Ирландии, который он незадолго до этого купил за 20.000. Хотя сам Джон еще не ступал ногой на те «земли», он оставил там свой знак — цыганскую кибитку, расписанную на темы «Сержанта Пеппера» теми же художниками, которые «запсиходелизировали» его «Роллс-Ройс». Организация транспортировки этой кибитки из сада Джона в «биржевом поясе» до бесплодных скал Дорниша выпала на долю Элистера Тэйлора.
«Звучит, конечно, здорово, — сказал я, — но как же мы туда попадем?»
«Это уже забота Элистера, — ответил Джон. — Кибитку-то он туда перетащил, так ведь?»
И вот несчастный битловский «Мистер Сделай-Принеси» получил поручение в течение 24-х часов не только зафрахтовать для нас небольшой реактивный самолет до Дублина, но и нанять там вертолет, который мог бы доставить нас на далекие острова Джона. Меня особенно радовала перспектива первого в жизни полета на вертолете, и я решил взять с собой кинокамеру, дабы сохранить наше путешествие для потомков. Джон, в свою очередь, принес пленку с записью «Революции» в исполнении БИТЛЗ, которую он очень хотел проиграть Ронану.
Однако во время полета в Дублин Джон вдруг сообразил, что от пленки мало толку, если ее не на чем прослушать. А поскольку вертолет мог взять сразу только троих пассажиров, Ронан и его закадычный приятель Джереми Бэнкс любезно согласились поискать переносной магнитофон, а мы втроем полетели на Дорниш.
Пилот нашего вертолета оказался настоящим профессиональным сорвиголовой, время от времени работавшим каскадером в телешоу, и он, судя по всему, решил устроить Джону и Йоко такой полет, который они бы запомнили на всю жизнь. В его «развлечения» входили пикирования с головокружительной высоты и зависание в каких-то 2–3 метрах над землей, что при скорости 300 км/час больше походило на несколько сантиметров. За время нашего бреющего полета над сельскими просторами Ирландии я усиленно снимал на пленку все эти головокружительные эксперименты, а также соответствующую реакцию моих знаменитых «попутчиков».
Высадив нас на более крупном островке, дружелюбный пилот улетел за Ронаном и Джереми. Тем временем мы с Джоном и Йоко решили провести остаток дня, исследуя этот пустынный островок, круто возвышавшийся над заливом и резко оканчивавшийся утесом, выходящим в сторону Атлантического океана. Единственной достопримечательностью его ландшафта были развалины особняка какого-то фермера и, конечно же, ярко разрисованная кибитка Джона.
Обойдя островок вдоль и поперек несколько раз, мы не смогли придумать себе иного занятия, кроме как усесться на камни и ждать возвращения вертолета. И по мере того, как небо постепенно темнело и не подавало никаких признаков жизни за исключением нескольких сотен чаек, мы начали слегка волноваться. Мало того, что у нас не было еды, у нас не было источников освещения мощнее обычной зажигалки, и это вызвало нешуточный вопрос: как пилот сможет найти нас в такую облачную и безлунную ночь, если он вообще не гробанулся где-нибудь по дороге в Дублин.
Вдобавок ко всему, Большой Дорниш оказался чертовски ветренным островом, и, поскольку мы не взяли с собой ничего теплее легких курточек, всех нас понемногу начало знобить. Единственным нашим спасением было искать пристанища в маленькой кибитке Джона. Когда совсем стемнело, и мы уже не видели друг друга, мы решили лечь прямо на пол: Джон и Йоко свернулись клубочком в одном конце кибитки, а я — в другом, и пытались хоть немного поспать.
После долгих размышлений над плачевной ситуацией, в которой мы оказались, на ум приходило одно: Джон Леннон, Битл-мультимиллионер, и Йоко Оно, выдающаяся художница, (не говоря уж об одном-единственном в своем роде Пите Шоттоне), оказались заброшенными в психоделически размалеванной кибитке посреди Атлантического океана, причем, скорее всего, ни одна душа в мире и понятия не имеет о том, где мы, — меня вдруг поразила очаровательная абсурдность всего этого переплета, в который мы попали, и меня разобрал смех. Это в свою очередь вызвало прысканья у Джона, хотя мы не обменялись ни единым словом, — и побудило меня, а затем его, хохотать все громче и громче, как нередко бывало в безумные дни учебы в Куари Бэнк.
«Над чем ты смеешься?» — спросила Йоко Джона.
«Просто биотоки. Биотоки Пита, — ответил он. — А правда, над чем ты смеялся, Пит?»
Когда я поведал свои мысли моим спутникам, Джон взорвался истеричным хохотом и не мог остановиться, пока Йоко не обрубила его: «А Я не вижу тут ничего смешного!» — раздраженно крикнула она и эффективно погрузила нас в молчание на оставшуюся часть долгого промозглого ночного бдения.
Казалось, прошли часы, прежде чем монотонный ритм морского прибоя нарушил шум далеких пропеллеров. Выскочив из кибитки, мы с облегчением заорали от радости, увидев яркий луч прожектора, ощупывающего черную поверхность океана, и принялись изо всех сил размахивать руками, пока вертолет, наконец, не завис над Дорнишем.
«Где же тебя носило, ё… твою мать?!» — спросил Джон у нашего «спасителя». Вежливый, как всегда, пилот объяснил, что Ронан и Джереми застряли в Бэлликасле, стараясь купить магнитофон, а была суббота, и все магазины были закрыты. В конце концов они выловили какого-то торговца в его доме и, дав ему на лапу, убедили открыть свой магазин электротоваров. Наш пилот тем временем предусмотрительно забронировал нам места в деревенском трактире XVII века в ближайшем селении, куда и хотел теперь доставить нас.
Дабы мы не пролетели мимо, хозяин трактира зажег все лампы, которые были в доме, причем часть из них вынесли прямо во двор. Приветствовать нас высыпали все работники трактира, они с благоговением смотрели, как Джон Леннон и Йоко Оно выходят из вертолета. По выражению лиц сельчан этой захолустной деревеньки Майо можно было подумать, что перед ними на лужайку только что приземлилась летающая тарелка, и из нее вылезла толпа марсиан.
Светясь от радости, хозяин трактира представился нам и заявил, что специально для Джона организовал представление народных ирландских танцев. «О, ё…й ужас, я хочу просто пойти спать, — простонал Джон, едва только тот джентльмен отошел на безопасное расстояние. — А теперь, наверное, придется остаться…» Как только ирландские танцы, наконец, закончились, Джон и Йоко, пошатываясь, ушли в свою комнату, а я ненадолго подсел в баре к Джереми Бэнксу и Ронану О'Рахилли, которого я, по крайней мере, нашел весьма впечатляющим.
На следующее утро всех нас пятерых в два соответственных захода доставили на Дорниш, где Джон, не теряя времени, врубил стерео-магнитофон, купленный для него Ронаном О'Рахилли. В течение нескольких следующих часов крутые склоны острова непрерывно оглашались раскатами «Революции». Как только песня кончалась, Джон просто нажимал кнопку обратной перемотки и проигрывал ее еще раз… еще раз… еще раз… и еще раз. Между тем, под этот грохот, он болтал с Ронаном (правда, в самых общих фразах), о совместном творчестве с Йоко, о положении дел в «Эппл», о финансах БИТЛЗ, я же тем временем усердно снимал их историческую встречу на пленку.
Поскольку в тот вечер Ронана и Джереми ждали в Англии, они вскоре улетели на вертолете в Дублин, а мы остались на острове послушать «Революцию» еще несколько десятков раз. Затем пилот вернулся и доставил нас на второй маленький островок Джона и еще пару расположенных поблизости, после чего отвез всех в аэропорт «Шеннон».
Но в конечном итоге наша «ирландская эпопея» прошла почти безрезультатно. Остальные Битлы по причинам, известным лучше им самим, не загорелись идеей управления «Эппл» Ронаном О'Рахилли. Джереми Бэнкса, впрочем, назначили фото-координатором компании. Даже моя дебютная попытка в создании фильмов оказалась безуспешной: когда я открыл кинокамеру, то обнаружил, что в безумстве и спешке нашего отлета из Англии я забыл вставить кассету с пленкой! А Джон, со своей стороны, никогда больше не вспоминал о Дорнише, который он вскоре подарил создаваемой хиппистской общине.
В июле 1968 года Джон решил продать Кенвуд. На время своих поисков нового дома, он с Йоко временно сделал своей резиденцией старую лондонскую квартиру Ринго на Монтэгью-сквер. (По случайности, предыдущим жильцом в ней был Джимми Хендрикс.) Синтия, тем временем, ненадолго вернулась с Джулианом в Кенвуд упаковать свои вещи.
После столь безжалостного изгнания из жизни Джона, Син была глубоко тронута, когда однажды днем в Уэйбридж приехал «для поддержки» Пол. По дороге туда он придумал коротенький мотивчик, чтобы утешить Джулиана: «Эй, Джуд, не принимай это близко к сердцу, возьми грустную песню и сделай ее лучше…» Так появилась на свет классическая 7-минутная вещь МакКартни «Hey, Jude».
Как-то вечером я заскочил к ребятам, когда они работали над «Эй, Джуд», но не на Эбби-роуд, а в маленькой студии на Уордер-стрит в Сохо, и застрял там до поздних часов с Битлами, Йоко и Нейлом, принимая изрядные дозы «травки» и выпивки, и раз за разом слушая новую удивительную песню Пола. Когда же я, наконец, заявил, что еду домой, Джон вдруг вспомнил, что у него нет ни машины, ни шофера, и спросил, не буду ли я добр подвезти его и Йоко до Монтегью-сквер. Я, конечно же, согласился, но, будучи совершенно не знаком с Сохо и к тому же заметно «под мухой», вскоре заблудился.
Тут, ни с того, ни с сего, Йоко начала пронзительно кричать на меня с заднего сидения: «Куда ты нас завез?! Я хочу домой! Даже Джон знает Лондон лучше тебя!»
«Ну еще бы, — процедил я сквозь зубы. — Он же прожил здесь дольше, так ведь?» (Меня всегда заинтриговывала фраза Йоко «даже Джон», подразумевавшая некоторое сомнение в его умственных способностях.)
В ответ, однако, она принялась все громче и громче визжать: «Я хочу домой! Сейчас же хочу домой!!»
Вследствие этого я впервые в пристутствии Йоко окончательно вышел из себя. Случается такое не часто, но, если случается, как хорошо знал Джон, значит, фейерверка ждать долго не приходится.
«Я не твой ё…й шофер, Йоко!!! — взорвался я, обернувшись к ней и с силой ударив по тормозам. — И не смей НИКОГДА орать на меня, если я оказываю тебе б…ую услугу, или можешь уё…ть из машины и идти домой ПЕШКОМ!!»
«Пит, Пит, Пит! — вмешался Джон. — Спокойно, спокойно! Она не хотела обидеть тебя, она просто смертельно устала.»
«Запомни: я не позволяю такой х…ни НИКОМУ, — добавил я Йоко. Даже Джону!»
«Ё…е нервы, — подумал я про себя: — какие-то девять месяцев назад эта самая женщина унижалась в моем офисе и выпрашивала 2000 фунтов!»
«Пожалуйста, Пит, отвези нас домой, — попросил Джон. — Извини, что она так сорвалась. Просто она очень устала.»
Должно быть, для него это был ужасный момент: он разрывался между своим старым другом и любовью своей жизни, хотя, подозреваю, извинившись за поведение Йоко, он встал на мою сторону, скорее всего, по ошибке. Я прекрасно понимал уже когда вез их домой в гробовом молчании, что это только распалит негодование и обиду на меня, которые, всплыв теперь на поверхность, вряд ли снова будут храниться в тайне.
Во всяком случае, этот инцидент укрепил во мне уверенность, что рано или поздно одному из нас — Йоко или мне — придется уйти; и, насколько я понимал, это вполне мог быть я. То, что этому откровению суждено было появиться через несколько минут после сессии записи «Hey Jude» — горькой, печальной песни Пола для Синтии и Джулиана Леннона — было достаточно иронично.
«Эй, Джуд» удалась настолько хорошо, что все единодушно признали ее естественным кандидатом для первой стороны первого «эпплского» сингла БИТЛЗ — все, кроме Джона, непоколебимо уверенного, что такой чести должна быть удостоена «Революция». От его внимания не ускользнул тот факт, что «первые стороны» битловских синглов последние два года, такие, как «Paperback Writer», «Penny Lane» и «Hello Goodbye», были композициями МакКартни, хотя Джон хорошо понимал, что его «вторые стороны» (соответственно — «Rain», «Strawberry Fields», «I'm The Walrus») во всех отношениях были сильнее. Казалось, он никогда не задумывался над огромной разницей между тем, что представлял собой коммерческий поп-сингл и большое произведение искусства. А поскольку в последнее время Джон, при поддержке Йоко, решил восстановить свою ведущую роль в БИТЛЗ, пропорциональное распределение «первых сторон» приобрело для него огромное символическое значение.
Обо всем этом я и не догадывался, когда Пол однажды подошел ко мне в студии и спросил: «Скажи-ка, Пит, что должно быть на первой стороне: «Эй, Джуд» или «Революция»?
«Вообще-то не мне об этом судить, — сказал я. — По-моему, они обе фантастичны. Но, на мой взгляд, «Эй, Джуд» звучит более коммерчески.»
Когда через несколько секунд появился Джон, Пол моментально выпалил: «Пит считает, что «Эй, Джуд» должна быть на первой стороне!»
Джон посмотрел на меня так, будто я нанес ему предательский удар в спину. «Но, конечно же, мое мнение ничего не значит, — поспешно добавил я. — Вы — музыканты, вы во всем этом разбираетесь лучше, и решение принимать только вам.»
И хотя больше не было произнесено ни слова, этот короткий разговор оставил после себя неприятный осадок. Попытка Пола использовать меня, как пешку, которой он хотел объявить мат моему лучшему другу, стала моим первым опытом той манипулятивности, к которой он нередко прибегал. Но все же Джон по достоинству оценил «Эй, Джуд», ставшую величайшим всемирным бестселлером БИТЛЗ, обеспечив тем самым «Эппл» старт, лучше которого нельзя было и желать.
Между тем, сессии звукозаписи альбома продолжались почти полгода. Отчасти по деловым причинам, БИТЛЗ решили записать практически весь материал, написанный в Ришикеше и за месяцы, прошедшие после их возвращения, чего было более, чем достаточно для воплощения в их первый двойной альбом.
Один из юмористических моментов, свидетелем которого я был, произошел во время записи вещи Пола в стиле «калипсо» «Об-Ла-Ди Об-Ла-Да» — песенки, которую Джон особенно презирал. (Это также одна из многих песен того периода, в которой можно услышать, как я стучу на заднем плане на тамбурине.) Будучи педантом, Пол весь вечер перезаписывал свой голос бесчисленное число раз, добиваясь, чтобы все было отлично. Получив, наконец, то, что звучало, как безупречное исполнениие, Пол вдруг расхохотался. «Ах б…! — воскликнул он. — Придется переделать ЕЩЕ раз!»
«А по-моему все было О.К.» — зевнул Джон.
«Да, — согласился Джордж, — все было идеально.»
«А разве вы не заметили?» — удивился Пол.
«Что не заметили?» — спросил Джон.
«Я же спел: «ДЕЗМОНД» остается дома и подкрашивает свое симпатичное личико, а вечером ОНА выступает вместе с группой». А надо было спеть «МОЛЛИ»!
Остальные отказались ему верить, пока Джордж Мартин не прокрутил это место и не подтвердил, что Пол прав.
«Ну, все равно, звучит здорово, — заключил Пол. — Давайте так и оставим — пусть будет неопределенность. Все будут недоумевать: то ли Дезмонд — обоюдополый, то ли он трансвестит.»
Несомненно, БИТЛЗ получали огромное удовольствие, сбивая с толку фанов и критиков таинственными «ключами к разгадке», которые, по сути, были просто случайностями или заведомой бессмыслицей. В «Glass Onion», особой любимице Джона, он посвятил всю песню этой пустой игре, добавив новые «ключи» к старым хитам БИТЛЗ (вроде: «Моржом был Пол»). Сама фраза «Стеклянная луковица» была задумана Джоном как название первой группы «Эппл», в конечном итоге назвавшей себя «Badfinger» («Плохой палец»), которая, в свою очередь, служила рабочим названием для Битловской «With A Little Help From My Friends» («С маленькой помощью моих друзей»). Однако, в таких песнях, как «I'm So Tired», «Julia» и «Yer Blues» Джон отошел от причудливой игры воображения для того, чтобы изучить и выставить напоказ свою духовную опустошенность.
Но, тем не менее, из тридцати новых песен мне больше всего полюбились две с витрины Джорджа — «While My Guitar Gently Weeps» и «Long, Long, Long». Я видел, что на этом новом двойном альбоме он, наконец, добился признания, и сказал ему об этом, когда мы говорили о «Белом альбоме» в офисе Дерека Тэйлора на Сэвил-роу, 3. Но больше всего меня поразила экстатическая реакция Джорджа на мои бесцеремонные замечания. Пробыв так долго полностью затмеваемым гением Леннона и МакКартни, он не привык к чьим-то похвалам. Мне же, в свою очередь немало льстило то, что Джордж придал такое значение моему мнению. Официальное название этого альбома — просто «БИТЛЗ» — выглядело весьма иронично в свете того факта, что он уж никак не был настоящей групповой работой. Во всяком случае, большинство прозвало его «Белым альбомом» — за его абсолютно белую обложку, которая, несомненно, отражала продолжающееся увлечение Джона и Йоко белой одеждой, белой мебелью, белой краской и белым искусством.
Пол, однако, хотел, чтобы каждый альбом был проштампован «личным» номером. Он уверял меня, что это станет частью беспрецедентной стратегии сбыта. «За пару месяцев мы организуем обалденную лотерею, и тот, у кого окажется выигрышный номер, получит какой-нибудь фантастический приз. В этом и будет суть продажи: все захотят купить этот альбом. Как ты думаешь на этот счет, Пит?»
«Честно говоря, Пол, — сказал я, — по-моему, это не особо грандиозная идея. На мой взгляд, это дешевка. БИТЛЗ для продажи пластинок подобные уловки и трюки не нужны.»
Поначалу, казалось, это уязвило Пола, но, в конце концов, он допустил: «Да, Пит, наверное, все же, ты прав. Я об этом раньше не думал с такой позиции. Меньше всего БИТЛЗ должны быть дешевкой.»
Во время одной из последних сессий «Белого альбома» я заскочил на Эбби-роуд на свидание с Нейлом Эспинолом, но неожиданно меня перехватил Джон и сказал, что они с Йоко надеются, что я смогу оказать им услугу.
«Ну конечно, Джон, — с готовностью сказал я. — Что нужно сделать?»
«Понимаешь, — сказал он, — Йоко говорит, что у нас в квартире небольшой бардачок. Ты не смог бы навести там порядок? Сами мы слишком заняты, чтобы этим заниматься, а ты — единственный, кому я могу доверить.»
«Ну хорошо, — согласился я. — Я заскочу и все сделаю.»
Но когда я вошел в их квартиру на Монтэгью-сквер, в которой почему-то почти неделю не был, слово «бардачок» оказалось преуменьшением века. Хаос там царил невообразимый: все было завалено бумагами, грязными тарелками и, кроме того, казалось, многолетними коллекциями вонючих носков и трусов.
Я принялся за работу в спальне и все думал: «Слишком они заняты, говорят! Йоко забила на всё х… и таскается целыми днями за Джоном. А почему бы ей самой хотя бы раз не остаться днем дома и не прибрать этот ё…й бардак?»
Угрюмо созерцая гору нижнего белья, ожидавшую меня в следующей комнате, я сел на кровать и закурил. И вдруг до меня дошло: мы с Джоном в этой фазе наших отношений дошли до точки!
Как раз в эту минуту Джон и Йоко вернулись домой. «Колоссально, Пит! — воскликнул Джон, найдя меня в спальне. — Огромное спасибо, — ты провел гигантскую работу!»
«За кого ты меня принимаешь, Джон? — спросил я стальным голосом, глядя ему в глаза. — Перед тобой стоит Пит Шоттон; или ты забыл, кто я такой? Я не уборщик в твоем ё…м доме, и я не прачка, чтобы ковыряться в твоем грязном белье и прибирать трусы твоей жены. Ты что, забыл, кто я такой?»
Джон ненадолго потерял дар речи, но по ошеломленному выражению на его лице я видел, что он понял, что я прав.
«Все, хватит, — сказал я, — мне это надоело. Я ухожу.»
«Но куда же ты теперь пойдешь, Пит? — решился он наконец. — Что ты теперь будешь делать?»
«Что значит: «что я буду делать»?! Я же не какой-то ё…й идиот — уж я-то найду, чем заняться. Я знаю одно: заниматься ЭТИМ я не хочу!»
«Ну ладно, будь по-твоему, раз ты так хочешь, — сказал Джон. — Но мне будет не хватать тебя, Пит. Мне очень будет не хватать тебя.»
«А х…я ли мне тут делать, Джон? Мне здесь нечего делать, и если дело доходит до прибирания за тобой грязного белья, это уже сплошное б…во.»
«Ну ты хотя бы не исчезай, Пит», — попросил Джон.
«Об этом можешь не беспокоиться, — заверил я его. — Я еще появлюсь.»
Когда через несколько минут я вышел на Монтэгью-сквер, с моих плеч словно свалился тяжкий груз. БИТЛЗ, «Эппл», Джон и Йоко — все теперь могло идти своим чередом, без моей личной ответственности или заинтересованности в конечном итоге. С этого часа я мог относиться к Джону так, как относился и раньше на протяжении двадцати лет — ни много, ни мало — как к другу.
Глава двадцать третья: Мне следовало знать лучше (I Should Have Known Better)
Мой следующий визит на Монтэгью-сквер состоялся 18 октября 1968 года. И хотя к тому времени я уже привык ко всякому, чтобы не удивляться действиям Джона, тем не менее, у меня отвисла челюсть, когда я увидел его судорожно пылесосящим пол.
«Господи, Пит, это ты! — крикнул он. — Как я рад, что ты приехал! Сюда едет бригада по наркотикам, и меня хотят арестовать.»
«Да брось ты! Кто тебе сказал?»
«Мне звонили полчаса назад и сказали, что они здесь будут через час.»
«А ты уверен, что это точная информация? Откуда ты знаешь, что это не просто шутка?»
«Нет, это не шутка, — вздохнул он. — Они точно приедут. Мне звонил один из этой бригады; думаю, он надеется на вознаграждение… Но, как бы там ни было, я сейчас пропылесосил ковры. Ты не знаешь, что это за суки — если их ё…я собака что-то вынюхает в твоем ковре, тебя арестовывают. Они все пропылесосят и каждую пылинку рассмотрят под микроскопом, и арестуют тебя, даже если эта х…ня пролежала там уже целых три года. А раз тут раньше жил ё…й Джимми Хендрикс, одному Богу известно, что за х…ня есть в этих коврах!»
После этого мы перерыли всю одежду и карманы, аптечки — все щели и закоулки, куда могли попасть запретные химикалии. Джон взял на себя спальню, в которой Йоко закрылась, когда я приехал. Продолжая обыскивать доставшуюся мне комнату, я услышал шум приглушенного спора, который быстро перешел в прекрасно различимое соревнование «кто кого перекричит».
«Я не хочу, чтобы он оставался здесь! — визжала Йоко. — Пусть сейчас же убирается!»
«А Я ох…нно хочу, чтобы он остался здесь! — кричал Джон. — Нам сейчас пригодится самая маленькая помощь, а Пит как раз хочет помочь нам!»
«Мы и сами со всем справимся! Он нам не нужен! Я НЕ ХОЧУ, чтобы он оставался!»
Когда Джон, наконец, вырвался из спальни, я сказал ему: «Слушай, Джон, я совершенно не хочу таких обострений. Я просто заехал на минутку сказать «привет». Я всегда рад помочь тебе, чем только могу, но я вовсе не хочу лезть в эту х…ню с Йоко.»
«Ох, да брось ты, Пит, — нервно рассмеялся Джон. — Это просто маленький семейный спор.»
«Вот именно, — сказал я. — Это маленький ё…й семейный спор ИЗ-ЗА МЕНЯ. А мне ни х…я не стоит съе…ть отсюда, тем более, что мне не улыбается перспектива торчать здесь, когда сюда едет бригада по наркотикам.»
В конце концов, я настоял на том, что будет лучше, если я уеду, прихватив с собой пылесосный мешок, полный пыли, и Бог знает чего еще. Хотя я потом пожалел, что оставил своего лучшего друга в час беды, все же мое решение уехать было вызвано враждебностью Йоко. Когда я вскоре приехал на Сэвил-роу, 3, в «Эппл» уже знали, что Джон и Йоко попали под опеку полиции. Сержант Норман Пилчер и его бесславная банда «наркозников» — вот так сюрприз! — «обнаружила» небольшое количество гашиша в контейнере для фотопленки, которого, как божился Джон, он и в глаза никогда не видел. Но для того, чтобы избавить Йоко от нервотрепок судебного процесса, не говоря о возможности ее осуждения или высылки из страны, Джон в конечном счете признал себя виновным в хранении конопляной смолки при условии, что к Йоко не будут применяться никакие меры.
И хотя после слушания дела, закончившегося 27 ноября, Джон был оштрафован на 171 фунт, истинная цена ареста оказалась потрясающе высокой. За пять дней до этого у Йоко произошел выкидыш (ребенка посмертно назвали Джон Оно Леннон II), а через четыре года материалы полицейского архива стали предлогом изнурительной кампании администрации Никсона по изгнанию его из Страны Свободы.
Поскольку БИТЛЗ тогда уже считались величайшим достоянием нации и поэтому освобождались от преследования полиции, многие в «Эппл» были убеждены, что истинной причиной ареста Джона была обложка, придуманная им для альбома Леннона-Оно «Два девственника», выход которого был запланирован почти одновременно с «Белым альбомом». И если «экспериментальная» музыка тандема сама по себе едва ли вызвала бы большой интерес, то повсеместно запрещенная обложка не могла не быть очень провокационной. Фотографией себя в голом виде во весь рост Джон, наконец, и в буквальном, и в переносном смысле выставил себя напоказ всему миру. И за это, замечу, я восхищался им.
Однако для остальных Битлов «Два девственника» стали кошмаром наяву: Джон, казалось, теперь совершенно отбился от рук. А что касалось широких слоев общественности, он «вышел за границу» (имиджа) раз и навсегда.
После того, как я снова начал работать «на себя самого» (и стало ясно, что я больше не являюсь постоянной частью ежедневной жизни Джона), мы с Йоко постепенно достигли молчаливого перемирия. Раз в две недели, или около того, я приезжал на несколько часов, в течение которых Йоко обычно подыскивала себе какое-нибудь занятие, а мы с Джоном были вместе. Работа персонального ассистента в конечном итоге досталась Энтони Фосетту, помогавшему Джону и Йоко организовать некоторые их художественные выставки, и, несомненно, хорошо знавшему свое место.
Кроме того, я был вместе с Джоном на рождественской вечеринке 68 года в «Эппл», одним из главных «событий» которой должна была стать 42-фунтовая индейка, наверное, самая большая во всей Великобритании. Несмотря на то, что Джон появился по этому случаю в облике Санта Клауса — с белой бородой и красным носом — он был в явно невеселом расположении духа, и выглядел самым жалким Санта Клаусом на моей памяти. События предыдущих недель — арест за наркотики, выкидыш, вкупе с насмешками и злобой прессы и общественности, конечно же, нанесли свой удар.
Среди приглашенных оказались еще и два члена сан-францисских «Ангелов ада» в компании растрепанных девиц и подружек, уместившихся на паре мотоциклов «Харли-Дэвидсон». Оказалось, Джордж Харрисон во время краткого посещения Калифорнии неосмотрительно пригласил «Ангелов», если они когда-нибудь окажутся в Лондоне, посетить БИТЛЗ. И вот Фриско Пит и Билли Тамблвид («Францисский Пит» и «Билли Перекати-Поле») решили проверить твердость слов Джорджа.
Оба эти жутких типа выглядели так, словно они только что сошли с экрана фильма «Дикие». Завалившись на Сэвил-роу, 3, словно к себе домой, и воздав должное коктейль-бару «Эппл», Билли и Фриско Пит не собирались долго ждать самую большую в Британии индейку.
«Ее уже готовят, — оптимистически сказал Джон, — и очень скоро принесут.»
«Эй, человек, — взревел Фриско Пит, — мы хотим жрать! Живо тащите нам пожрать!»
Наконец Питер Браун осмелился вмешаться в эти тирады. «Этот обед стоил нам огромных трудов, — сказал он ледяным голосом исконно английского дворецкого, — и вам придется подождать его, как это делают и все остальные.»
Слова Питера настолько ошеломили «Ангелов», что они так и застыли с отвисшими челюстями. Но когда кто-то еще попытался объяснить ситуацию в более доступных терминах, один из «Ангелов» ответил на языке, который знал лучше всего. Раздался громкий хруст, и все обернувшиеся в ужасе увидели, как этот «Ангел» со страшной силой обрушил кулак на лицо своей жертвы. Что ни говори, а насилие было тем, с чем никто не ожидал столкнуться в «Эппл». Однако, при тех обстоятельствах с этими гориллами, оказавшимися среди нас, мало что можно было поделать. Несмотря на это, я все же принял едва не ставшее роковым предложение Билли Тамблвида покататься по ночному Лондону на его «Харлее». Пока я прощался с жизнью, этот «Ангел» беспечно летел на красный свет с сумасшедшей скоростью и на поворотах наклонял мотоцикл на все 90 градусов, вдобавок ко всему, Билли не знал, что в Англии левостороннее движение. Когда я, наконец, встал на твердую землю, мое чувство облегчения можно было сравнить только с минутой, когда мы с Джоном в Куарибэнкской школе узнали, что нас «не посадят» за аферу с 15.000 талонов на питание.
Но вернемся к вечеринке. Джон немного оживился только после того, как завел меня наверх показать две свои последние работы. Первая была «скульптурой», представлявшей собой черный пластмассовый ящик с прозрачной крышкой, на которой была приклеена надпись: «ОТКРОЙ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК». И хотя я видел, что ящик был пуст, я испытал легкое трепетное волнение, когда решил его открыть. Онако ничего не произошло, и Джон громко расхохотался.
Вторым «творением» Джона была его новая книга под названием «Дневник рабочего». На первой странице было написано: «1 января, понедельник. Встал. Ушел на работу. Вернулся домой. Лег спать.» Точно такие же записи были во вторник, среду, четверг и пятницу. Под датой «6 января, суббота» Джон нацарапал: «Е…л жену», а воскресная страница была вообще не заполнена. Пометки следующей недели ничем не отличались от предыдущей, и то же повторилось и с пятьюдесятью оставшимися.
Подобные опусы, ясное дело, в основном были инспирированы работами Йоко. «Мы просто стебёмся, — заверял меня Джон. — Это просто продолжение того, чем мы с тобой занимались в детстве — выдумывали ситуации и смеялись над ними, когда никто не мог понять, с чего это нас разобрало. А сейчас для развлечения мы с Йоко выдумываем свои ситуации. Только теперь мы сохраняем серьезный вид и отпускаем все это под видом «авангарда». Это обалденное занятие! Никто даже не знает, на что способна Йоко, Пит, она удивительна! Она просто ох…вает со смеху, что некоторые принимают все это всерьез. Нужно быть просто ё…м идиотом! Вместе с тем, некоторые все же просекают это и воспринимают, как нужно: и так было на нашей первой выставке, когда все подходили к большому белому полотну, на котором были слова: «ВЫ — ЗДЕСЬ». Некоторые просто покатывались со смеху. Но большинство бормотало: «Да-а-а-а… круто!.. ВЫ — ЗДЕСЬ!» или же спрашивали: «Черт возьми, что же все это значит?» А мы стоим с самым серьезным выражением и молчим.»
За несколько месяцев до этого я вместе с Джоном и Йоко побывал в Сионском парке — в самом шикарном здании «биржевого пояса» — магазине по торговле садовым оборудованием, где они хотели купить садовые ворота, которые намеревались поставить посреди пустого поля. «Это будет наш «Кусочек ворот», — пояснил Джон. — Все эти ненормальные, помешанные на авангарде, столпятся черт знает где, чтобы просто открыть ворота, пройти сквозь них и выйти с другой стороны.»
Но когда мы въезжали в Сионский парк, его внимание вдруг привлекли прекрасные чугунные ворота парка. Даже после того, как Джону сказали, что они не продаются, он не хотел отступать. «Да кончай ты валять дурака, — настаивал он. — Сколько ты хочешь за эти ворота?»
Когда же продавец сообразил, кто с ним говорит, он назвал такую астрономическую сумму, что даже Джон и Йоко сочли ее слишком высокой. Однако всей душой загоревшись теми чугунными воротами, они не захотели соглашаться на что-то другое для исполнения своего замысла.
И дальше этого «Кусок ворот» не пошел…
К тому времени у Пола тоже появилась новая подруга жизни. Как и Йоко, Линда Истмэн была волевой женщиной и старалась быть рядом со своим мужем как можно больше. Но почти во всех прочих отношениях у них с Йоко не было ничего общего. Вскормленная в высшем обществе Нью-Йорка, Линда поддерживала буржуазные устремления Пола точно так же, как Йоко пробудила в Джоне необычного артиста. И когда Линда, в свою очередь, начала также приезжать с МакКартни в студию, старые «ленноно-маккартниевские» отношения напряглись вдвойне.
Впервые это стало очевидно во время сессий звукозаписи к «Get Back», впоследствии переименованного в «Let It Be». По первоначальному плану Пола, группа будет не только записывать новый альбом «возвращения к своим истокам» — без привлечения каких-либо струнных, экзотических инструментов и многократных наложений записи, как это было на последних дисках — но и будет сниматься в документальном фильме о БИТЛЗ, создающих свой альбом. Даже сама запись должна была стать «документальной». По замыслу Пола, паузы между песнями должны были заполнять остроумные битловские реплики и эпизодические экспромтные исполнения «стареньких» вещей, которыми группа обычно «разогревалась». Что касалось репертуара, Пол надеялся, что БИТЛЗ наберут его во время турне.
Однако ничего из описанного не получилось так, как было задумало. «У нас все валилось из рук, — вспоминал Джон позднее. — Чувствовали мы себя в этой Твикенхэмской студии просто премерзко… Ну разве можно что-нибудь сыграть в 8 утра… в этом дурацком месте с кинооператорами и цветными прожекторами?..»
Джордж, со своей стороны, даже ненадолго ушел из БИТЛЗ. А после того, как остальные категорически отказались даже думать о каком-то концертном турне, Полу пришлось довольствоваться импровизированным выступлением на крыше «Эппл» на Сэвил-роу, 3. Там БИТЛЗ по крайней мере сумели наконец вновь тряхнуть стариной.
Однако к тому времени, когда сессии закончились, все они были настолько пессимистично настроены, что никто даже смотреть не хотел на сотни часов записей, которые так и остались пылиться в сейфах до следующего года, пока Джон не предложил Филу Спектору сделать из этого хаоса альбом.
Еще одно яблоко раздора созрело, когда Пол и Джон выставили на пост бизнес-менеджера «Эппл» двух разных людей. Поскольку отец Линды Ли Истмэн был одним из наиболее видных защитников авторских прав Нью-Йорка, Пол, естественно, решил, что его будущий тесть — именно тот, кто им нужен. Джон, однако, сразу невзлюбил м-ра Истмэна, который показался ему высокомерным и претенциозным, и сразу предложил кандидатуру печально известного нью-йоркского махинатора Аллена Клейна. Но вся беда была в том, что Пол столь же искренне не выносил Клейна, как и Джон — Ли Истмэна.
За исключением общего еврейского происхождения и района местожительства, два этих человека не могли быть более несхожими. И, как было и в случае с Йоко и Линдой, их различия одновременно и отражали и усугубляли различия, существовавшие между Джоном и Полом. Клейн, прежде имевший дело с бизнесом «Роллинг Стоунз» и многих других «звезд» эпохи «Британского вторжения», использовал в разговоре еще больше нецензурщины, чем Джон (и не в последнюю очередь на деловых собраниях и встречах), и его невероятный внешний вид составлял заметный контраст с дорогими костюмами Истмэна. Джону и всем остальным Клейн в недвусмысленных выражениях обещал избавить «Эппл» от ее паразитов, повергнуть грабителей «Эппл» по бизнесу на колени за одну ночь принести группе миллионы.
И вновь, уже в который раз, Джон не только целиком и полностью поверил чудесным обещаниям, но и полностью отказался от своей прежней общепризнанной позиции, по крайней мере, в отношении «Эппл». Растущее разочарование компанией БИТЛЗ вкупе с враждебной реакцией всего мира на его дела с Йоко, казалось, вновь вынесли агрессивность на первый план, заставив его забыть все те утопические идеалы, что некогда привели к созданию «Эппл».
«Аллен говорит на том же языке, что и мы с тобой, Пит, — радовался Джон. — Это настоящий крутой парень прямо с нью-йоркских улиц.»
Вполне понимая привлекательность такого образа для Джона, я чувствовал, что отдавать судьбу БИТЛЗ в руки подобного субъекта было несколько опрометчиво. «Ты что, совсем с ума сошел — отдавать этому типу 20 процентов ваших доходов просто за то, чтобы он считал ваши деньги?!» — сказал я.
«Да ты его совсем не знаешь, — убеждал меня Джон. — Аллен просто чудо. Он вышвырнет с дороги всех тех ублюдков, всех тех б…, что столько лет считали себя важнее нас. (Это отчасти касалось доверенного издателя Леннона и МакКартни Дика Джеймса, который без всякого предупреждения продал все акции их издательской компании «Северные Песни», принадлежавшие ему, конгломерату развлекательной индустрии Эй-Ти-Ви.) Но Джон был настолько зациклен на Клейне, что я, в конце концов, решил оставить эту тему. «Как бы там ни было, — сказал я ему. — Это меня не касается.»
И, поскольку Джордж и Ринго встали на сторону Джона — против Пола, — Клейн в конечном счете заполучил «Эппл». Но несмотря на это, он «запорол» две свои первые главные задачи — борьбу БИТЛЗ за NEMS и «Северные Песни» — пока, наконец, не оправдался, добившись беспрецедентно высокого уровня авторских гонораров от И-Эм-Ай и «Кэпитол Рекордз». Между тем, Клейн с большим усердием взялся за «Эппл», обрубив расходы за казенный счет, отсчитывая по часам время прихода на работу и бесцеремонно увольняя десятки давно работавших сотрудников. «Цирк уехал из города, — заметил Джон, — но мы остались.»
Одним из первых ушел Элистер Тэйлор, с которым мне довелось ехать вместе в лифте в тот день, когда его выгнали. Элистер, посвятивший свою жизнь БИТЛЗ, за что получал жалкие гроши, был безутешен.
Видя, к чему идет дело, директор «Эппл Электроникс» переадресовал свое немалое обаяние и умение убеждать дочери магната кораблестроения. Свадьба вылилась в роскошную православную греческую церемонию, на которой присутствовали Джон, Джордж и я. Вскоре после этого «Волшебный» Алекс, вдоволь попользовавшись своим знаменитым прозвищем, бесследно исчез из нашей жизни.
В день бракосочетания Пола МакКартни и Линды Истмэн 12 марта 1969 года ни один из Битлов не удосужился прийти в Мэрилебонскую регистратуру актов гражданского состояния. И тем не менее, Джон и Йоко были настолько впечатлены сочувствующим вниманием прессы, что и сами решили пожениться перед началом «фантастического хеппенинга».
Вечером в день свадьбы Пола я сидел дома в Эшере — вдруг позвонил Джордж. «Пит, — сказал он, — это очень серьезно. Я сейчас в Лондоне, в «Эппл», и только что узнал, что на мой дом совершила налет бригада по наркотикам. Пэтти там совсем одна. Ты не мог бы оказать такую любезность и составить ей компанию, пока я не приеду туда?» Теперь, после ареста Джона, казалось, всем Битлам была уготована встреча с хладнокровной группой сержанта Пилчера.
Я не раздумывая накинул свое пальто, запрыгнул в машину и поехал прямо к бунгало Харрисона, уже окруженному полицейскими машинами. Когда я попытался войти в дом через боковую дверь, неизвестно откуда материализовались два джентльмена, не замедливших схватить меня за шиворот.
«Кто такой?» — рявкнули они.
«Я — друг Джорджа, — ответил я. — А вы кто такие?»
«Это тебя не касается! Имя и адрес!»
Как только с этими формальностями было покончено, мне разрешили пройти на кухню, где я и нашел Пэтти, сидевшую на столе под надзором загримированной полицейской и двух одинаково жутких ньюфаундлендов.
«Как я рада видеть тебя, Пит! — воскликнула Пэтти, обнимая меня. — Тебе придется извинить меня за этот беспорядок — как видишь, у меня тут гости…»
«Для таких обстоятельств, — подумал я, — Пэтти держится превосходно».
Пока она готовила нам кофе, я прошелся по бунгало, где все комнаты уже были перевернуты вверх дном неистовой бригадой. Переодетые полицейские, несомненно, вкусили прелестей жизни, расположившись в гостиной, как у себя дома — они даже слушали на «стерео» Джорджа пластинки БИТЛЗ!
Вернувшись к кухонному столу, я продолжал разговаривать с Пэтти так, словно в комнате были только мы вдвоем. В итоге, я забылся настолько, что достал из кармана пиджака пачку «Ротманза» — и замер от ужаса, увидев, что в ней между сигарет я спрятал пару самокруток с марихуаной! Положение оказалось, как у Дэниэла в львином логове! Но, к счастью, собаки, лежавшие у моих ног, ничего не унюхали.
Вскоре, в сопровождении Мэла Эванса и Дерека Тэйлора, приехал Джордж. Все детективы мгновенно вскочили с диванов Джорджа, чтобы «встретить намеченную жертву», а он, неистовствуя и ругаясь, ворвался на кухню. «У лисиц есть норы, — орал Джордж, — у птиц есть их ё…е гнезда, но у человека нет места, куда не лезли бы другие!»
Проигнорировав эту тираду, бригада по борьбе с наркоманией предъявила ему обвинение в хранении конопляной смолки и продемонстрировала два кусочка вещественного доказательства. «ВОТ ЭТОТ — мой! — раздраженно крикнул Джордж. — Но ЭТОТ ВОТ я вижу в первый раз в жизни! Какого черта вы приносите СВОЮ «травку» в мой дом, если у меня у самого ее до х…я?! И на кой хрен вы перевернули весь дом вверх дном — я и сам бы мог показать, где что лежит, если бы вы попросили!»
В ответ на эти слова Джорджа попросили «проследовать с ними в полицейский участок». «Никуда я на х… НЕ ПОЙДУ, — резким тоном заявил Джордж, — пока вы не уберете всех этих ё…рей из МОЕГО дома!»
Когда мы с Пэтти вслед за всей процессией выходили из кухни, Джордж внезапно положил мне руку на плечо. «Спасибо, что приехал, Пит», — тихо и спокойно произнес он.
«Не за что, Джордж», — сказал я.
Тут вдруг вся «наркотическая бригада» взяла нас в плотное кольцо, и Джордж снова закричал: «Да не лезьте вы на нас! Никуда я не убегу!» В ту же секунду неожиданно — и очень кстати — вылез какой-то газетный фотограф и на некоторое время ослепил нас фотовспышкой, сделав «групповой портрет».
После этого Джордж стал совершенно невменяемым от злости.
«Какого такого х…я ты делаешь на моей собственности?! — взревел он. Да я тебя за это сейчас упи…ю, сволочь ты этакая!»
Бросившись за фотографом со всей бригадой, бегущей следом, Джордж устроил сумасбродную погоню по своему собственному саду. Наблюдая все это со стороны, я не удержался и расхохотался: подобная сцена, как я понимал, не в пользу Джорджа, была вполне достойна фильма братьев Маркс.
Но, в конце концов, детективы сумели обуздать своего «преступника» и отвели Джорджа и Пэтти в Эшерскую тюрьму. Через несколько часов их выпустили под залог 200 фунтов за каждого, а через 19 дней суд приговорил их к штрафу дополнительно на 250 фунтов. Я же, в свою очередь, оказался удостоенным сомнительной чести быть единственным свидетелем ареста двух Битлов за наркотики.
Между прочим, к тому времени я стал встречаться с Харрисонами, по крайней мере, не меньше, чем с Джоном и Йоко. И когда Джордж через некоторое время переехал во Фрайэр-парк, чудесный сказочный замок в Хенли-на-Темзе, он даже предлагал мне забрать его эшерское бунгало. Но, как я ни был ошеломлен такой щедростью, мне было ясно, что не стоит злоупотреблять его добротой, тем более, что одни только налоги на имущество наверняка разорили бы меня!
20 марта 1969 года, через восемь дней после свадьбы Пола и ареста Джорджа, Джон и Йоко слетали в коронную колонию, Гибралтар, хорошо известную своими нестрогими законами бракосочетания и развода, и стали там мужем и женой после церемонии, которую Джон потом описал, как «быструю, тихую и британскую». Сразу после этого они отправились в одиссею, описанную им в первой за два года вещи на первой стороне сингла БИТЛЗ: «Балладе о Джоне и Йоко».
Семь дней своего медового месяца новобрачные провели в постели в отеле «Амстердам Хилтон», устроив свою первую антивоенную «лежачую демонстрацию». За этим «хеппенингом» последовало молниеносное путешествие в Вену, где Джон и Йоко посмотрели по австрийскому телевидению свой экспериментальный фильм «The Rape» и провели пресс-конференцию, во время которой прятались в большом мешке, возвышавшемся на старинном столе. «Мы просто об… со смеху, — рассказывал мне потом Джон, — провозглашая «мешкизм» «новой формой коммуникации». И все репортеры внимательно записывали все это.»
Даже «лежачая демонстрация» за мир, поведал он мне позднее, была не более, чем большим розыгрышем. «Ну кто еще мог бы проваляться в постели целую неделю, ничего не делать, и пользоваться при этом таким вниманием прессы, воспринимающей все это всерьез? — риторически спросил он. — Нас просто распирало со смеху — это было невероятно забавно!»
Но это вовсе не значит, что Джон не был искренним, выступая в защиту мира. Он просто считал, что ничто в мире, сколь бы важно это ни было, не следует принимать СЛИШКОМ серьезно. Серьезность, как мы оба знали, приводит к фанатизму, а это в свою очередь еще больше отдаляет людей друг от друга. Но в то же время Джон, как всегда — в своей причудливой манере, решил дать всему миру понять, ЧТО ИМЕННО думает он о публикациях, касающихся его. «Запомни, Пит, — сказал он, и эти слова теперь преследуют меня, — тебя не могут убить за высказанные тобой мысли.»
За лежачей демонстрацией в Амстердаме через два месяца последовала вторая, в Монреале, которая продолжалась уже целых десять дней и дала Джону возможность выдать свою версию «Радио «Свободная Америка», пуская в эфир Штатов по соседству свои антивоенные призывы. И как-то раз один репортер, как и многие другие до него, спросил у лежащей супружеской четы: «Что вы тут делаете?» Первыми словами, сорвавшимися с уст Джона были: «Мы говорим одно: дайте миру шанс.»
Захваченный этим импровизированным лозунгом, Джон не замедлил положить его на музыку и тут же записал при помощи передвижной студии и таких знаменитостей, как Тимоти Лири, Томми Смузерса, Мюррея Кэя и местной общины храма Радха Кришны — то есть всех, кто тогда частенько бывал у Леннонов. Впоследствии Джон решил выпустить «Дайте миру шанс» как дебютный сингл своей новой «концептуальной» группы «Плэстик Оно Бэнд», в состав которой входили все, кто в этот момент оказывался в одной комнате с Джоном и Йоко.
Вскоре после возвращения из Канады, Джон и Йоко наконец нашли себе постоянное жилье близ Эскота, в Титтенхёрстском парке — в сказочном имении за 150.000 фунтов, занимавшем 74 акра. К величавому 16-комнатному особняку в георгианском стиле «прилагались» еще 4 коттеджа, тюдоровская чайная и теннисные площадки. Одним из первых приобретений Джона для дома стал огромный ковер из чрезвычайно мягкого белого меха, покрывавший большую часть первого этажа. Сделанный по заказу, один только этот ковер обошелся ему, во всяком случае, так он мне сказал, почти в 100.000 фунтов.
Однако, следуя своей давней привычке, Джон быстро устроился у кухни, в маленькой смежной комнатке, которую покидал, только когда шел спать или работать в студию звукозаписи, под которую переоборудовал большую гостиную. Одной из наиболее странных черт жизни Джона в Титтенхёрстском парке, по крайней мере, несколько недель, было постоянное присутствие предыдущего мужа Йоко Энтони Кокса, которого Ленноны теперь использовали в качестве посыльного.
Когда я нанес в Титтенхёрст свой самый первый визит, Джон приветствовал меня словами: «Поразительно, Пит! Ты всегда приезжаешь вовремя!» Он как раз только что закончил микширование «Дайте миру шанс» — и удостоил меня чести быть первым, разумеется, помимо приглашенных артистов и инженеров звукозаписи, слушателем того заразительного припева, который вскоре подхватили антивоенные демонстранты всего мира.
Именно в тот период я также узнал, что Джон и Йоко балуются героином. В то время «Г» воспринимался большинством «подпольной» контркультуры со страхом и отвращением, тем не менее, Джон долгое время испытывал благоговейный страх перед Йоко за ее эксперименты с этим наркотиком еще до их первой встречи. «Мы вдыхали его понемногу, когда нам было совсем плохо…, — заявил Джон позднее. — Мы принимали «Г» из-за того, как вели себя по отношению к нам Битлы и их приятели.» А Пол и Джордж, со своей стороны, конечно же, обвиняли Йоко за то, что это ОНА «просветила его» в отношении этой штуки.
Но и в противоположность некоторым утверждениям, Джон никогда и никоим образом не был пагубно пристрастен к героину, по крайней мере, в течение двух последних лет проживания в Великобритании. У меня нет сведений из первых рук о его пристрастии к наркотикам, или отсутствии таковых после его переезда в Штаты.
Но, несмотря на все противоречия и раздоры, разрывавшие БИТЛЗ, Джон, Пол, Джордж и Ринго все же согласились собраться в студии звукозаписи для последней героической попытки забыть свои разногласия, чтобы создать еще один шедевр. В итоге появился «Abbey Road», один из наиболее впечатляющих и коммерчески успешных из всех альбомов БИТЛЗ. Впервые за несколько лет Джона, Пола, Джорджа и Ринго можно услышать играющими ВМЕСТЕ — и как! — почти в каждой вещи. Кроме того, «Эбби-роуд» содержал больше трехсложных гармоний, чем любой другой альбом БИТЛЗ.
Вкладом Джона стали три наиболее характерные его композиции: «Come Together», «I Want You /She's So Heavy» и «Because», в то время как Джордж создал две свои самые популярные по сей день мелодии: «Something» и «Here Comes The Sun». А Пол, в свою очередь, вложил большую часть своих талантов в сочинение (с некоторым вкладом Джона) амбициозной песенной сюиты, занявшей большую часть второй стороны.
И все же «Эбби-роуд» суждено было войти в историю в качестве «лебединой песни» БИТЛЗ. 13 сентября 1969 года, за 13 дней до официального выхода в свет этого альбома, Джон и «Плэстик Оно Бэнд» Йоко дали свой первый публичный концерт на стадионе «Вэреити» во время фестиваля «Возрождение рок-н-ролла» в Торонто. Как ни иронично, это было как раз тем «возвращением» на сцену, на которое Пол так долго подбивал остальных Битлов — но безуспешно. Организовав свой концерт простым уведомлением за 24 часа, Джон был обязан придать своей группе для такого случая подходящую форму. Вместе с Джоном и Йоко в Канаду полетели гитарист Эрик Клэптон, басист Клаус Вурман (Форман) и ударник Элан Уайт. И когда «Плэстик Оно Бэнд» вышла на сцену под бурное приветствие десяти тысяч экстатичных фанов, Джон вдруг осознал, что Пол, Джордж и Ринго ему просто больше не нужны.
Вскоре после этого, во время одной особенно сварливой встречи, Джон ошеломил Пола словами: «Всё, я ухожу из группы! Хватит с меня! Я хочу развода, как с Синтией.» Пол, однако, тут же вместе с Алленом Клейном убедил Джона держать свои намерения в тайне. Контракты с И-Эм-Ай и «Кэпитол» еще не были заключены, и известие о неминуемом распаде серьезно ослабило бы позиции БИТЛЗ в борьбе за улучшение условий и гонораров.
Через некоторое время Пол уехал на свою глухую шотландскую ферму на мысе Кинтайр и начал там работу над первым соло-альбомом «МакКартни», где выступил в роли «человека-оркестра» — и в процессе записи, в конце концов, свыкся с мыслью о неизбежности распада БИТЛЗ. Но, в отличие от Ринго, Джорджа и Джона, делавших это до него, Пол в конечном счете решил публично заявить о своих намерениях, сделав тем самым тактический ход для рекламы своего нового альбома.
10 апреля 1970 года заголовки первых страниц всех газет мира известили о том, что наконец
МАГИЧЕСКОЕ МИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОКОНЧИЛОСЬ.
Глава двадцать четвертая: Никто не знает завтра (Tomorrow Never Knows)
Весной 1970 года почта доставила в Титтенхерстский парк посылку — Джон вскрыл ее, начал листать вложенную туда книгу, — и почти сразу заключил (уже в который раз!), что наконец-то он получил ключ к своему самопознанию.
Это была книга Артура Янова «Primal Scream» («Примальный (первый) крик»). Радикальный психотерапевт из Калифорнии, доктор Янов провозгласил свою «Первичную терапию» методом лечения неврозов путем повторного переживания соответствующих травматических событий, происходящих главным образом в детстве и впоследствии вытесняемых из памяти, которые приводят к утрате «истинного» самоосознания под многолетними «защитными наслоениями». Этот процесс является настолько мучительным, что вызывает леденящий кровь «примальный крик», посредством которого пациент теоретически избавляется от причин всех своих неврозов, получает в конечном итоге освобождение от своей защиты и может ощутить свои «глубинные» желания и эмоции и стать целостной человеческой личностью.
Через несколько дней после того, как Пол МакКартни «ушел» из БИТЛЗ, Джон и Йоко перебрались в Примальный институт доктора Янова в Лос-Анджелесе, где они находились врозь и почти три месяца проходили курс интенсивной терапии. Из нее Джон вышел с серией замечательных новых песен — и все они были душераздирающими излияниями фрагментов его биографии. Помимо прочего там были: отречение от него отца, смерть матери, безразличие учителей в школе и клаустрофобическое самозаточение Битла. В альбоме «Плэстик Оно Бэнд», или, как его еще часто называют, «Примальном альбоме» Джон отрекся от роли «сочинителя грез» своего поколения и пел уже только о себе, от первого лица под музыкальный аккомпанемент по форме столь же простой, оголенный и обжигающий, как и содержание.
Но, как было в случаях с Махариши и ТМ и многими другими великими увлечениями, он в конце концов понял, что доктор Янов и его «примальный крик» не были всем и вся, и в конечном итоге верх одержали демоны, хотя их присутствие по мере взросления Джона становилось все менее тягостным.
Кроме того, «Примальный альбом» оказался своего рода тупиком. В последующих песнях, в частности, «Imagine», «Jealous Guy», «Mind Games» и «Number Nine Dream», Джон стал более лиричным и мелодически богатым, но его (такие разные) сольники уже никогда не несли в себе той лучшей движущей силы, что пронизывала всю его работу с БИТЛЗ.
Возможно, Пол, Джордж и Ринго были нужны Джону больше, чем он сам осознавал; но скорее всего, та эра, которую группа так удивительно олицетворяла и воплощала, действительно окончилась и БИТЛЗ откланялись уж если не с безупречной грацией, то с превосходным чувством момента. И, в отличие от столь многих конкурирующих ансамблей, никто не может обвинить БИТЛЗ в злоупотреблении гостеприимством публики: вне зависимости от того, сколь разочаровывающими могли оказаться индивидуальные творения ее участников, той мечте, что была создана Джоном вместе с БИТЛЗ, суждено вечно оставаться немеркнущей.
В 1971 году Джон и Йоко переехали в Нью-Йорк и жили сначала в Гринвич-виллидж, а затем перебрались в «Дакоту», исключительно шикарное жилое здание в западной части Центрального парка. «Этот город стал центром артистического мира, — объяснил Джон. — И очень здорово жить здесь со всеми этими талантливыми людьми. К тому же Нью-Йорк больше похож на Ливерпуль, чем Лондон. Жители Нью-Йорка, как и ливерпульцы, суровые люди, которые живут у океана и имеют специфическое произношение. Я с детства был воспитан на всем американском… и прожив 30 лет в Британии, хотел бы пожить и здесь. Десять-двадцать лет за границей никому не причиняют вреда.» А в другом контексте он добавил: «Это единственное место, где я могу быть ничем не хуже других!»
Йоко этот переезд дал еще одну дополнительную выгоду: все старые друзья Джона, вроде остальных Битлов и меня, с тех пор находились на безопасном расстоянии около 4.000 миль. И хотя мы с Джоном время от времени поддерживали связь по телефону, обо всех его приключениях я узнавал уже главным образом из газет, как и все остальные.
Осенью 1973 года я был ошеломлен и поражен, прочитав сообщения прессы о том, что Джон и Йоко расстались. В свете того факта, что я и моя жена Бет как раз перед этим развелись, подобные новости о Джоне глубоко потрясли меня. Я сразу же позвонил ему в «Дакоту», и среди прочего он почти сразу сказал: «Не верь тому, что пишут, Пит. Все совсем не так, как изображают газеты. В последнее время мы с Йоко начали действовать друг другу на нервы. И мы решили расстаться на год. Две недели нам ничего не дадут, и мы хотим попробовать выдержать целый год и проверить, насколько действительно сильно наше чувство друг к другу.»
«И где же сейчас Йоко?» — спросил я.
«Пилится, наверное, с кем-нибудь», — сказал Джон.
«Ну и как же ты к этому относишься?»
«Конечно, я не испытываю восторга, — признался Джон, — но это должно произойти.»
Само уже присутствие Джона в «Дакоте» в тот день явно противоречило последовавшим сообщениям о том, что Йоко «выгнала его» из дома. Однако, в конечном итоге, она все же вернулась в роскошные апартаменты, а Джон тем временем отправился в свое злосчастное «Синдбадово путешествие» в Калифорнию в компании молодой секретарши Йоко Мэй Пэнг.
В начале 1975 года после окончательного воссоединения Джона и Йоко, казалось, все стало приносить ему счастье. 7 октября 1975 года он наконец выиграл битву с имиграционным департаментом США, а через два дня, в день его собственного 35-летия, 42-летняя Йоко подарила ему их первого ребенка, Шона Оно Леннона, что, учитывая несколько предыдущих выкидышей, стало особенно замечательным достижением.
С тех пор Джон, Йоко и Шон вели почти полностью замкнутое существование. Йоко стала для Джона олицетворением всего, чего только он мог желать от другого человека: она одновременно была ему и женой, и любовницей, и лучшим другом, и творческим коллегой, и даже (после выхода из игры Аллена Клейна) его бизнес-менеджером, доведя их состояние до огромных размеров — 200 млн. долларов. И что касается Йоко Оно, она, безусловно, замечательная женщина, она сделала Джона счастливым — и это самое главное.
После появления Шона, Джон исчез из поля зрения общественности и посвятил себя исключительно воспитанию ребенка и новой самопровозглашенной роли «домохозяина». Прошло целых пять лет, прежде чем Джон и Йоко вышли из безвестности со своим беззастенчиво коммерческим альбомом «Double Fantasy».
В конце лета 1976 года мы с моим другом, Полом Хенворсом, отправились в большое путешествие по США, побывав в 24-х штатах примерно за два с половиной месяца. А в конце октября нас занесло в Уолдвик (Нью-Джерси), что в каких-то пятнадцати милях от «Биг Эппл», где мы остановились в гостях у моего эмигрировавшего брата Эрнеста и его жены Юнии.
Примерно за пять дней до запланированного возвращения в Великобританию, мы с Полом провели один день в Нью-Йорке, в течение которого прогулялись по Центральному парку.
«А Джон разве не здесь живет?» — вдруг спросил Пол.
«Здесь, наверное, — ответил я. — Он живет в здании, которое называется «Дакота»".
После того, как прохожие указали нам нужное направление, мы вскоре очутились возле малопривлекательного здания с башенками, которое я сразу узнал по фильму «Ребенок Розмари».
«Неужели ты не хочешь позвонить ему и сказать: «Привет, я стою на твоем ё…м пороге?», — удивился Пол.
«Я даже не знаю… — пробормотал я. — Может, лучше не делать этого.» Я подумал обо всех сложностях, что были у меня с Йоко, и о том, что с тех пор, как Джон видел меня в последний раз прошло уже долгих пять лет.
«Ты с ума сошел! — сказал Пол. — Ты просто обязан позвонить. Джон ох…т, если узнает, что ты был рядом и даже не передал привет.»
В конце концов я согласился узнать, дома Джон или нет. Но, как и следовало ожидать, охранник не собирался утруждать себя большим, чем предложить мне оставить записку и номер телефона.
Примерно через час после нашего возвращения в Нью-Джерси зазвонил телефон моего брата — и на другом конце провода был Джон. «Пит, Пит, — радостно крикнул он, — это же полный п…ц! Ты можешь приехать прямо сейчас?»
Несколько секунд спустя я уже мчался в Нью-Йорк, и на этот раз охранник «Дакоты» проводил меня прямо до лифта. Когда вскоре его двери открылись, передо мной стоял Джон.
Улыбаясь мне во весь рот, он гордо держал на руках одного из самых прекрасных детей, которых мне доводилось видеть. В поразительных евро-азиатских чертах Шона без труда можно было узнать лучшие черты обоих родителей. Что касается Джона, то он был в необычайно хорошей физической форме.
«Ну, входи, Пит, — сказал он, обнимая меня свободной рукой. — Только сначала тебе придется снять туфли.»
Бесшумно пройдя вперед босиком, я понял, что ступаю по белому ковру за 100.000 фунтов из Титтенхерстского парка. «Просто невероятно, что ты появился именно сегодня, — сказал Джон, — проведя меня в скромно обставленную комнату, доминирующим цветом в которой был, опять-таки, белый. — Я вспоминал о тебе днем. Я беру уроки японского языка — только не говори никому — это большой секрет и мы как раз разучивали новое слово «шо-тон». Как только я его услышал, я подумал: «Интересно, как там сейчас поживает Пит?» А потом я приехал домой и получил твою записку! Я сразу позвонил нашему предсказателю, и он сказал, что будет хорошо, если я тебя увижу.»
«Как мило с его стороны!» — рассмеялся я.
Тут из соседней комнаты появилась Йоко, выглядевшая намного спокойнее, чем раньше.
После всестороннего обмена любезностями, Джон сообщил, что он заказал для нас троих обед в своем любимом японском ресторане. «Только это я сегодня и ем, Пит, — коричневый рис и сырую рыбу. На этом можно прожить до 150 лет.»
Словно диеты долголетия было недостаточно для того, чтобы поразить меня, Джон даже отказался от предложенной сигареты. По его словам, он «завязал» — выдающееся достижение для человека, привыкшего выкуривать не меньше трех пачек в день. Кроме того, в тот вечер Джон показал мне книгу Вильяма Даффи «Сахарный блюз» — кошмарный перечень опасностей, таящихся в сладостях. (Однако, через несколько лет он с пылом и страстью вернулся к «Hersley Bars» и сигаретам «Житан».)
После того, как Джон уложил Шона спать, он, Йоко и я прогулялись за несколько кварталов до того самого японского ресторанчика. Меня необычайно поразило то, что почти никто из прохожих не оглядывался на нас.
«В этом отношении в Нью-Йорке здорово, — говорил Джон. — На меня здесь никогда не бросаются. Иногда мне просто говорят: «Люблю твои диски, Джон», или даже предлагают самокрутку с травкой — но не более.»
Едва усевшись на свои места в ресторане, мы с Джоном принялись за разговор. В нашей стремительной беседе почти не было ничего глубокого или запоминающегося. Это была просто встреча двух старых друзей, воссоединившихся после 5-летнего пробела. Помню только, что в тот вечер Джон был в прекрасном настроении: остроумный, дружелюбный и спокойный. И, насколько я понял, это и был НАСТОЯЩИЙ Джон Леннон. Запомнилось и то, что он поглощал свое суши и сашими с гораздо большим аппетитом, чем я; к счастью, я успел до этого пообедать еще в Нью-Джерси у брата.
При тех обстоятельствах я прекрасно понимал, что мне не следует расспрашивать Джона о его работе и карьере. Тем не менее, у меня сложилось отчетливое впечатление, что он, наконец, избавился от «экс-битловского» синдрома. В любом случае, он уже два года не занимался профессиональной деятельностью, хотя его новая жизнь «домохозяина» еще не стала достоянием гласности. За весь вечер была упомянута всего одна его песня: «Женщина — это ниггер этого мира», название которой возникло из давнего эпиграфа Йоко.
«Йоко намного опережает всех остальных, — гордо доказывал Джон. — Когда она впервые сказала мне: «Женщина — это ниггер этого мира», я просто не понял, о чем она говорит. А сейчас весь мир приходит к ее точке зрения…»
«А я понял все сразу, — перебил его я. — Вспомни: я ведь был ох…м борцом за освобождение женщин еще за несколько лет до тебя. И я никак не мог понять, почему женщины так терпеливо выносят все это дерьмо, хотя иногда им доставалось от меня, как и мужчинам. Но я всегда считал, что раз они все это терпят, то это уже их собственная беда.»
Когда мы собрались уходить, я инстинктивно принялся отсчитывать свою долю счета. Однако, Джон не только настоял на единоличной уплате за обед (наличными деньгами, которые достал из своего кармана!), но и оставил ровно 15 процентов «на чай».
«Со дня нашей последней встречи твои вычислительные способности заметно выросли», — удивленно заметил я.
«Видишь ли, Пит, — произнес он, — теперь я стараюсь не делать ошибок!»
Вернувшись назад в белую комнату, мы уселись смотреть телевизионную документальную драму «Сибилла» (телепьеса на документальной основе — прим. пер.) — о психически больной девушке с шестнадцатью различными перевоплощениями. Все мы смотрели ее с огромным интересом, но звук был настолько приглушен, что я почти ничего не слышал. «Джон, ты не мог бы сделать телик немного погромче?» — решился я наконец.
«Не могу, Пит, — сказал он. — Я не хочу разбудить ребенка.»
«Да не разбудишь ты его, Джон, — рассмеялся я. — Дети безразличны к таким звукам, и к тому же, Шон — в другом конце квартиры.»
«Все равно: я просто не хочу рисковать, Пит. Ребенок важнее.»
Когда передача окончилась, мы некоторое время поговорили о ней, поглощая огромное количество чая (Джон в очередной раз отрекся от алкоголя), а затем он принялся вспоминать о своих недавних приключениях в Гонконге. Как он рассказал, его вездесущий предсказатель обнаружил, что Джон «выбился из фазы вращения планеты». Для возвращения в своей «космическое время» Джон должен был совершить путешествие на противоположную сторону земного шара. Вдобавок ко всему, Йоко настояла на том, чтобы он поехал туда один.
«Ничем подобным я никогда не занимался, — продолжал Джон. — Раньше для меня все организовывали заранее другие. Но мне это очень понравилось, потому что я справился со всем этим — сам делал все заказы, сам устраивался в отель, гулял по Гонконгу — и меня ни разу не узнали!» Затем он сообщил, что они с Йоко ежедневно консультировались у своего предсказателя и не решались даже выходить из «Дакоты», не получив перед этим его одобрения.
Все это время Йоко молча сидела рядом, и хотя я неоднократно делал попытку включить ее в наш оживленный разговор, впечатление было такое, что ей не о чем со мной говорить.
В какой-то момент мне вдруг показалось, что я вижу что-то ползущее по идеально белой стене комнаты. «А это еще что за х…ня, Джон?» — прошептал я, затаив дыхание.
«А, это просто тараканы, — ответил он. — Они в Нью-Йорке повсюду. От них никуда не деться, даже в «Дакоте». Но к ним довольно быстро привыкаешь.»
Джон также поведал мне о своем «потерянном уик-энде» в Калифорнии, часть которого он провел, слоняясь с бандой «Ангелов ада».
«Представляешь меня, Пит, среди этих маньяков в клёвых кожаных шмотках и весь этот джаз?!»
«Еще бы, Джон! — рассмеялся я. — Очень даже представляю.»
«Конечно, представляешь, Пит, — прыснул Джон. — Ты же меня знаешь!»
Заметив, что уже начало светать, он вдруг оборвал свой рассказ. «Черт возьми, — вздохнул он, — я мог бы говорить, говорить и говорить, но утром у меня урок японского языка, и это для меня очень важно. Позвони нам перед своим возвращением в Англию — и мы снова встретимся.» После этих слов он вызвал лимузин, который быстро довез меня до самых дверей дома брата.
Я решил позвонить Джону через два дня. Когда я, наконец, набрал его номер, трубку сняла Йоко. Прошло несколько минут, прежде чем он подошел к телефону, но и тогда быстро стало ясно, что он почти не слушает то, что я ему говорю. Я также слышал приглушенный голос Йоко, стоявшей неподалеку. В конце концов, Джон прикрыл рукой трубку и с жаром крикнул ей: «Слушай, Йоко, — услышал я, — он приедет — и п…ц!».
«Господи, ОПЯТЬ!.. — простонал я про себя. — После стольких лет…» Я уже стал подумывать, не отказаться ли мне от встречи, но потом решил, что если мы с Джоном хотим видеть друг друга, то это наше личное дело — и черт с ней, с Йоко. Не подозревая, что я слышал их разговор, Джон предложил, чтобы я позвонил ему, когда подъеду к «Дакоте», и тогда мы сразу пойдем в его любимый японский ресторан.
Когда Джон и Йоко вышли из фойе «Дакоты», оба они казались необыкновенно напряженными, по крайней мере друг с другом. К тому же Джон выглядел гораздо бледнее и нервознее, чем два дня назад, и большую часть вечера его лицо оставалось замкнуто в маску мрачной напряженности.
Впрочем, за обедом он был столь же словоохотлив, как и в предыдущем случае, только на сей раз он говорил почти исключительно о мистицизме и оккультизме. Йоко между тем оставалась совершенно немой. Он рассказал мне о том, что видел из окна своей квартиры «летающую тарелку» над Ист-ривер и в превосходных оборотах описал книгу Карлоса Кастанеды. (Джон, между прочим, считал свои отношения с Йоко напоминающими отношения Кастанеды с его индейским учителем племени яки, доном Хуаном.) Он также сказал, что верит в теорию о том, что в каждом из нас есть две различные личности — «большое Я» и «маленькое Я».
«Так значит, ты по-прежнему в поисках?» — усмехнулся я.
«Да, Пит, — кивнул он, — и нет этому конца и края.»
К тому времени, когда мы вернулись в «Дакоту», Джон почему-то заметно повеселел и еще пару часов мы провели в его белой комнате за разговорами. Но видя, что он просто очень устал, и зная, что наутро у него опять будет урок японского языка, я решил уехать около двух часов.
Когда я одел туфли, Джон и Йоко вышли проводить меня до лифта. Перед тем, как пожать руку Джону, я легонько поцеловал Йоко на прощанье. Этим умышленно бесцеремонным жестом я как бы хотел сказать ей: «Давай, Йоко, что прошло, то быльем поросло — зачем нам нужна вся эта х…ня?!»
«Ну, счастливо тебе, Пит! Надеюсь, скоро опять увидимся!» Когда двери лифта уже закрылись, Джон крикнул: «Передай Англии мою любовь!».
Глава двадцать пятая: Об-ла-ди Об-ла-да (Ob-La-Di Ob-La-Da)
Утром 9 декабря 1980 года я спал у себя дома.
Раздался телефонный звонок.
Около 12 часов я приехал во Фрайэр-парк. Джорджа только что разбудили с теми же известиями. Он положил мне руку на плечо, и мы молча прошли на кухню выпить по чашке чаю.
«Я просто почувствовал, что должен побыть с тем, кто поймет меня», — наконец проговорил я.
«Конечно, Пит, — сказал Джордж. — Я все понимаю.»
Мы обменялись еще несколькими негромкими фразами. Затем Джордж ненадолго встал из-за стола, чтобы принять трансатлантический телефонный звонок от Ринго.
Часом позже или около того начали приезжать музыканты, с которыми Джордж запланировал на тот день сессию звукозаписи. Я посмотрел на него через стол.
«Ты что же, будешь продолжать запись?»
«А нам больше не остается ничего другого, — ответил Джордж. — Надо продолжать жить дальше.»
На обратном пути домой мою голову переполняли воспоминания о Джоне. Какая удивительная жизнь, думал я…
Беседа с Питом Шоттоном
Пит Шоттон, ближайший друг детства Джона Леннона, пробыл около месяца в Соединенных Штатах, представляя общественности книгу «Джон Леннон в моей жизни», написанную им в сотрудничестве с корреспондентом журнала «Битлфэн» Николасом Шэфнером. Когда в сентябре этого года он посетил Атланту, редактор журнала Билл Кинг провел с ним вечер за беседой.
Почему Пит Шоттон так нравился Джону Леннону, понять не трудно. Этот 43-летний блондин из Ливерпуля обладает исключительно приятными манерами и мгновенно завоевывает вашу симпатию. Нашу вечернюю встречу в ресторане отеля «Хайат Редженси» мы начали с беседы о его книге, о БИТЛЗ — и о всем прочем, служащем темой для разговора во время поездки по издательским делам. Но до нашего расставания, за четыре с лишним часа, мы успели поговорить в баре отеля обо всем понемногу: от экономики до качества британских и американских продуктов питания.
Шоттон, брат которого, кстати, живет в Нью-Йорке, вместе со старым ливерпульским приятелем Биллом Тернером и еще несколькими друзьями, в настоящее время является компаньоном нескольких доходных предприятий на острове Хэйлинг, в том числе и двух ресторанов. Бакалейно-гастрономический универмаг, который когда-то купил для него Джон Леннон, он продал. Но большую часть времени Пит занимается управлением делами тотализатора (азартные игры в Британии разрешены законодательством), того самого бизнеса, в который Джон и предлагал первоначально вложить свои деньги.
Наша беседа началась с разговора о его выступлениях на американском телевидении.
БИЛЛ: Я смотрел пару передач с твоим участием, в том числе и «Today Show». Похоже, ты остался ею не очень доволен…
ПИТ: Нет, это было самое первое мое выступление по телевидению «живьем». А не понравилось мне то, что мне обещали дать семь минут, и я приготовился к тому, что «разгромные» или какие-то еще более сенсационные вопросы будут в первой половине этого времени, и ждал именно их. Я все ждал, что мне дадут еще 3,5 минуты, а меня «обрубили». Это меня расстроило. Но, с другой стороны, могу сказать, что именно эта программа была самой неудачной.
БИЛЛ: Говоря о «Today Show», как ты воспринимаешь то, что твою книгу свалили в одну кучу с книгами Мэй Пэнг и Джона Грина — своеобразным примером явления «Заработаем на мертвом Джоне!»
ПИТ: В ответ я могу привести случай с одним человеком по имени Боб Харрисон. Я снимался на телевидении, кажется, это было в Детройте, и он рассказал мне, что когда брался за сценарий передачи, то подумал: вот, черт возьми, еще один сочинитель книг про Леннона! Так вот, он сказал: «Я открыл ее, начал читать — и уже не мог оторваться. Я проглотил ее в один присест!». Примерно то же самое происходило всюду по Штатам. Читатели с приятным удивлением обнаруживали, что перед ними не просто «еще одна книга про Леннона». Да она и не была задумана, как таковая. Я написал ее после нескольких случаев, когда мне попадалось что-то написанное о Джоне.
БИЛЛ: Это произошло уже после его гибели?
ПИТ: Да. Если бы Джон сегодня был жив, эта книга не появилась бы. И добавлю, между прочим, что я мог бы выкачать из Джона при жизни денег черт знает во сколько раз больше, чем из этой книги. Но я никогда не стремился к этому, хотя он постоянно «подбивал меня» — он частенько говорил: «Ради Бога, Пит, заработай ты хоть немного на знакомстве со мной!» Но я не делал этого, потому что считал, что наша дружба важна не только для меня, но очень важна и для Джона, потому что полностью расслабиться, высказаться и говорить о чем угодно, зная, что это не дойдет ни до чьих ушей, он мог с очень немногими.
БИЛЛ: А ЧТО ИМЕННО из прочитанного побудило тебя написать книгу?
ПИТ: Мне попалась статья в «Дейли Экспресс», которая называлась «Причина гибели легенды», и вся информация, приведенная там, была скандальной, полемической или связанной с темными сторонами личности Джона — а они были у него: он не был безупречен и прекрасно знал об этом. Так вот, они собрали все это вместе, совершенно позабыв о том кайфе, что он доставляет миллионам людей — а ведь есть еще больше миллионов, которые пока не родились! И это, в целом, характеризует то, что мне довелось читать: извращение фактов и явная ложь. Я даже видел как-то одного из тех, кто заключил контракт на сочинение биографии Джона — Альберта Голдмана, написавшего книгу об Элвисе. Но я жутко ленив и нипочем не хотел оторвать свой зад от кресла и почесаться, чтобы это сделать, хотя два моих друга в один голос твердили: «Если бы ты видел, что там затевается, ты не стал бы тут сидеть и бездельничать. Ты должен сделать то же самое — но только ты сам. Ты знал его лучше, чем кто-либо другой. Ты был свидетелем всех больших и мелких событий его жизни. Ты знал его лучше любого другого человека, пока он не переехал в Штаты. И уж если вообще что-то о нем писать, то это должен сделать ты.» Но я все как-то не решался…
БИЛЛ: Что же было причиной этой нерешительности?
ПИТ: Два момента… Первый: мне было лень, и я понятия не имел о мире книгоиздательства. Я никогда ничего не писал. Я даже не знал, с чего нужно начинать. А вторым было то, что я знал ЧТО придется делать, если и меня «сосчитают». Придется шустрить, выступать в теле- и радиопередачах, давать интервью, и это меня откровенно пугало. Это парализовывало и сковывало меня. Но, как ни странно, я прекрасно со всем этим справился, и мне это даже понравилось. Я и дальше буду участвовать в радио- и телешоу. Теперь меня не остановить. Смех да и только!
БИЛЛ: Что же сыграло решающую роль?
ПИТ: По-настоящему меня толкнул на это разговор с моим 14-летним сыном Мэтью. Он рассказывал мне о том, чем они в тот день занимались с его другом, и это напомнило мне то, что мы когда-то делали с Джоном. И я начал рассказывать ему об этом. А в школе — БИТЛЗ — это его «коронка», потому что «мой отец был с ним знаком» — и потому что он читает все книги о БИТЛЗ. Так вот я сказал, что мы с Джоном делали то-то и то-то — и тут он перебил меня на середине и заявил: «Подожди, па, всё было не так, потому что в «Shout!» написано так-то и так-то». Это меня совершенно ошеломило: я говорю со своим сыном, и он возражает мне, потому что вычитал что-то в книге человека, Джона даже в глаза не видевшего! И я сказал ему: «Сынок, я был там, и мне лучше знать.» Вот в этот момент все и произошло: я сказал себе, что ДОЛЖЕН сделать это — написать…
БИЛЛ: Ты захотел написать ее вместе с британским писателем…
ПИТ: Я не рассчитывал на американских авторов, потому что мне было необходимо общение. Я очень хотел, чтобы эта книга получилась такой, как нужно. Мне хотелось, чтобы она донесла до читателя именно то, что мне хотелось, и чтобы я как бы лично разговаривал с ним. А для этого мне нужен был полный издательский контроль и, конечно, писатель, достаточно опытный и искусный для того, чтобы она звучала, как если бы я просто рассказывал об этом. И он был нужен мне в Англии, потому что мне постоянно было необходимо общение. Наверное, и дня не проходило, чтобы я ею не занимался. И то, что я повстречал Ника, было почти случайностью. Меня познакомили с ним где-то на обеде, и мы с полчаса поболтали. Но я и не думал использовать именно его. Я тогда вернулся в Англию и попробовал там кого-нибудь найти… Было несколько людей; я дал им определенные разделы, но то, что они приносили, было невероятно: это были сплошные выдумки! Разная чушь и вздор! И тогда я позвонил Нику, а я уже успел прочесть его книги, и спросил, заинтересует это его или нет. Он сказал «да». Мы с ним встретились и поговорили. Он кое-что написал и с самого начала мне понравилось, что он был очень точен, и что он старался, чтобы эта работа была выполнена «на отлично» — и не для кого-то, а для меня. Я сразу понял ЧТО для него было очень важно: мой рассказ должен основываться на фактах.
БИЛЛ: Он как бы заполнял пустоты разными подробностями и деталями…
ПИТ: Вот именно! Потому-то наше сочетание и было таким крутым — потому что он знал все это. Как если бы я сказал, что «мы в тот вечер сходили туда-то», и он уточнил бы: «Это было 6 июля 1963 года». То есть, он знал все детали. И сочетание его — объективного фэна, и меня — субъективного друга, было удивительно и прекрасно. И вряд ли я смог бы найти кого-то еще, кто мог бы справиться с этой работой так же хорошо.
БИЛЛ: А были у вас проблемы, вроде таких, когда издатели хотят, чтобы книга была не такой, как хочется вам?
ПИТ: Нас просили изменить только одно место. Но мы отказались, и они взяли все, как было.
БИЛЛ: А что именно это было?
ПИТ: Они хотели, чтобы посвящение «Джону — за эти воспоминания» было помещено вверху (а не между личными посвящениями Пита и Ника — Б.К.), а мы сказали «нет», потому что поместив его в центре, мы как бы соединили нас двоих.
БИЛЛ: Ты упомянул Филипа Нормана. Расскажи о вашей встрече.
ПИТ: Я не хотел говорить ни с журналистами, ни с телевизионщиками, ни с кем. Ко мне постоянно обращались с просьбами…
БИЛЛ: Кроме Хантера Дэвиса…
ПИТ: Да, кроме Хантера Дэвиса — по личной просьбе Джона. И именно поэтому та книга так понравилась Джону: то, что я рассказал Хантеру Дэвису, было случаями, о которых он уже забыл — и когда он прочел это, он воскликнул: «Господи, а ведь я об этом совсем забыл! Вот было здорово!». Но вернемся к Филипу Норману… Он позвонил мне и сказал, что он — друг Дерека Тэйлора, милейшего человека, которого я очень уважаю, и Норман сказал, что он пишет книгу о событиях и положении дел в Ливерпуле «до появления БИТЛЗ». Другими словами — о самом городе, почему ЭТО произошло и как эволюционировало. Будучи очень наивным, я поверил ему. Он заехал ко мне, мы пошли в пивняк, и он задавал мне вопросы, на которые хотел услышать мои ответы — а потом перешел к разговору о Джоне и нашем детстве, и спровоцировал меня на исповедь. И вот я узнаю, что вышла «Кричи!» — и первые страниц пятьдесят или около того — просто диалог со мной. Я не берусь категорически утверждать, что у него был магнитофон, но если нет — значит, у него в голове сидит кремниевый чип (полупроводниковый кристаллик с интегральной схемой — прим. пер.). Он не просто изложил суть разговора — он напечатал его слово в слово! Но независимо от того, фотографическая память у него, или нет, он все равно обманщик и жулик и добывает информацию под фальшивыми предлогами. Я ведь не единственный, кому он подсовывал эту басню, чтобы взять интервью.
БИЛЛ: Здесь будет уместно затронуть Питера Брауна, который, насколько мне известно, говорил в Англии, особенно знакомым БИТЛЗ и семье Брайана, что он работает над книгой о 60-х, а сам писал «Любовь, которую ты отдаешь» («The Love You Make»). Он не говорил с тобой?
ПИТ: Нет. Он даже не обращался ко мне. И заметь: когда они писали ее, они знали, что и я тоже пишу книгу.
БИЛЛ: Что ты думаешь о книге Брауна?
ПИТ: По-моему, это подлость. Мне думается, что этим он очень многим нанес предательский удар в спину.
БИЛЛ: А сама его история соответствует действительности?
ПИТ: Ну, что касается фактических материалов, то там все более или менее. Но его крикливое утверждение о том, что БИТЛЗ распались из-за пагубного пристрастия Джона к героину — это самая большая чушь, которая мне попадалась. Я могу привести целый ряд факторов, приведших к распаду БИТЛЗ — но это ни в коем случае не героин! А он даже ничего не объяснил, просто взял и брякнул: «Джон Леннон имел пагубное пристрастие к героину!». Он подло предал так много людей, помогавших ему… Он был доверенным сотрудником, но никогда не входил во «внутреннее окружение». И он никогда не был другом никого из них. Они знали его только по деловым отношениям. На работу принял его Брайан Эпстайн. Потом он пролез в «Эппл», и, проработав с нами столько времени, был доверенным сотрудником. И это доверие он использовал для «выхода» на очень многих людей, и лично я из этой книги понял, что он уже тогда затаил в себе злобу на них. Но по-моему, у Питера Брауна нет никаких оснований за что-то обижаться на ребят, которые никогда не делали ему ничего плохого. Кроме того, то, что он написал, я считаю извращенной картиной. Поэтому я и написал свою книгу — мой портрет Джона. В ней всякого хватает, потому что я не хотел обвинений в подлещении и изобилии розовых тонов.
БИЛЛ: В твоей книге немало таких же откровений, как и у Брауна, но она совсем не производит такого впечатления.
ПИТ: Это как раз показывает, как много значит отношение автора. Я старался быть абсолютно честным. Я не хотел вставлять эти журналистские обороты, типа «об этом пишется впервые». Я старался избегать недомолвок и амбициозности. Я не углублялся в философию Джона. Я не увлекался своими собственными мнениями.
БИЛЛ: А читал ты «Дни в «Дакоте»" («Dakota Days») и «Любовь к Джону» («Loving John»)?
ПИТ: Я не читал «Дней в «Дакоте»", и не читал «Любви к Джону», не считая сериалов английских воскресных газет. Там они были в центре внимания недели три, так что остальным я себя утруждать не стану.
БИЛЛ: Как ты относишься к тому, что они написали эти книги?
ПИТ: Здесь свободная страна, и каждый имеет право написать книгу. Если человек считает, что ему действительно ЕСТЬ, что сказать, и он хочет немного заработать, что ж, это его право…
БИЛЛ: Насколько точен их портрет Джона?
ПИТ: Я не читал их, так что не могу комментировать. Портрет Джона, каким Я его знал, во всех деталях дается в моей книге. Мне кажется, мое изображение Джона передает его полностью за те годы, что я был с ним знаком. Жаль, конечно, что я не читал этих книг. Тогда я, быть может, и сказал что-нибудь о них… а может быть, и не сказал бы… А вообще, честно говоря, они меня не очень интересуют…
БИЛЛ: Некоторые считают, что портрет Брауна отразил одни только негативные стороны БИТЛЗ…
ПИТ: Вот именно поэтому я и написал свою книгу. Меня просто выводит из себя то, что у людей хватает нахальства и наглости сочинять вещи, вроде «Причин гибели легенды». Какое они, не давшие этому миру ничего по сравнению с этими ребятами, имеют на то право?! Они только и делают, что ругают и критикуют. Я на днях давал радиоинтервью — и вот мне звонит какой-то парень и заявляет: «Брайан Эпстайн в своем деле ничего не смыслил, и из-за него они потеряли кучу денег. Он мог бы сделать все это намного лучше!». И я ответил: «Да Господи, что за позиция?! Брайан не знал, что они тогда делали! А скажите: в какой книге написано, КАК вывести БИТЛЗ к славе? Зато у него, по меньшей мере, была уверенность, вера. Он потратил на них кучу денег, потому что ВЕРИЛ в них. Он вывел их в люди, а о нем говорят, что из-за него они потеряли кучу денег, он был плохим бизнесменом, он был гомосексуалистом.» Ну что за х…ня?! А почему вы не хотите взглянуть на положительную сторону и сказать: «он сделал то-то и то-то»? То же самое было и с Джоном. Другой парень звонит и говорит: «Джон мало сделал, он не раскрыл своего артистического потенциала, он никогда не учил нотной грамоты, не вел счета своим песням, не принимал никакого участия во всех событиях в Кампучии и им подобным.» И я сказал ему: «Да что ты такое говоришь?! Какое ты имеешь право критиковать все это? За то, что этот человек дал тебе и всему миру, его нужно благодарить! А что, говорю, ты сделал для Кампучии?». Гробовое молчание. И я сказал: «Так вот, сначала наведи порядок в своем доме, а потом уже начинай критиковать других. Он для этого мира сделал столько, сколько тебе не сделать за всю твою жизнь.»
БИЛЛ: Как отреагировали на твою книгу Битлы и Йоко?
ПИТ: Пока никак — по той простой причине, что как только книга была издана — а мы очень задержались с ней и неслись галопом, и Ник совсем чуть было не свихнулся, потому что мы хотели быть уверены, что в этой книге все, как нужно ДО сдачи ее в набор; а как только она вышла в печать, я сразу приехал сюда. Вообще, Джордж был одним из первых, кому я сказал, что пишу ее, и он был вне себя от радости, и не мог ее дождаться. Он говорил: «Покажи мне ее сразу, как кончишь». Не думаю, что все там приведет его в восторг, но, думаю, он останется доволен ее честностью. Он считал, что если кому-то и писать книгу о Джоне, то уж кому, как не мне… Вернусь к разговору о подлещевании и прочем… Я не хотел делать этого не только потому, что Джон был честным в отношении к своей жизни, а, значит, для меня было важно быть честным к его жизни, как и к своей собственной, но еще и потому, что, опусти я что-нибудь из того, что знал, — это отразилось бы на ценности всего остального. То есть, это было сделано для создания целостной картины.
БИЛЛ: Ты не всем сообщил, что работаешь над этой книгой?
ПИТ: Нет, только Джорджу. В этом не было необходимости. А Джорджу я сказал просто потому, что мы с ним еще встречаемся.
БИЛЛ: Насколько тесен ваш контакт?
ПИТ: Я вижусь с ним 2–3 раза в год, провожу у него во Фрайэр-парке день или ночь, мы играем во что-нибудь или просто болтаем в саду…
БИЛЛ: А как насчет Пола и Ринго?
ПИТ: Нет, с ними я вообще не встречаюсь.
БИЛЛ: А давно ты видел их в последний раз?
ПИТ: С Полом я виделся лет десять назад, а с Ринго — и того больше. Мы пошли разными путями. Когда я ушел из жизни Джона, я вернулся к своему бизнесу. И в любом случае с миром шоу-бизнеса он ничего общего не имел. Я это понял, еще когда мне было 15.
БИЛЛ: После стиральной доски?
ПИТ: Совершенно верно! Этот мир был мне просто чужд. Так что, шоу-бизнес идет своим путем, а я — своим.
Журнал «Битлфэн», декабрь 1983