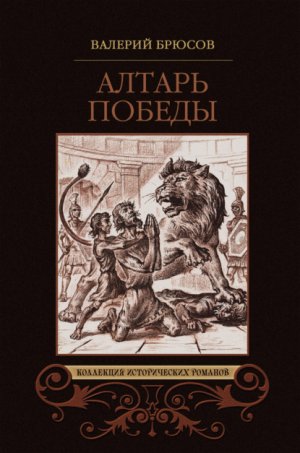
© ООО «Издательский дом «Вече», 2010
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Книга первая
I
Наш корабль уже был в виду берегов Италии, и я весь был занят одной мыслью, что скоро увижу Рим, «золотой», как его называют поэты, по улицам которого выступали Фабии, Сципионы, Суллы и сам божественный Юлий. Скромному провинциалу, сыну удаленной Аквитании, мне тогда казались трижды-четырежды блаженными те, кому Рок судил родиться у подножия Капитолия, куда, по священной дороге, восходило, чтобы принести триумфальные жертвы, столько славных, незабвенных мужей, память о которых не исчезнет, пока «Римлянин власть отцов сохраняет». В тот час я не думал о жестоких унижениях, нанесенных древней столице нашим временем, о пренебрежении императоров к городу, вскормившему их власть, наподобие волчицы – кормилицы двух первых царей, о печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины, на что так жалуются все путешественники, о Новом Риме, гордо вставшем на берегах Боспора Фракийского, – и жаждал лишь одного: слушать рассказы о «Вечном Городе», этом средоточии, как мне казалось, величия, доблести, мудрости и вкуса.
Я и мой новый друг, Публий Ремигий, с которым я познакомился во время морского переезда, – мы сидели на носу корабля на сложенном канате, подставляя свое лицо свежему ветру, и мой собеседник должен был неустанно удовлетворять мое любопытство. Впрочем, он делал это охотно, так как ему, проведшему в Риме всего одну зиму, нравилось выставлять себя жителем столицы и похваляться своим знанием ее перед столь внимательным и доверчивым слушателем, каким я тогда был. Любивший болтать и не стеснявшийся примешивать вымыслы к правде, Ремигий покровительственным голосом объяснял мне, что представляет собою современный Рим, рассказывал о старинных театрах, постановки которых соперничают с самой природой, о цирках и амфитеатрах, где можно видеть самых диковинных животных, о красоте дворцов и храмов, покрытых золотом, величественности бессчетных форумов, переливающихся один в другой, роскоши необъятных терм, где есть все, что может пожелать человек: писцины для плавания, библиотеки для услаждения ума, толпа красивых мальчиков для сладкого времяпрепровождения, о всей многообразности жизни столицы, где рядом соприкасаются великие богатства и нищета, где мудрецы и консулы сталкиваются на площади с разбойниками и проститутками, куда весь мир шлет все самое замечательное, что имеет, о том Риме, который, словно тысячелетнее дерево, каждый год дает новые побеги. С наибольшим же увлечением Ремигий говорил о вещах, ему, по-видимому, особенно близких: толковал мне, в какой таберне какое можно получить вино, где на сцене можно видеть арабийских танцовщиц или кастабальских кулачных бойцов, а где можно слушать гелиопольских флейтисток или любоваться цезарейскими пантомимами, а также как устроены и где расположены в городе те веселые дома, в которых молодежь ищет дешевой любви и где на дверях комнат, занятых девушками всех стран, читаются милые имена: Лидия, Мирра или Психея.
– Рим, мой дорогой, – говорил мне Ремигий, словно изъясняя урок непонятливому ученику, – средоточие мира. Рим так велик, что взором объять его нельзя. В Городе, где бы ты ни был, ты всегда оказываешься в середине. Что в других странах находится по частям, в нем одном соединено вместе. Ты в Риме найдешь и утонченность Востока, и просвещенность Греции, и причудливость далеких земель за Океаном, и все то, что есть в нашей родной Галлии. Жители всех провинций и народы всех других стран смешиваются здесь в одну толпу. Рим – это в сокращении мир. Это – океан красоты, описать который не в силах человеческое слово. Кто однажды побывал там, не захочет никогда жить в другом месте.
Так как оба мы ехали в Рим, чтобы учиться, то я стал также расспрашивать Ремигия о разных римских профессорах и их обыкновениях. С величайшей готовностью Ремигий поспешил мне ответить и на эти мои вопросы. Не без остроумия он начал рассказывать о том, как реторы перебивают друг у друга учеников, заманивая их всевозможными обещаниями; как иные из профессоров богатым ученикам прямо прислуживают, словно их рабы, устраивают для них обеды, на которых прислуживают красивые рабыни, и почтительно дожидаются у порога спальни, пока проснется юноша, прошлую ночь проведший слишком буйно; как состязаются между собой преподаватели реторики, стараясь сократить срок преподавания и публично объявляя, что берутся обучить всем высшим наукам, один – в полтора года, другой – в год, третий – даже в шесть месяцев.
– Что касается трудности учения, – сказал мне Ремигий, – этого ты не бойся. У тебя есть деньги, и этого одного достаточно, чтобы стать мудрым, как Цицерон. Наш век – век великой легкости. Что было для наших предков трудно и тягостно, ныне, благодаря успехам просвещения, стало просто и всем доступно. Для Цезаря подвигом было переправиться в Британнию, а в наше время изысканные люди едут на острова Британнского океана, чтобы отдохнуть несколько недель летом в приятном, нежарком климате. Пирр хотел испугать бедного Фабриция невиданным зрелищем слона, а теперь всякий желающий за несколько медных монет может кататься на слонах, содержимых при любом большом амфитеатре. И всю ту науку, что двести лет назад надо было добывать с крайним напряжением, обливаясь потом на лекциях каких-нибудь греческих обманщиков, или за которой надо было ехать в Афины, в наши дни преподают шутя, для тебя самого незаметно, в самые короткие сроки. Клянусь Геркулесом, ты и не почувствуешь, как войдет в тебя вся реторика, а тем временем мы успеем с тобой вдоволь насладиться всеми приятностями Города, и этого будет довольно, чтобы воспоминаний достало тебе на всю последующую жизнь и чтобы жизнь свою ты не почитал потерянной.
Такие рассказы в меня вселили уверенность, что в Риме ждет меня немало веселого, да и я сам ехал в Город, исполненный самых светлых надежд, даже мечтая втайне, что благоприятный случай позволит мне там чем-либо выделиться из числа других сверстников: ведь юность всегда самонадеянна, а я был еще очень молод. В приятной беседе с Ремигием, в которой я, впрочем, играл больше роль слушателя, незаметно прошло время. Скоро уже стали отчетливо видны громадные сооружения Римского Порта, длинные молы, высокие стены домов, храмов, амфитеатров, белые колонны портиков и тихо покачивающийся лес мачт от бесчисленных кораблей, военных и торговых, стоявших в гавани. Кругом нашего корабля тоже виднелось немалое число других судов, начиная с громадной гептеры, опередившей нас, до маленьких гребных лодок, зыбко качавшихся на волнах, поднятых нашим кораблем.
Раздались громкие приказы магистра корабля, и матросы забегали по палубе, приготовляясь к причалу. Все другие наши попутчики стали собирать свои вещи, и мы с Ремигием последовали их примеру.
II
Мы переночевали в Порте, в гостинице, и утром нашли себе места в одной реде, отправлявшейся после полудня в Рим. Время до отъезда мы решили посвятить осмотру города, в котором немало любопытных зданий, несмотря на его сравнительно недавнее происхождение. Бродя без цели по улицам, зашли мы в отдаленную часть города, около канала, соединяющего Тибр с морем, пустынную в тот час, отдаваемый обычно полуденному отдыху. Здесь одно происшествие привлекло внимание не столько мое, сколько моего товарища.
На углу набережной и одной из поперечных улиц мы увидели двух скромно одетых девушек, которых явно притеснял человек высокого роста, в сирийской шапке. Девушки пытались уйти от него, но он, загораживая им дорогу, чего-то настойчиво от них добивался, видимо, к большому их замешательству. Если бы я был один, я, конечно, не подумал бы вмешиваться в уличную ссору, но Ремигий любил приключения и был, что называется, – забияка. Не раздумывая, он бросился вперед, и через несколько минут его спор с сирийцем перешел в ожесточенную брань.
Когда я отважился приблизиться, я услышал такие слова Ремигия:
– Если ты думаешь, приятель, что сирийский колпак придал ума твоей голове, ты весьма ошибаешься: и Святое Писание говорит нам, что в гробах повапленных бывает смрад и нечистота. И если ты полагаешь, что довольно нарумянить щеки и завить бороду, чтобы женщины всего мира побежали за тобой, то знай, что говорит поэт о боге Любви: «Лютый и дикий, злой, как ехидна!» А что до твоих намеков, будто ты толкаешься среди придворных слуг и что поэтому всякому твоему доносу дан будет ход, то вспомни, как смотрели на сикофантов древние греки, наши учителя во всяческой мудрости: они доносчиков почитали наравне с волками. Говорю тебе, если ты не оставишь тотчас этих двух девушек в покое, я схвачу тебя поперек тела и сброшу в воду, а ты уже оттуда выплывай, как знаешь. И если, проплывая, барка разобьет тебе в это время череп, она только избавит Рим от лишнего негодяя.
Сириец оглянулся кругом и убедился, что поддержки ему ждать неоткуда, так как набережная была совершенно пустынна, двери складов и сараев, тянувшихся вдоль нее, плотно заперты и на судах, стоявших в канале, не виднелось ни одного человека. К тому же и я, как ни были мне всякие уличные споры ненавистны, не поддержать товарища в опасности считал нечестным и всячески выражал готовность прийти к нему на помощь. Поэтому сириец, не обладая, по-видимому, особым мужеством и не желая один иметь дело с двумя противниками, от своих притязаний предпочел уклониться и, отступая, сказал нам:
– Напрасно, молодые люди, не в свое дело вы вмешиваетесь. Я этих девушек вовсе не обижал, но, напротив, желал им оказать некоторую услугу! Я их предупреждал, что кое в чем они поступают неосмотрительно и это может повести их к беде. Если они меня слушать не хотят, тем для них хуже будет.
Две девушки были далеко не похожи друг на друга. Одна, которая казалась моложе, была одета, хотя и бедно, не без некоторого щегольства; у нее было милое лицо германки, с детскими глазами и алыми губами; во время спора она как бы пряталась за свою подругу и, минутами, почти готова была заплакать. Другая девушка, одетая в паллу темного цвета и бывшая старше на вид, с лицом суровым и строгим, не отступала перед угрозами сирийца, но давала им решительный отпор. Услышав его последние слова, она сказала горячо:
– Лжешь, сириец! Думаешь, мы забыли, с какими предложениями ты к нам обращался! Женщине повторять их непристойно, но, если эти благородные молодые люди избавят нас от твоих притеснений, у нас найдутся защитники, которые дадут тебе должный ответ.
– А ты забыла, – возразил сириец, – что ты и твоя сестра прятали между своими вещами в гостинице!
– Гнусный соглядатай! – воскликнула девушка. – Не знаю, что тебе показалось, когда заглядывал ты в какую-нибудь щель или замочную скважину, но, клянусь святым Крестом, ни в чем предосудительном мы не повинны!
Тут сириец или утратил от раздражения свою осторожность, или захотел устрашить нас, только он произнес такие знаменательные слова:
– Ни в чем предосудительном! Или я не видел, как ты с сестрой убирала в ящик пурпуровый колобий? Разве это не значит злоумышлять на священную жизнь божественного императора! Знаешь ли ты, что этого одного достаточно, чтобы отправить вас обеих в тюрьму, а также и тех, кто вступается за лиц, виновных в таком злодеянии!
Признаюсь, после такого заявления словно холод Британнии пробежал по моим членам, так как я вовсе не хотел испытать участь Аполлинария и Мараса, замученных по сходному обвинению на Востоке в правление цезаря Галла. Подступив осторожно к Ремигию, я потянул его за плащ, давая ему понять, что самое благоразумное для нас – от этого темного дела уклониться. Но бесстрашный Ремигий, словно змей, раненный стрелой или камнем, бросился на сирийца, бывшего головой выше его, подступил к нему вплотную и так ему крикнул:
– Слушай, сирийский шут! Твоя родина славится канатными плясунами и скаковыми лошадьми. Так покажи нам искусства твоей страны и уходи отсюда так скоро, как только можешь, приплясывая или нет, по своему выбору. Иначе, клянусь Юпитером и Пресвятой Девой Марией, придется тебе по опыту узнать, какова вода в этом канале, пресная или соленая!
Повадка моего друга была столь решительна, что сириец не посмел более медлить ни минуты. Бормоча угрозы и ругательства, он стал быстро отступать, пятясь задом, и, достигнув первого поворота, почти бегом бросился прочь, вдоль низких каменных оград, и скоро скрылся из виду. Мы на поле битвы остались как победители.
Девушки начали усердно благодарить нас за заступничество, но Ремигий сказал им:
– Или я сильно ошибаюсь, или этот негодяй не кто иной, как императорский соглядатай из корпуса agentium in rebus, один из тех, кого называют curiosi. Они шныряют всюду, стараясь разыскать измену, так как только за измену, хотя бы самую маленькую, им и платят. Наверное, побежал он сейчас к одному из своих начальников, чтобы на вас сделать донос. Я бы на вашем месте не стал медлить здесь, но поспешил бы прочь из негостеприимного для вас Троянова Порта, так как в наши дни нельзя особенно рассчитывать на правосудие. Я, Публий Ремигий из Массилии, и мой друг, Децим Юний Норбан, из Лакторы, племянник сенатора Авла Бебия Тибуртина, с удовольствием окажем вам свое покровительство и готовы сопровождать вас, если последуете вы тому совету, что я даю вам, наподобие богини Минервы, которая, в образе мудрого Ментеса, склонила юного Телемака к путешествию.
Девушки, однако, решительно отказались от нашей дальнейшей помощи, сказав, что путешествуют не одни, но со своей родственницей. Они назвали свои имена, которые оба оказались мало обычными: младшую звали Лета, старшую – Pea; они были сестры и, подобно нам, направлялись в Рим, только не из Галлии, а из Испании, из Сагунта, где недавно умер их отец. Ремигий стал предлагать, чтобы они провели с нами некоторое время, говоря, что в городе есть приятный общественный сад и подле лавровая роща, но девушки нашли такую прогулку неприличной, и нам пришлось удовольствоваться с их стороны одной благодарностью за великодушное заступничество.
Впрочем, Лета, когда опасность миновала, была склонна шутить с Ремигием и как будто колебалась, не принять ли его предложение, но старшая сестра резко ее остановила.
– Неужели ты не позволишь даже поцеловать тебя в награду за все, что мы для вас сделали? – спросил Ремигий Лету, пытаясь обнять ее.
– Может быть, мой поцелуй стоит дороже, – лукаво возразила та, уклоняясь от объятия.
Pea вмешалась и сказала:
– Если вы избавили нас от одних оскорблений, чтобы подвергнуть другим, вам трудиться не стоило.
Тогда Ремигий стал просить, чтобы девушки, по крайней мере, назначили нам встречу в Риме, обещая показать им все достопримечательности Города.
– Только, – возразила Лета, – не в первые дни по нашем приезде. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно идти со мною рядом. Когда я научусь наряжаться, как римлянки, и, как они, заплетать волосы, я охотно позову тебя сопровождать меня.
Ремигий заверил ее, что она и теперь прекраснее всех других девушек всего мира, но опять Pea вступила в разговор и сказала:
– Мы едем в Рим не за тем, чтобы забавляться. Мы девушки бедные, и наши дни должны будем посвящать работе. А в свободные часы нам останется время только посетить церковь или поклониться мощам Святых, что вряд ли для юношей, каковы вы двое, будет занимательно.
Мне стало стыдно, и я начал убеждать своего друга прекратить его настояния. Кончилось тем, что нам не осталось другого, как мирно проводить девушек до указанной ими гостиницы, причем Ремигий не переставал делать весьма нескромные намеки понравившейся ему Лете, которые заставили бы краснеть любую девушку моего родного города. Но Лета, не смущаясь, отвечала ему, и обмен остротами продолжался во все время пути.
Когда мы уже прощались, Pea, почти не проронившая во всю дорогу ни слова, внезапно обратилась ко мне с вопросом:
– Твое имя точно Юний?
– Так, по крайней мере, – ответил я немного обидчиво, – зовут моего отца и звали деда и моих предков. Имя это не бесславно в истории. И каждому человеку свойственно знать свое имя.
– А сколько тебе лет? – спросила девушка.
Как всем юношам, мне хотелось казаться старше своих лет, и я ответил:
– Если ты это хочешь знать, мне девятнадцать лет.
– Неправда! Наверное, восемнадцать! – живо возразила Pea.
Смутившись, так как она была права, я сказал:
– Да, мне будет девятнадцать лет через несколько месяцев. Но откуда ты это знаешь?
Она ничего мне не ответила, только загадочно улыбнулась и потом произнесла:
– Мы еще с тобой увидимся, Юний.
После этого мы расстались у двери гостиницы, где жили девушки. Ремигий был несколько опечален тем, что столь любопытное приключение не привело нас ни к чему, но вознаграждал себя насмешками надо мной за внимание, оказанное мне старшей из сестер, которую он упорно называл «старушкой».
– Если ты так нравишься старым женщинам, – говорил он, – будь спокоен за свою участь: в Риме у тебя не будет недостатка в деньгах.
Я же в глубине души был обеспокоен всем этим происшествием, в котором участвовал против воли, и не без боязни помышлял о том доносе, который может сделать на нас неизвестный сириец.
III
Недолгая дорога от Римского Порта до Города оказалась крайне утомительной. Кроме нас, в реде ехали два купца, торопившиеся по своим делам, и Ремигий тотчас поспешил блеснуть перед ними своими познаниями. Он объявил, что он также сын купца, и завел бесконечный разговор о торговле с серами и синами шелком и другими товарами, о преимуществах сухопутного пути через Бактриану перед морским через Египет и Индию, о сирийском холсте, фригийском сукне, галатской шерсти, золотошвейных изделиях атталийцев, о знаменитой ярмарке в Батне, о налогах, порториях и разных сборах. Воспользовавшись этим, я большую часть дороги мирно дремал, пока мимо мелькали огороженные виноградники, оливковые рощи и ряды великолепных вилл. Сквозь сон я слышал еще речи о саксонских пиратах, долгое время не пропускавших купеческие корабли в Британнию, о разбоях франков, прогнанных Феодосием за Рейн, о торговле с берегами Понта Эвксинского, которая в наши дни решительно пришла в упадок после войн с готами и разрушения ими многих городов, и мой Ремигий во время этого разговора, как из рога Фортуны, сыпал имена, названия, цифры, проявляя такое же знание торгового дела, как раньше Рима и реторики. Я не мог еще раз не подивиться на разносторонность дарований, какими одарили боги этого юношу, готового то вести философский спор, то вмешаться в уличную драку, и под говор своих спутников, заснул, наконец, крепким сном.
Когда я проснулся, был уже вечер и мы приближались к Городу. Дорога стала гораздо более оживленной, поминутно то встречались нам, то обгоняли нас всадники, колесницы, повозки, скакали вестники, везя какие-либо правительственные распоряжения, быстро проезжали карпенты, в которых виднелись важные лица, может быть, каких-нибудь сановников; медленно тащились плавстры, запряженные мулами; шли пешеходы, и порой мерным шагом проходил отряд войска под предводительством конного центуриона; с краев дороги доносились жалобные просьбы нищих, просивших милостыни, кто «ради Христа», кто «во имя Юпитера»; вдоль дороги стояли теперь ряды мраморных гробниц, и с них смотрели на нас каменные лики мужчин и женщин, в сумраке казавшиеся особенно важными, а вдали темной громадой уже вырисовывались огромные очертания Рима. Наша реда, запряженная парой добрых лошадей, ехала быстро, и скоро мы приблизились к Портуенским воротам.
Почти тотчас за воротами наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной, и здесь пришлось нам испытать все неприятности осмотра портитора. Затем мы попрощались с нашими спутниками, и Ремигий, держа себя как человек опытный в путешествиях, выбрал из толпы носильщиков, окружавших нас, двух дюжих молодцов, которым приказал нести наши вещи. Ремигию очень хотелось, чтобы я некоторое время еще провел с ним в какой-либо транстиберинской копоне, чтобы «возлиянием богам», как говорил он, отпраздновать мое прибытие в Рим. Но я отговорился тем, что крайне устал, и мы, назначив друг другу встречу на следующий день, расстались: Ремигий направился в дом вдовы Траги, где обычно находил себе в городе пристанище и кредит, а я приказал нести свой сундук и свой мешок на Виминал, в дом моего дяди, сенатора Авла Бебия Тибуртина.
Странно мне было впервые в жизни идти по Риму, уже почти во мраке, переходить Тибр по мосту Проба, видеть молчаливые стены высоких домов, слабо освещенных кое-где фонарями перед ларариями, угадывать торжественные очертания неизвестных храмов и дворцов Палатина, нырять во мрак портиков, которыми опоясано большинство улиц, встречать прохожих, за которыми шли их рабы с фонарями в руках, слышать пьяные голоса из шумных копон, встречавшихся по пути во множестве; порою, и нередко, попадались мне уличные женщины с густо набеленными лицами, с черными бровями, соединенными в одну черту; эти женщины хватали меня за край плаща, называли «милым мальчиком» и звали провести ночь с ними; я вырывался из их рук, думая, что у меня еще будет время повеселиться в Риме, и упорно шел вперед, пока носильщик не объявил мне, что мы у цели.
Маленькая улица, на которой мы стояли, была безлюдна и темна, и в доме моего дяди было не видно огней, не слышно голосов. Поэтому не без смущения я решился постучать в дверь, прочитав на пороге сделанную полустершейся мозаикой старинную Римскую надпись: «Берегись собаки». Прошло довольно много времени, пока, произнося бранные слова, подошел к двери, громыхая цепью, которой он был прикован, раб-привратник и, приоткрыв вход, спросил меня, кто я и что мне нужно. Я объяснил, что я – племянник Тибуртина, что у меня есть к нему письмо от его сестры, и после долгих переговоров меня впустили, наконец, в вестибюль, слабо освещенный двойной висячей луцерной.
Привратник поручил меня другому, вызванному им рабу, дряхлому старику, Мильтиаду, который провел меня через безмолвный и пустынный атрий в таблин. Дядя еще не спал, и я увидел дородного человека в домашней одежде, сидевшего в глубоком кресле, с украшениями из слоновой кости, перед мозаичным столом, на котором стоял золотой кубок и серебряный кувшин с вином, издававшим сладостный запах, лежали на хрустальном блюде кусочки дыни, исписанные цифрами таблички и абак. Около, почтительно склонив голову, стоял какой-то человек, вероятно, раб-вилик, с которым дядя сводил счеты по одному из своих загородных поместий. Мильтиад, исполняя назначение номенклатора, провозгласил мое имя и скрылся.
Первую минуту дядя был крайне раздосадован моим появлением и мрачно нахмурил брови, но когда я объяснил ему, кто я, напомнил ему, что он сам предложил мне жить в его доме, и передал ему письмо моей матери, он смягчился и заговорил со мной дружески.
– Так, значит, ты и есть Децим Юний, мой возлюбленный племянник, сын сестры моей Руфины и Тита Юния Норбана, декуриона Лакторы, внук Децима Юния Норбана, бывшего пресидом Новемпопулании при божественном Константине. Добро пожаловать, племянник, и да будут к тебе благосклонны лары и пенаты этого дома, где еще ни разу не угасал священный огонь перед семейным алтарем с того самого времени, как Камилл возобновил Город. Вижу из письма, что сестра и твой отец – в добром здравии, и радуюсь этому, потому что хорошие люди в наши дни нужны империи. А ты прибыл в Рим, чтобы продолжать свое учение, и хорошо сделал, ибо каков же тот римлянин, – а ныне, клянусь Юноной, римляне все жители империи, – кто никогда не был в Городе, матери всех других городов и провинций. Но с самого первого раза говорю тебе, и ты запомни мои слова хорошенько: если ты думаешь, что в Риме ждут тебя прежде всего удовольствия, ты весьма в значении слова римлянин ошибаешься. Повторяй всегда слова нашего поэта: «Ты над народами властию править, римлянин, помни! Вот искусства твои!» И куда бы наши императоры ни переносили столицу республики, всегда средоточием власти останется Рим и от Римского сената будут новые императоры получать утверждение своего сана. В Вечном Городе ты, мой сын, учись, раньше всего другого, вечной мудрости и древней доблести квиритов: не веселию праздношатающихся, но строгой нравственности, терпению в работе и мужеству во брани. Правильно ли я говорю, племянник?
Мне, который стоял неподвижно, слушая поучительную речь, только и оставалось ответить, что я во всем с ней согласен, и дядя, отпив из кубка широкими глотками и закусив дыней, продолжал с новым вдохновением:
– Вспомни, чем были римляне, когда мощь Города неоспоримо признавалась на всем круге земном, от Океана до Индии, от пустынь Сарматских до Агизамбы, страны носорогов. Римляне были первыми работниками в своем государстве, и все граждане не щадили сил на пользу республики. Предки наши ложились спать с петухами, и утренняя Аврора заставала их уже готовыми на дневной труд. Когда послы Сената отправились искать Цинцината, чтобы предложить ему диктаторские фаски, они нашли его обнаженным, ведущим свой плуг среди вспаханного им поля. Вдова славного Регула, по смерти мужа, должна была жить на пособия от друзей, а дочери Сципиона приданое было выдано из государственной казны, ибо мужи древности всю свою жизнь посвящали на служение республике, а не на свое обогащение. Подражай им, мой сын, ибо только таким способом может и в наши дни Рим сохранить свое величие и свою славу.
Тут дядя обратил внимание, что нашу беседу, или, точнее, его страстные монологи, слушает находившийся в таблине раб, и грозно закричал на него:
– А ты, Пицент, ступай пока прочь, мы завтра еще посчитаемся с тобой! И если десятая доля моих подозрений оправдается, смотри, как бы не поступил я с тобою, как доблестный Лукулл с лишними рабами, – я с тобой сумею управиться. Вы все там мошенники и воры, пользуетесь тем, что я живу в Городе, и хотите меня уверить, что поля не приносят никаких доходов. Убирайся!
Когда раб из комнаты вышел, дядя пригласил меня сесть и, снова отпив из своего кубка, продолжал:
– Говорю тебе, что прежняя простота жизни римлян погибает! Еще во времена Второй Пунической войны в Риме был лишь один прибор серебряной посуды, переходивший из дома в дом к тому сенатору, который должен был угощать иностранных послов! Божественный Август не стеснялся ходить по улицам, как простой гражданин. Император Нерон покорно исполнял древний обычай, перешедший к консулам от царей, и самолично присутствовал на пожаре. И еще Александр Север стыдился угощать своих гостей на золоте. Ныне же вольноотпущенники убирают себе дома разноцветным мрамором и стены украшают перлами и вавилонскими коврами, женщины наши одеваются в шелк и в туники, шитые серебром и золотом, а в серьгах своих носят камни, по цене равные пяти поместьям, мужчины же проживают скопленное их предками на закладах при беге колесниц, на пирах, во время которых угощают всяких проходимцев, и на дорогое вино, которое пьют с утра до утра… Но, постой, почему же ты не пьешь со мной?
Дядя позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, когда раб принес мне кубок, наполнил его вином, судя по вкусу, фалернским, и продолжал:
– Предки наши, любезный племянник, ели горох и маслины, запивая их местным деревенским вином, – и завоевали весь мир. А в наши дни пьют вина, привезенные из Греции и Малой Азии, едят редкостных морских рыб и заморские плоды, – и терпят поражения на Рейне и на Евфрате. Предки наши усердно приносили жертвы Юпитеру Капитолийскому и Марсу Градиву и провинцию за провинцией присоединяли к области республики. А наши полководцы подымают лабарум с монограммой Иудейского Христа, и уже утратили мы Дакию, Германию, часть Британнии и пять провинций между Евфратом и Тигром. Если ты, племянник, приехал в Город, чтобы научиться быть римлянином, я тебе обещаю всяческое содействие, а слово Авла Бебия Тибуртина значит много, ибо какое звание на земле выше сенаторского, и имя Бебиев известно в Римских анналах. Но если ты хочешь изменить вере отцов и доблести квиритов, ты напрасно стучался в дверь этого дома, где жили когда-то мужи, бившиеся под Замой, и при Акциуме, и еще в наши времена, отстаивая римскую свободу, у Мульвиева моста.
Дядя говорил еще много, пока я не заметил, что он изрядно пьян. Тогда я поднялся и начал прощаться, объясняя это утомлением после трудного пути. Дядя попытался было вновь наполнить наши кубки, но, убедившись, что вино все выпито, грустно сказал:
– Ты прав, племянник, время уже предаться покою (было далеко за полночь). Ключи от погреба у моей жены, и ее нельзя тревожить, после того как она прочла свои молитвы Пресвятой Деве перед сном. Иди отдыхай, а завтра я познакомлю тебя с моими дочерьми, которым постарался я внушить правила жизни строгой, те, которые вознесли Римскую матрону на такую высоту, что в счастливые времена Города каждый прохожий долгом почитал дать ей дорогу. Прощай.
Раб проводил меня в назначенный мне дормиторий, и хотя я и предпочитал бы, чтобы меня после долгого путешествия проводила в бани хорошенькая служанка, подобная всем знакомой Фотиде из «Метаморфоз» африканского поэта, однако мне скоро пришлось, вздыхая, остаться наедине в неуютной комнате. Впрочем, утомленный приключениями последних дней, едва успел я рассмотреть при слабом свете лампады нескромные изображения, которыми расписаны были стены, как бросился на ложе и тотчас уснул крепким сном путешественника.
IV
Наутро, по привычке, приобретенной с детства, я встал рано и, одевшись, вышел в атрий, думая, что найду там толпу клиентов, которые ожидают выхода к ним своего патрона. Но атрий был пуст, и только двое или трое рабов лениво занимались утренней уборкой, которые и объяснили мне, что дядя еще спит, а жена его молится в часовне, устроенной при доме. Они же посоветовали мне идти в перистилий, где я могу увидеть младшую из дочерей дяди, Намию.
Я последовал совету и, проходя, успел заметить, что на всем вокруг лежали следы явного упадка: живопись стен во многих местах была попорчена, мозаика частью разрушилась, позолота с колонн слезла; статуи были давно не чищены, и даже некоторые из восковых масок предков, висевших в крыльях атрия, были в плохом состоянии; столы, кресла, светильники, стоявшие тут и бывшие, по-видимому, когда-то роскошными, давно обветшали и при дневном свете казались убогими.
В перистилии действительно увидел я девочку лет двенадцати, в простой льняной тунике, которая забавлялась тем, что около писцины дразнила павлина, то раскрывавшего с хриплым криком, то закрывавшего свой пышный хвост, усеянный очами Аргуса.
Подойдя, я назвал себя и спросил, не говорю ли я с Намией, моей двоюродной сестрой. Девочка подняла на меня глаза, так что я увидел прямо перед собой ее выразительное лицо маленькой гречанки (ибо мать ее была происхождением из Фессалии), и, прищурив глаза, стала меня беззастенчиво рассматривать, потом сказала:
– А ты хорошенький мальчик!
Что я красив, это мне приходилось слышать и раньше, поэтому я не очень удивился на слова девочки, но ее свободное со мной обращение смутило меня, и, стараясь не выдать в себе застенчивого провинциала, я возразил:
– Ты мне тоже очень нравишься; у тебя красивые глаза и красивый нос.
Девочка засмеялась.
– О, погоди! Я буду гораздо лучше! Пока я еще только девочка и играю в куклы. Но я хочу быть красивее всех в Риме. А ты похож на молодого Меркурия, как его изображают статуи. Вот ты приехал из Галлии, что же, ты оставил там невесту или возлюбленную?
Продолжая шутить, я ответил:
– Что ты! Я ведь тоже мальчик и приехал сюда учиться. Мне о невесте еще рано думать.
Намия, отойдя к стене, села на мраморную скамью и подозвала меня.
– Вот что, – сказала она мне, – отец еще спит, мать и сестра Аттузия молятся. Это – мое время. Садись здесь, около меня, и расскажи мне что-нибудь любопытное.
Она указала мне место у своих ног на мозаичном полу. Мне пришлось подчиниться, и, поместившись у ног девочки, я постарался, как умел лучше, выполнить возложенное на меня дело. Я стал рассказывать о Галлии, о городах, которые я там видел, о нашей тихой Лакторе на шумном Эгирции, с ее знаменитым храмом Матери Богов, о красивой Толозе с ее башнями, о большой и людной Бурдигале, куда приходят корабли с Океана, о величине реки Гарумны, о нравах жителей Пиренейских гор и о всем другом, что мне пришло на память.
Намия некоторое время меня слушала, но потом прервала, нисколько не стесняясь, такими словами:
– Как все скучно, что ты говоришь! Неужели ты не можешь придумать чего-нибудь более занимательного?
Втайне я был обижен, но не подал виду и, переменив голос, попробовал повторить ей некоторые рассказы из Апулея. Но она уже с первых слов остановила меня, замахав руками и сообщив с веселым смехом:
– Все это я давно читала, за кого ты меня считаешь?
И что бы я ни начинал рассказывать: события ли из своей жизни, вещи ли, вычитанные из книг, – все казалось Намии или скучным, или известным, и я в конце концов не без злобы замолчал совсем. Тогда девочка сказала:
– Ты, Юний, должно быть, более красив, чем умен, прекрати свои рассказы и лучше давай целоваться.
Предложение было столь неожиданно, что я одно время колебался, не принять ли его за шутку, но девочка ждала моего ответа так уверенно, что я, не колеблясь более, стал на колени, обнял ее и несколько раз поцеловал прямо в губы. Вырвавшись из моих рук, Намия сказала:
– Ты сладко целуешься. И вообще ты мне нравишься. Хочешь, мы будем друзьями?
Я согласился, и наш союз был заключен.
В это время послышались голоса и шаги, и Намия мне шепнула:
– Вот идут мать и сестра. Больше нельзя веселиться. Надо себя держать чинно.
Я ожидал увидеть в моей тетке, жене сенатора, мужа, имеющего титул clarissimus, почтенную матрону с благородным лицом и важной поступью, а в ее старшей дочери – прелестную девушку, напоминающую Намию, только с более зрелой красотой. Но ожидания мои были обмануты, так как жена дяди была толстой и обрюзгшей гречанкой, казавшейся много старше своих лет, одетой неряшливо, держащей в руке громадную связку ключей, а Аттузия – худой, высокой, некрасивой девушкой, с лицом, словно почерневшим, с большим носом, с унылыми глазами, какие бывают у засыпающих рыб. Все это, разумеется, не помешало мне приветствовать вошедших со всем должным почтением.
– Мы тебя ждали, племянник, – сказала мне тетка. – Твой отец поручил мне наблюдать за тобой, как за сыном, и я надеюсь, что тебе будет у нас хорошо. Конечно, особой роскоши у нас нет, но юноше она и не прилична. В Риме жить дорого, рабы в поместьях с каждым годом становятся все вороватее, а на рынках цены растут непомерно. Но никакого недостатка ты терпеть ни в чем не будешь.
После того как я ответил, что привык к жизни скромной, меня спросила Аттузия:
– Ты уже молился сегодня, Юний?
Вопрос этот поставил меня в крайнее затруднение, и я стал бормотать что-то невнятное, и тогда Аттузия спросила меня уже прямо:
– Да ты христианин?
Я должен был признаться, что воспитан в вере отцов.
Аттузия заломила руки и подняла глаза вверх.
– Неужели есть еще в Аквитании семьи, – воскликнула она, – не просвещенные светом Христовым! – Потом добавила: – Я сама займусь твоим духовным просвещением и попрошу отца Никодима: его речи расплавят тебе сердце, как огонь железо.
Так беседуя, мы вышли в атрий, где к тому времени уже собралась маленькая толпа клиентов и друзей дома, пришедших принести утреннее приветствие сенатору. Но дядя все еще продолжал спать, и вместо него приветствия принимала тетка, обращавшаяся с посетителями весьма сурово и без всякого стеснения. Исключение было сделано только для того отца Никодима, о котором мне уже говорила Аттузия и который тоже оказался в числе клиентов. Его одного тетка позвала завтракать с нами, а остальные вскоре должны были покинуть дом, причем после их ухода тетка обозвала их всех «бездельниками».
Завтракали мы в маленьком триклинии, и я с первого же раза убедился, что роскошью стола дом дяди не отличался; подавали остатки вчерашнего обеда, сыр, яйца, плохое вино. Говорил за столом едва ли не один отец Никодим, который, заменяя для женщин acta diurna, сообщал все происшествия за день: какие есть вести об императорском дворе, где был пожар, в чьем доме готовится свадьба, кто захворал, кто из видных женщин поссорились со своими любовниками. Последние известия отец сопровождал жалобами на развращенность нашего века. Аттузия не преминула пожаловаться на то, что мои родители оставили меня во власти старых суеверий, но отец Никодим на этот раз не пожелал проявить огненности своих поучений: он только укоряюще покачал головой и еще усерднее принялся наливать себе вино.
Я был рад, когда завтрак окончился и мне можно было поспешить на свидание, назначенное у нас с Ремигием.
V
В тот день в первый раз видел я Рим при дневном свете. Потому ли, что утренние впечатления от завтрака с отцом Никодимом так на меня повлияли, или потому, что я ожидал под влиянием рассказов Ремигия и других слишком многого, только Город решительно разочаровал меня. Улицы мне показались узкими и грязными, дома безобразными и старыми, а толпа не нарядной: в ней, правда, попадались представители всех стран, не только жители Эфиопии и германцы, но даже персы, сарматы и индийцы, однако по большей части то были ремесленники, торговцы мелким товаром или просто нищие, которые толкались, кричали на разных языках и в общем производили такое впечатление, что хотелось куда-нибудь от них укрыться. После безмолвных улиц нашей священной Лакторы эта уличная давка была мне нестерпима. Под аркадами везде были лавки и таберны, лежали груды сушеной рыбы, овощей, плодов, и запах ото всего этого был, в общем, крайне неприятен. Порой по улице стремглав пролетала колесница с каким-нибудь важным лицом, давя народ, а за ней с криками бежала целая толпа рабов, словно шайка разбойников; или, напротив, дюжие рабы, крича еще сильнее, бегом налетали на людей, расталкивали их и разгоняли палками, чтобы дать дорогу позолоченным носилкам, в которых лежала какая-нибудь знаменитая римская гетера, а за носилками, припрыгивая, бежали отвратительные евнухи.
Когда я выбрался на форумы, там мне показалось несколько легче, и я уже мог наслаждаться видом старинных храмов, великолепных колонн, гордых статуй и пышных триумфальных арок, вещающих о славном прошлом Рима; стоя на старом форуме, близ дома таинственных весталок, я должен был признать, что единственное в мире зрелище представляет это сочетание бессчетных великолепных зданий, колонн, арок, статуй, блеск мрамора, меди, золота и вид на великолепный храм Отца Богов, сверкающий золотой кровлей и золотыми вратами, что царит на высоте, упираясь в незыблемую скалу. Но я не мог не заметить, что многие здания, даже те, что всего столетие назад возобновлены были при Диоклециане, уже пришли в упадок, что мрамор многих стен потемнел, что ступени лестниц были обтерты и обломаны, что везде была грязь и нечистота и что всюду на роскоши строений, «словно пятна на» теле больного, виднелись нищие в грязных лохмотьях. Лавки вокруг форумов были заняты более благородными товарами, и здесь были выложены на прилавки и висели над нами то золото и драгоценные камни, то дорогие материи, то серебряные кубки, то шитые золотом пояса и ленты, то красивые плоды, то груды цветов. Но и на форуме толкалась почти та же толпа, как на удаленных улицах, и редко приходилось встретить щеголя в цветном плаще, застегнутом у шеи и прихваченном у пояса, ловко распахивающего полы, чтобы обнаружить тунику, вышитую изображениями разных зверей, или важного сановника в плаще, тоже шитом золотом, тяжелом и неудобном, сопровождаемого толпой друзей. Я вспомнил слова персидского царевича, сказанные императору Констанцию, будто в Риме лишь одно ему не нравится: что и здесь люди смертны, – и думал, что царевич требовал от жизни не слишком многого.
Отыскивая дорогу к той копоне, которую мне назначил Ремигий, вдруг увидел я его самого в небольшой толпе, слушавшей оратора, который, по древнему обычаю, произносил речь около ростры. Слушатели, по-видимому, относились к этому оратору, как к потешнику: громко высказывая неодобрительные замечания и порой громко смеясь. Но произносивший речь как будто не замечал этого и продолжал что-то говорить о величии Древнего Рима и о мудрости первых римских царей.
– Что ты здесь делаешь, когда я тебя ищу, – спросил я Ремигия.
– Молчи, – возразил Ремигий, – и слушай: это очень забавно.
Оратор продолжал речь:
– Итак, квириты, помыслите, сколь много мы теряем, не ведая, отколь вышел наш славный род и под какими предзнаменованиями создались наши бессмертные учреждения! Кто из вас сумеет ответить, какие законы даровал Атис? Какие Капис? Какие Капет? Кто из вас вникал в прорицания Пика, священной птицы бога? Кто не смешивает лемуров с ларвами, свершая тем великий грех и оскверняя священные майские обряды! Квириты, жизнь наша теряет свой смысл, если не вникаем мы в наше прошлое, и империи грозит гибель, если камень древности, на котором стоит она, будет подточен червем невежества! Здесь, перед алтарем Вулкана, воздвигнутого Ромулом, перед этим алтарем, куда мы ежегодно приносим памятную жертву рыб, у золотого столба, где сходятся все дороги Италии и, следовательно, мира, я хочу указать единственный верный путь спасения Риму и через него всему человечеству!
При этих словах почти все слушатели принялись неистово хохотать, а большинство стало расходиться. Тогда Ремигий подступил к оратору и сказал ему с преувеличенной почтительностью:
– Славный Фестин! Ты, вероятно, вспомнишь меня, Ремигия, ибо прошлой зимой мы не раз вместе осушали кубки во славу божества Квирина. Я и мой друг Юний из Лакторы только что наслаждались мудростью, истекавшей из твоих уст, как некогда речи слаще меда текли из уст Нестора. Не захочешь ли ты сегодня также разделить с нами наш скромный завтрак в одной из копон за басиликой Константина?
Одежда оратора состояла из рваного плаща, кожа лица его едва обтягивала кости, борода была всклокочена, и все в нем обличало большую нужду. Неудивительно, что он тотчас с готовностью принял зов Ремигия, что, однако, не помешало ему держать себя с величием истинного философа.
По дороге Ремигий сказал мне:
– Ты, Юний, находишься сейчас в обществе одного из величайших ученых, каких когда-либо производил Рим. Мир еще не знает Фестина, но многие великие мужи при своей жизни разделяли с ним ту же участь. Уверяю тебя: это – кладезь мудрости, библиотека, из которой ты можешь черпать все сведения, соперник Варрона и Авла Геллия по многообразию своей учености, и для будущих поколений, изваянный из мрамора или отлитый из бронзы, предмет поклонения.
Мне пришлось сделать усилие, чтобы не рассмеяться, когда я представил себе лицо нашего спутника в мраморе. Но Фестин принял серьезно слова моего друга и со скромностью ответил:
– Я не дерзаю равнять себя с Варроном, этим Аристотелем Рима, ни даже с Авлом Геллием, подобно пчеле собиравшим свой мед со всех цветов. Малая моя заслуга лишь в том, что я привержен к сединам Вечного Города. В то время как другие всего охотнее пишут историю своего времени, то есть просто пересказывают, – часто плохим латинским языком, – что видели своими глазами, я посвятил свой труд на изучение нашей старины, колыбели, так сказать, римской славы. Подумать только, что мы много знаем о побоищах с такими низменными неприятелями, как готы или сарматы, но никто не вник подробно в героическую осаду Вей; и тогда как эдикты нового времени у всех на памяти, мы почти забыли о мудрых установлениях царя Нумы Помпилия!
Придя в копону под вывеской «Слон», мы спросили вина, и Ремигий все время побуждал Фестина говорить, делая из него шута и глазами подавая мне знаки. Фестин же, ничего этого не замечая, с увлечением говорил о древних договорах, языка которых никто не понимает, о надписях на старых статуях, из слов которых нельзя заключить, кто изображен, мужчина или женщина, о праве понтификов, об исследованиях Кастора и Родопея, о злоключениях, какие испытывал он сам, пытаясь проникнуть в хранилище древних актов при храме Священного Города, о радости, какую изведал, найдя один договор, предшествующий Пуническим войнам, в смысл которого, впрочем, ему проникнуть не удалось.
Мне этот бедняга был жалок, но Ремигий с жестокостью вызывал его все на новые рассказы и даже приглашал слушать других посетителей копоны, так что понемногу вокруг нас составился круг людей, потешавшихся над тем умилением, с каким Фестин говорил об установлениях Ромула и Тита Тация.
Когда кубки наши были уже пусты, Фестин обратился ко мне с такими словами:
– Твой друг мне говорил, что ты племянник светлейшего мужа, сенатора Бебия Тибуртина. Ах, юноша, это – человек, подобно мне, преданный нашей старине и презирающий пестроту и пустоту новых дней. Что, если бы ты уговорил своего дядю издать мои сочинения, которых набралось пока сорок восемь томов! Уверяю тебя, что книги эти весьма нужны для будущих поколений, ибо римская наука все более и более погружается во тьму и мы, римляне, с каждым десятилетием теряем познание, чем мы были и откуда пришли. Скажи своему дяде, что я даже согласен, чтобы он выставил свое имя рядом с моим, и таким образом, я дам ему вечную славу в грядущих веках:
Я отделался какими-то неопределенными обещаниями и сделал знак Ремигию, что хочу покинуть эту копону, так как мне тяжело было видеть унижение все же достойного человека. Мы попрощались с Фестином, и Ремигий, несмотря на мои уверения, что я еще буду иметь достаточно к тому случаев, повел меня осматривать форумы.
То была нелегкая прогулка, принимаемая во внимание, что и здесь Ремигий оказался знатоком всего и о каждом храме, о каждой арке, колонне, статуе мог говорить длинные речи, изъясняя их происхождение и выхваляя их красоты. Я должен был любоваться покрытыми бронзовыми украшениями колоннами Константина, хвалить Коринфские колонны храма Венеры Родительницы и картины, изображающие Александра на колеснице, в храме Марса Мстителя, удивляться на старинные статуи форума Августа, заглянуть на маленький проходной форум Нервы, откуда взглянули на нас громадные фигуры императоров, и обливаться потом на величественном форуме Траяна, где неподражаемая арка, басилика Ульпия, выложенная драгоценным мрамором, может быть, самое роскошное здание Рима, и, наконец, изумительная колонна, несравненная по высоте и изяществу, заключенная между таинственными библиотеками, – подали повод Ремигию к длинным панегирикам. Правду сказать, все это в тот первый день перемешалось в моей голове, образовав какой-то ком разноцветных, спутанных между собою ниток. Когда я совсем изнемог от ходьбы и осмотра, а Ремигию наскучило исполнять должность проводника, он воскликнул горациевское: «Теперь время пить!» – и повел меня снова в копону подкрепить наши упавшие силы.
После обильных возлияний в честь бога Либера мы закончили тот день в одном из тех веселых домов, которые так восхвалял мой друг и где я мог насладиться любовью в объятиях толстой поселянки из Тибура, кажется, давно не бывшей в банях и пахнувшей луком, но на дверях своей спальни поставившей громкое имя: Цитерея.
VI
Через несколько дней я вполне освоился с условиями моей новой жизни.
В доме дяди один день походил на другой, как два кирпича с одного завода. Тетка целые дни бранила рабов; Аттузия целые дни молилась или посещала святыни; дядя, так как собрания в Курии не начинались, большую часть своего времени проводил за кубком вина, а иногда делал вид, что читает в библиотеке, хотя просто дремал за редким свитком Кремуция Корда. Каждый день являлся в дом отец Никодим, передавал новости городской молвы и порой произносил похвальные речи императору, который, соревнуя Иисусу Навину, стремится сокрушить выю идолопоклонников. Единственным утешением были мне краткие встречи наедине с Намией, утром, пока все спали, или вечером, в каком-нибудь темном уголке, когда мы усердно обнимались и целовались, что девочке, как кажется, доставляло великое удовольствие.
Привык я также к Городу, осмотрел его памятники, скопленные тысячелетием, узнал все семь холмов и даже полюбил своеобразную красоту его одноцветных старых домов, почтенных своей старостью, и стал находить особую прелесть в немолчном шуме и непрерывном движении его улиц. Я уже представил магистру ценза удостоверение, данное мне из родного города, о том, кто я такой и зачем прибыл в Рим, и после того, получив надлежащее разрешение, усердно выбирал среди римских реторов того, школа которого могла бы быть мне наиболее полезной. В моих поисках вызвался мне помогать Ремигий, однако чаще он уводил меня в одну из копон и, познакомив со своими товарищами, юношами, привыкшими искать в жизни только веселия, пытался и меня привлечь к такому же времяпрепровождению. Но постоянные скитания из одной винной лавки в другую, от плясуний к флейтисткам, от девушек одного веселого дома к таким же девушкам другого или бесцельное бродяжничество по полю Агриппы скоро мне наскучили, как и все безобразные проказы, которыми часто сопровождались наши ночные похождения, тем более что и Ремигий, и другие его приятели, пользуясь тем, что отец дал мне достаточную сумму денег, любили забавляться не иначе как на мой счет.
Я уже думал о том, чтобы прекратить такую беспутную жизнь, за которую мне сурово выговаривала тетка, постоянно заявлявшая, что смотрит на меня как на сына, когда вдруг одно событие направило меня на новый путь.
Как-то после полудня, возвращаясь в дом дяди, увидел я у наших дверей особое оживление, на нашей уличке необычное. Здесь стояли роскошные, украшенные золотом носилки и толпилось множество чужих рабов. Едва вошел я в остий, как меня остановила Намия, вероятно поджидавшая меня, и сказала мне шепотом:
– Слушай, братик (так она меня называла), сегодня у нас обедает моя сестра Гесперия со своим новым мужем. Она – противная, я ее не люблю. У нее уже третий муж и было множество любовников. Все в нее влюбляются, но ты не смей. А то я тебя возненавижу. Я не могу терпеть любовников моей сестры.
Я уже слышал о Гесперии, дочери моей тетки от первого мужа, – дядя был ее вторым мужем, – и знал, что эта Гесперия славилась на весь Рим своей роскошью и своим беспутством, причем молва называла в числе ее возлюбленных не только мимов и наездников из цирка, но даже рабов. Поэтому я ответил:
– Будь уверена, милая девочка, что я не влюблюсь в твою сестру: в нее слишком многие были влюблены и она была влюблена слишком во многих.
Говоря так, я хотел обнять маленькую Намию, но она вырвалась от меня и, надув губы, смотря злыми глазами, повторила: «Не смей», – и скрылась.
Переменив одежду на более подходящую к торжественному случаю, я прошел в oecus, где на этот раз был приготовлен обед, причем стены были убраны венками, рабы и рабыни одеты по-праздничному, а на стол подана лучшая серебряная посуда, какая была в доме. Войдя в залу, я начал извиняться за свое опоздание, но вдруг слова остановились у меня в горле, потому что я увидел то, чего не ожидал вовсе.
Вся наша семья уже возлежала за столом, и между дядей и Аттузией помещалась женщина, описать которую все равно нельзя и изобразить которую вряд ли сумел бы Зевксис или кто другой из древних. Возраст ее определить было невозможно, так как лицо ее сияло неувядаемой красотой богинь. Кожа ее шеи была столь розовой и прозрачной, что невероятной казалась ее принадлежность земному существу. А роскошный наряд этой женщины, стола из чистого шелка, золото и смарагды украшений, кораллы ожерелья, алмазы серег и перлы на туфлях придавали ей облик царственный. Может быть, только стихи Вергилия о божественной матери Энея могут передать то впечатление, которое она производила:
– Это племянник Авла, – сказала между тем тетка, – Децим Юний Норбан, сын Юния из Лакторы, которого ты, Гесперия, знаешь. Он приехал в Рим, чтобы учиться, и живет в нашем доме.
В полном смущении занял я место за столом и долгое время не мог даже понимать, о чем говорят вокруг меня: так были мои взоры, и через них все внимание, поглощены чудесным видением. То взгляды мои останавливались на волосах Гесперии, заплетенных в тугие косы, которые кругами окружали голову ее, то на ее тонких пальцах, украшенных кольцами с драгоценными алмазами и опалами, то вновь подымались к самому прекрасному, что в ней было, – к ее лицу. Только позже приметил я нашего другого гостя, мужа Гесперии, Тита Элиана Меция, возлежавшего против меня. Это был человек с лицом угловатым, с косыми глазами, который не понравился мне сразу. Одет он был также весьма богато, и по кайме его аболлы было вышито золотом изображение борьбы кентавров с лапифами.
Именно Элиан вел всю беседу, и все слушали его с явной почтительностью.
Дядя упрекнул его, что тот давно не был у него в доме.
– Ах, дорогой тесть, – возразил тот, – ты живешь уединенно и не представляешь, что такое жизнь в обществе. Сегодня надо присутствовать на подписании брачного условия, завтра – праздник у одного сенатора по тому поводу, что его сын надевает мужскую тогу, там приглашен я подписывать завещание, там на обед, от которого нельзя отказаться; недавно пришлось мне три дня провести взаперти дома, в знак скорби, по случаю смерти всем нам любезного Марка Акона Катуллина. Потом не забывай, что я состою в коллегии луперков, а это тоже отнимает много времени.
Гесперия, слушая слова мужа, засмеялась и голосом, который мне показался божественным, сказала:
– Это мы уже читали у Плиния: каждое дневное дело кажется необычайно важным, а когда потом посмотришь назад на прожитый год, говоришь себе: сколько времени потратил я на пустяки!
Все засмеялись, и Элиан первым. Дядя не упустил случая заметить:
– В старину римляне жили не так. Каждый вставал до зари и шел в поле работать наравне со своими рабами, а жажду утоляли водой из ручья.
– Да, это хорошо было, – заметила Гесперия, – когда Рим был квадратный. А теперь, пока, например, от твоего дома дойдешь до первого поля, так устанешь, что и работать не будешь в силах. Да и ручьев под Римом не осталось: поневоле мы все пьем вино.
– Нет, – возразил Элиан, – я понимаю, что говорит Тибуртин. Поистине, хорошо бы бросить всю эту суету Города, где мы только и дела делаем, что злословим друг на друга. Как было бы приятно жить в маленькой вилле, подобно Горацию, наслаждаться тишиной сельской жизни, воздухом свежим, зеленью полей и подолгу гулять по тенистому лесу. Не думать о том, что кто-то на тебя обиделся за то, что ты забыл его поздравить с новым назначением или неполно произнес его титул, и не мучиться злобой на другого за то, что он не позвал тебя на обед, где ты все равно скучал бы. Ах, деревня часто представляется мне блаженным Элисием.
Вскоре разговор перешел на готовящиеся большие игры в Амфитеатре, и Элиан, как истинный знаток, стал выхвалять необыкновенных испанских лошадей, которых уже везут в Рим на особом корабле, злых иберийских медведей, лосей, львов, леопардов и крокодилов, приготовленных для травли, шотландских собак, силы и лютости непомерной, и особенно страусов, которых уже давно не видали в Городе. Дядя охотно поддерживал эту беседу, вникая во все подробности, расспрашивая о ловкости разных наездников и, конечно, скорбя о том, что и игры в Амфитеатрах выродились, и все реже даются гладиаторские бои, приучающие зрителей-римлян презирать смерть.
Тем временем мальчики наполняли опорожненные кубки и подавали кушанья, которые для торжественного случая были сравнительно изысканны и разнообразны, так как была тут тонна, фазан, кабаний бок и другие такие же блюда, считающиеся тонкими в семьях не очень богатых. Разумеется, всем этим нельзя было изумить наших гостей, роскошь пиров в доме которых была известна всему Городу; мне уже говорили, что они подавали иногда среди пятидесяти разных перемен такие снеди, о которых ни один из гостей не мог догадаться, из чего они приготовлены. Нечего уже и говорить о том, что наш семейный обед не сопровождался ни музыкой, ни пением, ни плясками танцовщиц.
Когда подали нам плоды и, по древнему обычаю, яблоки, означавшие конец обеда, Элиан объявил, что у него есть важное дело к дяде, и они удалились вдвоем в таблин. Нам же рабы принесли в перистилий плетеные кресла, в которые женщины и сели отдохнуть. Я также последовал за женщинами, так как мне хотелось насколько можно дольше оставаться в обществе нашей гостьи.
Аттузия, которая, по-видимому, Гесперию ненавидела не меньше, чем Намия, поспешила навести разговор на начавшиеся повсюду преследования сторонников веры отцов, восхваляя без меры усердие императора Грациана, захватившего в свою казну земли храмов и лишившего коллегии жрецов и самих весталок их обычного содержания от государства. Это должно было живо затронуть Гесперию, ибо – как я знал – она и ее муж были ревностными противниками христианства, но она долгое время отвечала на все нападки уклончиво. Наконец она сказала:
– Не хочу дурно говорить о божественном императоре, но, конечно, он введен в заблуждение лживыми советчиками. Его новые эдикты равняются просто грабежу, так как он отнимает у храмов то, что им принадлежало целые столетия. Закон признает право на вещь того, кто владел ею некоторое время: почему же боги лишены этого права?
– Боги! – повторила Аттузия в негодовании и с пылкостью начала длинную обличительную речь о призрачности ложных богов, подобную одной из тех проповедей, что можно слышать в христианских храмах. Гесперия слушала со скучающим лицом, так как ей, вероятно, не раз приходилось выслушивать такие поучения от своей сестры. В конце речи, указывая на меня, Аттузия сказала гневно:
– Кстати, можешь порадоваться, Гесперия! Вот тебе союзник. У них в дикой Аквитании тоже еще молятся идолам. Но скоро всем поклонникам Юпитера придется переселиться в какие-нибудь дикие края, потому что в просвещенных городах для этих старых суеверий места не останется!
Тетка постаралась успокоить спор двух сестер, но Гесперия, нисколько не обидевшаяся на резкое обличение, подняла, после слов Аттузии, на меня свои глаза, показавшиеся мне пламенными звездами, и, впервые за весь день, заговорила со мной.
– Так ты, Юний, – сказала она, – держишь в этом доме сторону своего дяди? Неужели не склонили тебя ни убедительные уговоры сестры, ни мудрые поучения почтенного отца Никодима?
Я весь покраснел, и меня охватила дрожь при мысли, что я должен говорить с Гесперией, и только с трудом я мог пробормотать:
– Domina! Я не хочу изменять тому, чему меня учили отец и мать…
– Ты, значит, их огорчить не хочешь? – спросила с лукавством Гесперия.
– Нет, – возразил я, собравшись с духом, – я не верю, чтобы то, что создало римскую мощь, чем республика и империя и тысячи ее граждан жили долгие века, что почитали Гомер и Аполлодор, Платон и Цицерон, Вергилий и Лукан, было предрассудком! Я еще молод и не решаюсь судить сам, но я доверяюсь великим мужам древности, и их умы служат мне путеводными звездами.
– Ты бы поменьше слушал своего дядю, – в сердцах сказала тетка, – он со своими убеждениями сумел только разорить нас! До добра не доводят бредни о старине!
Но Гесперия, продолжая пристально смотреть на меня, сказала протяжно:
– Вот ты какой! Ну, видно, нам действительно быть с тобой друзьями. Приходи ко мне: мы живем теперь в нашей вилле на Холме Садов.
Тем временем вернулись дядя и Элиан, продолжая говорить оживленно, и я расслышал, как они поминали всем известные имена Претекстата, Флавиана, Симмаха. Скоро наши гости собрались домой. Гесперия, надев роскошную паллу, села в свои носилки, и рабы с криком ринулись вперед расчищать ей дорогу в толпе.
Когда я вернулся в дом, меня опять поджидала Намия, которая на обеде, по своему возрасту, не участвовала. Опять смотря на меня злыми глазами, она спросила:
– Ну, что же? Ты уже влюбился?
– Что ты! – возразил я лицемерно. – Я с твоей сестрой едва сказал два слова.
– Нет! Я все видела! Ты влюбился! – совсем плача, говорила девочка. – В нее все влюбляются с первого взгляда. Ну, слушай, мой братик, милый. Не люби ее. Хочешь, я тебя поцелую? Хочешь, я приду к тебе сегодня ночью в спальню, как делают женщины? Только откажись от противной Гесперии.
Как умел, я успокоил девочку, поклявшись ей Юпитером, что не влюблен в Гесперию. Но я лгал, ибо образ этой женщины неотступно стоял пред моим внутренним взором. Юное сердце было уже пробито стрелой сына Киприды.
VII
Признаюсь, что в ту ночь мои мечты были полны одной Гесперией. Я вспоминал каждое слово, сказанное ею, находя все прекрасными, восхищался каждым сделанным ею движением и мысленно сравнивал ее с Клеопатрою, пред которой преклонялись Помпей, Антоний, Цезарь, Август. Рассуждения, конечно, указывали мне, что во мне не могла она видеть ничего другого, как скромного юношу, скорее мальчика, получившего право говорить с ней лишь потому, что живет у ее родственников; что она, привыкшая к любовным признаниям префектов и консулов, поэтов и ораторов, красивейших из римской молодежи и знаменитейших среди римских акторов, должна была забыть обо мне, едва переступив порог нашего дома. Но чувству нельзя приказывать, и я, вопреки рассудку, мечтал до глубокой ночи, как мне завоевать ее любовь, составлял в голове безумные замыслы, похожие на запутанные истории, сочиняемые поэтами, и, когда уснул, видел в грезах, что целую ее губы, напоминающие раздавленные вишни, и что в ответ она сама меня ласково обнимает своими прекрасными и горячими руками.
Когда наутро я выходил из дома, привратник подал мне письмо, говоря, что его только что принесла какая-то девочка. Не знаю почему, но мне тотчас представилось, что это письмо от Гесперии, что мои ночные мечтания воплощаются, и, побледнев, с бьющимся сердцем я сломал печать. На дощечках неправильным женским почерком было написано:
«Децима Юния просят сегодня, с наступлением сумерек, прийти на Аппиеву дорогу и идти по правой стороне до моста через Альмон. Он узнает нечто, для него крайне важное, и выполнит то, что предназначено Судьбой. Это письмо должно быть сохранено в тайне».
Подписи не было никакой, но я ни минуты не сомневался, что письмо от Гесперии или писано по ее поручению. От избытка счастия я сделался словно пьяный и, шагая под портиками улиц, разговаривал сам с собой, как безумный. Остаток благоразумия говорил мне, как странен такой вызов со стороны женщины богатой, знатной и видной, обращенный после первой встречи к ничем не замечательному юноше. Но я напоминал себе рассказы о том, как причуды даже цариц заставляли их похищать незнакомых прохожих, которые им понравились, и повторял изречение моего любимого Вергилия:
Изменчива женщина и многолика.
В тот день я не в силах был ничего делать, но, побродив без цели и в одиночестве по Городу, я вернулся домой и с томлением ждал, когда же приблизится вечер, бессчетное число раз приходя посмотреть на клепсидру.
Еще солнце не совсем зашло за стены города и кровля Юпитера Капитолийского еще горела, как громадный золотой костер, когда я уже был на Аппиевой дороге. Обычное оживление царило на ней, и непрерывными вереницами стремились в обоих направлениях пешеходы, всадники, колесницы и повозки. С двух сторон, с великолепных древних гробниц, смотрели лики давно умерших мужей, суровые и строгие, и часто рядом с мужской головой высилась и женская, столь же величественная, и казалось, что времена свободной республики еще живы здесь. Торговцы всякого рода товарами, со своими корзинами и лотками, шныряли между прохожими, и выкрики разносчиков вмешивались в общий говор, в стук копыт, в скрипение осей.
Я медленно прошел до того места, где Аппиева дорога пересекает маленький ручей, и стал ждать. Я знал, что пришел слишком рано, и приготовился к терпению, но сладостное волнение потрясало меня. Толпы народа проходили и проезжали мимо, а я стоял, прислонившись спиной к мраморному подножию гробницы. Солнце совсем закатилось, все кругом стало покрываться тенью и предметы терять определенные очертания: повеяла вечерняя сырость; я как бы изнемогал. Тогда женский голос произнес около меня:
– Ты хорошо сделал, Децим Юний, что пришел.
Затрепетав, я обернулся. Рядом стояла женщина, так закутанная в плащ, что лица ее рассмотреть было нельзя. Но я без промедления одного мига узнал, что это не та, о которой я мечтал. Женщина сказала кратко:
– Следуй за мной.
Она быстро устремилась вперед, и я покорно шел следом, мучимый догадками и разочарованием. Мы долго подвигались молча, пока женщина не сошла с дороги около какой-то высокой гробницы и, найдя место, закрытое стоявшим подле кипарисом, села сама на каменную ступень и указала мне сесть. Я вновь повиновался.
Тогда женщина открыла лицо. В слабом свете сумерек оно мне сначала показалось незнакомым, но тотчас я вспомнил, что однажды видел его. То была Pea.
Должно быть, глаза мои выражали недоумение, разочарование, потому что, не дожидаясь вопроса, Pea заговорила:
– Я тебе сказала, что мы еще увидимся. Наша встреча не была случайной. Я поняла, что это судьба привела ко мне тебя, хотя бы против твоей воли. Пути Господни неисповедимы, и часто пользуется Он злом, чтобы из него сотворить благо. Вспомни Иону, которого должен был проглотить кит, чтобы была спасена Ниневия. Ты думал, что твой приятель завлек тебя в уличную ссору, а это сам Бог направлял твои шаги ко мне.
Pea говорила это голосом глухим и торжественным, словно Дельфийская дева, и так неожиданны были ее слова, что я не находил никакого ответа. Наконец, совсем некстати, я спросил:
– А где же твоя сестра, Лета?
– Она мне вовсе не сестра, – сурово сказала Pea, – оставь ее. Нам надо говорить о более важном. Прежде всего ты должен узнать, что и в Рим ты прибыл не без тайного указания Бога. Ты почитаешь себя малым и незначительным, но ты предназначен для великого.
Так как неясное волнение стало овладевать мной с самых первых слов, произнесенных Реей, то я постарался от него освободиться и сказал резко:
– Откуда тебе знать, чем я почитаю себя и что мне предназначила судьба? Кто ты – пророчица?
Мне был такой ответ:
– Часто Господь скрывает от сильных и мудрых и открывает свои тайны малым и неразумным. Дух веет, где хочет, и огненные языки пророчества избирают сами чело, чтобы опочить на нем. Кто мы, чтобы противостоять его святой воле? Горшечник не властен ли над глиной, и может ли раб сказать господину: не пойду, куда ты посылаешь! Ты, из рода Юниев, юноша, которому восемнадцать лет, в правление императора Грациана, призван уготовать пути тому, кто грядет.
Тишина часа и уединенность места, сумрак, обволакивавший нас, странные слова женщины, говорившей со мной, и даже постепенно стихавший ропот Аппиевой дороги, – все производило на меня впечатление чего-то таинственного и страшного. Или, может быть, в самом голосе Реи было особое влияние, подчинявшее себе волю, только я чувствовал, что теряю власть над собой, и казалось мне, что душа моя захвачена в незримую сеть, словно рыба рыбарем. Все же у меня мелькнула мысль, что со мной говорит помешанная, и я произнес неуверенно:
– Мне твои речи непонятны. Оставь меня. Я ухожу.
Но повелительно Pea сказала мне:
– Юноша, останься и слушай. Пойми дни, в которые ты живешь. Исполнились сроки, и приблизилось время. Gratianus imperator! Тот, которого именуют покровителем церкви. Сочти число букв имени его. Не восемнадцать ли оно? Трижды шесть – число зверя. Открой очи ума своего и смотри. Не за восемнадцать ли дней до календ встретились мы с тобой? Не восемнадцать ли тебе лет, юноша? Не из рода ли ты Юниев? Признай же, что о тебе гласит давнее пророчество: «Magnus et potens erit, sed iunioris robure accerescet?»
Слабо, но я пытался возражать.
– Помилуй! – сказал я. – Разве мало Юниев помимо меня: их тысячи. И многим из них, как мне, восемнадцать лет. И пройдет немного, времени, и я уже буду старше. Что же станется с твоими пророчествами?
– Не богохульствуй! – воскликнула Pea все так же повелительно. – Сейчас не время говорить все. Ты еще многое узнаешь. Ты узнаешь великое и страшное. Мне было видение. Я видела твой лик раньше, чем ты повстречался мне. Я узнала тебя, потому что ты был мне указан. И не возражай, что осталось мало сроку. Говорю тебе: прежде чем истекут названные тобой месяцы. Он явится.
– Кто? – вопросил я, почему-то охваченный страхом.
Pea шепотом, как сибилла, сказала мне:
– Тот, кого люди предыменуют Антихристом.
– Ты не в своем уме, девушка, – сказал я, собирая все силы своей воли. – Божественного Августа, благочестивейшего императора Грациана, покровителя церкви, ты называешь Антихристом!
– Ошибаешься, юноша! – все так же тихо, но торжественно возразила Pea. – Истинная церковь Христова не та, которая взяла меч Цезарей. Поднявший меч от меча и погибнет. Но и Грациан – не грядущий. Он еще не открылся. Но уже при дверях стоит Он. Жених грядет и скоро ударит в ворота. Горе, кого он застанет спящим.
Рассказывают физики, что иные змеи околдовывают свою добычу взглядом. В тот час я похож был на такого зверя, так как члены мои были словно связаны магическими чарами. Опять собрав все силы, я встал со ступени и сказал решительно:
– Выслушай меня, Pea. Мне нет дела до твоих бредней. Я не христианин. Я верен религии моих предков. Но, если бы и был я последователь Христа, как пошел бы я за тем, кто меня зовет служить Антихристу?
Pea, стремительно встав, загородила мне дорогу. В темноте, облеченная в свои белые одежды, она похожа была на призрак, вызванный некромантом из могилы. Опустив мне свои руки на плечи, наклонив близко лицо, которое теперь показалось мне красивым, она стала говорить страшным голосом, напоминавшим шип змеи:
– Савл гнал христиан и стал великим апостолом Христа. Се ныне ты на своем пути в Дамаск. Но не может Добро прийти в мир иначе, как через Зло. Не было бы заслуг человека перед Богом, если бы Змий не соблазнил Еву. Не родились бы патриархи, пророки, цари и святые, если бы в мир Каин не ввел смерть. И не совершалась бы жертва Искупления, если бы Иуда не предал на пропятие Учителя. Блаженны все, исполнившие волю Создателя. Я – Pea, виновная, приемлю на себя грех пророчествовать об Антихристе. Ты – Децим, десятый, и будешь убит, когда десятого постигнет казнь небесная.
Воля и силы меня окончательно оставили. Изнеможенный, сам не понимая, что со мной происходит, я прислонился вновь к гробнице. А Реа, вдруг достав из-под одежды какой-то сверток, подала его мне с грозным приказанием.
– Теперь ты должен это хранить. Возьми его и сбереги до часа, когда от тебя его потребуют.
Она скрылась между гробниц так быстро, словно бы унеслась прочь на драконах Медеи. Когда же я остался один в сумраке ночи, сознание вернулось ко мне. Восходившая луна бросала свои первые красноватые лучи.
Я развернул бывший у меня в руках сверток.
Пурпуровый колобий, императорская одежда, выпал из него. Тут дикий страх, какого никогда еще до той поры я не испытывал, охватил меня. Я хотел тотчас бросить опасный дар и скрыться поспешно. Но я расслышал шаги каких-то запоздалых путников. Боясь, что они увидят брошенную мною вещь и тотчас же повлекут меня к ответу, я трепетными руками вновь скрутил сверток и бросился бежать.
Я опомнился только в своей комнате, в доме дяди. Озираясь, не подглядывает ли кто, я запрятал пурпуровый колобий на самое дно моего дорожного ларя. Мои зубы стучали. Я был словно болен лихорадкой. В постели я спрятал голову в подушки. Но передо мной, вытесняя все другие мечты, все стоял облик исступленной девушки, безумной или пророчицы, указавшей мне таинственную судьбу.
VIII
Целый день после встречи с Реей я провел в постоянной тревоге, и ни на минуту мысль о пурпуровом колобии меня не покидала. Утром у меня было намерение осторожно унести опасный дар и где-нибудь, вне Города, тайно его бросить. Потом мне стало казаться, что такой поступок был бы нечестным по отношению к девушке, доверившей мне вещь драгоценную, так как нелегко побудить какую-либо мастерскую в империи выткать императорское одеяние. Я говорил себе и то, что мне опасаться нечего, так как вряд ли императорские соглядатаи посмеют проникнуть в дом сенатора. После немалых колебаний я остановился на том, что постараюсь разыскать эту Рею и тогда верну ей сверток, а до того времени оставлю его на дне моего ларя, где никому не придет в голову его искать. Может быть, это последнее решение я принял не без тайного влияния странной девушки, которая, и отсутствуя, продолжала подчинять мою волю своим хотениям.
Как только моя душа успокоилась, подобно морю после бури, тотчас из волн, как пенорожденная богиня, встал образ прекрасной Гесперии. При одной мысли, что я могу вновь увидеть ее божественный лик, вновь услышать ее царственный, но ласкающий голос, мое сердце сжималось, словно в нежных тисках. С таким искушением бороться у меня не было сил, и, наконец, я себе сказал, что пойду завтра к ней, так как она сама звала меня ее посетить, хотя, может быть, только из любезности.
Мне стоило большого труда на другой день дождаться часа, приличествующего посещению, и даже, подойдя уже к дому Элиана Меция, на Холме Садов, я долго не осмеливался постучаться дверным молотком в ворота, думая, что еще слишком рано. Этот дом находился на самой высоте Холма, уже неподалеку от Пинцеанских ворот, и уединенно стоял за высокой каменной оградой, в обширном саду. Из темной зелени кипарисов, смуглой – лавров и нежной – платанов мне были видны его благородные старинные формы, и долго я им любовался, находя какое-то сходство в стройности его линий с самой Гесперией. Наконец, преодолев свое волнение, я постучался.
Мне пришлось настойчиво повторять привратнику, что я родственник Гесперии и что она пригласила меня к себе, прежде чем он впустил меня в сад. И здесь только я начал убеждаться, что та роскошь Рима, о которой столько говорят сатирики, не выдумка, потому что сад, разбитый каким-нибудь знаменитым садоводом, уже был созданием истинного искусства. Я шел дорогой, усыпанной разноцветными камешками, среди деревьев, подстриженных в виде то дракона, то лодки, то птицы, и тут же были разбросаны кусты розмарина и барбариса; редкие осенние цветы были соединены в красивые сочетания, образуя хитрые узоры, и целыми рядами подымали свои пышные головы розы; там и здесь из зелени кустарника белел мрамор статуй, хотя и вечно безмолвных, но и вечно живых обитателей этого острова блаженных; в маленьких, выложенных мрамором водоемах дремали лебеди и при моем приближении повертывали шею и, открыв один глаз, провожали меня пристальным взглядом.
У дверей дома я должен был выдержать спор с другим привратником, и тот передал меня номенклатору, который меня повел по бесконечным залам, похожим на отдельные дома целого города. Стены то были выложены цветным мрамором, подобранным так, чтобы составлять как бы причудливые картины, то расписаны искусной рукой художника, изобразившего сцены из жизни богов, героев и людей, то украшены мозаикой из разноцветного стекла, то сверху донизу украшены перламутром. Драгоценные столы из малахита, резные скамьи и кресла, золоченые светильники, вавилонские ковры и вся пышность убранства – пропадали для взора случайного пришельца, привлекаемого удивительными статуями и картинами, в которых нетрудно было угадать создания древних великих художников. И особенную жизнь этим пустынным покоям придавали цветы и целые деревья, во множестве расставленные везде в особых дорогих сосудах.
Проведя меня едва ли не через весь дом, номенклатор возгласил мое имя около маленькой комнатки, и я, отдернув тяжелый занавес, с бьющимся сердцем, переступил ее порог.
Комната, в которой я оказался, освещалась окном со стеклами, что обычно у нас в Галлии, но считается роскошью в Риме. Я думаю, что убранство этой комнаты было единственное в Городе, так как вся она была уставлена вещами, привезенными из далекой страны синов и серов. Здесь были чудовищные драконы из слоновой кости, металла и дерева, выделанные с варварским, но изумительным искусством, образы чужих богов, безобразные и устрашающие, изображения невероятных зданий с остроконечными крышами, фигуры отвратительных бородатых мужей и неведомых разъяренных животных, какие-то колокольчики, шары, странные музыкальные инструменты и много других созданий таинственного народа, живущего за пределами За-Имайской Скифии и За-Гангийской Индии. Но в ту минуту я не мог рассматривать всех этих диковинок, ибо мои глаза тотчас устремились на то божественное видение, которое поразило меня в доме дяди и здесь вновь предстало в том же величии и той же прелести.
Под пастью громадного усатого дракона с хвостом Сциллы, на мягком ложе, устланном тигровой шкурой, в легкой шерстяной цикле, возлежала Гесперия, и ее лицо в полусвете комнаты казалось лицом Цирцеи, царящей среди своих, обращенных в чудовищ, поклонников. Рядом с ней, на кресле, сидел юноша моих лет или немного старше, с характерными сирийскими чертами лица, тонкий, изнеженный, бледный, одетый изысканно, но в одежду тоже восточного покроя, вроде гальбана, из ткани желтого цвета. Мне показалось, что мое появление заставило Гесперию и ее гостя отодвинуться друг от друга, но тотчас Гесперия произнесла приветливо:
– Ах, это ты, милый Юний. Ты хорошо сделал, что ко мне пришел: я тебя эти дни ждала. Это, – добавила она, знакомя меня со своим посетителем, – Юлианий Азиатик, мой лучший друг, а это – Юний Норбан, племянник Тибуртина.
Я сел неподалеку от ложа Гесперии, и вновь мною овладело то юношеское смущение, какое ее присутствие мне внушало. В первые минуты я не способен был промолвить ни одного слова, и Гесперия, желая меня ободрить, стала расспрашивать, что я делаю в Городе и начал ли свое учение. Узнав, что я еще не выбрал, к какому профессору пойти, она сказала:
– Тебе в этом поможет Юлианий. Он слушал чтения всех лучших реторов в Риме и даст тебе хороший совет.
– О, насчет этого колебаться нечего, – вставил Юлианий голосом очень мягким, не то вкрадчивым, не то покровительственным, – конечно, надо идти к Энделехию; это единственный ретор в Городе, который действительно знает древних. В наши дни обыкновенно знают только схолии к ним. Энделехий – достойный преемник великого Минервия. Пусть Юний придет ко мне, и я его представлю профессору, так как тот неохотно принимает незнакомых учеников.
Когда я поблагодарил юношу за усердие, Гесперия добавила еще:
– Вообще, милый Юний, ты многому можешь у Юлиания научиться. Смело с него бери пример, как одеваться и причесываться, как кланяться и вести речь. Он истинный судья изящества наших дней, только не при дворе Цезаря, а при моем.
– Это делает меня более счастливым, – сказал Юлианий с улыбкой, которая мне показалась противной.
Так как я не продолжал разговора, то Гесперия и Юлианий возвратились к той беседе, которую вели до моего прихода, и стали говорить о некоем Тамезии Олимпии Агенции, решившем на свой счет воздвигнуть новый храм Митре. Гесперия расспрашивала о подробностях этого дела, а Юлианий давал ей объяснения и в конце сказал:
– Это – благородный ответ на те гонения, какие воздвиг император на нас, хранящих религию отцов. Он думает, что довольно отнять у храмов земли и жрецов лишить содержания, чтобы прекратились тысячелетние служения богам и все мы пошли поклоняться иудейскому Христу. Но вот находится истинный римлянин и говорит: «Империя не хочет строить храмов, я сам построю храм божественному Митре, без содействия императорской казны! Я отдам на это все свое состояние, ибо кто может назвать себя богаче человека, делящегося своим имуществом с богами!» Найдется другой, который столь же охотно отдаст свои деньги на поддержку храмов, уже существующих. Третий – который будет выдавать жрецам содержание, более богатое, чем они получали раньше. Четвертый – который примет на себя устройство торжественных празднеств в честь богов. Римляне не станут жалеть денег, если дело идет о вере их отцов. Что значат несколько миллионов сестерций, когда надо воздать честь богам! Грациан думает, что он всесилен, но он забывает о народе римском.
Тут Гесперия прервала Юлиания и так сказала мне:
– Милый Юний, я должна тебя предупредить, что в моем доме ты можешь услышать слова, которых никто не должен знать за его стенами. Если ты хочешь быть моим другом, ты должен поклясться мне в постоянной скромности.
Я вскочил порывисто, ища глазами какого-нибудь изображения божества, чтобы произнести требуемую клятву, но везде встречал лишь чудовищные образы варварских чудовищ. Юлианий, угадав мое намерение, снял со своего пальца перстень и передал его мне со словами:
– Вот перстень моего отца.
На широком золотом кольце была гемма из сердолика тонкой греческой работы, с изображением Гелиоса лучезарного. Держа в руках этот перстень и обернувшись к Востоку, я произнес:
– Солнцем божественным, видящим все, днем проходящим над землею, ночью нисходящим в царство мертвых, клянусь: этому дому принадлежит моя верность. Все, что мне прикажет его повелительница, я с покорностью исполню, и от всего, что она воспретит, остерегусь. И если я нарушу эту клятву, да буду я отвергнут всевидящим сыном Титана, да буду проклят и лишен дневного света!
Гесперия после моей клятвы засмеялась.
– Ты слишком легко увлекаешься, Юний, – сказала она, – твоя страстность может тебе повредить. Ты ни в чем не знаешь меры. Но я тебе верю. Пойдемте в сад, – добавила она, – я хочу подышать свежим воздухом.
Я возвратил перстень Юлианию, а тот поспешил к Гесперии, чтобы ей помочь встать с ложа. В ее движениях не было той упругости, какую заметил я у нее при первой встрече: напротив, она двигалась с каким-то усилием, с той нежной истомой и с той медлительной слабостью, какие свойственны женщинам утомленным. И, видя, как она спокойно опирается, вставая, на плечо Юлиания и как тот без волнения принимает это прикосновение, не мог я не подумать, что такое сближение было для них обычным. И вдруг страшная мысль пришла мне в голову: что, если эта пленительная слабость Гесперии происходит оттого, что до моего прихода она и Юлианий предавались утехам ласк? Судя по тому, что я знал о Гесперии, мысль эта не таила в себе ничего невероятного, и я почувствовал себя уязвленным в сердце словно ядовитым жалом виперы.
Мы вышли в сад, где все было тихо и безмятежно, как если бы за стеной не бушевали мутные волны Великого Города; Гесперия шла, опираясь на руку Юлиания, а я, мучимый своими жестокими подозрениями, рядом с ними, и там, бродя по цветным тропинкам, мы продолжали разговор о богах и судьбе религии отцов. Юлианий осыпал дерзновенными упреками императора и его коварных советников, отвративших его от того пути, на который его направил его знаменитый учитель, мой соотечественник, славный Авсоний; я редко находил возможность вставить несколько своих слов, а Гесперия, отказавшись на этот раз от того оттенка шутки, которым обычно сопровождала свою речь, сказала нам обоим голосом немного печальным, но меня чаровавшим, как музыка:
– Мои юные друзья! Вижу, что вы преданы богам, и радуюсь этому, так как в наш век это тернистая дорога. Но не падайте духом, потому что на нашей стороне сама истина, явная для всех, кто открытыми глазами смотрит на мир. Даже здесь, в этом саду, разве не чувствуете вы присутствия тех богов, которым мы поклоняемся? Разве не чувствуете, что есть божественное в этих деревьях, что дрожат перед нами своей листвой, в этих живых водах, в этом синем небе, в нас самих и в каждом нашем шаге? Что есть высшие существа, которые обо всем этом заботятся? Для нас, сохраняющих предания предков, весь мир жив, и мы не одиноки на земле, каждую минуту жизни соприкасаясь с бессмертными. Высшие, чем мы, но подобные нам, они видят наши горести и радости, они понимают их, и у нас есть надежда на их помощь. Как сладостно бывает невесте приносить свои детские игрушки в дар богине Венере, изведавшей все радости любви; или воину молить могучего Марса, любящего сражения и кровопролития; или певцу призывать помощь Камен, поющих и пляшущих, с лироносным предводителем своего хора! Как просто и как понятно думать, что миром правят божества, сходные с нами, с божественным ихором в жилах, но увлекаемые теми же страстями, как мы. С их, враждебной нам, волей мы можем бороться; их дружеского содействия искать. Нам легко умирать, так как мы знаем, что в Полях Елисейских мы обретем все то же, что оставили здесь. И задолго до христиан мы сказали, что истинная жизнь начинается лишь за вратами смерти.
Помолчав, Гесперия тихим голосом произнесла двустишие какой-то надгробной надписи:
Юлианий, видимо, стараясь говорить угодное Гесперии, добавил:
– Христиане только уверяют, что поклоняются единому Богу. Они уже сотворили вместо одного трех богов. Подобием наших олимпийцев они сделали своих высших ангелов, причем один из них, как Марс, печется о войнах. На место низших божеств поставили ангелов, чтобы заполнить пустоту между Божеством и человеком. А наше поклонение героям заменили поклонением мученикам и святым. Они во всем подражают нам, чтобы скрыть несообразности своего учения.
– Иначе, – продолжала Гесперия, – разве могли бы они соблазнить народ, знающий о богах? Мать, привыкшая просить Интерцидону, Пилумна и Деверру, чтобы они охранили новорожденного от гнева Сильвана, разве стала бы молиться какому-то одному далекому Богу, ей непонятному, притом Богу мужчин, а не женщин, не боясь погубить своего ребенка? Или разве отказался бы колон от призывания на свои поля милостей Цереры, если бы и ему не оставили близких покровителей, каких-то святых, заботящихся об урожае. И больной, конечно, пошел бы в храм Эскулапа, если бы его не обманули, что он может получить исцеление на могиле прославленного мученика. Христиане любят говорить, что они мудры, как змии, и эту змеиную мудрость употребили они на то, чтобы незаметно обмануть людей простых и невежественных, не умеющих разобраться в их хитросплетениях.
– Мы разоблачим этот обман перед всеми! – воскликнул Юлианий, делая красивое движение левой рукой, словно актер на сцене.
Что касается меня, то я с изумлением слушал проникновенные речи Гесперии, и она представлялась мне не только воплощением красоты, но и воплощением мудрости. И я без конца был готов учиться этой мудрости, бродя за Гесперией среди благоухающих роз, мимо искусственных ручьев, под тенью широких платанов. Мне казалось, что я в саду Гесперид слушаю поучения мудрой дочери Атланта.
Однако Юлианий вдруг начал прощаться, и я, не решаясь остаться в доме без него, сделал то же. Но так как Гесперия приветливо сказала мне:
– Приходи опять, Юний, ты мне понравился, – то, выходя из ворот сада, я чувствовал себя почти вполне счастливым.
IX
Пока мы шли по Старой Саларийской улице, пересекая сады Лукулла, Юлианий с чисто городской любезностью стал меня расспрашивать, понравился ли мне Рим. При этом Юлианий сразу переменил и голос, и самый склад своей речи и, оставив в стороне вопросы важные, всего больше домогался узнать, понравились ли мне римские копоны и лупанары, загородные диверсории и другие увеселения Города. Когда я не без смущения ответил, что я, хотя познакомиться с этими местами уже имел случай, нашел их ничем не лучше, чем у нас, в Аквитании, и не соответствующими славе Рима, Юлианий гордо возразил мне:
– Видно, с тобой не было человека, который показал бы тебе, что есть в Городе замечательного. Если ты хочешь, я охотно когда-нибудь поведу тебя в винарии, роскошью не уступающие дворцам, так как могу сказать, что знаю Рим, как свою ладонь.
До того дня я никогда не действовал хитростью, и все военные уловки, к которым так успешно прибегают соглядатаи, были мне чужды. Но в ту минуту у меня мелькнула мысль, что, может быть, мне удастся что-нибудь выведать у моего спутника, и, тотчас приняв решение, я ему сказал:
– Если ты, Юлианий, не пренебрегаешь моим обществом и есть у тебя еще час свободный, почему бы нам теперь же не познакомиться с одной из этих роскошных таберн? Ты мне обещал столько значительных услуг, что нехорошо было бы, если бы я не предложил тебе выпить со мной по кубку хорошего вина.
Юлианий очень охотно согласился, и мы, изменив путь, направились к храму Флоры и оттуда – по Верхне-Семитской улице к величественным термам Диоклециана, громада которых выступала из-за крыш домов, хотя они и стояли на низменном месте. Неподалеку от терм, в небольшом переулке, Юлианий подвел меня к невзрачному дому, в нижней части которого был вход в копону, не более пышную, чем посещавшиеся мною с Ремигием, с надписью над дверью: «Для всех есть вино». В первой комнате за грязными столами сидели и утешались дарами Либера люди в одних туниках или в грубых биррах. Но как только Юлиания заметил копон, он к нам бросился с низкими поклонами и провел нас в заднюю часть дома, где оказалась комната если и не роскошная, то все же убранная с притязаниями на пышность. Стены были расписаны, хотя и неискусно, дверь завешана ковром, середину занимал триклиний, причем стол был покрыт скатертью, а ложа – плохими коврами. Когда мы там уселись, копон, продолжая перегибаться, спросил, чем он нам может услужить.
Я предложил Юлианию распорядиться.
– Послушай, негодяй, – сказал тот хозяину, – у тебя, я знаю, есть порядочное цекубское, в таких низеньких амфорах, с надписью, будто это вино времен Диоклециана. Ты, конечно, мошенник, и надпись эта подложная, но вино твое пить можно. Откупорь же нам одну из этих амфор и пришли сюда его полный циат: только берегись сплутовать, я узнаю по вкусу, то ли это вино, и если нет, изобью тебя немилосердно. Да еще пришли двух флейтисток получше, хотя бы Делию и Гликерию.
Копон сделал вид, что опрометью бежит исполнять приказание, и скоро два красивых мальчика уставили на отдельном столе большой кратер с вином, подали нам неглубокие серебряные чаши и блюдо с фигами. Затем появились и две девушки, из числа тех, которых римляне называют ambubaiae, в прозрачных восточных коах, позволявших видеть всю красоту их сложения. Обе они приветствовали Юлиания, как давнего знакомого.
Первое время я ни о чем не мог Юлиания расспрашивать, так как девушки пели и играли на своих причудливых флейтах, вертелись около прислуживающие мальчики и ежеминутно забегал хозяин спросить, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Юлианий, распахнув свою гальбану и разлегшись на ложе, то нескромно шутил с флейтистками, то мучил меня длинными рассказами о том, как хорошо он знает Рим.
– Я родился на Востоке, – говорил он, – но мне было два года, когда меня привезли в Город, и я считаю себя истинным римлянином. Да и кровь во мне Римлянина, иначе я не мог бы стать тем, что я, так как провинциала всегда можно узнать, сколько бы он ни жил в Городе. Настоящее изящество дается только рождением, все остальное – подражание, которое может обмануть лишь невежду. Ты мне доверься, Юний, я научу тебя носить тогу, я тебя поведу в лучшую тонстрину, где тебе сделают прическу, какая сейчас принята. Я тебя введу в самое лучшее общество, потому что меня все знают в Риме и дверей закрытых для меня нет.
Слушая пустую болтовню Юлиания, я ему усердно подливал вина, а сам старался пить как можно меньше и, когда заметил, что он уже опьянел, сделал знак мальчикам и девушкам удалиться, подарив им по монете. Юлианий заметил исчезновение флейтисток, но тотчас успокоился, сказав мне:
– Это все равно. Я рад побыть с тобой вдвоем. Потому что ты мне по сердцу, милый Юний.
Я продолжал слушать самохвальство пьяневшего Юлиания, подстрекая его самой грубой лестью, и он уже без удержу стал говорить о том, что знаком со всеми сенаторами, что они все решают в Курии по его советам, хвалился громадными расходами, которые он делает, и богатствами своих поместий, находящихся где-то в Лукании. Гораздо скорее, нежели я того ожидал, Юлианий опьянел совершенно и перешел к полной со мной откровенности.
– Так как ты наш, милый Юний, – говорил он, – то нечего от тебя скрывать, что мы готовимся к борьбе. Империя погибнет, если останется в руках христиан. В войске падает древняя доблесть; император думает о Боге, а не о врагах. Но мы спасем империю. За нас все римляне, которые только боятся высказать свою волю. Довольно кликнуть клич: «Кто за Юпитера Статора и за богов?» – и все страны от Британнии до пустынь Африканских встанут и пойдут за нами. Я за Древний Рим, ныне униженный, и ты с нами. Поэтому ты мой друг.
– Кто же кликнет этот клич? – спросил я лицемерно.
– Мы! – ответил Юлианий. – Ты думаешь, мы ничего не делаем? Это у вас, в провинции, молчат и покоряются. Но мы, римляне, готовим войну. У нас союзники везде – в Галлиях и в Испании, в Мавритании и в Азии. За нас боги. Энея вела к берегам Италии сама богиня Венера. Кто против нас? Сброд трусов, поучающих: «Не противься злому». Истинные римляне во всех легионах за нас. У нас есть клятвы верности уже от пяти легионов. Нет, от десяти. Стоит нам подать знак, и Грациан исчезнет, как призрак от слов заклинателя.
– Что же, вы хотите восстановить свободную республику? – спросил я.
Юлианий наклонился ко мне и, схватив меня за руку, стал шептать.
– Слушай. Я тебе открою тайну. Я вовсе не Юлианий Азиатик. Я пока скрываюсь. Ты знаешь, кто я? Помнишь перстень моего отца с изображением Гелиоса? Я – сын божественного августа Юлиана. Я – законный император Юлиан Констанций Хлор.
Признаюсь, что при таком признании почувствовал я глубокое презрение к юноше, выдававшему свою тайну так легкомысленно, подчиняясь лишней чаше вина. Юлианий же с глупой улыбкой, которой старался придать торжественность, откинул голову назад и смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. Как умел, постарался я изобразить смущение и испуг и проговорил несколько подобострастных слов, но, как ни плохо я сыграл свою роль, для пьяного Юлиания этого оказалось достаточно, и он продолжал:
– Да, здесь перед тобой твой император. Когда великий Юлиан, которого христиане называют Отступником за то, что он восстановил древние верования, был в Антиохии, его узнала моя мать, жрица Аполлона, из Дафны. Император ей оставил этот перстень, но скоро погиб от стрелы изменника. Я последний из рода Констанция Хлора, и я верну себе, что у меня отнято. Вся земля моя, моя империя. Тогда я восстановлю, что пытались сокрушить Константин Отступник и его последователи. Я покажу им, что такое воля Римского августа. Ко львам христиан! Христиан ко львам!
Последние слова он закричал так громко, стуча кулаком по столу, что я испугался, как бы их кто-нибудь не услышал, и поспешил, вновь наполнив чаши, провозгласить:
– Пью за твой успех, божественный август!
– Благодарю, – сказал благосклонно Юлианий. – Ты мне по сердцу, Юний. Когда я надену диадему, я построю себе золотой дворец на Палатине. Прекраснее золотого дома Нерона. Тебя, Юний, я сделаю префектом. Ты хочешь? Это скоро. Мы только ждем дня. И мы устроим игры в амфитеатре Флавиев. Ко львам христиан! Еще я тебе подарю виллу в Сицилии. Ты добрый малый. Может быть, хочешь быть верховным жрецом? «Пока в Капитолии ходит с безмолвною девой…» – сказал Гораций. Как это дальше?
Видя, что Юлианий скоро опьянеет совсем, я поспешил вырвать у него еще несколько признаний.
– Но где же вы готовитесь к великому дню? – спросил я. – Ведь надо все обдумать, заручиться помощью легионов…
– Где? – переспросил Юлианий. – Да у нее. У Гесперии. Разве ты не понял? Но ты дал клятву. Помнишь? Перстень моего отца. Он его подарил матери в Антиохии. Его убили изменники. Но я отомщу. Я всю Персию присоединю к империи. Как Александр Великий. Я на него похож лицом. Да, милый Юний, у Гесперии. С нами все. Симмах, Претекстат, Флавиан. Они меня признали. Я им всем дам префектуры. Мы собираемся по ночам. Надо постучать четыре раза и, когда спросят: «Кто?» – отвечать: «Иисус распятый». Хорошо придумано, а?
Он начал хохотать пьяным смехом и залпом выпил еще чашу, сказав:
– Хорошее вино. Но у меня там, в Лукании, есть лучше. Знаешь, Юний, вина времен царей. Амфоры старые, как корабль Энея. И золотые дощечки с надписями на них. Я тебе покажу, если ты не веришь. Но вот что, надо позвать флейтисток. Знаешь, Делия в меня влюблена, бедняжка.
Я всячески постарался воспротивиться такому желанию и, чтобы вернуть мысли Юлиания на прежнюю дорогу, задал вопрос:
– Неужели и Гесперия участвует в вашем заговоре?
– Гесперия! – воскликнул Юлианий. – Она во главе всего. Это удивительная женщина. И какой красоты! Она страстная, так что могла бы свести с ума Приапа. И божественная, как Диана. Но и у Дианы был Эндимион. Как это у Катулла:
При последних словах Юлиания, говорившего так непочтительно о Гесперии, ярость зажгла мою кровь, и я способен был разбить юноше голову серебряной чашей, но удержался и сказал только:
– Все же ты ошибаешься. Не может у Гесперии быть своего Эндимиона. Никого не может она признать достойным себя.
– Ты думаешь? – спросил Юлианий, улыбаясь лукаво и щуря глаза. – Я бы мог тебе сказать… Но вот что, позови флейтисток… Делия умирает от любви ко мне… Ах, женщины все одни и те же. И знатные и простые. Я их знаю. Я ведь похож на Александра Великого. – Он склонил голову к левому плечу. – Я прикажу сделать свою статую из золота, во образе Гелиоса. Мой божественный отец…
Речь Юлиания становилась все более и более несвязной, и я, видя, что больше ничего от него не узнаю, пошел расплатиться с хозяином таберны, запросившим за свое вино такую цену, что за нее можно было купить целый culeus. Сторговавшись, наконец, я вернулся к Юлианию и застал его в самом несчастном состоянии, так что мне стоило много труда привести его одежду в порядок, а самого его вывести на улицу. Он настойчиво требовал, чтобы мы пошли еще в лупанар.
– У меня сейчас нет денег, – говорил он. – Но это ничего. Я проиграл громадный заклад на последних бегах. Но я тебя сделаю профектором Города. Пойдем со мной Я покажу тебе таких женщин… Там есть одна мавританка… Я знаю Город, как свою ладонь… Это – от рождения…
Я, однако, добившись от Юлиания указания, где он живет, повел его домой, причем на улицах он продолжал говорить такие вещи, что мне становилось страшно, не подслушивают ли нас, заговаривал с прохожими, особенно с женщинами, и все старался спеть песенку во славу Приапа, только не мог вспомнить дальше первого стиха:
Доведя Юлиания до дома, где он жил, оказавшегося старым и грязным строением, неподалеку от Субурры, я втащил юношу на лестницу, помог ему отпереть его комнату, и он сейчас же, повалившись на свою постель, захрапел.
X
На другой день я посетил Юлиания, так как опасался, что, открыв мне свою тайну, он будет мне мстить и помешает посещать Гесперию. Юлианий меня встретил в своей убогой комнате, все убранство которой состояло из постели, стола и двух скамей, хмурый и смущенный.
– Милый Юний, – сказал он мне, – хорошо мы напились с тобой вчера. Крепкое вино у этого негодяя.
Потом, после молчания, он добавил, смотря в сторону:
– Не говорил ли я чего-нибудь лишнего? Когда я выпью, я иногда воображаю разные нелепости.
Придав своему лицу беззаботное выражение, я ответил:
– Плохо помню твои слова, Юлианий. Если вино так подействовало на тебя, человека привычного, подумай, что было со мной. Не знаю даже, где я провел полночи, потому что в дом дяди я вернулся только под утро.
– А что ты все-таки помнишь? – продолжал допытываться Юлианий.
– Ты, кажется, говорил, – сказал я со смехом, – что построишь себе дом прекраснее золотого дома Нерона. Но, судя по твоему жилью, это будет не скоро. А больше, клянусь Геркулесом, ничего не припомню.
– Я здесь живу временно, – возразил мне Юлианий. – Все мои вещи – и библиотека, и статуи – в моей вилле, в Лукании. Приезжай ко мне, и я угощу тебя вином, много лучшим, чем то, что мы пили вчера.
Я притворился, что верю, а Юлианий тотчас обрел свою обычную беспечность и предложил проводить меня к тому ретору, о котором вчера сообщал, на что я согласился.
Достав зеркало, Юлианий стал готовиться к выходу, подправил свои завитые волосы, положил румяна не только на губы, но и на щеки и кое-где на шею, подвел черным свои брови и полил на свою одежду благоуханий.
– Эти благовония мне недавно прислал в подарок пресид Вифиний, – сказал он при этом небрежно.
Мы вышли на улицу, и Юлианий предупредил меня:
– Пожалуйста, говори у Энделехия как можно меньше. Он не любит болтунов. Потому он и считал меня своим лучшим учеником, что я умею молчать. Он меня очень любит, и я его очень люблю, и если бы хотел стать ретором, непременно согласился бы на его просьбу стать в Риме его заместителем после его смерти. Но у меня иные намерения. Знаешь, как говорит Гораций:
Я в жизни ищу другого – не венков на беге колесниц и не славы ретора, но, может быть, не меньшего, чем то и другое.
Идя по крикливым и пыльным улицам Рима рядом с Юлианием и слушая его хвастливые намеки, я думал о том, что, может быть, каждую его щеку сотни раз целовала Гесперия, и втайне давал себе обещание при первом удобном случае унизить этого щеголя. Однако, продолжая чувствовать в себе неожиданно открывшуюся способность к притворству и лукавству, я выслушивал его речи почтительно и делал вид, что восхищен его изяществом и его положением в свете. Так прошли мы пол-Рима, до Авентина, и за Большим Цирком Юлианий остановился около небольшого дома старой стройки.
– Это здесь, – сказал он. – Как старик обрадуется, увидев меня. Давно я к нему не приходил: все не было времени.
Старый раб-привратник, однако, не узнал Юлиания, и ему долго пришлось вести с ним спор, словно с Хароном перед перевозом, пока тот согласился известить о нашем приходе хозяина, который в это время был занят со своими учениками.
Мы вошли в атрий, обставленный с простотой, приличествующей дому мудреца. Здесь стояли статуи великих философов, от Фалеса и Пифагора до Плотина и Порфирия. Стены не были покрыты никакими изображениями, и здесь же, в атрии, по древнему обычаю, был поставлен ларарий, перед которым еще курился фимиам Лару и пенатам дома.
Через некоторое время к нам вышел Энделехий, человек уже немолодой, но без бороды, с бритыми щеками, одетый, по обыкновению философов, в большую аболлу; глаза его смотрели пронзительно из-под густых бровей. К моему удивлению, – впрочем, не очень большому, – он тоже не узнал Юлиания, и тот должен был упорно напоминать, кто он, и пространно объяснять, зачем мы пришли. Выслушав Юлиания, Энделехий мне сказал:
– Итак, ты хочешь быть моим учеником. У меня так мало времени, что я неохотно принимаю в свою школу новых учеников. Я становлюсь стар для занятий и, подобно Вергилию, мечтаю посвятить остаток жизни одной философии. Поэтому я прежде всего хочу узнать, ищешь ли ты действительно знания или только желаешь научиться хорошо говорить, чтобы выступать на форумах. Истинная наука не имеет ничего общего с нуждами повседневной жизни. Истинная наука имеет одну цель – возвысить душу до созерцания божественного. Еще я у тебя спрошу, чувствуешь ли ты в себе рвение не останавливаться на полпути. Конечно, ты преодолел трудности первых наук и грамматики и легко найдешь в Риме реторов, которые возьмут на себя расширить твои познания. Но я хочу, чтобы мои ученики со второй ступени переходили на высшую. Уча реторике, я готовлю к философии, и ты должен мне сказать, к этому ли ты стремишься.
– Да, не из всякого дерева следует вырезать Меркурия, – вставил здесь совсем неуместно Юлианий, сохранивший и в присутствии философа свою самоуверенность.
Что касается меня, то, по мере того как говорил Энделехий, мне казалось, что я как бы оживаю. Мне вспомнились те мечты, с какими я ехал в Рим, надеясь прильнуть к самому источнику мудрости, вспомнилось, как в родной Лакторе я усердно вникал в уроки моих грамматиков, Романа и Кратила, стараясь понять «Начала» Эвклида и вполне овладеть трудным для меня греческим языком, как надеялся я впоследствии носить такую же большую аболлу, какая была на Энделехии. Все пережитое мною в Городе, все мои любовные страдания вдруг показались мне неважными и ничтожными, и с полной искренностью я ответил:
– Учитель! Как смею я себя назвать достойным, постучавшись в эту дверь. Никто не может быть вполне подготовлен, чтобы слушать твои речи. Скажу только, что учился я всегда с прилежанием и ревностью. Если довольно того, скажу тебе, что грамматики Лакторы, откуда я родом, признали меня в числе лучших учеников, и я передам тебе письма, в которых они говорят обо мне. Обещаю тебе, если ты примешь меня в свою школу, что приложу все старания, чтобы заслужить и твое одобрение, и если в том не успею, то будет вина не моего прилежания, но моих дарований.
Моя скромная речь, кажется, понравилась ретору, и он мне сказал более приветливо:
– Если так, приходи ко мне завтра, и я укажу тебе, с какими учениками ты будешь меня слушать. Тебя зовут Юний Норбан, – добавил он, – это славное имя, и ты должен стараться быть его достойным. Я знаю также твоего дядю и очень чту его воззрения: будь в них на него похожим.
Я было заговорил о плате за учение, но ретор меня сурово прервал, сказав, что об этом я условлюсь с писцом. После того Энделехий удалился, так как его ждали. Все его поведение крайне было не похоже на то, что Ремигий мне рассказывал о римских реторах, и я был этим весьма удивлен, Юлианий же воскликнул:
– Он остался все тот же! Забавный чудак и так рассеян, что едва меня узнал, хотя сам меня всегда называл надеждой своей школы. Впрочем, ты знаешь, что все философы – чудаки и рассеянны.
Мы прошли в особую комнату, где я передал писцу ретора бывшее со мной разрешение от магистра ценса на пребывание в Городе и объяснительные письма лакторских грамматиков. У того же писца узнал я, какую плату взимает Энделехий за преподавание, причем она оказалась много выше, чем я ожидал. Впрочем, будучи в восторге от философа, я об этом тогда не жалел.
Когда мы вновь вышли на улицу, Юлианий, по поводу какого-то промелькнувшего мимо негодяя, начал длинное объяснение о забытых способах носить тогу, о древнем габинском способе и о новом, чисто римском, об умении располагать складки вдоль тела и на груди, о том, как нужно подготовлять тогу, прежде чем надеть ее, и о многом другом. Но мне Юлианий стал так несносен, что я предпочел дать ему взаймы золотой солид, который он у меня попросил, и поскорее с ним расстаться.
XI
После того дня я начал посещать школу Энделехия.
Ученики у Энделехия собирались два раза в день: утром, от четвертого часа до полдня, он преподавал реторику, вечером – философию. Меня он допустил к себе только на утренние уроки в число своих младших учеников, среди которых иные были много моложе меня, и когда я просил его позволить мне слушать и его чтения по философии, всегда отвечал своей любимой поговоркой, что на следующую ступень можно взойти, лишь миновав предыдущую.
Не понимаю, чем Энделехий мог пленить именно Юлиания, так как ретор он был странный. Я уверен, что в любой другой римской школе лучше можно было изучить и декламацию, и поэтику, потому что обычно учителя дают прямые указания ученикам, заставляют их произносить речи, поправляют их голос и движения. Энделехий же всегда довольствовался только общими рассуждениями и, в то время как ученики торопливо записывали его слова в свои пугиллары, неутомимо, по обычаю перипатетиков, ходил взад и вперед по комнате, непрерывно говоря словно с самим собой.
Много было в этой старческой болтовне лишнего и ненужного, но немало встречалось и мыслей неожиданных, приводивших меня в восхищение. Энделехий толковал нам своего любимого поэта, Овидия, и каждый стих давал ему повод для длинных рассуждений, преимущественно о природе богов. Довольно ему было встретить в «Метаморфозах» выражение «Солнца дворец», чтобы заговорить о таинственном и первичном значении Гелиоса, о тожестве его с божеством Юпитера, о том, что Феб и Минерва – лишь его проявления, а Венера – служительница. Стихи о Хаосе, бывшем «раньше моря и земли», вызывали Энделехия на длинные рассуждения о богах сверхмировых и богах мировых, посредниках между первыми и человеком, и о последней тайне троичности, – тайне, которую христиане похитили у философии, – о разделении всего мыслимого на Бытие, Ум и Движение. Во всех древних мифах под формой поэтической басни открывал Энделехий глубокий смысл и показывал, какая мудрость и какие откровения заключены в рассказах о превращениях богов и героев. Мы узнавали, что несчастная Ио есть прообраз человеческой души, преждевременно сочетавшейся с божественным и получившей свое исцеление лишь через египетские мистерии; что отважный Фаэтон есть образ земной мысли, жаждущей досягнуть до небесных сфер силами чар и заклинаний и потому осужденный на падение; что Бакх, растерзанный и возвращенный к жизни, знаменует воскресение души после смерти, мысль, извечно присущую религии отцов, – и много другого, столь же значительного.
– Боги, – говорил нам Энделехий, суть основные и высшие воплощения всех явлений и всех действий. Все, что совершается и что может совершиться, должно иметь своего бога, как бы свой вечный образец, пребывающий всегда. Если бы не было богов, то ничего нельзя было бы мыслить, ибо все стало бы беспрерывно сменяющимся хаосом отдельных, ничем не связанных между собою явлений. Признание богов бессмертных необходимо человеческому уму, чтобы внести порядок и стройность во вселенную.
Думаю, что для большинства учеников Энделехия, несмотря на ту предусмотрительность, с какой он выбирал их, его поучения пропадали напрасно, так как нередко я замечал на уроках лица скучающие. Впрочем, никто из моих новых товарищей не пришелся мне по душе, и я ни с одним из них не сблизился, так что даже намеренно отлагал свое вступление в то маленькое общество, которое образовали они между собой под названием «Общество пловцов». Сам же я, вернувшись в дом дяди, всегда внимательно перечитывал все записанное в школе со слов Энделехия на мягком воске, старался угадать недоговоренное им и тщательно переписывал его слова в особую книгу чернилами черными и красными.
Однако мое пристрастие к философии не излечило раны в сердце, нанесенной мне крылатым богом, и скоро ко мне вернулись неотступные мысли о Гесперии: я то томился от несбыточных желаний, то мучился бесправной ревностью. Два раза отваживался я вновь посетить Гесперию. Первый раз я ее застал дома вместе с ее мужем Элианом, и мне пришлось в полукруглой экседре долгий час вести скучный разговор о разных городских новостях, о каком-то письме к Симмаху, присланном из Азии, о делах в Сардинии, об искусстве медика Эвсебия. Второй раз мне ответили, что Гесперия в тот день не может никого видеть, и, расспросив раба, я узнал, что иногда овладевает ею, словно болезнь или наслание Бога, неожиданная и неодолимая тоска, так что Гесперия по два и по три дня остается в своей комнате, отказываясь даже от пищи.
После того я не посмел снова идти к Гесперии, но желание быть близко от нее было во мне так сильно, что я сначала часто, а потом каждый день стал приходить к ее дому и целые часы проводить там на улице. Обычно я выбирал время вечера, когда в сумерках легче остаться незамеченным, помещался за выступом стены, окружавшей сад против дома Элиана, и глазами Тантала смотрел на те белые стены среди разноцветной зелени, за которыми была Гесперия. Небольшая улица, где я стоял, была почти всегда пустынной, но с соседней Старой Саларийской дороги до самой тьмы слышался шум шагов, стук копыт, грохот тележек, крики на разных языках. Изредка проходил мимо меня торговец с лотком, или заезжий фокусник с Востока, или с толпой рабов кто-либо из живущих поблизости. Понемногу все стихало, и я в сумрачной тишине вволю мог предаваться своим печальным мечтам.
В эти ночные вигилии я успел узнать всех, посещавших дом Элиана. Я наблюдал, как выходил из дома, то в сопровождении рабов, то один, сам его хозяин Тит Элиан Меций, всегда возбуждавший мое отвращение надменностью своей осанки и резкостью своего неприятного голоса. Раза два я видел, как прибывал к дому, тоже в толпе служителей, высокий и стройный человек, с движениями благородными и величественными, о котором позднее я узнал, что это – Квинт Аврелий Симмах. Но чаще других, без всякого противодействия со стороны привратника, входила в дом какая-то старуха, плохо одетая и страшная, с головой, всегда прикрытой иллирийским куккулем, и больше всего похожая на торговок разными снадобьями и ядами, так что нельзя было, на нее глядя, не вспомнить Локусты. Обыкновенно, дождавшись ночи, я возвращался в дом дяди по темным улицам Города, среди шатающихся гуляк и навязчивых меретрик, думая о засыпающей на своем пышном ложе Гесперии. Утром я стыдился своего ночного путешествия, и в школе Энделехия, слушая умные речи ретора, давал себе обещание, что сумею победить в себе слабость, недостойную мужчины, отрекусь от недоступной мне Гесперии, которая в конце концов только женщина, подобная многим, и найду свое утешение в философии; но едва лучи Феба погасали за домами, я, словно подчиняясь чарам страшной Гекаты или чьим-то тайным заклинаниям, снова, с безнадежной тоской, пробирался на Холм Садов.
Так продолжалось до того дня, когда, наконец, я стал свидетелем того именно, ради чего я, хотя, может быть, и не отдавая себе отчета, каждодневно совершал свое бесплодное странствие. В тот день, подчиняясь неизменному влечению, я еще до заката солнца пришел на полюбившееся место моих мечтаний и моей пытки и увидел, что у ворот стоит запряженная парой коней карпента и толпятся рабы. Скоро появился Элиан, вместе с каким-то незнакомым юношей; они сели в карпенту и среди криков и шума быстро умчались, уезжая, по-видимому, из Города. После того не прошло и получаса, как на улице показалась фигура Юлиания, как всегда одетого щегольски, с пышной аликулой на плечах, развевавшейся, как крылья; мое сердце забилось, и я поспешил спрятаться за углом, а Юлианий уверенно стукнул молотком у ворот, дверь открылась, и он вошел. Это совпадение – отъезда мужа Гесперии и прихода Юлиания – заставило меня вспомнить все свои самые жестокие подозрения, свет заката показался менее ярким для моих глаз, я присел на маленькую каменную скамью, бывшую поблизости, потому что не в силах был держаться на ногах. Я, стиснув зубы, сказал себе, что буду ждать, когда Юлианий уйдет, хотя бы пришлось мне сторожить до нового пробуждения Авроры.
Потекли часы, которые были для меня столь же тягостны, как для раба, которого бичуют, заключив ему голову и руки в патибул. Я воображал, как Юлианий входит в комнату Гесперии, как она его встречает радостными словами и поцелуями, как они обмениваются словами любви и страсти. Я видел перед собой изнеженное и сладострастное лицо юноши, его обдуманные и дерзкие движения, думал о том, что его расчетливые ласки без негодования принимает та самая Гесперия, у которой мне хотелось бы благоговейно целовать края одежды. Как нарисованных искусной кистью художника видел я двух любовников в полутьме покоя, слабо освещенного одной лампадой, видел их сброшенные плащи, лежащие рядом, и словно слышал, как перемешиваются их два голоса: вкрадчивый голос Юлиания и певучий – Гесперии, произносящие одни и те же нежные слова. В те часы то несказанная горесть, то нестерпимая ярость, то холодное отчаяние попеременно владели мною. Иногда мне казалось, что я, как Ниоба, каменею, иногда я готов был, как неистовый Аянт, все ломать вокруг себя, иногда я придумывал жестокие способы мести, как Атрей, иногда припадал лицом к камню ограды и плакал, не стыдясь слез, так как их проливали и герои Улисс и Эней.
Взошла неполная луна; платаны и тополи стали похожи на таинственные деревья, обрызганные серебром; камни ограды побелели, и тени сделались более черными. Медленно старый убийца, Сатурн, влачил ночные часы; медленно вращалось звездное небо вокруг недвижимого полюса и передвигалась Большая Медведица. Город смолк, и далекий лай собаки или звук шагов случайного прохожего казались чем-то резким и громким в тишине. Волнение мое стихло тоже, его сменило уныние, какое ведают лишь тени у берегов Леты, и я сказал себе:
«Какое право ты, Юний, имеешь гневаться или мстить? Не вольна ли Гесперия в своих поступках, и какое ей дело до того, что ты здесь, у ее ворот, плачешь? Она и не подозревает, что в мечтах ты связал свою жизнь с ее и, словно поэт, сплел хитрую басню, в которой все – только воображение? Что ты такое? Мальчик без имени, без славы, провинциал, не умеющий ни красиво говорить, ни ловко себя держать в обществе. Тысячи и сотни таких, как ты, проходят по тем же улицам Города, встречают где-нибудь на перекрестке, у почернелого компита, в раззолоченных носилках Гесперию, удивляются ее красоте и, может быть, тоже, как ты, мечтают о ней. Неужели она должна думать обо всех и заботиться, чтобы их не мучила безжалостная ревность? Гесперию окружают бессчетные поклонники, и из всего Города она может выбрать того, кто ей нравится, и, конечно, этим избранником не будешь ты. Довольно ей сказать кому угодно, самому великому и самому славному: приди ко мне, и каждый сочтет себя счастливым ее призывом. Какое же безумие, что ты ее любишь, воображая себя Эндимионом, к которому снизойдет с небосвода сама богиня ночи; нет, ты можешь ожидать лишь бедственного конца Актеона».
Но, так говоря себе, стоя перед теми стенами, за которыми Гесперия обнимала моего счастливого соперника, я впервые понял, как глубоко проникло в мою душу жало любви, побеждающей и олимпийцев, и что напрасно я надеялся забыть ее среди возвышенных раздумий о сущности мира и природе богов. Я на своем опыте в те минуты чувствовал, как правы были поэты, говорившие, что любовь проникает в кости, как пламя, и неотступно вспоминался мне стих из какой-то поэмы, название которой я позабыл: «Не оставляет надежды любовь!» И тогда я, вспомнив свои детские мечты – стать поэтом, сложил несколько элегических дистихов:
Занятый сочинением этих стихов, я на время забыл наблюдать за воротами, но вдруг дверь стукнула. Сразу вся кровь отлила у меня от лица, я вскочил и явственно, в предутренней мгле, рассмотрел фигуру Юлиания, неспешно удалявшегося от дома. Он тихо напевал какую-то песню, и мне показалось, что его походка нетверда, как у человека пьяного или пресыщенного утехами любви. Снова неодолимая ярость овладела мною, и я готов был кинуться на него, как ночной грабитель, повалить на землю этого тщедушного сирийца, задушить и истоптать его. Но тотчас все мои рассуждения предстали мне так ясно, как если бы мне их прошептала сама богиня мудрости Минерва, и я понял, что нет у меня права ни мстить ему, ни наказывать его. Я остался у чужой ограды, как голодный нищий, которому сказали обычное: «Проси завтра, сегодня уходи», – тогда как счастливый любовник Гесперии медленно скрылся за поворотом.
И я упал лицом, плача, на грязные камни мостовой.
XII
Никогда в жизни мне не было так тяжело, как после этой ночи. Вся моя будущая жизнь мне представлялась такой же безвкусной, как пресная вода, к которой не примешано ни капли вина, и я раздумывал, не лучше ли мне пойти на берег Тибра и вперед головой броситься в его мутные воды. «Пусть старый Тиберин, – говорил я себе, – примет еще одну жертву в число бессчетных гекатомб человеческих жизней, ежегодно обрекаемых ему Страданием, Горем и Нищетой».
На другой день я даже не пошел в школу к Энделехию, – так нестерпимо мне казалось не только думать и говорить, но просто видеть лица людей. Я остался в своей комнате, в полутьме, распростертый на ложе, предаваясь своим унылым размышлениям, и в таком положении застал меня Ремигий, которого я уже давно не видел, так как сам его в последние дни не посещал, а он избегал приходить в дом дяди, где его весьма недружелюбно встречала тетка. Ремигий вбежал ко мне стремительно, веселый, как всегда, вовсе не заметил моей грусти и сразу, как из рога Фортуны, высыпал на меня множество слов:
– Милый Децим, что с тобой сталось? Ты стал прилежен, как попугай. Уж не хочешь ли ты стать новым Цицероном? Клянусь Бакхом, я считал тебя более веселого нрава. Не забывай Горациевского: «Увы, о Постум, Постум, спешащие уходят годы…» – или, как сказал современный поэт: «Дева, розы сбирай, пока новы, пока молода ты…» Будет еще у тебя время сердиться на весь мир и прятаться от людей!
– Милый Публий, – возразил я, – я отцу и матери обещал в Риме учиться. Довольно мы с тобой позабавились, пора и работать.
Не слушая меня, Ремигий сел подле меня на ложе и стал рассказывать о своих последних похождениях:
– Какое со мной вчера было приключение! Я нарочно пришел его тебе рассказать. Но ты, пожалуй, не поверишь. Слушай. Вчера я, Гней и Гай, мы втроем, выпили в копоне «Храброго воина» конгий хорошего вина. Случилось так, что у меня были деньги, и я их угощал. Жаль, что тебя с нами не было, но где же тебя искать! Потом пошли мы к проклятой ведьме, которую я зову Алекто, помнишь, в Субурре. Теперь угадай, кого я там встретил. Ставлю в заклад мой новый вышитый пояс, что не угадаешь. Приходим, а старуха говорит нам: «У нас есть новенькая красивая девушка, только за нее цена на десять сестерций дороже». Я отвечаю: «Покажи». Она нас ведет и, представь, кого я вижу? Лету! Помнишь Лету, которую мы встретили в Римском Порте?
Я начал слушать рассказ Ремигия с большой неохотой, только потому, что знал, как от него трудно отделаться, но, услышав его слова, забыл всю свою печаль, быстро сел на ложе и переспросил:
– Как Лету? Ту самую Лету? Ты ошибся, Ремигий, этого не может быть. Лета, сестра Реи, в лупанаре? Ты просто был пьян.
– Что я был пьян, это верно, – возразил Ремигий, – и желаю тебе почаще мне в этом подражать. Но что теперь в доме проклятой Алекто живет Лета, это тоже верно. И как было мне ошибиться, когда я с ней провел всю ночь, – прекрасную ночь! Лета не изменилась нисколько и встретила меня с такой гордостью, словно бы она была Алкмена, а я – Юпитер.
Мой взгляд невольно перешел на ларь, в котором был спрятан пурпуровый колобий, и я сказал:
– Публий, ты должен меня сегодня же проводить к ней.
– Охотно, – ответил Ремигий, – туда вход всем открытый. Только, во имя Геркулеса, ты не должен пока ее у меня отбивать. После, когда пройдет время, я сам ее тебе уступлю.
– Клянусь богами, – сказал я, – ничего такого у меня в мыслях нет. Я просто хочу ее расспросить о сестре.
Услышав эти мои слова, Ремигий начал хохотать и забросал меня насмешками за мое пристрастие к женщинам старым. Он даже привел стихи Овидия:
Юноши, не небрегите и возрастом женщины зрелым;
Сейте и в эти поля, всходы дают и они!
Но мне в ту минуту было не до насмешек Ремигия, я постарался как можно скорее прекратить его болтовню и выпроводить его из дому, взяв с него обещание, что он придет ко мне вечером и поведет меня к Лете.
С большим нетерпением дожидался я вечера, и даже неотступная мысль о самоубийстве перестала меня мучить. Мне казалось, что, узнав от Леты, где живет Pea, и возвратив ей колобий, я исполню свою обязанность, раньше чего я не вправе располагать и своей жизнью. И как только вновь появился Ремигий, я без малейшего промедления заставил его вести себя.
Мы спустились по Субурранской улице и углубились в самую середину Субурры. В узких переулках, обставленных старыми, грязными домами, было темно и стояло тяжелое зловоние от никогда не пересыхавших луж под портиками и на средине мостовой. Таберны были полны народом; крик пьяных и брань игроков в кости не смолкали ни на минуту. Сквозь многие окна, плохо закрытые ставнями, были видны комнаты меретрик, с их постелями, а иногда и женщины, полуодетые или почти голые. У растворенных дверей иных домов также сторожили женщины, с ярко раскрашенными лицами и искусственными бровями, и, хватая нас за одежду, влекли к себе. Я вспомнил, что в первые дни моей жизни в Городе находил в этом оживлении что-то привлекательное, но в тот день все эти женщины были мне противны.
Дом старухи Алекто был одним из самых грязных и безобразных домов, со стенами, покрытыми плесенью, не раз подправленными, чтобы они не развалились. Жила она со своими девушками на четвертом этаже, и подниматься к ней приходилось по узкой и шаткой темной лестнице, залитой помоями. Спотыкаясь, в темноте, мы с Ремигием добрались до двери, гостеприимно отпертой, и вошли в комнату, плохо освещенную старым, поломанным треножником.
Когда я был здесь в первый раз с Ремигием и другими товарищами, моей головой владели дары Либера, и я провел здесь время не без удовольствия. Теперь же мне показалась отвратительной эта закопченная комната, где на стенах были неумелой рукой нарисованы, на красном поле, Приапы и фавны, в возбуждении преследующие нимф, и сделаны надписи, со множеством ошибок грамматики, приглашающие гостей веселиться и наслаждаться. В комнате стояло несколько грубых столов, за одним из которых сидели пьяные корабельщики с Тибра, громко хохоча и переругиваясь. Тут же гуляли женщины, одетые только в туники из рыболовных сетей, так что можно было видеть все их тело, немолодое и дряблое, с дешевыми запястьями на руках и безобразными серьгами в ушах.
Едва мы вошли, эти женщины побежали к нам с радостными криками, стали громко смеяться, говорить непристойности и тащить нас к столу. Меня, разумеется, не узнали, но Ремигия, который был здесь вчера, встретили как старого приятеля, и все называли его своим братцем.
– Милый мальчик, – сказала ему одна из девушек, – видно, что тебе у нас понравилось. Только тебе придется подождать: твоя Галла занята сейчас.
– Ее здесь зовут Галла, – шепнул мне Ремигий.
Мы сели за стол, и нам принесли прокислого вина, а девушки окружили нас, осыпая самыми грубыми шутками и делая всякие неприличные движения. И я никак не мог преодолеть отвращения, когда иные из них пытались сесть ко мне на колени или щипали, щекотали и всячески теребили меня. Одна, которая была старее других и все хвасталась своим именем Рима, сказала, громко хохоча:
– Оставьте его, он хочет сделаться монахом, теперь это принято.
Все начали смеяться такому предположению, и я нашел, что самое лучшее для меня здесь – играть роль христианина.
Потом, когда через комнату к выходу прошел толстый купец, подозрительно оглядывавшийся по сторонам, словно опасаясь грабежа, нам сказали, что Галла нас ждет, и проводили до двери, на которой мелом было написано ее имя.
Я все еще не верил, что действительно увижу сестру Реи, но, распахнув низенькую дощатую дверь, должен был увериться, что Ремигий рассказывал правду. В крохотном, еле освещенном лампадой кубикуле, совершенно обнаженная, лежала на деревянном ложе, покрытом циновкой, Лета. На скамье около валялись ее туника, строфий, обувь. В углу был притиснут стол, с зеркалом и несколькими банками притираний, и стояла глиняная амфора с водой. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленького распятия, прикрепленного к стене. Я сразу узнал Лету, хотя ее лицо побледнело, и даже нашел, что она похорошела, или так мне показалось потому, что видно было ее тело, молодое и красивое.
– Я к тебе привел твоего старого знакомого, – воскликнул Ремигий, входя, – ты ему обрадуешься, как Лаодамия Протесилаю.
– Ты меня помнишь, Лета? – спросил я, садясь на ту же скамью, где лежала одежда девушки, так как другой скамьи в комнате не было.
Против моего желания голос мой прозвучал очень грустно, потому что мне тяжело было видеть в таком положении эту девушку, с которой у меня были соединены другие воспоминания. Но Лета отвечала мне беззаботно:
– Никакой Леты здесь нет. Она умерла, хотя, может быть, и воскреснет. Я – Галла, и Галла очень рада вновь увидеть племянника сенатора Тибуртина. Приходи почаще, если только у тебя сил достанет, а также денег.
Ремигий вышел, чтобы приказать принести и сюда вина, а я все-таки не мог не спросить:
– Неужели ты не нашла в Городе ничего лучшего?
– Мне здесь очень хорошо, – возразила Лета, – меня все любят, и я могу пить вино с вечера до утра. Ты думаешь, лучше мне было бы с утра до вечера шить туники для моряков и ждать, пока на мне женится какой-нибудь бедняк без асса за пазухой? Бог ведал, что делал, когда дал мне красоту.
Я замолчал, но, когда вернулся Ремигий с вином, опять спросил:
– Разве ты за этим ехала в Рим?
Лета вдруг рассердилась, села на своей постели и, скрестив руки, сказала мне гневно:
– Ты был глуп и глупым остался. Или ты меня мало знаешь.
Ты в самом деле думаешь, что я в этом доме проведу всю жизнь? Я и с тобой, и с твоим Ремигием только потому знаюсь, что еще не встретила подходящего человека. С такой грудью и с таким телом разве я не найду кого-нибудь получше вас? Ты еще увидишь меня в золотых носилках, в шелковом платье и будешь смотреть на меня, разинув рот, хотя ты и племянник сенатора. За мной будет бежать дюжина черных рабов, а ты будешь стоять под портиком и смотреть вслед.
Она выпила вина и прибавила гордо:
– Клянусь Спасителем нашим, на этом самом месте, в Субурре, где стоит сейчас эта развалина, я прикажу себе построить дворец, каких еще не видали в Городе!
Ремигий постарался переменить разговор и стал спрашивать, какой гость был сейчас у Леты.
– Противный скряга, – ответила она, – подарил мне пять сестерций, которые мне хотелось швырнуть ему в его толстое лицо. Но ты, мальчик, не бойся, я после него не буду менее ласковой.
– Я знаю, что ты добрая девушка, – сказал Ремигий, садясь рядом с Летой и ее обнимая.
Они начали говорить друг другу грубые похвалы, и я, поняв, что мне время уходить, поспешил спросить:
– Скажи мне, Лета, или Галла, где теперь твоя сестра: мне ее надо увидеть.
– Если ты говоришь о Рее, – ответила Лета, – то она мне вовсе не сестра. И я тебе посоветую лучше связаться с Лернейской гидрой, чем с ней.
– Все равно, мне надо ее увидеть, – настаивал я.
– Должно быть, она все там же, за Тибром, около самой улицы Тиберина, в доме, где попина «Морской конь». Поищи ее там, только под именем Марии, – может быть, и найдешь. Но она и все с ней там сумасшедшие, словно их искусал тарантул: с ними ты и сам помешаешься.
Я поблагодарил Лету и стал прощаться, но она бесстыдно попросила у меня подарить ей что-нибудь на память о посещении. Я дал ей два денара и, расталкивая других девушек, пытавшихся загородить мне дорогу, выбрался на улицу.
XIII
Я долго колебался, прямо ли мне отнести Рее колобий или сначала, посетив ее, предупредить, что я ей возвращу ее дар. Последнее показалось мне благоразумнее, так как я не был уверен, что найду Рею в доме, указанном Летой, а бродить по улицам Города с подобной ношей было небезопасно. Кроме того, чувство смутной тревоги охватывало меня каждый раз, когда я намеревался раскрыть свой дорожный ларь, чтобы вынуть из него глубоко запрятанный страшный сверток, и я предпочитал эту минуту отсрочить сколько можно.
Был уже одиннадцатый час, когда я вышел из дому, так как я рассчитал, что вечером Pea должна быть свободнее и мне можно будет говорить с нею без помехи. Во все время длинного пути, пересекая сначала мрачную Субурру, потом мраморные форумы, я не переставал колебаться и несколько раз готов был вернуться обратно. Выйдя на Тусскую улицу, где около грязных лавок всегда толпится всякий сброд, сводни, предлагающие девушек, торговцы чудодейственными снадобьями, фокусники и просто воры, я заметил, около самой статуи Вортумна, расположившегося на мостовой индийского гимнософиста. Несмотря на эдикты императоров, воспрещающие всякого рода гадания, он открыто предлагал всем, за дешевую плату, открыть их будущую судьбу, выкрикивая свои предложения на плохом латинском языке. Я подошел к гимнософисту, положил в его худую, как трость, руку маленькую монету и спросил, что меня сегодня ждет.
Тотчас меня окружила толпа любопытных, а гадатель сначала пристально смотрел мне в глаза, потом зажмурился, стал мерно раскачиваться и, наконец, снова взглянув на меня, произнес:
– Сегодня ты увидишь нежданное.
Я пожалел об отданной монете, протиснулся сквозь толпу, из которой чуть ли не каждый человек, крича, предлагал мне свои услуги, выбрался на пустынный в этот час Боарийский рынок, который подметали городские рабы, и вошел на Эмилиев мост. Здесь я снова остановился, не слыша топота ног проходивших мимо людей, и долго смотрел на видное отсюда отверстие Великой Клоаки, пенным потоком низвергавшее в Тибр отбросы Города. Снова мысли о самоубийстве пришли мне в голову, и я думал, как легко прервать мое неудачно начатое существование, перешагнув через ограду моста, и как хорошо вдруг освободиться и от волнений любви, и от всех трудностей жизни.
Победив в себе такое малодушие, я заставил себя идти дальше, перешел реку и углубился в незнакомую еще мне за-Тиберинскую часть Рима. Можно было подумать, что я попал в другой город, – настолько здесь все отличалось от того, что можно видеть на левом берегу: не было здесь ни шумной толпы, ни изящных щеголей, ни пышных дворцов и храмов, улицы были узки и совершенно темны, так как выступающие верхние этажи закрывали свет неба, и только гул из многочисленных таберн напоминал, что я еще в Риме. Не без большого труда разыскал я попину, на дверях которой была сделана надпись «Ecus bipes», и, расспросив какую-то женщину, узнал, что в доме действительно живет приезжая девушка по имени Мария.
Дом был заселен бедным людом, и я долго стучался то в одну дверь, то в другую, пока, наконец, не дошел до самого верхнего этажа, под самой крышей. Уже почти потеряв надежду найти ту, которую я искал, я постучал и там в низенькую, незапертую дверь, но она тотчас отворилась, и на пороге оказалась сама Pea, уже одетая в паллу с куккулем. Ее лицо едва было видно из-под этого покрова, но оно вновь показалось мне, как в час на Аппиевой дороге, молодым и прекрасным. Не дав мне времени произнести ни слова, ни даже заглянуть в глубину комнаты, Pea сказала:
– Ты чуть не опоздал, Юний, я давно тебя жду.
– Как? – изумленно пролепетал я. – Ты меня ждала? Откуда ты могла знать, что я приду?
– Нельзя больше терять времени, – вместо ответа сказала она. – Следуй за мной.
Захлопнув дверь, она стала спускаться по лестнице, а я, снова поддавшись той странной власти, какую она имела надо мной, безвольно последовал за ней.
Мы вновь вышли на улицу, и Pea таким быстрым шагом побежала вперед, что я едва за ней поспевал. Она шла, направляясь к окраинам Города, вышла на Триумфальную улицу, потом свернула в какой-то узкий переулок. Наконец я настиг ее и спросил:
– Куда ты ведешь меня? Я не пойду дальше. Я только хотел тебя видеть, чтобы сказать…
– Ты меня хотел видеть для одного, – возразила Pea, – но должен был прийти для другого. Пути господни неисповедимы.
Она вновь устремилась вперед, а я продолжал идти за ней, повторяя, себе в утешение, слова индийского гимнософиста: «Сегодня ты увидишь нежданное».
Уже стемнело, когда Pea остановилась около небольшого домика, одиноко стоявшего неподалеку от городской стены, на улочке, совершенно безлюдной. Pea особенным образом постучала в дверь, произнесла какие-то, должно быть, условленные слова, и вход открылся. Когда мы оказались в темном вестибюле, я, с последним усилием воли, хотел было броситься назад, но Pea крепко схватила меня за руку и повлекла дальше. Миновав несколько комнат, мы увидели свет и, распахнув занавес, вошли в обширный зал, освещенный большим числом лампад, в котором уже было собрано много людей, мужчин и женщин, одетых в белое.
– Вот, наконец, и Pea, – сказал кто-то.
Я неподвижно стоял у занавеса, ослепленный неожиданным светом, смущенный всем происшедшим, но Pea, указав на меня, громко сказала всему собранию:
– Вот тот, о котором я вам говорила. Это – Юний, предназначенный судьбой уготовать пути Грядущего.
Все голоса воскликнули:
– Ave, Юний!
Я продолжал молчать, не зная, что мне должно делать, но кто-то опять спросил:
– Почему он не в брачной одежде?
Какой-то юноша подошел ко мне, снял с меня мой плащ и надел на плечи другой, белый, закрывший меня до самых пят, застегнул фибулу на груди и потом, взяв меня за руку, провел на другой конец залы, где стояло два деревянных кресла.
– Сегодня он должен сидеть рядом со мной, – объявила Pea.
Я хотел было говорить, но та же Pea сурово сказала мне: «Молчи!» – и заставила сесть рядом с собой, причем мы были, словно жених и невеста на свадьбе, на виду у всех. Я решил подчиниться воле случая и, постепенно овладевая собою, стал рассматривать, что было у меня перед глазами.
Покой, где мы находились, был широк и высок: дом прежде принадлежал, вероятно, какому-нибудь богатому человеку, потому что был устроен довольно роскошно: прекрасные коринфские колонны африканского мрамора окружали нас; но вся обстановка состояла из ряда скамей за колоннами, высокого водяного органа, с большими медными трубами, помещенного в углу, и разостланных на мраморном полу ковров.
Когда мы с Реей сели на наши кресла, все, словно по знаку, разместились тоже по скамьям, а какой-то старик, с длинной белой бородой, похожий на Сатурна, вышел на середину, поклонился присутствующим и возгласил:
– Теперь все в сборе, время, братья и сестры, приступить к служению.
Тотчас послышались звуки органа, глухие, но нежные, медленно возраставшие, усиливавшиеся, постепенно заполнявшие весь простор. Было такое впечатление, словно волны Океана заливают душу, и всем моим существом начало овладевать сладкое оцепенение, мучительная нега, и временами мне казалось, что я не дышу вовсе. Вместе с тем мне казалось, что какой-то таинственный, голубоватый или зеленоватый свет разливается вокруг, подобный свету от свечения моря.
Сколько длилось это оцепенение, я не знаю, но вдруг Pea порывисто встала, выступила вперед и воскликнула:
– Сестры, братья! Дух повелевает мне говорить.
Все обратились к ней, орган смолк, и Pea, стоя посередине покоя, ко мне спиной, начала свою речь, голосом сначала тихим, потом окрепшим и обретшим, наконец, необыкновенную силу.
– Сестры, братья! – сказала она. – Всем нам были знамения, что времена приблизились. Будем же бодрствовать, чтобы никого из нас Жених пришедший не застал спящим. Нет добродетели выше покорности воле Божией. Всеведущий изначала предвидел грехопадение Адама, и Всемирный потоп, и крестную смерть Сына своего, и торжество Грядущего, и последний Суд, – но сотворил небо и землю, допустил Каину поразить брата, людям до Ноя грешить, Иуде свершить предательство, последнему Соблазну прийти в мир. Как из семени, брошенного в землю, с необходимостью вырастает определенное растение, как нельзя маковому зерну сказать: будь дубом, так из семени Творца должен произрасти наш мир и принести свой плод. По плодам его узнают его, и не должно до времени обрывать цветы его, дабы не уничтожить завязи. Добродетель человеческая в том состоит, чтобы согласовать свои деяния с веянием Духа Божия. Все мы, водимые Духом Божием, – сыны Божии и обязаны ему сыновьим повиновением. Одни из нас предуставлены Богом, ибо предузнал он их судьбу, на пути спасения; другие также предуставлены на то, чтобы послужить Царю Погибели и уготовать ему путь. Можно ли идти против Бога? Дары и призвания Божии непреложны. Кто Сына своего единственного не пощадил, но предал за людей на муку, не властен ли нас, сынов своих, послать на погибель за других? Апостол говорит: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне до плоти. Как же, соревнуя апостолу, не возжелаем мы все представить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу? А другой апостол, говоря о том, кому надлежит прийти и без которого не свершится то, чему свершиться предустановлено, пророчествует, что дано ему будет вести войну со святыми и победить их, что поклонятся ему все живущие на земле, имена которых написаны в книге Агнца, запечатленной от создания мира. Все, чьи имена написаны в запечатленной книге, да не противятся воле Божией, да не уклоняются поклониться Грядущему, ибо должно ему победить! Да не страшатся отлучиться от Христа за братьев своих, как того жаждал апостол! Помните: сберегающий душу свою погубит ее, а губящий душу свою спасет ее! И еще апостол сказал: всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Тайна сия велика, но вы радуйтесь и веселитесь о погибели своей. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Кто познал ум Господен? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Все из него, им и к нему, ему слава вовеки, аминь.
Все собрание в одном порыве повторило: «Аминь!»
Pea обратилась ко мне, и я увидел, что лицо ее бледно и глаза расширены; она походила на статую Сибиллы Кумской; и, указуя на меня, она воскликнула надорванным, но уже другим голосом:
– Здесь тот, кто укажет нам путь. Вижу, вижу большой город за тысячу миль отсюда. Вижу высокие стены, дворцы, театры, термы, храмы. Во дворце тот, кто именует себя христианским императором, и с ним советчики его, очи которых закрыты тьмой и которые не чают близости Грядущего. Двое идут по улице, и языки Духа Божия над головами их. Да! да, вижу, это я и он! Вот мы входим в двери большого дома, проходим пустые покои. Юноша, с лицом ангела, нас встречает; волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Счастие, счастие! Сестры, братия! Мы двое первые преклоняемся перед ним и его венчаем диадемою власти. Дух мой теряется в веселии великом и ужасе многом. Это скоро, это близко, это уже при дверях!
Последние слова Pea прокричала в изнеможении и вдруг упала на подстилки пола; я поднялся со своего кресла, чтобы бежать к ней и отречься от пророчества, относящегося ко мне, но все, тоже вскочив со скамей, окружили лежащую и в возбуждении восклицали:
– Литанию, литанию!
Вновь послышались звуки водяного органа, и началась странная литания, – чудовищное искажение того, что христианами поется в их храмах.
– Дай нам отлучиться от Христа, предать и возненавидеть его, послужить врагам его! – возглашал чей-то голос.
– Подай, сильный! – отвечали хором все присутствующие, мужчины и женщины, в белых одеяниях, простирая руки.
– Возложи на нас печать, на правую руку нашу или на чело наше, всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам! – возглашал голос.
– Возложи печать, сильный! – отвечали все.
– Дай нам быть грешными, впасть в скверну, лгать и любодействовать, убивать и богохульствовать, погубить души наши! – возглашал голос.
– Подай, сильный! – отвечали все.
Всех воззваний я не припомню, но голоса становились все возбужденнее, и под звуки органа присутствующие, все возглашая ответы, начинали двигаться, словно в мерной пляске. И я со всеми другими, поддаваясь очарованию музыки и голосов, невольно двигался тоже и, может быть, тоже присоединял свой голос к общему хору. Незаметно для меня, под чьей-то невидимой рукой, лампады стали гаснуть и всех нас окружать, сближая и разъединяя, мрак. В темноте сначала еще продолжалось пение, но постепенно стихло, и только слышались звуки органа и странные шорохи от движения людей.
Тогда кто-то приблизился ко мне, и меня обняли женские руки. Кто-то своими губами прикоснулся к моим и наложил на них поцелуй. Я воскликнул:
– Pea, ты?
Ее голос мне ответил глухим шепотом:
– Здесь нет имен, одни только верные.
Одно время я сопротивлялся настояниям обнимавшей меня женщины, но в каком-то опьянении был мой ум после всего испытанного, и тело мое – в каком-то онемении, словно в смертельной усталости.
Я уступил, и так свершился мой брачный союз в неведомом мне доме, среди мне неведомых людей, со странной девушкой, каким-то демоном посланной мне навстречу на пути моем в Рим…
Когда снова зажглись лампады, сперва одна, слабо озарившая темноту, потом другая, я мог видеть, как поспешно покидали белые фигуры одна другую и торопливо расходились в разные стороны. Реи около меня не было.
Все, в ярком свете, как будто избегали смотреть друг на друга, и кто-то сказал:
– Пора расходиться.
Мне вернули мой темный плащ, и все присутствующие осторожно, поодиночке начали удаляться из залы. Какой-то человек, судя по лицу, простой работник, подошел ко мне и угрюмо сказал:
– Будь осмотрителен, юноша, не попадись ночным стражам и остерегись болтать лишнее…
Я молча наклонил голову в знак утверждения, потом меня проводили до двери, и, выйдя на улицу, я с наслаждением вдохнул после душной комнаты свежий воздух и нетвердой поступью направился через весь ночной Город к дому дяди.
XIV
После этой ночи я спал сном тяжелым и, проснувшись, увидел, что мне надо торопиться к началу занятий в школу Энделехия. Я сам не знал, зачем я тороплюсь к нему, потому что мысль о самоубийстве еще не покидала меня, но все же, поспешно одевшись и подкрепив силы сыром и глотком вина, направился к выходу.
Проходя через атрий, я увидел маленькую Намию, которая, укрывшись в угол, около армариев с масками предков, горестно плакала. Последние дни, занятый разнообразными и тяжелыми событиями своей жизни, я с ней мало встречался, и мне даже казалось, что девочка меня избегала. Теперь я подошел к ней и спросил:
– Что с тобой, милая сестрица? Кто тебя обидел? Почему ты не хочешь больше со мной говорить? Или ты на меня рассердилась?
Намия вдруг вскочила, тряхнула своей хорошенькой головкой, словно затем, чтобы высушить слезы, и глаза ее сделались злыми, как у раздраженной собачки. Она мне ответила:
– Какое тебе до меня дело? Уходи. Я тебя ненавижу. Ты думаешь, что я плачу из-за тебя?.. Что мне в тебе! Я о тебе давно перестала думать. Ты оказался так же глуп и незанимателен, как все другие. А если я кого-нибудь люблю, кто получше тебя, и о нем плачу, это тебя не касается.
Проговорив эти слова, девочка, по своему обыкновению, быстро выбежала из атрия, а я был тогда слишком занят своими печалями, чтобы раздумывать над ее горем, и продолжал свой путь.
В тот день я был в школе крайне невнимателен, и мои товарищи не раз толкали меня, когда я, углубившись в свои унылые думы, переставал слушать учителя и оставался сидеть неподвижно с бесполезным стилем в руке. Один из товарищей даже сказал мне:
– Клянусь Геркулесом, Юний, ты, должно быть, влюблен.
Выйдя из школы, я пошел не домой, но на форум, так как мне хотелось в шуме и движении, там никогда не стихающих, успокоить свое волнение. Я переходил из одного форума в другой, входил в различные лавки, у торговца сосудами приценивался к бронзовому кубку, у книгопродавца рассматривал новоизданную книгу, смотрел, как ловко исполняет свое дело меняла, быстро отсчитывая монеты, вмешивался в толпу бедняков, которая никогда не покидает форумов, готовая предложить свои услуги любому наемщику для чего угодно: рукоплескать его речи или любимой им плясунье, освистать его соперника или просто, в одеждах, полученных на время, изображать из себя клиентов, – слушал грубые речи и сам вступал в чужие разговоры. Потом на Римском форуме я сел подле арки Тиберия и долго смотрел, как на священном месте, тесно огороженном торжественными храмами, быстро сменялись разнообразные картины, как прогуливались здесь завсегдатаи форума, по древнему закону приходящие сюда лишь в тогах, как изумленно оглядывались кругом недавно приехавшие провинциалы или чужеземцы, в причудливых одеждах, как то появлялся важный сановник, сопровождаемый толпой, то проходила кучка веселых гуляк. Все вокруг было пестро и шумно, лучи солнца сверкали на старом мраморе и бронзе, голоса, смех и крики не смолкали ни на минуту, и можно было думать, что по-прежнему на этом месте бьется сердце всего мира.
Несколько развлеченный своей прогулкой, я пообедал в какой-то попине поблизости, где долго молча сидел одинокий за столом, потом еще побродил по улицам и по полю Агриппы и только на склоне дня вернулся домой.
В тот вечер тетки не было дома, и дядя, который скучал без слушателей, позвал меня к себе выпить с ним по кубку вина. Хотя рассуждения дяди мне давно наскучили, я не уклонился от приглашения, потому что мне тягостно было оставаться одному. Как всегда, дядя скоро заговорил о древнем величии римского народа и о погибели, к которой ведут Рим последние христианские императоры.
– Боги уже давали нам предостережения, племянник, – говорил мне Тибуртин, – но мы им не внемлем. Все продолжают обычную жизнь, бездельничают, пьянствуют и не думают о благе республики. Варвары везде переходят границу империи и селятся на римских землях. Хуже того, тех же самых варваров принимают в римское войско, из них образуют легионы, оскорбляя тем священное имя: легион! И им же поручают защиту границ! Вспомни мои слова: если не опомнятся граждане, не возьмутся за старый римский меч, в самую Италию вторгнутся какие-нибудь племена из Германии и Скифии, и переживем мы новое нашествие галлов!
Думая сделать угодное сенатору, я сейчас же привел предсказание Горация:
Но дядя живо возразил мне:
– Нет, нет! Этого не будет никогда! До самых стен Города может дойти варвар, но священной черты не переступит. Еще стоят на своих местах святилища аргеев и весталки блюдут залоги незыблемости Рима, и в Курии еще парит статуя Победы. Знай, племянник, пока на эти святыни не посягнули, нечего Риму бояться. А кто святотатственный, будь он даже христианин, осмелится на них посягнуть?
Не знаю, было ли то предчувствие, ниспосланное неким богом, или случайное совпадение, которое нередко наблюдается в жизни, только после этих слов дядя стал говорить о алтаре и статуе Победы подробно и с увлечением.
– Божественный Август, – говорил он, – был третьим основателем Рима, после Ромула и Камилла. Помнишь богами подсказанные слова центуриона: «Стой, воин, здесь всего лучше останемся!» Тогда речь была только о Городе. Август сделал Рим средоточием вселенной, повелителем мира. Август первый сказал, что вне империи, управляемой Римом, нет и быть не должно ничего, кроме варварства. Потому-то Август, нашедший Город кирпичным и оставивший его мраморным, воздвиг множество новых храмов, с великими священнодействиями, как бы основывая новый Город, ибо старому было дано назначение новое. И, завершив новую Курию, откуда Сенат должен был своей мудростью править миром, Август по ее середине поставил алтарь и древнюю статую Победы, знак того, что Риму дано вовек торжествовать над врагами. Дважды пожар истреблял Курию Юлия – при Нероне и при Карине, но дважды боги спасали крылатую статую Победы, и вновь сенаторы пред ее алтарем приносили свои клятвы. Так и Рим не раз бывал охвачен пламенем погибели, но всегда выходил из огня победоносным и крылатым. И так всегда будет, племянник, пока отцы Города собираются вкруг этого священного алтаря.
Я тогда не очень внимательно слушал рассуждения Тибуртина, так как не придавал им цены. И сам он скоро перешел к соображениям, кто будут назначены консулами на следующий год, намекая, что он, Тибуртин, был бы достоин этой чести предпочтительно перед другими. Когда секстарий вина нами был допит, я попрощался и ушел в свою комнату, чувствуя утомление после дня, целиком проведенного в ходьбе.
Скоро я задремал беспокойным сном, но вдруг мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я открыл глаза и, действительно, во мраке различил белую женскую фигуру. Всмотревшись, я убедился, что это – Намия, почти раздетая.
– Милая Намия, зачем ты здесь? – спросил я шепотом.
Мне пришло в голову, что Намия подвержена той священной болезни, в которой люди, подчиняясь чарам луны, ходят по комнатам и даже по высоким крышам, во сне, с закрытыми глазами. Но Намия не спала; она бросилась к моему ложу, стала перед ним на колени и, плача, сказала мне:
– Братик, милый братик! Я тебе солгала. Я тебя не ненавижу. Я плакала по тебе. Я тебя люблю, мой братик. А ты меня не любишь. Ты любишь эту противную Гесперию. Я все знаю, мне передали. Ты у нее постоянно бываешь. Три последних ночи ты провел у нее. Ты ее любовник. Я этого не могу перенести.
Я обнял худенькое тело маленькой Намии, стал ее целовать и пытался успокоить.
– Полно, сестрица, – говорил я, – все это выдумки, неправда. Три последних ночи я, может быть, провел дурно, но, клянусь великими богами, не у твоей сестры. Я у нее бывал, это верно, потому что она меня звала к себе, но между нами о любви не было речи. А что ты говоришь о своей любви, тоже неправда: ты еще маленькая девочка и ничего не понимаешь. Время любить к тебе придет позже, а пока будь умной, отри свои глаза, ступай спать и останься моим хорошим другом.
Намия на мои слова рассердилась и ответила зло:
– Ты говоришь так умно, как учитель грамматики. «Есть некоторые глаголы безличные, например, первого порядка: “Juvat me, te, ilium, restat, distat…”» Все это верно, а только я тебя люблю! Возражай мне, что хочешь, а я тебя люблю!
Потом, снова заплакав, она продолжала:
– И я хочу, чтобы ты тоже меня любил. Милый, хороший братик, на что тебе эта Гесперия, у которой, кроме тебя, десятки любовников. Я сделаю для тебя все, что женщины делают для мужчин. Я все понимаю, и я знаю, зачем отец Никодим потихоньку приходит к матери. Я буду твоей самой хорошей любовницей. Только люби меня.
В каком-то исступлении маленькая Намия непременно хотела лечь рядом со мной на ложе и добивалась, чтобы я ласкал ее. А я не знал, что делать, так как постыдным почитал нанести обиду дочери моего гостеприимного хозяина. Между мною и Намией началась борьба, во время которой она то рыдала, то царапала и кусала меня, то целовала безудержно.
– Нас услышат, сюда придут, – молил я.
– Мне все равно, мне все равно, – возражала девочка, – пусть все узнают. Я хочу, чтобы ты меня любил. А если нет, я пойду и утоплюсь в Тибре.
Не знаю, чем окончилась бы эта наша борьба, если бы вдруг в доме, несмотря на поздний час, не послышался неожиданный шум, торопливые шаги и голоса. Испуганный, я сказал Намии:
– Это тебя ищут. Подумай, что я скажу твоему отцу, если он тебя застанет у меня. Уходи скорее, Намия, а завтра я тебе все объясню.
Намия упрямо спросила:
– Ты клянешься, что завтра мне прямо ответишь, будешь ли меня любить или нет?
– Клянусь Юпитером, – сказал я.
После этой моей клятвы Намия, также смущенная, соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Но шум все продолжался и даже делался более громким. Подумав, что нехорошо оставить девочку без защиты, если мать грозит ей за ее ночное поведение, я наскоро оделся и вышел в атрий.
Там была в сборе вся семья. Два раба освещали атрий фонарями, которые держали в руках. Дядя был одет в сенаторскую тогу и дрожащей рукой творил возлияние перед маленьким домашним алтарем. Тетка и Аттузия, в ночных одеждах, перебивая друг друга, в чем-то его упрекали.
Увидя меня, дядя обратился ко мне:
– Ну, милый Юний, – сказал он, – сегодняшним разговором накликали мы с тобой беду, такую беду, что теперь дело идет о спасении республики.
– Что же случилось? – спросил я.
– Ночью прибыл посол от императора, – ответил дядя, – и привез повеление: немедленно, слышишь ли, немедленно, ночью же, вынести из Курии алтарь и статую Победы, о которых я тебе говорил. Это – конец, так хотят лишить Рим покровительства богов. Это – последний удар, а затем закроют все храмы, заставят всех римлян поклоняться Христу, а непокорных будут бросать на съедение зверям. Боги отступятся от нас, и совершится погибель империи.
– Куда же ты идешь? – спросил я.
– Куда? – гордо возразил дядя. – В Курию! Сенат соберется немедленно, и мы воспротивимся исполнению неправого повеления. В такую минуту римляне должны показать себя римлянами и спасти империю. Грациан думает, что он может все, но Сенат и римский народ покажут ему, что он заблуждается. Подайте мне плащ.
Тогда яростным голосом заговорила тетка:
– Остерегся бы так говорить о святости императора при рабах, бездельник! Одних этих слов довольно, чтобы тебе голову отрубили, нас всех бросили в темницу, а имущество наше отобрали в фиск! Ты только и делаешь, что пропиваешь добро, нажитое твоими предками, а теперь вовсе нас погубить задумал!
Аттузия добавила:
– Христианнейший император намерен истребить идолов в Курии, где заседают его сенаторы. Его благодарить нужно за искоренение суеверий, а не противиться его Божественной воле. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне дожить до этого счастливого часа.
– Молчите, женщины! – строго произнес дядя. – Эти вопросы должны решать мужи.
– Мы тебя не пустим, – решительно сказала тетка, загораживая дяде дорогу. – Завтра же всех сенаторов, которые скажут слово против императора, отправят в ссылку. И куда ты-то спешишь. Думаешь, там без тебя не обойдутся?
– Здесь отец семейства я, – так же сурово возразил дядя. – По римскому праву я имею власть жизни и смерти над тобой.
– Да ведь тебя убьют! – уже со слезами закричала тетка, все закрывая своим телом выход.
– Прекрасно и сладко пасть за отечество, – ответил ей Тибуртин стихом Горация.
Он неожиданно сильной рукой отстранил свою жену и с высоко поднятой головой направился в вестибул. Но, сделав два шага, остановился и нерешительно добавил:
– Только вот что, вели подать мне кубок вина, а то на улице холодно.
– Нет тебе вина, пьяница! – закричала тетка с озлоблением. – Хочешь идти, так иди трезвый.
– Да, я пойду и без вина, – сказал Тибуртин.
Он вышел из дому, и за ним последовали рабы с фонарями.
Тетка, рыдая, начала причитать, как плакальщица на похоронах.
– Погибли мы! Завтра же отберут у нас и дом, и земли, и рабов, и все имущество! Будем мы голодать и спать в холоде! Господи Иисусе Христе, разве мало я тебе молилась! Разве не делала я вкладов в церкви и не давала обетов сделать еще более богатые! За что ты меня так жестоко караешь!
– Успокойся, – уговаривала ее Аттузия, – никто не обратит внимания на их смехотворное заседание. Да и сами они не посмеют пойти против воли императора. Соберутся, посмотрят друг на друга и разойдутся.
Пока женщины разговаривали, новая мысль пришла мне в голову: что Гесперия, муж которой не был сенатором, не должна еще знать новости об императорском эдикте. Вдруг мне показалось, что я должен немедленно известить ее о нем. Не раздумывая долго, я набросил плащ на плечи и тоже бросился бегом на улицу.
XV
Я ни о чем не думал, пока не достиг ворот дома Гесперии. Только здесь, на пустынной и темной улице, я спросил себя, как я войду в дом в такой поздний час. Но тотчас мне вспомнились те условные знаки, о которых говорил Юлианий, и я без колебания постучал дверным молотком четыре раза.
Скоро послышался голос раба, спросившего меня:
– Кто там?
Я ответил:
– Иисус распятый.
Ворота открылись; я уверенными шагами прошел по ночному саду. В дверь дома я тоже постучал четыре раза и дал тот же ответ на вопрос, кто стучит; меня впустили и в дом. Сонный привратник на меня смотрел недоверчиво, но я ему сказал:
– По важному делу мне нужно видеть госпожу Гесперию.
Привратник вызвал молодую рабыню, которая проводила меня в атрий и, сказав, что известит Гесперию, скрылась.
Только тогда мною в первый раз овладело смущение. Я стоял, одинокий, в огромном полутемном атрии, слабо освещенном одной лампадой, которую рабыня поставила на подножье статуи Флоры. Все кругом было тихо, и минуты шли с медленностью необыкновенной. Та радость, с какой я бежал к дому Гесперии, постепенно сменялась страхом ее увидеть.
Мне вдруг показалось нелепым, что я ночью тревожу Гесперию, чтобы сообщить новость, о которой через несколько часов заговорит весь Город. Не будет ли Гесперия вправе, если в ответ на мои слова рассмеется и гневно мне прикажет идти домой и не мешаться не в свое дело? Я подумал также, что поступил неосторожно, воспользовавшись тайными знаками, о которых узнал случайно. Гесперия должна будет предположить, что я какими-то кривыми путями, подслушивая на перекрестках или расспрашивая рабов, стараюсь проникнуть в ее тайны с намерениями дурными. Она, может быть, не позволит мне больше никогда приходить к ней и постарается избавиться от опасного соглядатая.
Так размышляя, я с радостью убежал бы из дома Элиана, но уже было поздно отступать, и я с тоской продолжал ждать Гесперию. Наконец послышались шаги, замерцал свет лампад, и появилась Гесперия в легкой столе, накинутой поверх туники, без всяких обычных украшений, сопровождаемая двумя рабынями, которым она сделала знак удалиться. Гесперия направилась прямо ко мне и спросила без гнева:
– Что тебя привело ко мне, Юний? Не случилось ли чего дурного с твоим дядей?
Приветливый голос Гесперии привел меня в еще большее смущение; я чувствовал, что мои ноги дрожат, и, собрав все силы, с трудом произнес:
– Domina! Прости, что я тебя потревожил. Этого, может быть, не должно было делать. Но ты ко мне была так добра. Мне показалось, что тебе важно это узнать. Сейчас в дом дяди принесли известие. От императора прибыл посол. Приказано вынести из Курии алтарь и статую Победы. Дядя говорит, что это – погибель империи. Созвано ночное заседание Сената. Хотят принять решения важные.
Я говорил запинаясь и бессвязно, и с каждым словом мне становилось все более и более стыдно за свой необдуманный поступок. Потом, совсем смутившись, я замолчал и стоял, опустив глаза, как провинившийся ученик перед своим литератором. Но Гесперия мне ответила с прежней ласковостью:
– Ты – милый, и хорошо сделал, что прибежал рассказать это мне. Известие, конечно, важное, хотя судьба империи и не зависит от того, та или другая статуя стоит или нет в таком-то храме. Но эдикт Грациана может взволновать тех простых людей, которые на этот алтарь смотрят как на лучший оплот Рима, и последствия могут быть гибельны.
Я смотрел на Гесперию, и она, без блеска золотых колец и запястий, драгоценных серег и жемчужных ожерелий, с обнаженными, словно мраморными руками, казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Я испытывал такое желание поклоняться ей, как никогда, и мне казалось блаженством даже умереть пред ее очами. Я сжимал губы, чтобы не закричать ей: «Я тебя люблю, Гесперия!» – но она вдруг спросила:
– А как ты вошел сюда, Юний? Почему рабы тебя впустили в такой поздний час?
От стыда мои щеки покраснели, я отступил на шаг, я не знал, что говорить, а Гесперия продолжала спрашивать безжалостно:
– Откуда ты узнал тессеру? Ты ее где-нибудь подслушал? Тебе ее кто-нибудь сказал?
Что было мне говорить? Следовало лгать, придумывать объяснения, но перед Гесперией лгать я не смел. И, как бросаются в самую середину битвы, я вдруг упал на колени перед Гесперией, как перед святыней божества, и воскликнул:
– Гесперия, я должен тебе сознаться во всем! Случай выдал мне одну из твоих тайн. Я знаю, кто собирается в твоем доме и зачем. Я знаю, что ты, Симмах, Претекстат и Флавиан замыслили. Я знаю, кого вы назначили преемником Грациана. Но ты видишь, что, узнав эту тайну, я ее ото всех хранил, о ней ни перед кем ни одним словом не обмолвился. И верь мне, что я ее буду хранить свято, хотя бы меня подвергли пытке, – буду хранить не потому, что дал тебе клятву в этом, даже не потому, что ваше дело – это дело мое, это дело всех истинных римлян, но потому, что я тебя люблю, Гесперия, потому что для меня счастие – служить тебе.
Я сам не понимал, как я решился сделать последнее признание, но мною тогда владело то отчаяние побежденных, о котором говорит Вергилий: «Побежденным спасенье одно – не мечтать о спасенье!» Я ждал, что Гесперия рассмеется над словами безумного юноши или гневно мне прикажет замолчать, но, когда я поднял на нее глаза, я увидел в том полусвете, который нас окружал, что ее лицо кротко и печально. Она тихим голосом сказала:
– Ты также, бедный мальчик. Меня любить не должно. Я теперь все равно что мертвая статуя и более не буду любить никого. У меня сердце стало твердым, как камень. Ты разобьешься о него, бедный, как маленькая лодка о скалы Пахина. Теперь я люблю лишь одно: ту цель жизни, к которой я стремлюсь. Знай, что я более не женщина, и отойди от меня. Ты – живой и ступай к живым.
Но я, все стоя на коленях, продолжал говорить в безумии:
– Я не властен тебя не любить! Гесперия! Да, я – юноша, я – мальчик, и ты вправе мне сказать, что любовь юноши подобна зыби на реке, сменяющейся с каждым ветром. Но разве не бывает такой любви, которая приходит лишь один раз в жизни и узы которой нельзя разорвать до самой смерти? Я тебя полюбил не потому, что ты всех прекраснее в Риме, не потому, что ты была первая прекрасная женщина, которую я встретил, но потому, что так решили боги, и я тебя буду любить всегда, все годы моей жизни, – все равно, буду ли я близ тебя или далеко. Я знаю, что я тебя недостоин, что тысячи других, с которыми я не смею соперничать, тебя молят о любви. Но ведь я у тебя ничего не прошу. Я хочу только, чтобы ты мне позволила тебе поклоняться и тебе служить. Единственная награда, о которой я мечтаю, это – тебя видеть, большего мне не надо.
– Так все говорят, – сказала Гесперия.
– Пусть же в первый раз, – воскликнул я, – эти слова станут правдой! Любят не за то, что получают любовь, а потому, что так повелел в боях неодолимый Эрос. Энона продолжала любить своего Парида, им отвергнутая. Гемон умер у могилы своей Антигоны, хотя уже ничего не мог от нее ждать. И я буду тебя любить, хотя бы сердце твое и было, по твоим словам, каменным, хотя бы мне и предстояло умереть у твоих ног.
Тут Гесперия рассмеялась и мне ответила:
– Ты, Юний, опять увлекаешься. Ты все бредишь героями древних сказаний. Но уже пора тебе подумать, что мы живем не в век героев, но людей. Я не Лаконская Елена, и ради меня умирать не стоит.
– Хорошо, – сказал я, вставая с колен, – я более не буду докучать тебе признаниями любви. Я понимаю, что они тебе не нужны. Но не отвергай меня. Подумай: где ты найдешь более преданного служителя, нежели я? Ты говоришь, что любишь одно: далекую цель своей жизни. Позволь же мне помогать тебе, служить тому же, чему ты служишь. Я молод, но в молодости есть сила. Я неопытен, но отважусь на то, перед чем отступят мужи. Я тебя люблю и потому буду повиноваться каждому твоему слову, буду тебе верен, как самый честный раб. Доверься мне.
Все время мы говорили, стоя посреди атрия. После же моих слов Гесперия медленно отошла к стене, села в кресло и, опустив голову, задумалась. Я за ней последовал, продолжая свои настояния. Наконец она покачала головой и произнесла решительно:
– Нет, Юний, тебя я не могу вовлекать в наше дело. Мне жаль твоей молодой жизни и жаль твоей матери, которую я знала.
– Гесперия! – с отчаянием ответил я. – Я тебе признаюсь, какая мысль меня занимала эти последние дни. Поняв, что я тебя люблю, что эта любовь окончится лишь с моей жизнью и что счастия она мне дать не может, я хотел пойти на берег Тибра и броситься в воду. Юпитером клянусь, я так и сделаю, если ты меня отвергнешь. Если я не могу тебе служить, мне больше на этой земле нечего делать – ни теперь, ни после.
– Ты сам не понимаешь, о чем просишь, – сказала Гесперия. – Служить мне – значит отказаться от себя, отказаться от всех радостей и надежд, подчиняться мне, без колебания, хотя бы я приказывала тебе противное чести, служить тому, кому я повелю, хотя бы ты его презирал и ненавидел. Умереть за того, кого любишь, легко, но я потребую большего. Этого ли ты хочешь?
– Этого я хочу, – сказал я.
– Поклянешься ли ты, – спросила Гесперия, – не только никому, ни в дружеской беседе, ни перед палачом, не открывать того, что ты можешь узнать, но и никогда меня не спрашивать, зачем я что-либо делаю или приказываю исполнить? Поклянешься ли, что никогда во мне не усомнишься, не сделаешь ни одного возражения, не откажешься ни от какого дела, как бы страшным и даже постыдным оно тебе ни показалось?
– Клянусь, – сказал я твердо.
– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – ничего не скрывать от меня, сообщать мне о себе все, даже свои самые тайные мысли, клянешься ли, по моему приказанию, притворствовать и лгать, и убить человека, если я потребую, и украсть, если это будет нужно, и не побояться быть позором и посмешищем людей, если я этого захочу?
– Клянусь, – сказал я.
– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – никогда не просить у меня награды, чтобы ты для меня ни совершил, никогда не добиваться моей любви и своей любви ко мне не выражать ни одним словом, ни одним движением? Клянешься ли ты, если все-таки ты встретишь женщину, которая тебе понравится, покинуть ее по одному моему знаку, отречься от нее, отвергнуть ее?
– Клянусь, – сказал я.
– Поклянись еще, – добавила Гесперия, – что ты, если я тебе прикажу прийти к дверям моей спальни, когда я буду в ней со своим возлюбленным, и стать на страже, будешь охранять вход, как верный воин, что в тот час ты мой покой ничем не нарушишь и никому не позволишь переступить через порог.
– Клянусь, – сказал я с трудом.
– Клянись самой страшной клятвой, – потребовала Гесперия.
– Во всем, что ты от меня требуешь, – воскликнул я, – и во всем другом, что ты можешь потребовать, я тебе клянусь, Гесперия, клянусь Стиксом, – клятва, которой сами боги страшатся. И этой клятвой, снять которую не властны ни олимпийцы, ни подземные боги, я связываю себя на всю жизнь. Стиксом клянусь, Гесперия, тебе повиноваться, быть тебе верным и любить тебя до своей могилы и после, за вратами смерти.
Такую страшную клятву я произнес в пустынном и темном атрии не пред каким-либо алтарем, но пред ликом женщины, которая для меня была божеством. Выслушав мои слова, Гесперия тихо встала и мне протянула руку, и когда я ее поцеловал, сказала голосом строгим:
– Помни эту клятву, Юний. Я от тебя потребую ее исполнения от слова и до слова. Боги грозно отомстят тебе, если ты ее нарушишь. Но и я умею мстить тем, кто меня обманывает. Теперь уходи, уже поздно, и хотя ты мой родственник, но неприлично, что ты так долго остаешься в моем доме ночью.
– И ты ничего мне не прикажешь, – горестно спросил я, – ты не хочешь, чтобы я сейчас же начал свое служение?
– Ты мне поклялся ничего у меня не просить, – возразила Гесперия. – Когда будет надо, я тебя позову.
Я продолжал печально смотреть на Гесперию, но вдруг она, словно неожиданная мысль пришла ей в голову, быстро добавила:
– Впрочем, приди ко мне завтра, в полдень. Может быть, я тебе дам одно поручение.
Произнеся последние слова, она тотчас повернулась и вышла из атрия, а меня охватила безудержная радость, как если бы самые счастливые обещания мне были даны.
Мне хотелось целовать след ног Гесперии на мраморе пола, и казалось, что воздух атрия еще полон ее присутствием. Опомнившись, я пошел к выходу, растолкал сонного привратника, бегом пробежал через сад и через минуту уже был на улице. Ночной, почти безмолвный Рим, белые стены оград, смутные образы ближних домов, и белые громады отдаленных храмов, и самое темное небо в звездах, – все мне представлялось прекрасным. Я простирал к кому-то, может быть, к незримым богам, руки, невольно, словно пьяный, восклицал бессвязные слова и вслух говорил сам себе:
– У тебя опять есть жизнь, Юний! Ты счастливее всех смертных, потому что можешь служить Гесперии. Ты достиг всего, о чем смел мечтать, потому что она теперь знает о твоей любви. Как хорошо быть в Риме, где живет она, как хорошо быть под тем же небом, которое покрывает ее! Как хорошо дышать, и жить, и чувствовать любовь! Благодарю вас, бессмертные боги!
XVI
Был ровно полдень, когда на следующий день я подходил к дому Гесперии, так как не осмелился прийти раньше. У ворот я сошелся с Юлианием, который на меня посмотрел удивленно и спросил:
– Тебя Гесперия звала к себе сегодня?
– Да, звала, – ответил я.
– Конечно, я очень рад, милый Юний, – сказал Юлианий, – что ты сегодня будешь с нами, но все-таки меня удивляет, что Гесперия не спросила моего совета. Я тебя знаю за человека надежного, но она еще с тобой знакома мало.
В атрии нам пришлось дожидаться Гесперии, и Юлианий все время пытался от меня разузнать, почему я был позван сегодня, но я давал ответы уклончивые. Наконец появилась Гесперия, как всегда, одетая пышно, но при свете дня вовсе не похожая на ту ночную женщину, которой еще недавно я давал свои клятвы. Гесперия сказала нам:
– Вы оба будете нужны; я вам дам важные поручения.
– Значит, – спросил Юлианий, – ты Юния привлекла к нашему делу?
– Да, – строго ответила Гесперия, – я ему верю.
Не решившись возражать, Юлианий спросил, какое решение принято.
– Сенат вчера постановил, – ответила Гесперия, – послать к императору Симмаха с тем, чтобы он просил о восстановлении алтаря Победы. Но сейчас у меня в доме совещаются все наши, должно ли этим ограничиться.
– Может быть, мне следует идти к ним? – спросил Юлианий.
– Нет, – не без легкой насмешки ответила Гесперия, – они все обсудят одни. Ты дожидайся здесь. А ты, Юний, – добавила она, – иди со мной: мне надо с тобой говорить.
Я видел, как такой ответ был Юлианию неприятен, сам же я почувствовал себя опять счастливым, как увидевший родную Итаку Улисс, когда услышал этот зов Гесперии. Мне было довольно того, что она отличила меня перед Юлианием и захотела со мной говорить наедине, и я даже не задумался, каково может быть то поручение, о котором говорила Гесперия. Словно на крыльях Меркурия, я последовал за ней в уединенную комнату, полутемную, напоенную ароматом восточных благовоний, где Гесперия, заставив меня сесть и убедившись, что рабы не подслушивают, сказала мне так:
– Юний! Я ничего не делаю наполовину. Я тебе доверилась и хочу доверять вполне. Я хочу, чтобы ты все узнал, о чем только догадываешься. Я тебе открою все наши замыслы, так что в твоей воле будет погубить и меня, и многих других. Не перебивай меня: я знаю, что ты этого не сделаешь. Итак, слушай. Да, мы хотим спасти империю от той погибели, которую ей готовят последние императоры; да, мы хотим вернуть Риму то значение в мире, какое ему по праву подобает. Для этого мы должны взять власть в свои руки, уничтожив того Грациана, который сделался простой игрушкой в руках безумного. Амбросия, ненавидящего древнюю славу империи, заветы отцов и самих богов бессмертных. Да, с нами лучшие люди Рима; Претекстат, понтифик Солнца, посвященный во все сокровеннейшие мистерии, Флавиан, который сейчас при Феодосии, квестор священного дворца, Симмах, знаменитый писатель нашего времени. Видишь, Юний, я разоблачаю перед тобой наши тайны, я называю имена, я отдаю в твои руки нашу судьбу – потому что, если наши замыслы станут известны, нас ожидает одно: смерть! Отплати же и ты верностью за доверие.
Я мог бы возразить Гесперии, что она не прибавила ничего нового к тому, что накануне я сам сказал ей, не упомянула ни одного имени, кроме тех, которые я тоже называл. Но я под таким был очарованием ее близости и ее голоса, что в ту минуту мне казалось, будто она действительно решилась со мной быть до конца откровенной. И это сознание, что Гесперия смотрит на меня как на человека близкого, наполнило меня такой радостью, что я воскликнул:
– Говори мне все смело! Я – с тобой, я – с вами! Я готов на все, самое опасное, и никакая смерть меня не устрашит!
– Я в этом уверена, Юний, – продолжала Гесперия, – но слушай внимательно. Из тех людей, которых я назвала тебе, один Флавиан человек решительный. Под обличием придворного он скрывает сердце истинного римлянина, не боится опасности и согласен идти ей навстречу. Его нет в Риме, а другие не таковы: они любят рассуждать и действовать с уверенностью в успехе. Мы совещались сегодня утром, что нам должно предпринять после того эдикта, о котором ты первый мне сообщил ночью. Конечно, не в том дело, что оскорблен еще один из священных алтарей богов: мы были свидетелями за эти годы слишком многих таких оскорблений. Но повеление императора не может не вызвать волнения среди всех, еще почитающих заветы старины, и я прямо сказала, что должно этим волнением воспользоваться. Я предлагала немедля овладеть Городом, призвать верные нам легионы, Грациана объявить врагом отечества и выбрать нового императора. Присутствуй здесь Флавиан, он настоял бы на этом, но мои слова сочли за пустые мечтания женщины. Претекстат и Симмах повторяли, что мы не готовы к открытой борьбе, что у Грациана пока больше сил, чем у нас, и что преступно вовлекать империю в новую гражданскую войну. Эти доводы одержали верх, потому что люди всегда предпочитают согласиться с теми, кто советует помедлить… Решено удовольствоваться посольством от Сената к императору, которое, наверное, будет безуспешным… Однако я подчиниться такому решению не хочу. Долее медлить нельзя, потому что с каждым годом нас только крепче опутывают сети врагов. Надо быть смелым и помнить, что только тот может победить, кто не боится поражения. Одна против всех я хочу действовать, и ты в этом должен мне помочь, Юний!
Гесперия проговорила эту маленькую речь, может быть, заранее приготовленную, с таким искусством, как оратор в суде, но я мало вникал в ее доводы. С меня было довольно того, что Гесперия меня звала помочь ей, меня избирала из числа всех других, чтобы мне доверить свой замысел, и я сказал в ответ:
– Это то, чего я хочу! Дай мне служить тебе, и я буду счастлив! Приказывай, я буду повиноваться.
Гесперия села рядом со мной, ласково обняла меня одной рукой, а другой нежно стала гладить мое лицо и, наклонившись ко мне близко, тихим шепотом продолжала:
– Они рассчитывают умом, а мы с тобой хотим жить сердцем. Я люблю ту цель, к которой стремлюсь, а ты клялся мне, что любишь меня. Есть ли такое в мире, чего не могут сделать двое, если ими движет любовь? Вдвоем мы можем больше, чем они с помощью всех своих легионов. Надо только верить и не бояться смерти.
– Приказывай, – повторил я, почти изнемогая.
Запах ароматов и ласка Гесперии опьяняли меня, как самое сильное вино, и я дрожал, как в бреду. В тот миг я не отказался бы ни от чего, что могла потребовать от меня Гесперия, – и она это знала.
– Милый Юний! – прошептала она мне, словно нашептывая любовные признания, – я хочу, чтобы ты совершил дело трудное и страшное. Но после всего, что ты мне сказал, я не хочу обижать тебя, требуя с тебя малого. Для той, кого любишь, сладостно исполнить лишь то, что угрожает смертью.
– Умереть по твоему повелению – это счастье, – прошептал я, задыхаясь от нежного прикосновения руки Гесперии.
Гесперия осторожно отодвинулась от меня, взяла что-то со стола и сказала мне голосом более спокойным:
– Вот здесь две вещи: возьми их. Это кошелек с деньгами, а это – кинжал.
– Деньги? – переспросил я, вставая, изумленный. – Зачем мне брать у тебя деньги. Они мне не нужны.
– Я тебе это приказываю, – сказала Гесперия, нахмурив брови. – Они тебе будут нужны. Ты завтра поедешь с Симмахом в Медиолан.
Я растерянно смотрел на Гесперию, не понимая, какое отношение имеют ее слова к тому, что она говорила раньше, и слабо пробормотал:
– Неужели, после всех клятв, которые ты с меня взяла, ты просто хочешь меня от себя отослать?
– Юний! – строго возразила Гесперия, опять приближаясь ко мне. – Ты поклялся ни в чем мне не противоречить, ни о чем меня не спрашивать. Где же твои клятвы? Ты завтра поедешь в Медиолан с Симмахом.
– Я это сделаю, если ты приказываешь, – печально сказал я.
Гесперия опять приблизилась ко мне и опять шепотом добавила:
– В Медиолане Симмах произнесет перед Грацианом свою речь. Император, конечно, откажет ему, тогда… Тогда ты вспомнишь, что я тебе дала кинжал… Если Грациан умрет, если вся империя будет охвачена бурей, – а кто захочет признать его преемником ребенка Валентиниана? – само собой придет время действовать, и никто уже не скажет, что надо еще медлить, еще выжидать… Ты меня понял?
Я, наконец, все понял, и странное чувство, смешанное из радости и ужаса, наполнило мою душу. А Гесперия стояла предо мной со строгим выражением лица, прекрасная, как Калипсо, и смотрела мне прямо в глаза. Я опять упал перед ней на колени и произнес:
– Ты посылаешь меня на смерть!
– Да, – отвечала она, – может быть, на смерть.
– Я исполню, что буду в силах, клянусь богами, – сказал я.
– Я знала, что ты согласишься, – произнесла Гесперия.
И вдруг, став, подобно мне, на колени, она охватила обеими руками мои плечи, быстро приблизила ко мне свое лицо и свои губы наложила на мои. Был поцелуй, который, казалось, проник в самую глубину моего существа, такой длительный и сладостный, что я почти потерял сознание. На один миг я не знал, еще живу ли я среди людей или уже отдан тому последнему блаженству, которое, по учению новых философов, встречает достойные души в минуту смерти, в минуту их слияния с Вечным…
Когда я очнулся, Гесперия вновь стояла предо мной такой же строгой, какой была, когда произносила свою искусную речь. Она протягивала мне кошелек и кинжал и говорила:
– Возьми и помни.
Я безвольно взял в руки переданные мне вещи.
– Теперь ступай и пришли ко мне Юлиания.
Я вышел, почти шатаясь, добрался до атрия и, не слушая, о чем меня спрашивал Юлианий, грубо сказал ему:
– Ступай к Гесперии!
Долгое время прошло, пока я вполне оправился: все мое воображение было заполнено поцелуем Гесперии, и мне казалось, что я все еще чувствую прикосновение ее губ на моем лице. Понемногу рассудок вернулся ко мне, и я даже стал думать, что, вероятно, в эту самую минуту она совершает то же, что со мной, с Юлианием, а может быть, и нечто большее…
Но тут послышался шум шагов, и в атрий вошло все общество, бывшее в доме Гесперии: она сама, ее муж, Юлианий и несколько человек, раньше мне незнакомых, среди них – Претекстат и Симмах, оба в сенаторских тогах.
Претекстат был уже дряхлый старик с лицом Катона, согбенный летами, но казавшийся высоким и повелительным. Нельзя было, видя его, не почувствовать к нему уважения. В Симмахе я узнал того посетителя Гесперии, которого не раз наблюдал во время своих ночных вигилий перед ее домом. Симмах был строен, высок, с благородным лицом, но было в его движениях что-то женственное.
Первым ко мне подошел Элиан, который сказал мне:
– Итак, Юний, ты хочешь помогать нам. Но ты должен знать, что мы не замышляем ничего дурного против божественного императора. Мы хотим только остеречь его от тех дурных советников, которыми он окружен. И запомни еще, что мы умеем наказывать тех, кто нам изменяет. У нас, как и у императора, везде есть очи и уши. И прежде всего ты должен в доме дяди молчать обо всем, что здесь услышишь. Старик Тибуртин человек достойнейший, но порой бывает откровенен с теми, с кем не следует. Если же ты будешь нам верен, мы твою судьбу устроить сумеем.
Элиан мне был давно ненавистен, и выслушивать от него советы мне было нестерпимо. Я постарался с достоинством ответить, что хочу служить их делу только потому, что считаю его своим, чту богов и люблю Вечный Рим. Элиан мои слова принял как пустые речи ученика реторов, но старик Претекстат в ответ одобрительно закивал головой.
– Верно, верно, юноша, – сказал он. – Прежде всего должно чтить богов бессмертных. И не столько следует страшиться человеческих угроз, сколько их кары. На страшные муки обрекают подземные судьи оскорбителей святынь. Флегия и Иксиона вспомни, какие они испытывают в Тартаре мучения. От всех грехов очиститься можно достодолжными жертвами, только оскорбителя богов не очистят никакие обряды.
Во время такого разговора я чувствовал себя маленьким мальчиком среди взрослых, но, по счастию, обратился ко мне Симмах, заговоривший деловым голосом:
– Мне Гесперия сказала, что ты поедешь со мной, Юний. Приготовься же, так как мы выезжаем завтра утром. Приходи ко мне, а я живу на Целии, в третьем часу и принеси свои вещи, а также захвати с собой дощечки и стиль; я не беру с собой писца, и ты будешь записывать, что я тебе буду диктовать.
После этого мужчины продолжали говорить о посольстве Симмаха, и меня изумляло, как мало внимания они оказывали Юлианию, который постоянно старался вставлять и свои замечания. Между тем Гесперия, отозвав меня в сторону, сказала мне:
– Тебе здесь больше нечего делать, Юний, уходи. Ступай по улицам, на форумы, в термы и везде слушай, что говорят о эдикте Грациана. Тебя никто не знает, и при тебе остерегаться не будут. Все, что услышишь, ты передашь Симмаху. О том же, чтобы тебе дано было право выехать из Города, мы позаботимся. Прощай.
– И больше я тебя не увижу? – жалобно спросил я.
Гесперия посмотрела на меня взглядом, в котором мне хотелось прочесть обещание чего-то особенного, и ответила:
– Если ты вернешься, исполнив мое поручение, ты меня увидишь.
Она отвернулась и отошла от меня, а я незаметно для других вышел из дома.
XVII
Забежав к себе домой, чтобы переодеться и спрятать деньги и пугион, данные мне Гесперией, я в точности исполнил ее приказание.
Я опять бродил по улицам и толкался среди толпы на всех форумах, но, к моему удивлению, нигде не было речи о вчерашнем повелении императора. Вся обычная жизнь Города шла своим порядком. Менялы отсчитывали деньги, покупатели торговались в лавках, щеголи показывали свое умение носить тогу или разные азиатские одежды, в углах форумов бедняки, сидя на мостовой, играли в кости, таберны были полны и шумны. Говорили обо всем, что занимало Рим и вчера, и третьего дня, словно никто и не знал об эдикте императора, о ночном заседании Сената, о негодовании лучших людей империи. Впрочем, я заметил среди народа немалое число подозрительных лиц, одетых и богато, и бедно, которые, подобно мне, прислушивались ко всем беседам, охотно вмешивались в чужие разговоры, я думаю, что не ошибся, приняв их за императорских соглядатаев.
Не узнав ничего на форумах, я пошел в термы Диоклетиана, в которых еще ни разу не был. В другое время мое внимание привлекли бы поразительная роскошь их убранства, великолепная мозаика полов, строгость высоких колонн, роспись стен и дивные создания древнего искусства, собранные там волею их строителя. Но в тот день мне некогда было любоваться на мрамор и на статуи, на хитрые украшения, которыми отличалась каждая из многих сотен комнат, образующих эти термы: я добивался одного – услышать, что говорят граждане о судьбе алтаря Победы. Так как время года было уже холодное, то писцина была почти пуста, большинство посетителей, которые пришли не в библиотеку, спешило перейти из фригидария в тепидарий, и его громадный зал был полон распростертыми на мраморных скамьях голыми телами, около которых хлопотали прислужники, усердно растиравшие их руками и бронзовыми стригилями.
Я также позвал мальчика, чтобы он растер меня, и выбрал место около двух тучных мужчин, со сладострастием предававшихся наслаждениям бани и неумолчно разговаривавших друг с другом. На этот раз я попал удачно, так как речь точно шла об алтаре Победы, хотя говорившие и остерегались быть особенно откровенными в общественном месте.
– Слава Господу Иисусу Христу, – говорил один из лежавших, подставляя под стригиль свои плечи, – может быть, теперь легче будет дышать в Городе, не правда ли, Соллерст? Только в одном Риме, во всей империи, и уцелели эти нечестия. Куда ни пойдешь, везде встречаешь соблазн: храмы идолам открыты, а в нос так и бьет проклятый дым от жертвоприношений.
– Ну, нет, милый Меробавд, – возражал Соллерст, повертываясь толстым животом вверх, – зачем стеснять верования других? Пусть каждый молится, как ему угодно: Божество одно для всех, хотя бы Его и почитали под обликом гнусных идолов.
– Как бы не так, – ответил Меробавд, черты лица которого выдавали его германское происхождение, – ты думаешь, греха нет кланяться ложным богам? Это – ересь, мой милый, смертная ересь. За такие мысли и от церкви отлучат. А что же святые мученики, которые пострадали за то, что не хотели поклоняться кумирам? Нет, мы воистину должны прославлять божественного императора за то, что он спасает нас от соблазнов. Дома у себя молись хоть чурбану, если тебе этого хочется, а ведь это стыд и позор был, что в самой Курии курили фимиам бездушной статуе.
Меробавд после своей речи сел на скамье и спросил служителя:
– А ты, любезный, что думаешь об императорском эдикте?
– Светлейший муж, – ответил тот, – как мы можем рассуждать о святости императора? Скажу только, что давно пора все эти богомерзкие статуи разбить молотком да побросать в Тибр. По улицам стыдно ходить – столько их в Городе наставлено.
– Хорошо рассуждаешь – сказал Меробавд, – ну, разотри мне теперь бока.
Некоторое время слышался только звук стригиля, очищавшего кожу почтенного германца, и его довольное сопение. Потом Соллерст, желавший, вероятно, несколько переменить разговор, спросил:
– А правда ли, что Сенат единогласно постановил послать посольство к императору и просить о восстановлении алтаря?
– Уж и единогласно! – возразил Меробавд. – Вовсе не единогласно, а лишь малым большинством голосов. Да и то потому, что сенаторы-христиане не пошли в Курию. Прилично ли им было идти и обсуждать прямую волю императора, которой должно повиноваться. Кроме того, ты знаешь, что за люди эти идолопоклонники: будешь им возражать, а они изобьют, хотя бы то было и в Курии. Ну, да кончились их веселые дни, это ясно.
– Ох, – произнес Соллерст, вставая, – пойдем попаримся в калдарии, натремся маслом, да пора и обедать.
Охая от удовольствия, оба разговаривавших направились в другую комнату. Скоро и я последовал за ними, но уже не разыскал их в большой толпе. Служители не преминули сообщить мне, что у них есть красивые мальчики и отдельные комнаты; я, однако, от таких услуг отказался. Наскоро закончив все, что полагается делать в термах, умастив тело в элеотезии, что было нелишнее перед предстоящей мне дорогой, я вышел на улицу.
Еще около часу я безуспешно ходил по Городу, наконец вернулся в дом дяди.
Здесь меня ждало несколько неприятных встреч.
Прежде всего меня остановила тетка, видимо, уже предупрежденная Гесперией о моем отъезде.
– Ты что же это, Юний, задумал? – сказала она мне. – Твои родители поручили мне тебя, чтобы я наблюдала за тобой, как мать, а ты со мной и посоветоваться не захотел? Тебе учиться нужно, чтобы после деньги зарабатывать, а ты вмешиваешься в дело, тебя не касающееся, да и не по своему уму. Что ты на дядю смотришь: он всегда был глуп и только и умеет, что проживать отцовские имения. Ну, да ведь он – сенатор, его тронуть, может быть, и не посмеют, а тебе свернут шею, как цыпленку. Что захотел, – ехать к императору!
Я возразил решительно:
– Ты знаешь взгляды моего отца. Я уверен, что он мой поступок одобрил бы. И нет ничего дурного в том, что я еду писцом при таком знаменитом человеке, как Квинт Аврелий Симмах. В его обществе я только могу научиться хорошему.
– Тоже бездельник твой Симмах, – ответила мне тетка. – Послушай-ка, что о нем говорит отец Никодим. Что Симмах сочиняет сладенькие письма, от которых иные женщины с ума сходят, еще не значит, что он знаменитый человек. Просто – болтун, который до седых волос за женщинами бегает, хотя у него своя семья, жена и дети. Доброму от него не научишься!
Освободившись кое-как от выговоров тетки, я наткнулся на поджидавшую меня Намию.
– Братик, – спросила она строго, – ты помнишь свое вчерашнее обещание?
– Милая сестрица, – ответил я, – ты слышала, что за это время случилось. Я ни о чем другом не могу думать. Ведь дело идет о благе всей империи. Когда я вернусь из Медиолана, я, клянусь Юпитером, отвечу тебе на все твои вопросы.
– Я понимаю, что это значит, – сказала мне Намия. – Так всегда говорят, когда не хотят прямо ответить. Но я теперь знаю, что мне должно делать.
Не дав мне сказать ни слова более, Намия скрылась, а я, постояв несколько мгновений в нерешительности, должно ли следовать за ней, решил было пройти в свою комнату, когда подбежал Мильтиад и сказал мне, что меня зовет дядя.
Дядю я застал весьма расстроенным – видно было, что он выпил вина больше обыкновенного; меня он встретил такими словами:
– Все погибло, племянник! Мы были римляне, был Рим и великая слава народа римского. Увидел я вчера в Курии, что нет более доблести в Городе. Все перепугались, как школьники; все сенаторы оказались трусами. Я слышал, что ты едешь с Симмахом, но я тебе этого делать не советую. Все это посольство схватят и бросят в темницу, и тебя в том числе. И скажу тебе, что сам я в Риме оставаться не намерен. Завтра же собираю свои вещи и еду куда-нибудь в Малую Азию, чтобы обо мне забыли. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову или сослали меня на какой-нибудь пустынный остров.
– Что ты, дядя, – возразил я, – разве можно быть столь малодушным. Тебе ничего не угрожает. Не казнят же всех сенаторов сразу.
– Все возможно в наш век, – ответил мне Тибуртин. – Разве ты забыл, как сто лет назад казнил Аврелиан! Палачи устали рубить головы сенаторам и всадникам. А при Констанции еще большее число нобилей было тайно задушено в тюрьмах. Да и Валентиниан не щадил нас, хотя он был истинный римлянин, несмотря на то что христианин. Доживу ли я еще до завтрашнего дня? Почему я знаю: может быть, моим рабам уже приказано удавить меня ночью. Я к себе в спальню боюсь идти.
Долго я успокаивал почтенного сенатора, который был так напуган, что каждую минуту просил посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь у двери. Наконец, когда нами был выпит еще секстарий кипрского, я отвел дядю, совсем пьяного, на ложе и с помощью верного Мильтиада уложил спать. Все же Тибуртин заплетающимся языком еще попросил меня положить около него меч, которым владеть он, вероятно, не умел.
– Если придут убийцы, – сказал он, засыпая, – я брошусь на свой меч… как Брут…
Только после всех этих происшествий я добрался до своей комнаты. Мне предстояло собраться в путешествие, и я долго раздумывал над тем, что мне делать с пурпуровым колобием, спрятанным на дне моего дорожного ларя. Оставить его в доме дяди мне казалось неосторожным, и я решил, что всего лучше везти его с собой, вместе со всеми другими вещами. Я захватил в дорогу также все свои деньги и лучшие одеяния.
На другой день рано утром я приказал рабу нести свои вещи на Целий, в дом Симмаха. Проводить меня вышла только одна тетка, которая на прощание сказала мне еще несколько язвительных упреков:
– Отец тебе деньги дал на учение, а не на путешествия. Сначала наживи свои, а потом трать их по своему желанию.
– Я не истрачу ни асса своих денег, – возразил я, – обо всем позаботится Симмах.
Это несколько успокоило тетку, и она добавила:
– Ну, кто знает, может быть, это путешествие тебе и на пользу будет. Там при императорском дворе прославленный Амбросий. Если только удостоишься ты того, чтобы его видеть, наверное, ты обратишься к истине; это человек святой.
В доме Симмаха на Целии, одном из тех четырех домов, которыми владел он в Городе, строении роскошном и замечательном, застал я уже все готовым к отъезду. Симмах, в дорожном плаще, прощался с женой, Рустицианой, женщиной уже не молодой, и детьми, из которых младший сын был на руках у кормилицы. Вся семья, клиенты и рабы столпились в атрии, и многие плакали, словно провожая хозяина в опасный военный поход.
У дверей дома стояло несколько каррук и повозка, нагруженная вещами, к которым я присоединил и свой ларь. Симмах позвал меня сесть с ним рядом, в последний раз сказал несколько слов домашним, все его спутники также разместились по местам, и дан был знак ехать. Лошади побежали по мостовой, рабы с криками расталкивали впереди толпившийся народ, провожая нас до городских ворот. Быстро промелькнули уже знакомые мне улицы, дома, храмы, стены форумов и возвышавшиеся над ними дворцы Палатина. Еще раз взглянул я в ту сторону, где стоял дом Гесперии, и, миновав Фламиниевы ворота, мы выехали за город.
Я под плащом сжимал рукоятку кинжала, данного мне Гесперией.
Книга вторая
I
Наш маленький поезд состоял из двух каррук, одной простой реды и повозки с вещами. В первой карруке ехал со мной Симмах, во второй – два других сенатора, согласившихся участвовать в посольстве, Пробин и Оптат, в реде – те рабы и служители, которых сочли нужным взять с собой в дорогу.
Оказавшись рядом с таким человеком, как Симмах, я, разумеется, первое время чувствовал себя крайне стесненным. Мое смущение увеличивалось еще тем, что до того времени мне не приходилось ничего читать из прославленных сочинений Симмаха. Он же сначала также держал себя со мной высокомерно, почти не удостаивая меня разговора, и мне оставалось только молча наблюдать памятники, окаймляющие Фламиниеву дорогу, а после однообразные виды южной Этрурии.
Однако понемногу Симмах убедился, что я не так недостоин его беседы, как ему первоначально казалось, и, когда я выказал некоторое знание римской литературы, он охотно стал со мной делиться своими мыслями. Так мы заговорили о моем соотечественнике, уроженце Галлии, славном поэте Дециме Магне Авсонии, которого Симмах знал лично, встретившись с ним при дворе Валентиниана в Тревирах, и Симмах мне сказал:
– Это прекрасный поэт, стихи которого насыщены лучшими образцами древности, но последний поэт римский. Камены, которых приманил в Лациум гений Горация, покидают страну, им негостеприимную. Умирает самый язык латинский, из которого варвары, заполнившие империю вплоть до Сената, сделали новое наречие, звучащее грубо и дико. Погибает знание литературы древней, старые рукописи гниют ненужные в библиотеках, и писцы заняты переписыванием нелепых измышлений разных христианских лжефилософов. Исторические сочинения заменены краткими извлечениями, вместо новых поэм нам предлагают центоны, составленные из стихов Вергилия, ораторам более негде произносить их речи, и поэты тратят свое время на сочинение гимнов в оправдание божественности Христа. Мы – последнее поколение римлян, которым дано наслаждаться великими богатствами нашего прошлого и принести последние камни, чтобы довершить великолепное здание нашей истории. Нам на смену придут люди, которым речь Ливия или Цицерона уже не будет понятна, которые над темными для них преданиями предков будут смеяться, и мир вернется в тот хаос, из которого вывели его основатели империи – Цезарь, Август, Траян.
Эта безутешная речь Симмаха крайне меня поразила, и я со всем должным уважением спросил его:
– Светлейший муж! Почему же ты, думая так, предвидя близкое падение Рима, принимаешь на себя его защиту, едешь сейчас к императору просить о восстановлении в Курии алтаря Победы? Не все ли равно, будет осуществлен эдикт Грациана или нет, если в конце концов римской славе суждено погибнуть? Стоит ли делать какие-либо усилия, если, по твоему мнению, в лучшем случае можно лишь на несколько лет отсрочить гибель?
Симмах внимательно посмотрел на меня своими умными и добрыми глазами, откинулся в глубь карруки и потом, словно нехотя, несколько ленивым голосом ответил мне:
– Видишь ли, Юний, если Риму и суждено погибнуть, он должен погибнуть с достоинством: слишком прекрасно и величественно было его прошлое, чтобы можно было допустить его до унизительного конца. То, что я сейчас говорю тебе, я обыкновенно таю от всех и считаю преступлением разглашать. Наше дело – до последней минуты оберегать величие Древнего Рима. Мы как бы хранители прекрасного, но ветхого храма; мы знаем, что балки в нем подгнили, что стены угрожают падением; но мы не даем этого увидеть непосвященным. Пусть в прежней красоте стоит перед взорами всех славное здание, и пусть не распадется оно по частям, но сразу рухнет, погребая весь мир под развалинами… Когда приходилось мне стоять у власти, – а я был, как ты знаешь, корректором Лукании и Бруттия, проконсулом Африки и занимал немало других важных должностей, – я всегда требовал, чтобы все обычаи старины исполнялись строго. Так, например, когда я, будучи понтификом Весты, узнал, что одна весталка в Альбе нарушила свой обет, я настоял, чтобы, по древнему закону, ее живой опустили в могилу. Я старался, чтобы все, что нам завещали века, было сбережено благоговейно, и не позволял дерзновенной руке современности посягать на седины обычая. Я буду до конца моих дней беречь святыню нашей древности и золотому Риму готовить красивую смерть.
Впервые мне приходилось слышать такие речи, и притом их произносил тот, от кого я всего менее мог ожидать подобных предсказаний. Я привык, напротив, когда заговаривали о судьбе империи, выслушивать горделивые панегирики ее мощи, ее новому расцвету, ее вечности. И, несмотря на все мое почтение перед моим знаменитым собеседником, я не мог ему не ответить:
– Нет, я не верю в твои печальные пророчества! Рим вечен, и нет в мире такой силы, которая могла бы его сокрушить. Уж не германцы ли или не скифы ли придут в Город, чтобы владеть его землей, – те самые, которые способны только на грабежи пограничных областей и, едва увидев блеск образованности римской и силу империи, бывают счастливы вступить в ряды легионеров или добиться звания гражданина? Уж не безумие ли христиан, которое на время отуманило столько голов, будет способно затмить в римлянах тот их ясный ум и те их способности, которые были вскормлены тысячелетием? Тяжелые годы пройдут, как туча, подобно тому, как не раз проходили жестокие бури над империей, и опять встанет наш Древний Рим в неизменном величии, как глава вселенной. Не читаем ли мы даже на монетах надпись: Вечный Город. Вечным ему и судили быть бессмертные боги!
Так и подобным образом разговаривая, мы подвигались вперед по Фламиниевой дороге, которая по своей прочности и прекрасному устройству может быть причислена к удивительнейшим сооружениям древности. Сначала мы беспрестанно обгоняли прохожих и проезжих, потом путешественники стали встречаться реже, наконец наш поезд оказался одиноким среди зимних полей, пересеченных прямым, как тетива лука, каменным путем. После почти четырех часов беспрерывной езды мы решились остановиться у одной мансионы, чтобы отдохнуть и переменить лошадей.
То было небольшое двухэтажное строение, окруженное конюшнями и другими пристройками, неприятного и угрюмого вида. Перед домом стояло немало разных повозок и толпилось много людей, очевидно путешественников, ожидающих лошадей и мулов. В открытую дверь была видна обширная комната, тоже полная людей, проводивших вынужденный досуг за кубками вина. Несколько в стороне лежало красивое этрусское селение, с домиками в греческом вкусе, окруженными садами, и все опоясанное невысокой стеной.
Наши рабы поспешно бросились в дом, чтобы предупредить начальника мансионы о том, какие выдающиеся гости приехали к нему, а мы остались перед входом, расправляя члены тела, утомленные от долгого сидения.
– Я так устал, – сказал Симмах Оптату, – что готов отказаться от всей поездки и отсюда вернуться в Город.
Вид у Симмаха действительно был очень утомленный, он как-то согнулся и словно с трудом передвигал ноги.
– Однако ты привык к дальним путешествиям, – возразил Оптат, – ездил на Рейн и в Африку и бессчетное число раз через всю Италию.
– И всего больше я ненавижу путешествия, – возразил Симмах. – В течение многих дней быть лишенным и бани, и книг, испытывать утомление и однообразие пути – это худшее наказание, какое можно выдумать. Из всех смертных я всего более жалею о вечном путешественнике, Адриане.
Между тем появился мансионарий, человек суровый, с чертами лица этрусскими и говоривший с этрусским выговором. Этот разен, как по сю пору именуют себя этруски, приветствовал наше общество весьма почтительно, предложил нам войти в лучшие комнаты дома, но в то же время определенно заявил, что лошадей у него нет.
– Передай ему, Юний, – сказал Симмах, не желавший разговаривать с мансионарием лично, – что мы едем по повелению Сената. Мы – послы Сената, и нам он обязан дать лошадей немедленно.
Оптат для большей убедительности показал мансионарию диплому на проезд, выданную Сенатом, но этруск остался непоколебим.
– Я назначен, – возразил он, – по повелению божественного императора августа Грациана и обязан лошадей давать лишь тем проезжим, которые представят повеление от префекта или магистра оффиций.
– Негодяй! – закричал Симмах. – А разве Сенат существует не по воле императора! Знаешь ли ты, что я сейчас напишу префекту и тебя за твое ослушание завтра же бросят в тюрьму! Клянусь Юпитером, несдобровать тебе, если будешь упорствовать!
Этруск при имени отца богов быстро перекрестился и ответил:
– Светлейший муж! Я верно служу императору, и меня префекту не за что отправлять в тюрьму. А лошадей у меня нет, потому что последних я отдал сегодня послам епископа Римского.
Оптат и Пробин убедили Симмаха войти в дом отдохнуть, надеясь, что им удастся уговорить упрямого этруска. Мы поднялись во второй этаж, где нашлись сравнительно хорошие комнаты и где рабы тотчас стали готовить нам обед. Симмах был по-прежнему раздражен и в негодовании повторял:
– В каких-нибудь двадцати милях от Рима с послами Сената обращаются как с первыми встречными! Первая должность, которую я буду себе просить, это – префектура Италии, и тогда я научу этих потомков лукумонов уважать звание сенатора!
Вскоре появился Оптат, принесший известие важное. Оказалось, что утром, опередив нас, по той же дороге уже проехало посольство от сенаторов-христиан, направлявшееся также к Грациану. В великой тайне сенаторы-христиане собрались накануне у епископа Римского Дамаса, составили письмо к императору о том, что решение Сената было принято насильственно, и поспешили отправить послов в Медиолан.
Симмах при таком известии сразу лишился своей твердости и своего мужества. Странно было видеть, как после слов Оптата мгновенно изменилось лицо Симмаха, как он, почти в бессилии, упал на скамью и оставался некоторое время неподвижным, словно пораженный молнией Юпитера. Потом унылым голосом он произнес:
– Если это так, то нам всего лучше немедленно вернуться в Город.
– Помилуй, – возразил Оптат. – Напротив, тем более нам ехать необходимо и должно поторопиться, чтобы опередить епископское посольство.
– Нет, – ответил Симмах, – я теперь знаю, что наше дело проиграно. Мы живем в такое время, когда слушают только христиан. Быть христианином в наши дни – это средство получать милости двора. И если к императору явятся два посольства, одно – с именем Сатурния, другое – Христа на устах, нет сомнения, что благосклонно будет принято только последнее. А Дамаса я знаю: это человек лукавый и неукротимый; чего он хочет, того всегда добьется.
Уныние, овладевшее Симмахом, не помешало ему, как, впрочем, всем нам, хорошо пообедать, тем более что местное, фалернское, вино было превосходно. После обеда Оптат отправился опять разговаривать с мансионарием и в конце концов, с помощью разных угроз и обещаний, добился того, что тот дал нам лошадей. Как я подозреваю, он с самого начала был уверен, что уступит, и только, исполняя чей-то тайный приказ, старался нас задержать сколько мог дольше.
Переменив лошадей, мы все же подвигались далее довольно медленно, так как позднее время года значительно испортило дорогу. С каждой новой милей я чувствовал все большее и большее утомление, Симмах, по-видимому, тоже, и наши с ним беседы прекратились. Думать о том, что ждало меня в Медиолане и что мне представлялось чем-то смутным и страшным, мне не хотелось, и я предпочел дремать. Было совсем темно, когда мы добрались до города Старые Фалерии, где было решено переночевать.
Попав в гостиницу, я думал, что мне позволено будет тотчас подставить свою голову под сладкие маки Морфея, но Симмаху, который перед тем казался совершенно изнеможенным, именно тогда пришло желание работать. Он позвал меня к себе в комнату, велел подать свет и начал мне диктовать письма. Почти засыпая, непослушной рукой выводил я буквы на воске, и стил едва не выпадал из моих пальцев.
Поразило меня то, что Симмах, который говорил даже в небрежной беседе чрезвычайно красноречиво, начиная диктовать, едва ли не вполовину утрачивал всю яркость своей речи. Все же в первоначальном наброске письма еще находилось немало блестящих выражений, смелых оборотов и красивых сравнений. Однако, продиктовав письмо вчерне, Симмах начинал его исправлять, преимущественно выкидывая слова, ему казавшиеся лишними, и сокращая несколько предложений в одно. Понемногу от письма оставалось всего несколько строк, по большей части сухих и холодных, хотя и написанных с изяществом и безукоризненным латинским языком.
– Я должен заботиться о своих письмах, – как бы извиняясь, сказал мне Симмах, – это, вероятно, единственное, что сохранится от меня как писателя. Уже теперь есть лица, которые собирают мои письма, словно письма Цицерона или Плиния, и составляют из них сборники для потомства. Знаешь ли, случалось, что моих рабов, отправленных с письмами, схватывали по дороге особо посланные люди не с целью грабежа, а только затем, чтобы списать мое письмо и список доставить своему господину.