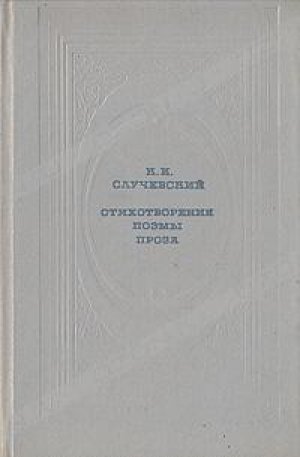
Ранние стихотворения
Ночь
«Я видел свое погребенье…»
В мороз
Из Гейне
На кладбище
«Ходит ветер избочась…»
«Ночь. Темно. Глаза открыты…»
Думы
«Да, я устал, устал, и сердце стеснено…»
«Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед…»
Невменяемость
Нас двое
«Когда бы как-нибудь для нас возможным стало…»
«За то, что вы всегда от колыбели лгали…»
В больнице всех скорбящих
Lux Aeterna[1]
В Киеве ночью
На публичном чтении
«Я задумался и — одинок остался…»
Будущим могиканам
«Кто вам сказал, что ровно половина…»
«Где только крик какой раздастся иль стенанье…»
«Где только есть земля, в которой нас зароют…»
«Край, лишенный живой красоты…»
На судоговоренье
Воплощение зла
В костеле
На рауте
В театре
«Да, трудно избежать для множества людей…»
Женщина и дети
«Будто месяц с шатра голубого…»
«Ты сидела со мной у окна…»
«О, в моей ли любви не глубоко…»
«Мне ее подарили во сне…»
Невеста
«Я ласкаю тебя, как ласкается бор…»
«Тебя он в шутку звал старушкой…»
В бурю
«Вот она, моя дорога…»
«В костюме светлом Коломбины…»
«Во всей красе, на утре лет…»
«В красоте своей долго старея…»
«Часть бесконечности — в прошлое год закатился…»
«Слышишь: поют по окрестности птицы…»
Облик песни
Колыбельная песенка
Не может быть
«Словно как лебеди белые…»
Песня лунного луча
«О, если б мне хоть только отраженье…»
«Погас заката золотистый трепет…»
«Ты нежней голубки белокрылой…»
«Когда, приветливо и весело ласкаясь…»
«Я люблю тебя, люблю неудержимо…»
Разлука
«Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое…»
«Весла спустив, мы катились, мечтая…»
«Возьмите всё — не пожалею…»
Из чужого письма
Приди!
Лирические
«Дай мне минувших годов увлечения…»
Бандурист
Разбитая шкуна
«Наш ум порой, что поле после боя…»
«В немолчном говоре природы…»
Кариатиды
На мотив Микеланджело
Миф
На плотине
Карфаген
Ночь и день
«В душе шел светлый пир. В одеждах золотых…»
Молодежи
«Шли путем неведомым…»
«По небу быстро поднимаясь…»
Подле сельской церкви
Камаринская
Спетая песня
Про старые годы
«Где нам взять веселых звуков…»
«Ох! Ответил бы на мечту твою…»
Прежде и теперь
«Когда обширная семья…»
«Нет, жалко бросить мне на сцену…»
Старый божок
«О, не брани за то, что я бесцельно жил…»
На чужбине
«Вдоль бесконечного луга…»
«Мне грезились сны золотые…»
Искусственная развалина
Мгновения
«Каждою весною, в тот же самый час…»
Зернышко
«Что вы, травки малые, травки захудалые…»
«Градины выпали! Счета им нет…»
«Последние из грез, и те теперь разбились…»
«Из твоего глубокого паденья…»
Кукла
«Где бы ни упало подле ручейка…»
«Рано, рано! Глаза свои снова закрой…»
«Отдохните, глаза, закрываясь в ночи…»
«Он охранял твой сон, когда ребенком малым…»
Черноземная полоса
А.А. Коринфскому
«Полдневный час. Жара гнетет дыханье…»
«Сколько мельниц по вершинам…»
«Помню пасеку. Стояла…»
«В отливах нежно-бирюзовых…»
«Утихают, обмирают…»
«Чернеет полночь. Пять пожаров…»
«Есть, есть гармония живая…»
«По крутым по бокам вороного…»
«Заросилось. Месяц ходит…»
«Устал в полях, засну солидно…»
«По завалинкам у хат…»
«Гром по лесу. Гуляет топор…»
«Выложен гроб лоскутками…»
«Нет ограды! Не видать часовни…»
Мурманские отголоски
С.С. Трубачеву
«Будто в люльке нас качает…»
«Цветом стальным отливают холодные…»
«Перед бурей в непогоду…»
«След бури не исчез. То здесь, то там мелькают…»
«Здесь, в заливе, будто в сказке…»
«Доплывешь когда сюда…»
«Снега заносы по скалам…»
«Какие здесь всему великие размеры…»
«Здесь, говорят, у них порой…»
«Взобрался я сюда по скалам…»
«Из тяжких недр земли насильственно изъяты…»
«Хоть бы молниям светиться…»
«Когда на краткий срок здесь ясен горизонт…»
Из природы
На реке весной
Рассвет в деревне
«Старый плющ здесь ползет…»
В листопад
Мало свету
Снега
Тучи и тени
Осенний мотив
Утро
Жальник
А.П. Милюкову
Утро над Невою
Наши птицы
Прощание лета
Мефистофель
Мефистофель в пространствах
На прогулке
Преступник
Шарманщик
Мефистофель, незримый на рауте
Цветок, сотворенный Мефистофелем
Мефистофель в своем музее
Соборный сторож
В вертепе
Полишинели
Из дневника одностороннего человека
«Из Каира и Ментоны…»
«Да, нынче нравятся Записки, Дневники…»
«Что, камни не живут? Не может быть! Смотри…»
«Не стонет справа от меня больной…»
«Если вспомнить, сколько всех народов…»
«Дни и ночи жизни…»
«И они в звуках песни, как рыбы в воде…»
«Смотрите: после свистопляски…»
«Еду по улице: люди зевают…»
«Проповедь в храме одном говорилась…»
«Вот новый год нам святцы принесли…»
«Я сказал ей: тротуары грязны…»
«Мы все немножко скакуны с рожденья…»
«Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз…»
Песни из «Уголка»
(1895–1901)
Посвящаются А.А. Коринфскому и Н.А. Котляревскому
«Мы — разных областей мышленья…»
«Здесь счастлив я, здесь я свободен…»
«Как ты боишься привидений…»
«Какая ночь! Зашел я в хату…»
«Воспоминанья вы убить хотите…»
«Дайте, дайте мне, долины наши ровные…»
«Часто с тобою мы спорили…»
«Пред великою толпою…»
«В темноте осенней ночи…»
«Еще покрыты льдом живые лики вод…»
«Вот — мои воспоминанья…»
«С простым толкую человеком…»
«Старый дуб листвы своей лишился…»
«Мельчают, что ни день, людские поколенья…»
«Нет, никогда, никто всей правды не узнает…»
«Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал…»
«Все чаще говорить приходится — забыл…»
«Ты не гонись за рифмой своенравной…»
«Ни слава яркая, ни жизни мишура…»
«На коне брабантском плотном…»
«Полдень пpeкpaceн в лазури…»
«Гуляя в сияньи заката…»
«Нет, не от всех предубеждений…»
«Любо мне, чуть с вечерней зарей…»
«Я видел Рим, Париж и Лондон…»
«Ветер несется могучий…»
«Припаи льда все море обрамляют…»
«Качается лодка на цепи…»
«Нынче год цветенья сосен:…»
«Как ты чиста в покое ясном…»
«Вот с крыши первые потеки…»
«Мои мечты — что лес дремучий…»
«Мысли погасшие, чувства забытые…»
«О, будь в сознаньи правды смел…»
«Всюду ходят привиденья…»
«Вдоль Наровы ходят волны…»
«Как эти сосны древни, величавы…»
«Твоя слеза меня смутила…»
«Какая ночь убийственная, злая…»
«Высоко гуляет ветер…»
«Пара гнедых или Ночи безумные…»
«Нет, не могу! Порой отвсюду…»
«Ночь ползет из травы, из кустов…»
«Я знаю кладбище. С годами…»
«На гроб старушки я дряхлеющей рукой…»
«Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку…»
«С моря сердитого в малый залив забежав…»
«Меня в загробном мире знают…»
«Вконец окружены туманом прежних дней…»
«Я помню ночь. Мы с ней сидели…»
«Соловья живые трели…»
«Заря пройдет, заря вернется…»
«Бежит по краю неба пламя…»
«Как думы мощных скал, к скале и от скалы…»
«Лес густой; за лесом — праздник…»
«Как на свечку мотыльки стремятся…»
«Во мне спокойно спят гиганты…»
«Погасало в них былое…»
«Полдень декабрьский! Природа застыла…»
«В чудесный день высь неба голубая…»
«Заката светлого пурпурные лучи…»
«А! Ты не верила в любовь! Так хороша…»
«Не наседайте на меня отвсюду…»
«Славный вождь годов далеких…»
«Гляжу на сосны, — мощь какая…»
«Не померяться ль мне с морем…»
«Сквозь листву неудержимо…»
«Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо…»
«Не храни ты ни бронзы, ни книг…»
«Над глухим болотом буря развернулась…»
«Люблю я время увяданья…»
«Горит, горит без копоти и дыма…»
«Меня здесь нет. Я там, далеко…»
«Я плыву на лодке. Парус…»
«Здесь все мое! — Высь небосклона…»
«Мой сад оградой обнесен…»
«Сколько хороших мечтаний…»
«Порой хотелось бы всех веяний весны…»
«Всегда, всегда несчастлив был я тем…»
«Ты часто так на снег глядела…»
«И вот сижу в саду моем тенистом…»
«Шестидесятый раз снег прело мною тает…»
«Вот она, великая трясина…»
«Если б всё, что упадает…»
«Из моих печалей скромных…»
«Воды немного, несколько солей…»
«Я помню, помню прошлый год…»
«Во сне мучительном я долго так бродил…»
«Кому же хочется в потомство перейти…»
«Как в рубинах ярких — вкруг кусты малины…»
«Ты любишь его всей душою…»
«Нет, верба, ты опоздала…»
«Помню: как-то раз мне снился…»
«Могучей силою богаты…»
«Порою между нас пророки возникают…»
«Велик запас событий разных…»
«Раз один из фараонов…»
«В древней Греции бывали…»
«Совсем примерная семья…»
«Вы побелели, кладбища граниты…»
«Какое дело им до горя моего…»
«По берегам реки холодной…»
«Ты тут жила! Зимы холодной…»
«Как робки вы и как ничтожны…»
«Было время, в оны годы…»
«На сценах царские палаты…»
«Эта злая буря пронеслась красиво…»
«Славный снег! Какая роскошь…»
«Тьма непроглядна. Море близко…»
«Мой стих — он не лишен значенья…»
«Кто утомлен, тому природа…»
«Как вы мне любы, полевые…»
«Не может юноша, увидев…»
«Не знал я, что разлад с тобою…»
«Здесь роща, помню я, стояла…»
«Серебряный сумрак спустился…»
«Какая засуха!.. От зноя…»
«Порой, в октябрьское ненастье…»
«О, неужели же на самом деле правы…»
«Что тут писано, писал совсем не я…»
Баллады, фантазии и сказы
Статуя
П.В. Быкову
Весталка
Мемфисский жрец
Мертвые боги
И.П. Архипову
Людские вздохи
Последний завет
Брави
Д.П. Сапиенце
Горящий лес
Л.Б. Вейнбергу
Петр I на каналах
О первом солдате
(Песня Семеновского полка)
О царевиче Алексее
Новгородское предание
Корона патриарха Никона
Ф.М. Маркову
Село Филемониха
(Ростовское предание)
Витязь
Каменные бабы
Свадьба
Слух
Обезьяна
В пути
В Заонежье
Цинга
На волжской ватаге
На Волге
На горном леднике (I)
Вечер на Лемане
Озеро четырех кантонов
Страсбургский собор
Висбаден
Monte Pincio[5]
За Северной Двиною
(На реке Тойме)
Ханские жены
(Крым)
На горном леднике (II)
На взморье
(В Нормандии)
На разные случаи и смесь
После похорон Ф.М. Достоевского
Коллежские асессоры
После казни в Женеве
«Забыт обычай похоронный…»
На Раздельной
(После Плевны)
«Новый год! Мой путь — полями…»
Сны
«Улыбнулась как будто природа…»
Из цикла «Загробные песни»
«В час смерти я имел немало превращений…»
«Я помню, было так: как факел евменид…»
По словам Блаженного Августина (Dеcivit. Dei, lib. 20, сар. 14), на Страшном суде «каждому придут на память все дела его, добрые или худые, и ум с чудной скоростью увидит их». То же и Василий Великий в толковании Исайи.
«Дочь приехала. Слышу — ввели…»
«Я лежал и бессилен, и нем. Что со мной…»
«В трубном звуке родные звучат голоса…»
«Как? Опять Страшный суд! Мне вослед, по пятам…»
«Умер я! Есть ощущения…»
«Чуть мерцает на гроб мой сияние дня…»
«И я предстал сюда, весь полн непониманья…»
Стихотворения, не вошедшие в циклы
Рецепт Мефистофеля
Быть ли песне?
«Перед большим успокоеньем…»
«Зыбь успокоенного моря…»
В роще
«И холодной волной по железным бортам…»
«Она — растенье водяное…»
«Снежною степью лежала душа одинокая…»
«Налетела ты бурею в дебри души…»
Риму
[1857–1860]
«Скажи мне, зачем ты так смотришь…»
[1857–1860]
Мои желанья
[1857–1860]
Он не любил еще
[1857–1860]
Запевка
[1870–1880]
Зимний пейзаж
[1870–1880]
Богиня тоски
Цыганка
«Смотрит тучка в вешний лед…»
«Упала молния в ручей…»
«Ты поклянись, — она его просила…»
Лезгин
Раут
В аббатстве Сен-Дени
«Чудесный сон! Но сон ли это…»
«Учит день меня…»
«Когда я ребенком был, мал…»
«Ты, красавица лесная…»
«Сегодня день, когда идут толпами…»
«И мнилось мне, как прежде, вновь…»
«Ярко вспыхивают розы…»
«Топчутся волны на месте…»
«Я ясно сознаю, что часто надо мной…»
«Не Иудифь и не Далила…»
Дикий цветок
«Люблю я в комнате сиянье хрусталей…»
Поэмы
Элоа
(Апокрифическое предание)
М.П. Соловьеву
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Элоа
Сатана
Молох
Умерший священник
Монахи
Хоры
Тени
Дикая местность у преддверья ада. Толпы неясных теней тянутся к красному свету. Слышится бесшабашная песня. Навстречу теням, со стороны красного света Сатана, сопровождаемый Молохом. Тяга теней останавливается.
Сатана.
Молох
Сатана (к теням)
Тени молча уносятся.
Молох
Сатана
Молох
Сатана
(Делает Молоху знак рукою, и Молох удаляется.)
(Задумывается.)
(Замечает проносящуюся вдали Элоа.)
Является призрак Элоа.
(Рассматривает призрак.)
Вдали снова проносится Элоа.
(К призраку.)
Призрак исчезает. Сатана проносится в сторону, противоположную полету Элоа.
Окраина земли. Скалы. Поздний вечер. Выясняется луна. Сатана, озираясь, взбирается на скалу. Кругом снуют совы и нетопыри.
Сатана
Совы и нетопыри исчезают.
Из-за скалы показывается Элоа. Сатана останавливает ее знаком руки.
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
(Исчезает.)
Сатана
Сатана, глядя ей вслед, заволакивается туманом.
Яркий солнечный день. Монастырь в развалинах. Заброшенное кладбище. Элоа бродит между могил.
Элоа
(Оглядывает кладбище.)
Раздается звон колокола. Сатана входит в виде капуцина, с кропилом в руке.
Сатана
(Окропляет.)
(Окропляет.)
(Окропляет.)
Элоа
Колокол замолкает.
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Раздается звон колокола, и проходят поющие Монахи.
Монахи
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана уходит вслед за монахами. Облик Элоа становится невидим в сияньи полуденного солнца.
Ясное утро. Элоа, задумавшись, несется по направлению к земле.
Элоа
Навстречу Элоа — души усопших. Она останавливает свой полет и прислушивается.
Хор только что умерших
Элоа
Хор только что умерших
Элоа
Хор только что умерших
Элоа
Хор только что умерших
Элоа
Появляется Сатана.
Сатана
Хор только что умерших
(испуганно, завидя Сатану)
Сатана
Умерший священник
Сатана (обволакивая священника)
Элоа
Сатана
Сатана со священником исчезают.
Хор только что умерших
(Отлетают.)
Элоа
(Проносится к земле.)
Степи. Совершенно ясный вечер после великой бури. Носится туман.
Элоа
(Молится.)
Сатана появляется из потемневшей лазури и, сияя красотою в отблесках зари, останавливается перед Элоа.
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
(Подвигается к Элоа.)
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
(склоняясь подле нее на колени)
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
Сатана
Элоа
По мановенью Сатаны по тверди небесной выясняются, в розовом свете, бессчетные облики служения любви.
Облик Элоа начинает медленно бледнеть.
Сатана, не видя более Элоа, быстро поднимается.
Сатана разгорается великим пламенем.
Сатана уносится, и вместе с тем погасают видения. Небо остается совершенно голубым и чистым.
В снегах
Памяти А.А. Григорьева
Ларчик
Памяти А.Н. Майкова
Без имени
(Времени крепостного права)
М.А. Загуляеву
Тоже нравственность
Ф.В. Вишневскому
Проза
Черная буря
Мурманское становище, из которого туманным утром должна была выйти в море поморская шняка[8], притаилось в одной из небольших бухточек побережья, недалеко от Семи Островов. Это одно из очень мелких, неудобных становищ, потому что бухточка открыта всем решительно северным ветрам; но становище насижено исстари, чуть не со времен новгородцев, и оживляется, с приходом поморов, каждым летом. Единственная защита бухточки состоит в том, что по самой средине входа, со стороны океана, входа, имеющего ширины не более ста сажен, поднимается со дна морского конусообразная, довольно хаотическая, груда черных скал. Острие этого конуса состоит из громадных глыб, налегающих одна на другую, по-видимому, очень неплотно и оставляющих даже большие дыры, просветы; но глыбы держатся, слиты воедино, прочнее всякого цемента, собственною тяжестью; этот незримый цемент держит их неколебимо. В просветы сквозит иногда солнце, смотрит месяц, а набегающая океанская волна дает тут целые сонмы водопадиков и пускает фонтанчики.
И черны эти глыбы гранита, черны невероятно. Эта чернота мурманских скал, которые только изредка обнажаются от океанской воды, удивительна. Открытые ветрам, не покрываемые водою, скалы мурманского побережья в общем розоваты, тогда как их собратья, предоставленные вечным, неистовым бурунам волны, словно обуглились. Они, будто цыганки, обожжены страстью горячего, степного солнца и, как цыганки, почти обнажены. А ведь это на глубоком севере.
Выгода бухточки, в которой стояла шняка, состоит именно в этой гряде скал, разбивающей всякую волну, идущую из океана; скалы пропускают ее мимо себя, сквозь себя, ослабленною, разорванною, подрезанною, и, в то время как другие, соседние волны, движимые могучим дыханием, лезут высоко, высоко на отвесные берега побережья, волны, зашедшие в глубь бухточки, сравнительно спокойно ложатся на береговые пески.
В бухточке могут разместиться три, четыре шняки, не больше. Хотя о полном спокойствии стоянки тут, при северных ветрах, не может быть и речи, но волны бухточки, качающие шняки на дрянных якорьках, все-таки ничто в сравнении с ветром, обдувающим их снасти, потому что каменная гряда у входа в бухту ветра не ослабляет, не подрезывает, и он врывается сюда с полною силою, дует всей грудью. Становище, то есть деревянные домишки и сарайчики его, пронизывается насквозь.
Но помор заботится больше о своих шняках, чем о себе: если их не разобьет, то ему до своей личности дела нет. Пусть продувает ветер, обжигая лицо и окостеняя руки, пусть негде помору обогреться, пусть гудит заунывный посвист и проникает к нему даже в видения сна, лишь бы цела бы его шняка.
Бесконечно долгое утро не отгоняло тумана и тянулось холодное, мглистое. Июнь задался на этот раз далеко не теплый. Солнца не видно было за многими слоями серых, свинцовых туч, густо и низко налегавших на серый, свинцовый, как они, океан. Кто кого окрашивал в серый цвет: океан тучи или наоборот? Белыми точками виднелись по этому томительному однообразию серого цвета быстро реявшие чайки; крик их был так же резок, как и изломы полета: в крике, как и в полете, было что-то томительно беспокойное, заунывное.
Ночевало в бухточке три шняки; две давно уже вышли в море, третья запоздала, но тоже готовились выйти, и весь экипаж ее — законных четыре человека поморской, шнячной артели имелись налицо и, видимо, торопились. Опоздала шняка по вине артели; но был еще и другой виновник — одно из неприятнейших млекопитающих мира, бог весть как зашедшее в Мурман, — крыса. Крысы перегрызли запасный якорный канат, да еще в нескольких местах; каната раньше не требовалось, его не осмотрели; пришла нужда — увидели, и, пока производилась починка, шняка опоздала. Артельщики-покрутчики могли бы, конечно, осмотреть все свои принадлежности раньше, в свободное время, но поморы — русские люди, и время было потеряно.
— И откуда их, этого проклятого гнуса, крыс, — говорил старик, хозяин шняки, — у нас, на берегу, завелось?
— Мать говорила, что их тут прежде не бывало, — ответил зуек[9], парнишка лет двенадцати, необходимый участник артели, будущий бесстрашный помор, подбиравший в кадушку наживку, мелкую рыбку-песчанку, приготовленную ранее и уже почти всю доставленную в шняку; он подбирал тех рыбешек, которые были разбросаны при переноске и валялись по пестрому щебню побережья.
Крупный помор, по имени Вадим, разбойный человек, много лет ходивший на морского зверя, то есть на разбойный промысел, проходя мимо мальчишки-зуйка, оперся на него рукою и пригнул к земле, так что парнишка даже крякнул; это была ласка. Вадим поддерживал мнение зуйковой матери, что крыс на Мурмане прежде не бывало.
— С норвежцем вместе пришли, да и хозяйничают, — заметил Вадим.
— Сам ты норвежец, — громко ответил ему зуек, оправившись от могучего надавливания руки Вадимовой.
Вадим остановился, повернулся к зуйку лицом и молча погрозил ему кулаком. Зуек точно ушел в свою песчанку и стал подбирать ее еще тщательнее, еще торопливее.
— Ну, скоро ль? — обратился к нему хозяин. — Безорудь ты этакая! — На местном наречии это значило: параличный.
— Норвежец! — проговорил Вадим, грозя кулаком вторично. — Я те дам норвежец! — Он поднял с земли, с необычайною легкостью, пуда два бечевы, свернутой кольцом, и перешагнул с каменной глыбы к шняке.
Погода была тихая, но не обещала особенной устойчивости. Ветер дул с северо-запада, можно было рассчитывать на дождь; вечером веял ветерок южный, следовательно, шел он по кругу и легко мог стать и северным и северо-восточным, а тем более ничего ему не стоило вдруг покрепчать неимоверно и расстроить всякую надежду на успех лова.
Тем не менее выходить в море было необходимо, потому что люди знали, что треска идет, что к Семи Островам и к Лице шняки полными-наполно возвращались, а за всю весну наработано немного. Отдали клячь — веревку, служившую причалом, и направились из бухты.
Шняка была далеко не из молодых и видала всякие виды, но она была ходкая, юркая и хорошо слушалась руля. Значительно накренясь, вышла она в полветра, миновала гряду и направилась в открытое море. Кое-где виднелись другие шняки, выискивавшие хорошей стоянки. Все зависит от случая; на больших глубинах океанских ничего не разглядеть.
Поморы вообще не говорливы, но о том, куда направиться и где якорь бросить, все-таки говорили. Подросток-зуек оказался и тут советчиком.
— А у нас, — говорит, — в Сороках, мать сказывала, что ей странничек совет давал!
— Странничек?
— Где крест, говорит, выйдет — там и бросай, — добавил зуек.
— Как это крест? — спросил Вадим.
— А четыре щепышки или суковья малые взять надо, да по четыре штучки на воду и бросай, и гляди: где крест!
— А ну!
На грязном днище шняки всегда щепышки да суковья найдутся; все они словно пропитаны рыбьим жиром и поблескивают рыбьими чешуйками. Стали бросать на волны щепышку; больше для забавы, конечно, а шняка тем временем шла быстро-быстро, покачиваясь из стороны в сторону и описывая концами мачт длинные кривые.
Накренившись, скользила она по круглым скатам не крутых, но очень могучих волн. Крестики долго не вырисовывались щепышками. Принялись насаживать наживку. Легко сказать: на две тысячи и больше крючков по рыбке насадить! Не вся насаженная рыбешка сразу пооколела, и наживленные части яруса — так называется рыболовная снасть — пошевеливались под ногами поморов какою-то странною, мучительною судорогою, какою-то грудою безмолвных, шелестевших страданий.
К вечеру, на избранном месте, был брошен в море последний кубас, то есть весь ярус, длиною более версты, с наживленными двумя тысячами крючков, протянулся по океану, приманивая жадную треску. Выкинуть ярус надо много часов времени. К последнему кубасу, голомяннику, или кошке, привязали веревку, сажен в сто длиною, так называемую симку, а другой конец ее прикрепили к носовому штевню шняки. Глубина на этом месте оказалась около восьмидесяти сажен; хотя ночь была сравнительно светла, но о том, чтобы видеть берег, — не могло быть и речи.
Стоянка с закинутым ярусом должна длиться шесть часов; надо людям поесть, надо отдохнуть. На этот раз, кроме соленой сельди и хлеба, взято было и крошево, то есть рубленая капуста, фрукт для поморов южный, но имеющийся налицо, в качестве колониального товара, у прибрежных фактористов[10]. Раньше всех приложился к кадушке с капустою Вадим: он сгорстил капусту, то есть взял в горсть с добрую чашку, и не замедлил, поедая, разукрасить себе капустой усы и бороду; этому способствовало и усиливавшееся волнение.
— Эка бась какая (по-местному — красота)! хи, хи! — проговорил зуек, указывая на Вадима. — Капустой обсел!
Расстояние между обоими было большое, и разбойный человек опять-таки показал зуйку кулак.
Обратились к рому, к знаменитому норвежскому, вонючему, продаваемому безакцизно[11], отравляющему все наше поморье.
— Мертво пить хочу! — проговорил Вадим.
— То-то одежу всю пропил, в рямках (то есть лохмотьях) ходишь, ответил зуек и, ранее Вадима, осушил нипочем жгучую четвертную.
— Постреленок — ужо погоди! — ответил Вадим.
— А что, робя (то есть ребята), не сниматься ли? — проговорил хозяин. Беть идет, буря будет?
— Соснуть бы!
— Где тут спать!
Хозяин был прав. Беть — буря шла действительно, налетала быстрая и, надо сказать, неожиданная. Она посылала предвестниками своими судорожные порывы вихря, тороки. Западный, дождливый ветер обещал с утра более прочную погоду.
Кончили с питьем и едой, кончили раньше, чем думали, и принялись убирать ярус, потому что крепчало.
— Не ряхайся, ребята, не медли! — подбадривал хозяин.
Притянулись к кубасу, вытащили якорь, стали собирать ярус; крючки, выходя из воды, обнажались одни за другими, все пустые: или не было в этом месте трески, или не успела насесть. Изредка-изредка шлепалась в шняку грузная рыба. В хороший улов что ни крючок — то рыба, ожерельем тянется, тесьмой блестит, руки оттягивает и в шняке что золотистая гора нарастает, а тут ничего, ровно ничего!
Уборка яруса, несмотря на порывы усиливавшихся шквалов, была закончена почти до половины. Всякий человек знал свое отлично, суеты не было. Но все это были только человеческие усилия, только расчеты ума, навыка, терпения и отваги людской, неизмеримо маленькие в сравнении с тем, что готовилась показать природа.
На Ледовитом океане, в непогодь, в бурю, или в беть, как здесь говорится, иногда, среди белого дня, налетает совсем глубокая тьма. Грузные тучи, цвета черного шифера или аспида, круглыми очертаниями своими, полные мрака и холода, спускаются и налегают на черные, как и они, океанские волны. Только кое-где, в этих небесных, почти сплошных, черных, аспидных громадах, просвечивают световые пятна неба, единственные свидетели и продолжатели царящего на остальной земле дня. Не поверить этому мраку, если не видеть его; световыми пятнами светятся только самые высокие всплески гигантских волн и кажутся резко-белыми; белее их — крылья кружащихся в воздухе чаек.
Дрогнула старая шняка всем телом своим, когда, совершенно неожиданно, замело кругом в воде и воздухе сильнейшим шквалом. Не успели люди опомниться, как словно отрезало где-то ярус и помчало шняку в сторону. К счастью, парусов не ставили, и удар шквала был не так силен, не так опасен, как бы мог быть. Заметалась шняка из стороны в сторону; еще удар волны — и руль сорвался с петель и унес с собой и румпель[12] и погудало[13]. Ни о каком управлении нечего было и думать; шняка словно обезумела.
Артель, всем своим наличным составом, молча перекрестилась, и все молчали. Не было грому, не было молнии в этом темном неистовстве разразившейся черной бури, но ветер жег лица невыносимо, и вдруг посыпались на шняку крупные белые градины и застучали по ней, и запрыгали, и сыпались с бортов ее в клокотавшую пучину океана. Люди накрылись кто чем мог, всяким манатьем, дырьем, тряпицами.
— Руби ее! — крикнул хозяин почти одновременно с треском срезанной ветром мачты. Упавшая мачта легла на правый борт и заполоскалась верхушкою в воде. Обрубили снасти, и мачта, подхваченная волною, не замедлила отделиться от шняки и запрыгала, и поплыла своим путем.
— А что, братцы, надоть тонуть будет, — проговорил Вадим, покачивая головою.
Зуек поглядел на него с недоверием; ему не хотелось тонуть.
— А когда же кулаком-то кулачить меня будешь? — заметил зуек, на которого страшное слово «тонуть» не произвело особенного впечатления.
— Прифурник ты этакой, забавник, прости господи, — добавил Вадим.
Хозяин то и дело крестился.
— Малехается шняка, малехается! — добавил Вадим, когда потрескивания старой посудины, усилившись, стали подозрительными и с правого борта ее отлетели расщепленными верхние доски и, помелькав перед глазами, поплыли вслед за мачтою.
Тьма продолжала сгущаться. Ненасытно ревел ветер, и волна била со всех сторон совсем беспорядочно. Пока высились над шнякою мачты и висели снасти, еще слышались резкие посвисты ветра, еще сказывалось в звуках что-то как бы сподручное, знакомое, обыденное, земное; но когда шторм оголил шняку, когда замолкли последние, урывчатые разговоры людей, бесконечным гулом надавила буря и начала разрушать последние надежды. Шняку кренило и бросало на все стороны. Показалась течь.
— Захлестывает! — сказал Вадим.
— Не захлестывает, а тонем! Молитесь, ребята, — проговорил хозяин.
— Завал! Варака![14] гляньте! ва! — крикнул в это время зуек, указывая рукой прямо по направлению движения шняки.
Что-то темное, неопределенное действительно виднелось между волнами, и не могло быть сомнения в том, что шняка стремилась именно на эту таинственную неожиданность, на это страшилище, сразу воспрянувшее из волн океана.
— Берег! — крикнул хозяин.
— Кит! — ответил Вадим, ухватившись с быстротою молнии за мелькнувшую подле него в волнах веревку гарпуна.
Подтверждение последовало чрезвычайно быстро: не прошло и полуминуты времени, как шняка, с полного размаха, налетела на тушу мертвого кита. Вскинувшись носом на его громоздкую поверхность, покачавшись на ней, словно балансируя, поклевывая, она сразу осела кормою. Людей с нее смыло, сполоснуло, все они попадали в воду, но так как волна била в сторону кита, то все они немедленно очутились на нем.
Убитый темный гигант принял их на могучую тушу свою. Словно приготовлена была она для этого удивительного спасения: глубоко впившись в тело кита, гарпун торчал высоко над водою, и канат, к нему прикрепленный, схваченный Вадимом, послужил, в полном смысле этого слова, канатом спасения. Чуть-чуть не унесло хозяина, но он за Вадима ухватился.
О бедной шняке не было и помину. Ревел ветер, облегала тьма, но мертвый кит оказался прочнее, устойчивее шняки. Припасов на этом фантастическом островке не было никаких, захватить их с собою не было времени; могла бы предстоять и голодная смерть. Но буря скоро сдалась, посветлело и, не более как через сутки, экипаж шняки был снят с кита проходившим мимо пароходом, а кит, ценный предмет улова, взят на буксир. Он принадлежал нашедшим его, то есть тем людям, которые остались со вчерашнего дня без шняки и готовились умереть.
Безымень
Небольшая лодчонка наша, чуть-чуть покачиваемая стихавшею океанскою зыбью, вошла в заливчик. Высокая иззубренная скала нависла над нами справа и казалась совершенно темною, потому что эта сторона ее, обращенная прямо к востоку, обволоклась тенью, а глаза наши привыкли, за несколько часов морского пути, к сиянью солнечного дня и резкому блеску воды. Я и товарищ мой по пути давно подладились, если можно так выразиться, к мурманскому пейзажу, к отличающему его недостатку людских голосов и безусловному царству звуков морской волны и поэтому были очень приятно поражены хоровою песнею, неожиданно вырвавшеюся из-за скалы нам навстречу.
Это двигалась «сарафанная почта». Почтовый карбас, довольно неуклюжий, но поместительный, прочный, пузатый, шел на веслах нам навстречу, и гребцами, как это здесь постоянно бывает, оказались женщины. Они-то именно и голосили вовсю. Дружно ударяли их весла по воде: одна из женщин стояла очень картинно подле мачты и приготовляла парус для того, чтобы, по выходе из заливчика, поставить его. На руле сидел рыжий помор, в меховой шапке с наушниками, развалившись с некоторым даже изяществом, отнюдь не меньшим, чем то, которое придается на картинах итальянским пастухам, стерегущим стада и наслаждающимся послеобеденным отдыхом подле какой-нибудь исторической развалины. Помор, рулевой на карбасе, расположился так спокойно и удобно именно потому, что море было тихо, а натружаться ему не придется — на то есть женщины, умеющие, в две смены, прогрести сто верст.
Когда маленькая лодчонка наша поравнялась с карбасом, величественно и самоуверенно скользившим, под резкие звуки песни, прямо на нас, отличили мы приземистую, худенькую, темную фигурку почтальона в кепи, схоронившуюся в самом карбасе, между рулевым и мачтою. Маленький, черненький почтальон еле высовывался острием своего кепи из-за толстых бортов карбаса. Кепи, как головное украшение, давно уже отошло у нас в вечность, но на Мурмане их еще донашивают и будут долго донашивать.
Слышались также очень явственно характерные слова бабьей песни:
Откуда тут, в этой необъятности северного океана, вдруг писарь в песне? или это под стать остроносому кепи почтальона?
— Отчего, — спросил я у одного из наших двух поморов, по имени Яков, — на руле у них сидит не женщина, а мужчина?
Яков объяснил, а другой помор, Степан, подтвердил, что сидеть женщине на руле — стыд для карбаса, трунить начнут. Он прибавил даже, как именно начнут трунить, что скажут, как назовут. Назовут нецензурно, но пластично.
Быстро промелькнула сарафанная почта мимо нас и унесла с собою песню. Заливчик, в который мы втянулись, оказался невелик, и на темневших очертаниях его скал резко белели два предмета. На одном из камней высилась небольшая пирамидка, сложенная из закругленных водою катышей, так называемый гурий, или кекурий, поставленный кем-либо по обету или на память о каком-нибудь крушении; в углублении бухты виднелась лопарская вежа, покрытая дерном и побелевшими шкурами старых, седых оленей, и раскинутые на жердях сети и мережи.
Мы подошли к веже почти вплотную; Яков соскочил на берег с концом веревки в руке, а Степан, долговязый, худой, неуклюжий, по-здешнему «долгарище», прибрал весла, подсунув их нам под ноги.
— А долго ли нам стоять можно будет? — спросил я у Якова, вспоминая о том, что с приливами и отливами тут шутить нельзя и упускать их из виду невыгодно.
— Воду простоим; вишь, она теперь припухла, на прибыли; уйдет — ляжем, полежим, покуда опять вспухнет, тогда и уйдем.
Цель нашей поездки состояла в уженье рыбы в небольшой речке, не носящей даже имени, впадающей здесь в океан. Нам говорили, что эта речка очень забавна, потому что в ней и навага, и камбала попадаются, предпочитающие, как известно, открытое море. Мы запаслись богатейшим материалом для наживки, а именно — сочными огородными червями, привезенными нами из Архангельска в нескольких жестянках.
Сойдя на берег и заглянув в вежу, мы не нашли в ней никого. Пройти к речке, устье которой было виднехонько, оказалось невозможно, потому что веками навороченные глыбы решительно преграждали дорогу. Предстояло подняться на прибрежные скалы, пройти с версту моховым болотом и затем уже спуститься вниз. Так мы это и сделали и отправились все вместе, закрепив лодку.
Спустились мы со скал к речке с большим трудом, не без помощи рук, едва не поломав удилищ, цепляясь за громадные глыбы камней, разобрались, принялись за уженье, и дело спорилось: рыбы было много и вся она жадная.
— А что, брат Яков, — сказал я нашему помору, когда удочки были заброшены и лов шел удачно, — скажи-ка: есть тут у вас привидения?
— Какие это?
— Да такие вот, что что-нибудь привидится, ночью, что ли!
— Как не бывать.
— Да ты видал?
— Не видал. Боюсь. А вот Степан, тот видел.
— А он не боится?
— Нешто станет бояться, коли всякий заговор знает!
— А что это за привидения, Степан? — обратился я к другому помору. — Какие они тут у вас? с рогами? с хвостом?
Степан сомнительно покачал головою.
Он, с самого прихода нашего на речку, растянулся навзничь по сухому песку побережья, во всю длину свою, и, подложив руки под голову, глядел на небо. Небо было желтовато-тускло; над морем лежала так называемая «марь», заволакивающая даль, как туман; она обуславливается густыми, теплыми испарениями и солнечным светом. В этой золотистой мари обыкновенно облаков заметно не бывает, они не очерчиваются; все блестит, лучится и сливается в один золотистый, определенный свет; трудно сказать: на что именно так упорно смотрел в небо Степан, спрошенный о привидениях.
— Как же это ты видел привидение? расскажи.
— Я не видал. Его видеть нельзя, потому что на нем лица нет.
— Так как же Яков говорит, что ты видел?
— Видел.
— Что же ты видел, если лица нет?
— Безымень ему имя, ну и видел, — ответил Степан, поднявшись с лежки и упершись на один из локтей.
«Безымень ему имя», — подумал я и сообразил, что это значение почти то же, что «видеть не видавши»; два выражения — одного поля ягода. Мой товарищ, слушавший разговор наш, натаскал за это время несколько наваг; он вмешался, заинтересовавшись безымянностью имени привидения.
— Да где же это было? где ты видел невидимое привидение? — спросил он.
— В байне.
— То есть в бане?
— По-вашему баня, а по-нашему байня. Пошел я, это, раз в байну сайпу варить.
— А что это такое — сайпа?
Поморы переглянулись и улыбнулись, точно показались мы им неучами.
— Ну, да, что это — сайпа?
— По-вашему мыло, — отвечал Степан.
— Как мыло? Да разве у вас мыло люди сами для себя варят? Слышно, тут и совсем мыла не знают?
— Как не знать мыла; а как же покойников моют? Вашего-то мыла, точно, зачастую нет у нас, а своего-то как не быть; на что ребятишки, тех если не мыть, что с ними будет; на то и сайпа!
— Да что же это — сайпа?
— А вот, если в кипятке ворвани развести, да с золою смешать, вот она сайпа и будет, так и делаем… Так пошел я, это, в байну. До того люди невесту в ней выпарили, так жару-то развели вдосталь! Поставил я, это, ведерко на полочку, начал золу сгребать, а он тут как тут.
— Безымень?
— Точно. Сам и был.
— А по виду-то как он?
— Да нет у него виду.
— Однако же руки, ноги есть?
— А не ведаю.
— Да ведь ты видел?
— Видел.
— Ну, роги, хвост — есть?
— Не знаю.
— Да лицо-то, рожа у него какая?
— Нет у него лица, одним словом — безымень.
— Ну, так ты, значит, не видал его, а только слышал? — проговорил я, как бы желая помочь Степану дать мне желаемое объяснение.
— Кабы слыхал, а не видал, так так бы и говорил вам, — ответил он, как будто даже немного обиженный.
Обиделся за него и Яков, но только покачал головою.
Мы с товарищем переглянулись. Видимо было, что идти дальше в расспросах о не имеющем лица привидении представлялось невозможным. Оба помора удовлетворялись каким-то ликом без лица, чем-то, где-то, когда-то начер-тившимся в памяти их, в далеком детстве, чем-то неуловимым, необъяснимым, бесформенным, но несомненно существующим.
Кто пригляделся к туманным, неясным очертаниям северного поморья, к его тающим миражам, к тусклости воздуха, облекающей даль, с исключениями для немногих светлых дней, где и в светлые дни не сходит с горизонта марь, тот поймет возможность нарождения в народной фантазии этой удивительной «безымени», привидения без очертаний, облика без лица. Представить себе его не поморским воображением невозможно.
Сообщение поморов оказалось так характерно, что нельзя было, не стоило как-то расспрашивать дальше. Уженье продолжалось.
Вдали, за заливчиком, виднелся бесконечный океан, заснувший в глубоком покое.
«Море слосело», — говорят в этом случае поморы.
Я смотрел на окрестность. Речка делала перед нами, прыгая по камням, большую излучину, «хоботину», как здесь называют; солнце опускалось; начала показываться к вечеру мелкая, неприятная мошка — «мухарь». По обоим берегам речки виднелись длинными рядами «бадни», то есть подмытые водою, опрокинувшиеся в нее деревья.
«Если, — думалось мне, глядя на эти деревья, — так неопределенны очертания фантастических представлений в голове помора, то, взамен этого, как четко следит он за тем и определяет особым именем то, что дает ему его скудная природа. Вот хотя бы слово „бадня“ для подмытого водою дерева; на Руси подобного слова и определенного понятия, требующего особого слова, кажется, нет, а тут есть. Если ветром выворочено дерево на матерой земле и торчит корнями и там, где оно стояло прежде, образовалась яма — помор называет такую яму „баглень“, а это опять-таки очень определенное слово для очень определенного самостоятельного понятия, которого на Руси, кажется, нет».
Время шло, мы «простояли воду», и море снова стало «пухнуть»; необходимо было кончить с уженьем, чтобы поспеть вовремя в недалекое становище. Под самый конец удалось мне видеть то, о чем я только слыхал. Едва забросил я лесу, что-то быстро потянуло поплавок книзу; я сильно дернул, подсек; серебряная, довольно длинная навага забарахталась в воде, и не успел я вытащить ее всю, как за хвост ее уцепилась другая навага, и обе они не замедлили очутиться на береговом песку. Говорят, бывают случаи, что вытаскивают таким образом сразу по три штуки, когда наваги много, а прожорлива она всегда.
Вечер опускался удивительно тихий. По мере приближения солнца к горизонту золотистая марь голубела, прояснялась, и по совершенно «слосевшему» морю, далеко кругом, виднелись поморские шняки. «Безымень» загуляла по поморью.
Моленье ветру
В мрачной, молчаливой необъятности осенней ночи северного поморья тонкою, желтенькою полоскою только что обозначился восток. Полоска света все росла, удлинялась, становилась лентою, все краснее, шире и выше, и по мере того, как заревой свет отвоевывал себе в небе все большую и большую площадь, отвесные скалы мурманского берега, на их тысячеверстном протяжении от Норвегии до Святого Носа и дальше, в глубь Белого моря, по его западной окраине, проступали все яснее и яснее. Скалы тоже тянулись лентою, но темною, каменною, неподвижною, тогда как небесная заря противопоставляла им ленту света не неподвижную, живую, быстро уширявшуюся, как бы кем-то рисуемую; она, эта лента зари, могла бы на этот раз, как это здесь часто бывает, и вовсе не появляться, если бы не случилось на небе, со стороны востока, прогалины в тучах.
При первом зарождении дневного света встрепенулся на мурманском побережье прежде всего его пернатый мир. Закричали неисчислимые чайки, гагары, утки, нырки, лебеди и буревестники и, слетая один за другими мириадами, словно свеваемые ветром, со всех выступов, изо всех щелей прибрежных гранитов, налегли, каждая птица по-своему, на воду. Одни из них потянули стремглав в прояснявшуюся даль, другие закружились широкими кольцами на месте, третьи, то взвиваясь отвесно, то перепархивая на недалекие расстояния, толпились вдоль ближних утесов, не отваживаясь далее, четвертые сели на воду, а тяжелый глупыш только слетел со скалы на ближний песок побережья и снова сел и будто уснул. Во всех сказались особые характеры.
Осенний день воцарялся.
Но еще раньше пернатых проснулись женщины по очень немногочисленным прибрежным деревням и поселкам Кандалакского побережья; только этого не было так заметно потому, что женщины закопошились в домах своих. Закопошились они потому, что эти дни поздней осени — важные для них дни, а именно; возвращались к ним одни за другими поморы с дальних промыслов — мужья, отцы, дяди, сыновья и братья. И это было не простое возвращение после разлуки, длившейся все лето, — нет, это было возвращение, полное самых трепетных, самых потрясающих неожиданностей. На бесконечных протяжениях тех мест нет ни торных путей, ни обыкновенной почты, ни телеграфов, и весть о гибели того или другого суденышка, того или другого человека может не прийти к его семейству до самой зимы. С подобными условиями возвращения «своих» людей «баломонить» — шутить, «басалаить» — повесничать не приходится, и вот почему все домашние хозяйства, или, по здешнему, «обрядни», в лице их хозяек зашевелились раным-рано, ранее пернатых просыпавшегося поморья.
По мере того как проникалась светом темень ночи, меркли огоньки в окнах селения, ясно обозначавшие в ночи его широкое протяжение вдоль берега.
Проснулась раньше других, а то, пожалуй, и совсем не спала — Марфа, бездетная жена помора Еремы, баба молодая и красивая. Вот уже пятую осень встречает она, вместе с другими женщинами, возвращающихся; никогда не встречала она Ерему с радостью, как-то встретит она его теперь, когда полюбила другого?
Да и как не любить этого другого? И другие его любят. Когда он, этот другой, Петр по имени, раннею весною захилел в лютой болезни, так что не только на промысел выйти не мог, но всему поселку «блазнило» — мерещилось, что смерть его возьмет, у девок только и речи было что о нем. Возвратилось наконец здоровье, но Петру нечего было и думать идти на дальние промыслы; где за ними угонишься, когда промышленников уже с апреля месяца по всему океану разбросало? Оставалось Петру одно — береговая ловля; выходил он в море недалеко, по соседству, много раз возвращался и опять уходил, а одна из девушек, Агафья, та всегда его раньше других встретит, да и смотрит, смотрит, глаз с него не сводит, а когда удается, ласковым словом подарит.
Не слушает Петр этих слов Агафьи, не хочет видеть этих взглядов ее, потому что все его помышления к бедной Марфе ластятся, будто струи морские берег облюбовывают и то лазурью отливают, когда тихо, то пенистым буруном бьют, если мысль о суровом муже ее к другим мыслям примешается.
А возвратится Ерема, пожалуй, не позже как сегодня. Что-то будет? Что-то случится?
Еще вчера решено было бабами, что, для обеспечения благополучного возвращения промышленников, нужно им «ветер молить», потому что за последнее время дует он все не оттуда, откуда желательно; с севера бы ему холодом дохнуть и пригнать шняки поморские к пристаням, а он, то и дело, по звезде кругом ходит, никакой прочности нет в нем.
По-своему ожидает возвращения мужа Марфа.
Поморский дом — двухэтажный, деревянный и по внешности своей, по белым занавескам у окон, по окладам образов, по мебели и, в особенности, по дивану с деревянною спинкою и ручками, бог весть откуда сюда попадающему, но обязательному в мало-мальски достаточном хозяйстве, всегда почти обманывает в мысли о достатке хозяина. Хозяин всегда беднее, чем можно судить по обстановке и, в особенности, по одеяниям женской половины семьи.
Много и у Марфы жемчугов на кокошниках; хороши ее сарафаны из тяжелых шелковых тканых материй, прошитые золотою и серебряною нитью, сложенные один на другом в длинном, зеленом, разными фигурками украшенном сундуке. Круглые, пузырчатые, финифтяные пуговицы одного из сарафанов, несомненно старовенецианской работы, торговал как-то барин-англичанин, приезжающий сюда чуть не ежегодно на рыбную ловлю, но Марфа их не продала. Сундук с сарафанами такая же необходимая принадлежность в достаточном поморском доме, как диван, самовар и занавески.
Еще недавно перебирала Марфа сарафаны, надевала их и становилась перед зеркалом, одна-одинехонька. Как ни плохо было зеркало нижегородской работы, с неподвижною рябью по стеклу, но все-таки оно служило, и Марфа, невольно поглядывая на себя, думала:
«Пригожа, нечего сказать, пригожа! но ведь и Агафья тоже пригожа! ее темные хитрые очи лучше, видно, моих, серых… Злая она девка, ехидная, но зато в себе совсем свободна… а я? — я нет».
И вились черные мысли в голове Марфы, и все ей казалось, что ведь может же лгать и Петр, что, если он ей теплое слово говорит, целуя, так это только для отвода… умней ее Агафья! «Сквилить» — насмехаться — мастерица, и это Марфа очень хорошо знает. И как это Агафья ей насмешливо вчера вечером сказала:
— А ветер молить придешь, Марфушенька?
— Приду, — ответила ей сквозь зубы Марфа, и защемило ее сердце, защемило глубоко. И не надо было ей быть такой смущенной…
Теперь, при близости возвращения, тяжесть налегла на душу еще сильнее; Марфа вовсе не ложилась спать. Так темна и непроглядна была эта завершающаяся ночь! А что же будет в долгое зимнее время, когда эта ночь потянется целых три месяца и все надо будет быть с ним, с этим суровым Еремой, тут, в этом доме, с глазу на глаз. Порою, правда, соберутся люди на вечерницу, песни будут петь, плясать, но ведь потом еще хуже, опять все по домам разойдутся, и опять Ерема с ней, опять бесконечная ночь! вся жизнь сосредоточится в стенах немилого дома, потому что в глубокую темень трех месяцев что же может значить улица? О, как знакомы Марфе эти скучные стены! Вот то место на стене, против кровати, где теперь висит мужнина шапка; как часто мерцала эта белая стена полуночным розовым светом северного сияния и чернела другая его шапка — треух, шитый из оленьего меха с тремя отгибающимися на уши и на затылок отворотами; огромный треух необходим в море.
Приедет Ерема с промысла, наденет снова вот эту шапку, а свой треух повесит.
«Починить разве, посмотреть!» — мелькнуло в мыслях Марфы, и она переставила небольшую керосиновую лампу на комод, под шапку, сняла ее, осмотрела; надо чинить; отыскала она «могильник», кожаный игольник с иглами, нитками и другими принадлежностями шитья, и принялась за работу. Шьет, а сама все на часы поглядывает.
Зашипели часы перед боем, ударили раз, два… стали опускаться гири. Марфа сосчитала — пять. Она поспешно бросила работу, накинула душегрейку, платок на голову, погасила лампу и выбежала на двор, заперев за собою на замок двери.
— В последний раз! в последний! до будущего лета, последний раз! а там бог весть что может случиться к тому времени…
Несмотря на глубокую тьму, Марфа шла очень быстро вдоль хорошо знакомой ей тропинки, протоптанной между крупными булыжниками от дома в заполье, от берега моря к скалам, вдоль небольшого потока, шумевшего по камням особенно резко в глубокой, еще чуть тронутой утром ночной темноте.
«Петр уже там, он ждет!» — думала Марфа и торопилась. Несколько раз споткнувшись на пути, отойдя от дома с малого с версту, она остановилась и прислушалась. Ей чудилось, что кто-то следовал за нею. Нет никого! Поток шумел, надутый обильными дождями последних дней, сердито и звучно; кроме него не было слышно ничего в этом подавляющем царстве медленно уходившей ночи; ветер, гудевший с вечера, замолк совсем, что бывает в Мурманё к перемене погоды, но длится очень недолго. Сердце Марфы стучало сильно, назойливо; еще несколько шагов, и ей предстояло свернуть с тропинки в скалы, к давно знакомому месту. Желтая полоска света, обозначавшаяся на востоке, помогла ей разглядеть хорошо известные очертания. Вот налево, поперек потока, поставлен закол для ловли рыбы; значит, надо вправо свернуть. Но кто-то идет сзади! Вернуться навстречу к идущему было делом одного мгновения. Да, да, вот он, еле заметный над камнями в мерцающем свете медленно устанавливающейся зари.
— Петр, Петр! — быстро проговорила Марфа и кинулась к нему…
Но она стала лицом к лицу с Агафьей. Ошеломленная Марфа отшатнулась назад и остановилась как вкопанная.
— Что ж? ветер молить пойдешь али не будешь? — сказала ей, смеясь, Агафья и покачала головою. Резче всего проступали в полутьме ее красивые, белые зубы, открытые улыбкою.
Марфа схватилась за сердце и ничего не ответила.
— Петр прошел, прошел! видела! ждет! — смеясь, добавила Агафья и, кивнув головой, быстро повернулась, захохотала и медленно пошла обратным путем. Марфа могла отличить только, что она, уходя, несколько раз оборачивалась и кивала головою. В помутившемся сознании ее меньше всего чувствовалась воля. Тем не менее, проследив глазами Агафью, она пошла вторично старым путем.
Вот опять, почти поперек тропинки, виднеется загородь закола; надо повернуть вправо, это Марфа как будто помнила. Она двигалась совершенно отуманенная; улыбка и насмешливый взгляд Агафьи мерещились, «блазнили» ей в неверных тенях утра, мигавших мириадами каких-то недобрых серых глаз. «Али не будешь?» — раздавалось у нее в ушах; «прошел! ждет!» — слышалось ей вместе с этим, и злобный смех раскатывался так звучно… ноги ее двигались сами собою, неохотно, неустойчиво; душегрейка, не придерживаемая руками, качалась на плечах и Марфа откинула назад голову.
— Ты слышал? — спросила она его еле внятно, оставаясь в его руках совершенно неподвижною.
— Слыхал! как не слышать! аспид-девка…
— Что-то будет теперь со мною? — еще тише проговорила она и припала головою на грудь помора, обессиленная, безответная, холодная…
Часу в десятом утра того же дня кипела на берегу моря бабья «завороха»; заворохой называют на Мурмане всякое общественное дело.
Собрались бабы на берег «молить ветер» о счастливом возвращении промышленников, и особенно людно стало побережье верстах в двух от поселка к северу, к океану. Острым мысом выдавался здесь берег. Отвесные утесы его, сажен в двенадцать вышины, не касались непосредственно волны; между ними и волнами тянулась широкая песчаная полоса и обрамляла подножие черных скал. Если на это место ударяло солнце, пески казались розовыми; если солнца не было, как в день бабьей «заворохи», — они лежали бледные, почти белые. Всегда сумрачны и черны оставались угрюмые граниты, возвышаясь над песками. Полоса песку белела подле них, будто белые тесьмы вдоль черных похоронных одеяний. На самом конце мыса нависала и самая высокая часть скал: остроконечная шапка гранита, когда-то расщепленная, расселась надвое и образовала два острых рога, заметных с моря издали; на эти скалы держали обыкновенно рулевые, направляясь к селению, и скалы эти так и назывались в народе рогами. К самому поселку, в хорошую погоду, направлялись между мысом и небольшим безымянным островком, лежавшим как раз против него в полуверсте расстояния; в дурную погоду приходилось давать большой круг и подъезжать к селению с юга, так как с северной стороны камней было видимо-невидимо, и все они в отлив выступали, блестя на солнце.
Ни одной травинки не виднелось далеко кругом ни по песчаной полосе, ни по валунам, ни на скалах. Мог быть зеленым цвет выкинутых на песок водорослей, но они, лишенные воды, быстро желтели и облегали берег длинными, параллельными бугристыми рядами.
Оживление на побережье было большое, но кроме женщин и детей не было никого. Было холодно, почти морозно. На всех виднелись тулупы и душегрейки, на головах платки, а на ногах темнели высокие, по колена, сапоги. Одни из женщин приехали на лодчонках, к которым то и дело подплывали новые; другие прибежали пешком и, собравшись в кучки, толковали более всего о предстоящем возвращении поморов.
— Сын-то у меня одиночка, Власьюшка, на него вся надея! — говорила сорокалетняя баба своим собеседницам. — Што, как не придет. Надысь Николе Морскому богу молилась… обещание дала сюда прийтить.
— По вере, значит, по своей, в церковь не ходишь? — ответила ей широкоплечая Пелагея, пятидесятилетняя крупная баба-раскольница. — Дело, что в церковь не ходишь, а сюда пришла!
— И другожды — в другой раз — милости просим, — подтвердила другая раскольница.
Поодаль от разговаривавших, у самого края воды, копошились в двух-трех местах мальчишки, камни швыряли, дрались, балясничали. Девушки составили свои кружки, и одна из них рассказывала другим, как ее дядинька с теткой новый дом строить хотят; среди них виднелась и Агафья, то и дело поглядывавшая в сторону к поселку, откуда она ожидала прибытия Марфы. По глади прибрежных песков бегали взад и вперед собаки. Запоздавшие лодки между тем продолжали подплывать; подходили из поселка, одиночками и попарно, женщины и девушки. Заметила Агафья, еще издали, шедшую на бабью завороху Марфу.
— Глянь-ко, девушки, Еремина спесивица тоже жалует, — проговорила она. — Знать, тоже измаялась, по муже извелась.
— Муж мужу рознь, — возразила Агафья. — Ерема скоро и совсем «залетен», по-местному — стар, станет…
— Широки ворота запрешь, а мирского ротка не забьешь, Агафьюшка! это о тебе люди пословицу сложили, — ответила девушка. — Гляди, как бы опосля и на тебя какой сплетки не вышло! Ссорить да мутить ты горазда! Агафья не удостоила эти слова возражением и, взяв под руки двух ближайших к ней товарок, повела их в сторону к поселку, навстречу к медленно подходившей Марфе, и начала им свое повествование:
— Только что сбежала я по тропинке к заколу, — говорила она, — рано утром, чуть свет, как слышу, сзади меня Петр идет: я, это, в камни-то и приткнулась…
И раздавался рассказ Агафьи навстречу приближавшейся Марфе, и она слышала его.
Если утром на ранней заре спряталась Агафья от Петра, как пугливая ящерица, в камни, то в полном свете дня, на людном берегу, навстречу Марфе, она не пряталась более. Темные глаза ее, когда соперницы повстречались, проводили Марфу неподвижным, холодным взглядом, и все три девушки, шедшие под руки, даже уступили бледнолицей женщине дорогу. Так очищают путь встречные люди похоронному шествию…
С приходом женского населения на берег моря продолжалось исполнение старинного обряда, начатое еще накануне. К этому же самому месту ходили женщины еще вчера к вечеру, начали молить ветер, чтобы он не серчал и «давал льготу» дорогим летникам-промышленникам; вчера ночью собирались они на ближайший поток, после заката, мыли котлы и били камнем или поленом флюгарку, чтобы она «тянула поветерье»; тогда же, под звуки, издаваемые флюгаркою, пересчитывали они поименно, кто кого вспоминал, но исключительно только плешивых сельчан и знакомых, стараясь насчитать их числом трижды девять, и отмечали каждого сосчитанного углем на лучинах; Агафья назвала Ерему. Уже в глубокую ночь, с этими помеченными лучинами в руках, ходили бабы под Задворкам и, переименовывая добрые и недобрые ветры, голосили во все горло:
— Веток да обедник, пора потянуть, запад да шалоник, пора покидать, тридевять плешей все сосчитаны, пересчитаны, встокова плешь наперед пошла!
И пока выкрикивали бабы эти слова, бросали они лучины себе через голову, а затем припевали:
— Встоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а западу-шалонику спину оголю, у встока да обедника < жена хороша, а у запада-шалоника жена померла!
В ту же глубокую темень предшествовавшей ночи следовал осмотр брошенных лучин, — как которая упала? Гаданье предсказывало, что на следующий день ветер будет с той стороны, в которую ложились лучины крестами. Желателен был, конечно, ветер северный, пригонявший суденышки с моря, но не все лучины обещали такой ветер, и вот с этими-то неподатливыми, дурными пророками предстояла своеобразная расправа.
Пелагея-раскольница явилась как бы прирожденною распорядительницею, запевалою всей совершавшейся обрядности. Окинув взглядом побережье и видя, что все в сборе, подняла она с земли старую флюгарку и ударила в нее камнем. Резкий, хриплый звук старого железа, насквозь проржавевшего за долгие годы, разнесся далеко по побережью, и сколько ни виднелось кругом женских голов, все они сразу повернулись в сторону звука. Пелагея, ударившая всполох, неустанно продолжала свою музыку, и все немедленно направились к ней; женская толпа, стянувшаяся к раскольнице, как к центру, обступила ее плотным кольцом, легкий пар от дыхания задымился возле нее по широкому кругу. Одни только собаки продолжали рыскать по-прежнему, и над всем этим в полной неподвижности поднималась отвесная, темная скала с ее двумя острыми рогами.
Пелагея, увидев, что все собрались, положила подле себя наземь флюгарку, бросила камень и стала спрашивать: у кого те лучины с собой принесены, которые вчера на дурной ветер пали?
— Вона, во! на мою! — завопили по сторонам ее многие бабы и девушки, и белые лучинки, просовываясь к Пелагее между платков и тулупов, замелькали в толпе во многих местах.
— Ну, а тараканы, девушки? — спрашивала Пелагея.
— И тараканы тут, — раздалось с нескольких сторон одновременно.
— Сажай их, девушки, сажай, как установлено, — быстро проговорила Пелагея. — А нам тем временем лодки справлять!
Толпа, для приведения в исполнение слов Пелагеи; раздалась пошире, и во многих местах началось оригинальное сажанье тараканов на лучины: сделаны расщепы и в каждом из них, на каждой лучинке, ущеплено по таракану.
— Теперь, кто готов, на воду, детки, на воду! — кликнула Пелагея. — Да смотри не мешкать — вода уходит!
Вода действительно уходила с быстротою, заметною для глаз, будто кто гнал море прочь от берега; крайние к берегу струи воды будто слизывали пески, укатывая, унося с собою самые легкие песчинки. Бабы и девки, с лучинами в руках, кинулись было к лодкам, торопились вскочить в них, собираясь отъехать от берега и пустить на воду лучины, чтобы «тараканы северный ветер подняли», как вдруг кто-то из оставшихся на берегу неожиданно крикнул:
— Наши плывут! наши!
Этого клика было совершенно достаточно, чтобы быстрое, суетливое движение на берегу обратилось мгновенно в неподвижную живую картину. Все глаза обратились к одной стороне, к северу, и острое зрение поморянок не замедлило отличить в указанном направлении несколько черных точек. Если бы эти черные точки, поморские шняки, держали не на рога, не к поселку, им предстояла другая путина — левее, далее от берега; если бы это были не свои, а чужие люди, они, в этот час отлива, не отваживались бы, для сокращения пути, идти этим местом, между темными грядами быстро обнажавшихся повсюду камней.
Дрогнули многие сердца на берегу, дрогнули неодинаково; бились, должно быть, сердца и тех, что были в море, потому что, иначе, зачем бы такая торопливость, короткий путь в непогоду выбирать? Усиливавшийся с севера ветер убеждал в том, что шняки будут на месте никак не более как через час. Женщинам предстояло немедленно отправляться в обратный путь к селению, кто как прибыл. Одни повскакали в лодки и отчалили, другие пошли к пескам, и вся эта масса серых и темных цветов, все эти бабы, девки, мальчишки и собаки, временно оживившие пустынное побережье, свеялись с него в одну сторону, к селению, словно опавшие листья, гонимые ветром по осени. Это был тоже своеобразный, быстрый отлив людей, только иные силы отгоняли их, чем те, что отгоняли одновременно с ними убегавшее море.
Неподвижно чернел крайний, высокий утес с его рогами. Он, будто сознавая, что на него теперь, в эти минуты, пристально глядят рулевые на шняках, высился среди серого, бессолнечного, но ясного дня со всеми изломами своих < сложных очертаний. С удалением женщин снова потянули к нему разные морские птицы. Спокойно рассаживаясь по его богатырским бокам и загибам черных щелей, они, будто испуганные, отпархивали только от его вершины. Причина состояла в том, что между двух скал-рогов стоял Петр. Неподвижен как утес, нахлобучив шапку, осиливал он взглядом далекие, слегка белевшие по гребешкам, под дыханием «севера», морские волны и глядел на шняки.
Чтобы ему видеть Марфу, надо было присутствовать при «моленье ветру». Петр, прямо от свидания с нею, прошел хорошо знакомым ему «путиком» вдоль «няши» — тинистого болота, и очутился на утесе к тому времени, когда стали прибывать первые лодки с женщинами. Не сказал он об этом своем намерении Марфе, но цели своей достиг: видел он ее, никем не замечаемый, с высокого утеса, слышал ржавые звуки флюгарки, следил за тем, как пошла Марфе навстречу Агафья, под руку с двумя девушками.
На его глазах совершился неожиданный перерыв бабьей «заворохи», и все они потянулись обратно к селению. Заметил он также, что Агафья поместилась в одну лодку с раскольницей Пелагеей.
— Завойлочит, запутает, ехидная! — думалось помору.
Не мог он также не заметить, что Марфа пошла к поселку последнею, забытою, одинокою…
«Голубушка! родная моя!» — думал Петр, и недобрые мысли, злые всполохи чувства сказались в нем.
Очистилось побережье; быстро приближались шняки. Хорошо знакомый с ними, Петр отличил — чьи они; вот и Еремина второю идет, и Еремин треух у руля виднеется. Приди шняки часом ранее, они бы у самого берега прошли, а теперь, с отливом, пришлось им дальше держать, и бегут шняки, бегут быстро, и килевой ветер гонит их мимо утеса, на котором стоит Петр и наблюдает.
И когда шняки протянулись мимо, стал он сходить с утеса, но уже не в сторону болота, а в сторону к морю, коротким путем, соскользнул с него и направился песчаною полосою к селению. Отбежало море, обнажились бессчетные черные камни, и похрустывали, и давали брызги под ногами помора длинные водоросли, только что отложенные на берег водою, еще полные ею и не начавшие обсыхать. Сердце его угнетала печаль безысходная.
«И как это, — думалось ему, — шла Марфа горемычная позади всех, бледнехонька, одинехонька, голову понурила!., и как это, когда шняки мимо меня „севером“ гнало, и Еремин треух вместе с ними, словно былая радость, все счастье мимо уплывали… извести бы… его, проклятого…»
Эта мысль была совсем новою мыслью для Петра; он, будто испуганный, огляделся, боясь, не подслушал ли кто. Но кроме водорослей ничего подле не шелестело; шумел ветер, а от селения, до которого оставалось недалеко, несся веселый говор и смех. Прибывшие поморы сошли на берег. Петр направился прямо к толпе.
В одном месте скопление народа было особенно велико; туда-то и пошел Петр. Окруженные вплотную женщинами, виднелись ему еще издали поморы; отыскивая, как бы пробраться в самую кучку, любопытные мальчишки шныряли вокруг, стараясь найти лазейку между бабами, но никакой возможности пролезть не находили; то вправо, то влево, стараясь заглянуть внутрь кучки, нагибались головы тех, что стояли снаружи… Происходило что-то необычайное. Еремин треух высился выше прочих.
— Чтой-то? — спросил невольно Петр у первой попавшейся ему навстречу Пелагеи.
— Утоп! — коротко ответила она.
— Кто утоп?
— Ерема на покрутчине.
— А Марфа где? — спросил Петр, совершенно невластный в себе и своих словах.
— Омморок с нею, в оммороке лежит, оттого и люди подле, — ответила Пелагея.
Кучка подалась под могучими руками помора. Бросившись к кучке, он протискался прямо по направлению к большому Еремину треуху.
Точно! шапка Еремы, но человек под ним другой — Никита-знахарь.
А на холодном песке, окруженная говорящими поморами, только что окончившими рассказ о том, как именно потонул мгновенно свалившийся со шняки в море и бог весть почему пошедший вдруг камнем ко дну Ерема и как попал треух его, всплывший на воду, на голову к Никите, — лежала неподвижная, «безрудая», бледная как смерть Марфа; бабы усердно хлопотали подле нее; насупившись, стояли по кругу поморы, и лицом к лицу с Петром делись черные, устремленные на него в упор очи Агафьи. Обморок Марфы прошел только тогда, когда, раскрыв с большими усилиями стиснутые зубы, ей влили в рот несколько капель всегда имеющегося при поморах норвежского рома. Едва только открыла она глаза свои, как отыскала ими Петра, стоявшего рядом с другими; она уставила их на него и снова закрыла, но только на короткое время и со сладким, глубоким вздохом облегчения. Марфа вдруг поднялась с земли… проводили ее до дома. Приветлив и светел показался ей этот дом. Так и все в жизни бывает. Кому беда, кому радость…
Месяц спустя сыграна была свадьба. Еремина треуха Марфа к себе в дом не взяла.
Очерки
От Соловок до Кеми
Ночевка у Як-острова, Таможенный пост. Вид на Кемь и кемлянок. Переправа через порог. Два собора. Женский город. Жемчуг и его добыча. Историческое о Кеми. Легенда о 40 рукавицах. Осмотр «Забияки» кемлянками. Отъезд.
Ловко и быстро снялся с якоря «Забияка», покидая Соловки; он давно уже вспенивал винтом своим за кормой тяжелую беломорскую волну; давно уже замерли салютационные выстрелы, с него раздававшиеся в ответ на выстрелы монастырских пушек, а последние все еще продолжали гудеть вслед великому князю и наконец замолкли, стихли за отдаленьем. В полнейшей ясности северной полуночи на 18-е июня скрылись, задвинулись мало-помалу долго умалявшиеся очертания Соловецких островов и все ближе выяснялись влево от нас острые, темные профили неприветливых островов Кузова. Они лежат почти на полпути между Соловками и Кемью, совершенно остры, мрачны, голы, угрюмы, и дали предвкусить своим очертанием то, что предстояло нам видеть на бесконечном Мурманском берегу. Вслед за ними, будто декорации, шествовали в светлой ночи, выплывая из светлой воды, другие очертания, другие острова, тоже голые, скалистые, необитаемые, большие и маленькие, острова с названиями и без названий, и наконец около 2 часов ночи близ Як-острова бросили мы якорь для ночевки. Тут окружил нас темневший по светившемуся полуночным светом морю целый архипелаг и виднелись: Дальний Кузов, Немецкий Кузов, ближе и гораздо ниже их Ольховый, Топоруха и еще многие. Здешнее море никогда не спокойно, оно вечно терзается приливами и отливами, чрезвычайно разнящимися своею вышиной в той или другой губе его. Эти четырехкратные перемены дня и ночи следуют одна за другой по пятам, непосредственно, и вызывают видимую простым глазом борьбу течений: спор прилива с отливом, обозначающийся видимо, называется «сулоем». От места якорной стоянки, Як-острова, до Кеми оставалось верст 30, и мы сделали их с утра очень быстро и бросили якорь вторично. Для съезда с «Забияки» на берег надо было воспользоваться приливом, и для первого же знакомства с характером беломорских портов нам приходилось сделать девять верст, отделявшие нас от Кеми, сначала на нашем паровом катере, а дальше, ближе к городу, в порогах реки Кеми, на местных лодчонках. «Забияка» сидит 14' и должен был стать далеко, но пароходы Общества Мурманского Пароходства «Кемь» и «Онега», сидящие 6', могут подходить почти к самому городу; первый из этих пароходов видели мы на якоре недалеко от нас.
День, как и ночь, был очень теплый и светлый, и глазам было больно смотреть на яркое серебро моря, еле колеблемое ветром. Влево от клипера виднелись на берегу: бездействующий казенный лесопильный завод и здание Ягостровского таможенного поста, один из карбасов которого подъехал к нам; таможенные солдатики в матросских куртках, с зелеными воротниками и такими же околышами фуражек, большею частью людей местные, очень отважные и ловкие моряки. Всех таможенных карбасов в Белом море 43; имеется еще и паровой карбас. В 1869 году простой карбас стоил 135 р., в 1870-м — 250 р., в нынешнем году обходится он постройкой 400 р.; сравнение цен этих может служить очень наглядным доказательством возрастания стоимости леса. Береговая линия Ягостровского поста, подле которого мы стояли на якоре, составляет 130 верст; отсюда же наблюдают таможенные и за Соловецкими островами. Контрабанды вообще мало, но, не будь этих зеленых людей, ее несомненно было бы достаточно.
Паровой катер, несмотря на встречный юго-восточный ветерок, или — как его здесь называют — «обедник», отвалив от клипера, шел быстро. Прежде всего обозначилась на приближавшемся берегу сосновая роща с часовней Ильи Пророка, отстоящею на три версты от Кеми; роща эта — любимое место прогулок кемлян и единственная представительница зелени на голых скалистых окрестностях. Почти одновременно с нею глянула вдали и сама Кемь, и яснее других обозначились на плоском берегу едва видного из волн городка две церкви — старый, закрытый по ветхости, и новый, неоконченный соборы; есть еще небольшая третья церковь — кладбищенская, так что в городе церквей две или три, как считать. Яснее и яснее поднимались из воды мелкие строения; вырастал как будто и берег, замкнутый вдали по кругу довольно высокими холмами; вправо от нас просунулся в море каменистый мысок и невдалеке от него, на зелени прибрежного луга, шло, направляясь к городу, довольно большое стадо. По некоторым из печатных источников, мурманские и беломорские коровы питаются рыбой, треской, вследствие безусловного недостатка травы. Может быть, такие коровы и существуют где-нибудь дальше, но тут, в Кеми, нет достаточной причины этому оригинальному развитию коровьего вкуса.
Около 2-х часов времени прошло с тех пор, как мы покинули «Забияку» и, идя против ветра, но по приливу, оставив влево полуразрушенную батарею, построенную против англичан в 1855 году, въехали в довольно широкий бассейн, образуемый рекой Кемью; на берегу, вправо, лежали, накренившись, несколько судов, прибитых весенним ледоходом; невысокие, голые, скалистые холмы вырисовывались за ними и будто вырастали. Отсюда увидели мы очень ясно: новый собор с его тремя шатровыми шапками, мост на колодах через реку Кемь, сильно пострадавший в последний ледоход, так как третью часть его снесло, небольшие домики, островок с часовенкой, благополучно существующий в самой стремнине порога. Мы могли любоваться на разостлавшуюся по берегу громадную радугу горожанок-кемлянок… До берега казалось так близко, рукой подать, можно было отличить черты каждого лица, чуть ли не рисунки сарафана и кацавейки, а между тем самое трудное предстояло: рядом с нами клокотал порог, покрывая своим вечным голосом временное «ура!», несшееся с берега. Между островком с часовенкой и городом река Кемь перекидывает свои крупные сердитые волны через крутой и высокий гребень скал и направляет их дугой, образуя сильную круговую стремнину. Паровой катер мог двигаться только до этого места, а тут предстояла пересадка на маленькие лодочки, легкие, быстрые, доски которых связаны сосновыми корнями или тростником. Порог ревел невообразимо, заглушая людские голоса, когда у самого края его к катеру подскочили расцвеченные флагами лодочки с гребцами женского пола. С лентами на лбах, в золототканых повойничках, с цветными платочками на шее и груди, быстро и ловко подгребли кемлянки к катеру… <…> …раз, два, три, и утлая лодочка, подчиняясь могучим ударам весел наших плечистых северянок, скользнула по направлению к берегу по безумно прыгавшим белым волнам порога… <…> …и двинулась людская радуга, женская фаланга, в пестрейших, зачастую златотканых одеяниях, вся залитая светом самого яркого солнца… в собор. Лошадей в Кеми нет, — пришлось идти пешком.
В Кеми встретились мы, таким образом, в первый раз с типом обычного на нашем севере в летнюю пору в высшей степени характерного женского города. Весь мужской персонал, способный работать, отправляется в марте или апреле на Мурман, и возвращаются они не ранее сентября или октября. Матери, жены и дочери остаются на местах, что нисколько не мешает им отваживаться в открытое море, когда и на чем угодно, и прибрежное дитя еще в люльке готовится быть моряком, не знающим страха и вскормленным неприветливым морем, так как матери-кормилицы берут с собою ребяток в лодки и укладывают спать на носу или на корме. Смелы кемлянки до безумия, и нередко тонут они даже в городском пороге, но эти безвременные жертвы не влияют ни на общий строй жизни, ни на личные характеры. Тонут так тонут, кричат так кричат, и кричат же кемлянки невообразимо, потому что говорить попросту в Кеми нельзя, и обыкновенная речь заглушается вечным голосом вечного порога.
Его высочество прослушал в соборе многолетие. Собор этот как-то очень давно строится, на деньги (кажется, 60000 р.), пожертвованные частным лицом, и все не достраивается. Говорят тут о том, будто и в самой постройке этой не было необходимости, так как старый собор вовсе не ветх; говорят, что большинство населения Кеми, и в особенности заправилы, раскольники, что поддерживать собора они не хотели. Верно то, что старый вовсе не так ветх, как о нем толковали; хотя он строен 175 лет тому назад, но лес его прочен и при некоторой поддержке мог бы служить еще очень долго; в нем трехъярусный иконостасе и очень древние иконы, несомненно старейшие, чем сам собор, пожалуй даже новгородские, из каких-нибудь прежних исчезнувших церквей; имеются два придела, в каждом по иконостасу резному, деревянному, с очень характерными царскими дверями: краска с них лупится, позолота потерта. Великий князь посетил и этот храм и заявил начальнику губернии свое желание, чтобы древность этого собора, которая, будучи перенесена, уже отчасти украшает строящийся новый собор, в случае, если бы она оказалась ненужною и не оцененною по достоинству, была доставлена в музей христианских древностей при Академии художеств. Благодетельное желание его высочества, распространенное более широким применением к другим местностям России, невероятно легкомысленно уничтожающим древности, может принести своим осуществлением громадную пользу, и нельзя сомневаться в том, что это так и будет. Новый, недостроенный собор не может выдержать сравнения со старым: это заурядная небольшая церковь, скорее комната, чем церковь, имеющая сени, отделенные перегородкой, и украшенная очень немногими иконами; в старом соборе их много, и если не озаботиться о перенесении их или починке крыши, то предстоит неминуемое и скорое разрушение, так как дождевые потоки уже разрисовали сиротеющие стены храма своими сталактитными изображениями. От стен веет сыростью, несмотря на погулы ветра по храму.
Смотр кемской местной команде ограничился поверкой строя, потому что — это может показаться оригинальным — производству гимнастики и фехтования помешали кемлянки, буквально наводнявшие место построения. Воинские чины живут здесь по обывателям, впредь до ожидаемого в скором времени возобновления сгоревших казарм; они пользуются временно отведенною им сборною, удовлетворяющею возможным от учебной залы требованиям. <…>
Временно остановился его высочество в лучшем доме города, принадлежащем сыну городского головы Водохлебова, находившемуся ко времени приезда великого князя в море на промыслах. Это один из богатых хозяев-поморов; у него семь шняк, три шхуны и две промысловые яхточки; дом убран чисто, совсем комфортабельно; вообще поморские дома могут похвастать обстановкой: гардины, зеркала и мягкая мебель не редкость у таких хозяев промыслов. Живут поморы обыкновенно в нижнем этаже, по праздникам переходят в верхний и тут принимают гостей; одним из существенных украшений является гладко вычищенный, зачастую накаливаемый самовар; он ставится на почетном месте и играет, если угодно, роль статуи; наряжаться любят не только жены и дочери хозяев, но и простых работников — «покручников», так что если верить рассказам, то почти все, что остается свободным от заработков, идет на одеяние. Яркость цветов действительно поразительна; как и во многих местах севера, местный жемчуг, вылавливаемый в реке Поньке, в 50-ти верстах отсюда, составляет одно из любимых украшений; шелков и золотой ткани тоже очень много. Здесь, как и везде, любят «песни играть», и во все наше пребывание на берегу, под рокотанье порога, с разных сторон слышалась песня.
Жемчужница, Unio margaritiferus, по словам профессора Гримма, очень распространена в прозрачных, светлых водах речек нашего северного края, и подтверждение этому имеется действительно в нарядах женщин олонецких и архангельских; особенно славятся жемчужницами речки Сюзьма, Сума и Повенчанка; добыча же его наиболее развита в Коле. Ловят жемчужницу или «ракушницей», деревянной рамой, снабженной ножом, помощью которой сцарапывают ракушку с каменистого дна, или просто руками, обходя известные места и пользуясь светом полуденного солнца. У промышленников сложилось даже нечто вроде особого одеяния с принадлежностями лова; надо иметь много опытности, чтобы по наружному виду раковины судить о том, есть ли в ней жемчуг, и не вскрывать понапрасну; попадаются жемчужины до 100 р. ценою, но редко; сбыт жемчуга обеспечен всегда.
Жителей в Кеми около 1000 человек. Как и значительная часть побережья Белого моря, Кемь в свое время была поместьем Марфы Борецкой и в 1450 году отдана ею Соловецкому монастырю, о чем и свидетельствует хранящаяся в монастыре «вкладная крепость» с вислыми свинцовыми печатями. На этих древних документах зачастую не обозначалось ни числа, ни года; не более точны были и межевые знаки; определялось, например, что уступаются те «два лука (или две обжи, каждая длин-нику 126, а поперечнику 32 сажени) земли, где Парфенка да Першица живут». Следовательно, эти сгинувшие Парфенки да Першицы — тоже исторические данные. В 1597 году вторглись сюда «коянские немцы», то есть финляндцы из города Кояна, причем были побиты соловецкий воевода Озеров и бывшие с ним стрельцы. Новое нападение последовало год спустя, но воевода Аничков отбился; в 1657 году Соловецкий монастырь, по-видимому сильно интересовавшийся Кемью, поставил здесь острог и снабдил его пушками, пищалями и припасами. Есть сведения, что острог этот напором льда снесен в 1763 году. С 1785 года Кемь уездный город, и открывал его бывший в то время олонецким губернатором Державин, едва не потонувший при этом случае.
Хотя Кемь считается одним из лучших уездных городов Архангельской губернии, тем не менее летом нет в него въезда, нет выезда в экипаже. Г. Михайлов, пробывший здесь целое лето, утверждает, что он видел одну только лошадь, занятую развозом водки на санях. Он был счастливее нас: мы не видели ни одной. По его словам, гористая местность Кемского уезда, дальше, в глубь страны, выработала даже особый тип архангельских горцев, а близость моря, опасного моря, вынянчила замечательных моряков. От Кеми до Онеги и по всему Кандалакскому заливу на протяжении 500 верст нет вовсе сухопутных дорог и все сообщение происходит на карбасах, для чего приблизительно на 40 верстах расстояния устраиваются почтовые пункты; гребут опять-таки только женщины, и могут сделать 120 верст, работая в две смены. По окраинам города есть кое-где огороды, где растет морковь, редька, репа и брюква; по-видимому, картофель — корнеплод слишком нежный для этих широт; капусту тоже привозят, и цена ей 5 р. за 100 кочней. Но и Кемь некоторым образом юг относительно недалекого Мурмана, потому что в одном из становищ морского побережья Ура, которое мы посетим, морковь уже не растет, и люди ограничиваются только тремя остальными овощами. Говорят, впрочем, что в этой далекой Уре в 1873 году пробовали сеять ячмень и как будто что-то получили.
Легко, конечно, относиться саркастически к этой скудости и угрюмости страны двухмесячной ночи; легко нам, наезжающим, судить о том, что измаянный работой, часто становящийся лицом к лицу со смертью в океане, со смертью в становище в образе цинги или скорбута, помор лишнее выпьет. Но что за сила воли обитает в этих людях, каких только подвигов нельзя ожидать от них! В 1850 году в «Архангельских губернских ведомостях» опубликовано было, что кемский мещанин Михаил Никитин вдвоем с женой ходил на шняке своей на Новую Землю. Спрошенные о нем старожилы ответили нам, однако, что никакого такого Никитина они не помнят. В тридцатых годах умер тот Старостин, что проживал зимы на Шпицбергене в течение целых сорока лет. Это ли не люди, это ли не характеры, это ли не моряки?
Существует любопытное местное предание, напоминающее отчасти легенду Вильгельма Телля, это рассказ «О сорока рукавицах». Дело в том, что шведы пришли по обыкновению на реку Ковду грабить; чтобы добраться им до села, нужно было пройти порог и нужен был человек, способный провести лодку. Нашелся такой человек, но на самой быстрине соскочил он с лодки на берег, оттолкнул ее, и все находившиеся в ней погибли; выплыло только сорок рукавиц.
Как уездный город, Кемь обставлена и всеми соответствующими атрибутами власти; здесь есть шкиперское училище, но летних занятий в нем нет. В реках Кемского уезда одною из важных статей дохода является семга и ее промысел; город Кемь от семужьих заколов получает 700 р., Сорока — 500 р., Ковда и Умба по 2 000 р., Поной — 5 000 р., доходы Кузомени достигают крупной цифры 10 000 р.
Полуденное солнце было очень ярко и жарко, когда великий князь направился к пристани, опять-таки пешком, окружаемый вплотную амазонским населением Кеми. Несмотря на густую толпу, пыли почти не было, так как «проезжих» улиц нет и городские домики расположены, словно рассыпаны, на зеленой мураве; да и, вообще говоря, подлежит сомнению, существуют ли в Кеми улицы? Если они есть, то весьма схожи с деревенскими проулочками, с той разницей, что по совершенному отсутствию лошадей и колесных экипажей свободно обросли приземистой, но сочной травой. <…>
…Нельзя было терять ни минуты, так как начинался отлив. Не успели мы тронуться с места, как ото всех выступов обмытых волнами скал, изо всех щелей побережья, в которых гнездились лодочки… в стремнину порога двинулась целая флотилия наших морских амазонок, толкаясь одни о других так, что страшно было глядеть. На расцвеченных флагами лодочках по четыре и шести гребцов на веслах, кое-где уткнув в носы и кормы лодочек ребятишек, двинулись кемлянки вслед великокняжескому катеру: кто под парусом, кто и без него; со всех сторон под взмахи весел и повертывания рулей «игрались песни». Понятно, что гребцы отставали от катера, но немного. Вышли мы по отливу из реки в залив и направились к видневшемуся верхушками своих мачт «Забияке». Только что причалили мы к нему и взошли по трапу на палубу, как приблизились к высоким темным бокам его и лодочки кемлянок и окружили вплотную, образовав подле обоих трапов как будто живой, трепетавший на глубоких синих волнах помост.
Никогда не видали кемлянки военного судна; существует у поморов шуточное прозвище парохода вообще — «жора»; едва ли наш щедро вооруженный клипер мог им показаться шуточным; хотелось им его видеть, и великий князь дал разрешение пустить женщин на палубу. Как цветные бабочки, полезли они по крутым трапам на «Забияку»; никого не осталось в лодочках, никого, кроме самых маленьких ребятишек, уткнутых в носы и кормы, и клипер населился женщинами вплотную, так что в полном смысле слова на нем не было прохода. Все осмотрели кемлянки: и великокняжеские каюты, и кают-компанию, и ют, и бак. Сторонились они с уважением от громоздких орудий, исследовали якорь и его цепи, заглянули в машину, в трюмы, ощупали снасти. Пестрые сарафаны, яркие платки и кокошники мелькали повсюду, оттеняемые темно-синими воротниками матросов, пораженных и очень довольных неожиданным посещением. По ярким краскам одеяний бросал подвижную, волновавшуюся тень свою дым трубы клипера, и глубокое голубое небо спорило с блеском любопытствовавших женских глаз.
Прошло около получаса времени, когда посетительниц начали приглашать удалиться. Поползли они обратно по трапам вниз на свои лодочки, и надо было видеть ту смелость, ту ловкость, с которою рассаживались они по лодкам, перескакивая с ближайших на дальнейшие, между веревок, державших лодочки одну подле другой. <…> Это ли не тип, это ли не народ? — думалось невольно, и какое-то сладкое чувство гордости и самосознания щекотало Душу.
По мере того как всякие Домны, Василисы и Аннушки рассаживались на свои лодки, отыскать которые было довольно трудно, они, разобравшись веслами и веревками, отчаливали от «Забияки», направляясь к недалекой обнаженной гранитной луде. Сойдя на скалы, кемлянки живописно разместились по ним и неумолчно «играли песни», пока снимался с якоря «Забияка» и давал большой полукруг, поворачивая нос к морю. Термометр показывал 20° в тени; небо и воды были совсем лазурны. Наконец завертелся могучий винт нашего клипера. Совершенно невольно, безотчетно проскальзывала мысль о том: неужели же это наш туманный, забытый, отличающийся неясными очертаниями Север? Что же делают наши художники, не заезжая сюда и предпочитая для воспроизведения на полотне находящиеся под рукой изображения Финского залива или невских тоней? Эта скала с цветными кемлянками, эта лазурь небес, это лучезарное море не видали еще нашего художника.
Посещение Кеми было роскошным, цветистым предисловием нашего пути на Мурман. Мы тронулись дальше поперек Кандалакского залива, в начале 4-го часа пополудни, имея перед собой один из самых длинных предстоявших нам переездов к недалекой от Норвежской границы Териберской губе. По расчету времени завтра, 19-го июня, около 8-ми часов утра, должны мы были перейти Полярный круг и войти в область незаходящего солнца.
От Кеми до Териберки
Вечерняя молитва на «Забияке». Терский берег. Гидрография северной окраины. Заслуги Литке и его сочинение. Родион Иванов. Обская экспедиция. Маяки. Ночь на 20-е июня. Общее впечатление бури. Святой Нос. Появление первых китов. Мурманский берег. Вход в Териберскую бухту.
Уверенно и покойно шествовал «Забияка», простившись с Кемью, с ее горячим днем и еще более горячими красками женских одеяний. Глаза наши мало-помалу успокаивались, благодаря легкой пасмурности, начинавшей окружать клипер, по мере движения к северу, к горлу Белого моря, связывающему его воедино с безбрежным Ледовитым океаном. Под равномерные звуки винта совершались обычные на клипере занятия. Когда спустился вечер, — что было заметно только по часовой стрелке, но никак не по слабости света, — ровно в 8 часов, раздались обычные свистки, и команда собралась на молитву. Двумя шеренгами вытянулись матросы вдоль правого борта, от рубки к баку, и сняли шапки. Отчетливо и неторопливо пропели они «Отче наш», осенялись крестами, и звуки молитвы разносились кругом над глубокою теменью непокойной пучины. Есть что-то очень приятное, есть чувство глубокого единения со своими в сознании того, что эту самую молитву, в этот самый час и на том же самом языке посылает русский человек к богу и в Белом море, и в Индийском океане, и по лазурным заливам Средиземного моря. Как ни прочно судно, на котором вы плывете, как ни верен компас, как ни опытен капитан или штурманский офицер, но вы все-таки на скорлупке, под вами верста и более глубины, а над вами бесконечное небо, из таинственных пространств которого нет-нет да и вырвется шквал или шторм и докажет вам очень наглядно, что проволочные канаты ваши не более как паутинные нити, а сами вы — ох какое маленькое, хотя и смелое существо! Молитва, и только молитва, идя от сердца, под рост колоссальным пространствам неба, темени неизведанной глубины и еще более темному сознанию неизвестности.
А глубины нашего побережья Ледовитого океана и Белого моря в значительной степени действительно неизвестны. Плавание здесь вовсе не то, что в других морях, имеющих прочные, вечно исправляемые карты, где к услугам вашим рейды и порты, являющиеся тихими, покойными заводями. Гидрографический департамент только в последнее время предпринял исследование Белого моря; в 1884 году хронометрическая экспедиция сделала астрономическую связь 10 пунктов с Архангельском, и затем предполагается приступить к систематическим измерениям и к производству съемок на основании этих 10 пунктов.
Что касается дальнейшего Севера, то мы пользуемся до сих пор трудами одного большого человека, недавно умершего, поставившего себе вечный памятник в труде, изданном в 1828 году, под заглавием: «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан — Литке, в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах». Сочинение это, в полном смысле слова классическое, издано in quarto и составляет теперь библиографическую редкость. Настольной книгой моряков при путешествиях в этих странах служит изданное в 1876 году гидрографическим департаментом «Гидрографическое описание северных берегов России» Рейнеке, в 1883 году дополненное Неупокоевым; эта книга только экстракт капитального труда Литке, памяти которого нельзя не поклониться, как только переплывете вы Северный полярный круг.
В сочинении Литке, помимо множества карт, с обозначением промеров, помимо разных таблиц и очень характерной гравированной панорамы большей части нашего северного побережья, имеется и исторический очерк того, как давно, очень давно пускался простой русский человек на утлых суденышках, безо всяких карт, проникать в «челюсти полюса», словно пробуравливаться в них. Исторически несомненно, что первым русским кормщиком, осмелившимся пробраться на Север в 1690 году, был Родион Иванов. Литке замечает, что много было и других, более ранних кормщиков, ходивших до Оби и Енисея и на Новую Землю, но имена их заглохли, потому что с ними не случилось того, что случилось с этим Ивановым. Иностранец Витсен, со слов Иванова, описал его путину: как шли они, как были разбиты на острове Шарапова Кошка, на восточном берегу Карского моря, как зимовали, сделав себе хижину из глины и моржовой и тюленьей крови и шерсти; из 15 человек в живых осталось только 4. Темная внушительная драма эта остается до сих пор единственным известным нам путешествием в XVII веке и единственным, кажется, описанием Шараповых Кошек. В конце XVIII века пробрался к восточному берегу Новой Земли кормщик Лошкин, но не нашлось Витсена, чтобы записать его слова.
В третьем десятке прошлого века императрица Анна Иоанновна задумала экспедицию, подобной которой, по обширности предположенных действий, почти нет в летописях морских открытий: намеревались описать берега от Архангельска до Америки! Суда, назначенные в это плавание, назывались «Экспедицией» и «Обь»; в 1734–1735 годах начальствовали ими лейтенанты Муравьев и Павлов; позже прибавлены другие суда и были другие лейтенанты. С 1736–1739 года посещены были Югорский Шар, Ка-нин Нос, устья Оби и Печоры. Все эти плавания совершались почти без карт. Карты Новой Земли, очень гадательные и очень неполные, могли быть составлены до 1807 года только по плаваниям Баренца, Размыслова и Поспелова. В 1819 году орудовал в том же деле лейтенант Лазарев. В 1828 году издано наконец капитальное сочинение Литке. Север давным-давно служил нашим смельчакам-казакам и промышленникам путем-дорогою ко всяким открытиям. Так, даже в настоящую минуту… по представлению Академии наук, на берегах Ледовитого моря, в Устьянске, далеко на востоке орудует ученая экспедиция для обследования Новосибирских островов. И там, как близ Новой Земли, еще в 1710 году казак Пермяков доносил о существовании к северу каких-то неведомых островов, и якутский воевода послал к ним Вагина с 11 казаками. В 1810 году промышленник Санников открыл на них русскую могилу с крестом. Чью же? В 1808 и 1820 годах снаряжены были туда еще две экспедиции, и только теперь, 60 лет спустя, предположено окончательное научное обследование, и доктор медицины Бунге находится в Устьянске. Но начальный путь, как и в Новой Земле, указан и здесь смельчаком, простым русским человеком.
Все названные имена мелькали в памяти при приближении нашем к горлу Белого моря, когда, после спокойно проведенной ночи, около 81/2 часов утра, подле Сосковца — маяка, стоящего на острове, перешли мы в первый раз Полярный круг. О вчерашней хорошей погоде не было и помину. Мелкий холодный дождик шлепал по палубе и по чехлам орудий; зыбь, никогда почти не прекращающаяся в этом месте соединения Белого моря с океаном, давала себя чувствовать очень ясно. Мы миновали Кандалакский берег, на котором имеются на лицо «матушка Турья гора, госпожа Кандалука губа и батюшка Олений рог», и шли в расстоянии трех миль от высокого скалистого Терского берега, по гранитам которого, прибавляя холоду к картине, резко белел снег, спускаясь белыми пятнами и нитями от вершин к самому уровню моря, вырисовывая арабески. Часов около 12-ти миновали мы Орловский маяк, ясно выделяющийся своею вышиной над морскою пучиной. В 1872 году, в июле, со шхуны «Бакан», привезшей на маяк припасы, спущен был баркас для доставки их на берег; командир Сафонов, очень молодой человек, не внял советам, перегрузил баркас, и все 15 человек с командиром своим погибли вследствие спора течений, достигающих здесь наибольшей силы; спасся на двух веслах один только офицер. Снегу на берегу видели мы довольно, и во мглистой неясной атмосфере образовывался мираж, поднимавший эти снега над морем, и двигавшиеся невдали от нас поморские шхуны шли, казалось, по земле.
Около 6-ти часов вечера приближались мы к знаменитому, как самое бурное место, Святому Носу с огромной быстротой. «Забияка» делал 11 узлов в час, а отлив прибавлял еще 4 узла. В Белом море вообще нет покоя, но в горле его идет вечная зыбь, постоянная толчея, и мы выходили в открытый океан под нехорошими предзнаменованиями: барометр падал, самый опасный изо всех ветров, северо-восточный, крепчал; дождь и мгла, туман и облака перепутывались одни с другими самым бессвязным образом, и пасмурность была так велика, что мы потеряли из виду берег, находившийся от нас не далее двух миль. Святой Нос со своим маяком тоже скрылся, потонул гораздо скорее, чем следовало. Ровно в 8 часов вечера собрались люди опять на молитву; на этот раз она была не пропета, а прочитана, потому что люди могли быть нужны ежеминутно, да и пенье было бы нескладно при качке, все более и более усиливавшейся. В кают-компании нашей не раздавалось обычного в вечерние часы пения одного из офицеров и сопровождавшего его хора; его заменяло посвистывание ветра по снастям, пощелкивание той или другой упавшей со стола вещи и внушительные всплески волны, видимо стремившейся посетить «Забияку», войдя к нему непрошеной поверх бортов. Становилось очень холодно; равновесие в температуре воды и воздуха было полное, термометр показывал в обоих 4°.
В ожидании бури, к которой видимо дело шло, любопытно было дать себе отчет в собственных чувствах. Положим, думалось, «Забияка» крепок; несомненно, что офицеры и команда не хуже компаса знают свое дело, а все-таки разве можно поручиться? Вероятно, не во всех путниках одинаково было чувство ожидания, но нельзя было не подметить в себе пробуждения какой-то, если можно так выразиться, отважной заносчивости. Чем сильнее качнет, чем порывистее ударит ветер в борта и рассыплется множеством отдельных голосочков по всяким закоулочкам клипера, тем яснее и яснее становилось чувство: а я все-таки плыву куда хочу, а я все-таки сила, и не меньше той, что кругом меня бушует и неистовствует. Желавших лечь спать не было. По странному стечению обстоятельств больных морскою болезнью, кроме укаченной прислуги, тоже почти не было. На великого князя качка не действовала, вовсе; у некоторых из нас, людей суши, заметны были как бы задумчивые лица, некоторая довольно забавная сосредоточенность. Между матросами, в особенности между молодыми, показались было некоторые симптомы морской болезни, как говорят — очень заразительные, но командир, кликнув боцмана, очень внятно и просто сказал ему, чтобы не было больных, и — больных действительно не было. По-видимому, начальническое слово оказалось сильнее морской болезни или, по крайней мере, поползновений к ней, которые так много способствуют развитию ее на пассажирских пароходах.
Если было когда темное время на нашем пути, так это в ночь с 19-го на 20-е июня. Мгла висела кругом сырая, полусветлая и все-таки непроглядная по всему широкому горизонту неба и океана. Ярче других и даже очень ярко светилось в машине нашего клипера, где в остром серебряном блеске электрического освещения двигались на глубокой глубине, если смотреть с палубы, составные части машины, все эти поршни, рычаги, поблескивая где желтой медью, где белой сталью; по металлическому помосту машинного отделения, перед печью, краснели темные груды черного угля, готового отправиться в печь, и на вымазанных сажей лицах кочегаров лежало то же самое родственное красное отражение. Какая громадная разница: глядеть на море, готовое стать бурным, с его беспорядочными тесными волнами, идущими наперебой одна другой, с его серо-свинцовыми красками, с неравномерными посвистами и множеством отдельных вихрей, бестолково хозяйничающих в одном могучем течении NO, и глядеть в правильно действующую могучую машину. Вы стоите, наклонившись над нею, смотрите в нее и в тот или другой момент качки чувствуете по вздрагиванию судна, что в него ударила могучая волна; вы ждете, что это вздрагивание, сказавшееся в вас, непременно отразится и на машине. Ничуть не бывало: она бьет тот же неизменный такт; только перебегут отражения огней с одного места на другое, только откатится с угольной кучи который-нибудь из кусков, но тотчас же успокоится и будет продолжать краснеть тем же багровым отблеском, что и его собратья, оставшиеся лежать на месте. Вы смотрите в машину, и она успокаивает вас, прибавляет уверенности.
Не успели мы вступить в океан и ознакомиться с его разыгрывавшеюся зыбью, как подарил он нас другою, очень характерной картиной. Подле самого Святого Носа, около 7-ми вечера, увидели мы первых китов. Кита не сразу отличишь, если нет к этому привычки или сноровки. Вам говорят: «вон кит! смотрите!» — и вы ровно ничего не видите, во-первых, потому, что горизонт слишком бесконечен, на нем сразу не уловишь, а во-вторых, киты, эти колоссы Ледовитого океана, так быстры, так юрки, что вы никак этого не ожидаете, и глаз ваш, готовящийся смотреть на нечто довольно грузное, никак не улавливает быстрого. Неправда также и то, как рисуют обыкновенно китов на картинках: на них громадная туша кита виднеется вся поверх воды, а над головой его поднимается сноп воды, падающий наискось в виде фонтана; так говорят картинки; но на самом деле кит мелькает над поверхностью только небольшой частью своего тела — головой, хвостом, спиной, и фонтана он не «пускает», а «брызжет», так что никакой струи в нем вы не отличаете, а видите только брызги, разлетающиеся конусом из одного центра. Может быть, при спокойном море киты лежат на поверхности и пускают фонтанчики, но нам они представились совсем иначе. Быстрота движения китов очень велика и напоминает как нельзя более движение черноморских дельфинов, с тою разницей, что киты не кувыркаются, а дельфины не пускают брызг.
При первом появлении китов увидали мы их штук шесть разом; так как кит, доставленный на китобойный завод, даст около 2 тысяч рублей, то подле нас плавал маленький капиталец. Капиталец этот встретил нас у самого начала пути по Ледовитому океану и доставил красивое зрелище. В нынешнем году, как говорят, — и мы в этом убедились, — киты держатся недалеко от горла Белого моря, и нашим китобойным пароходам, находящимся почти подле границы Норвегии, приходится выезжать за сотню-другую миль.
С полночи NО крепчал все более и более. Помимо тех неприятностей, которые он нам причинял, разрушил он и последнюю надежду попасть на Новую Землю. Опытные люди, специалисты здешних плаваний… утверждали, что если еще недавно слаба была надежда пробраться туда, теперь, после этого NО, погаснет она совершенно, потому что нагонит льдов и уставит их по берегам острова плотной массой. Может быть, говорили эти люди, ветер и изменится, но достаточно и теперешнего его бушевания, чтобы быть уверенным в невозможности пути; льды, говорили они, находятся теперь отсюда милях в 300-х и при попутном ветре движутся очень быстро. Новая Земля, посещение которой, по-видимому, состояться не могло, остающаяся до сих пор с восточной стороны своей почти совершенно необследованной, это спасительница нашего Севера; если Гольфстрим, теплое течение от запада, обогнув Норвегию и направляясь вдоль нашего Мурмана к Новой Земле, обусловливает сравнительную мягкость температуры и незамерзание нескольких гаваней, то Новая Земля задерживает движение к нам от NО вечных, колоссальных льдов; не будь ее, очень может быть, что белый медведь существовал бы и в Белом море, а в Петербурге и Москве было бы бесконечно холоднее.
К утру, часам к 3-м, на клипере сделано было распоряжение «найтовить» орудия, то есть для прочности прикрепить их особыми добавочными канатами; затем вдоль палубы протянули «леера», веревки, за которые при ходьбе по палубе можно бы было держаться. Это было совершенно необходимо, хотя вследствие найтовки орудий от канатов, протянутых поперек, ходьба была крайне затруднительна, да и вообще особенного удовольствия в ходьбе по наводненной палубе, при пошлепывании с боку на бок, при необходимой в этом случае широкой расстановке ног, не предвиделось. Буря крепчала; кренометр, висевший в рубке штурманского офицера, показывал 30° качки, то есть 60 в обе стороны, по килю. Было холодно, всего 8°, и сырость пронизывала насквозь. Мгла — так казалось, по крайней мере, — только сгущалась, а между тем нам необходимо было видеть берег к тому времени, когда мы подойдем к ближайшей цели нашего пути — к Териберской губе, чтобы войти в нее; до сих пор «Забияка» оказывался удивительно точен в своем пути; будет ли он таковым сегодня? будем ли мы около 8-ми часов утра подле Териберки?
Непростительно, испытав порядочную бурю в Ледовитом океане, не полюбоваться ею вполне, то есть не взойти, и не раз, на тот или другой мостик. Палуба скоро пригляделась. Матросы в желтых кожаных куртках, шапках и штанах, таких жестких, что глядеть на них было жестко, были заняты каждый своим делом: поправь то, да прикрепи это, да полезай туда! Эти кожаные куртки на частных пароходах называются «олеофраками», в насмешку, конечно, и надо быть достаточно ловким и сильным, чтобы при лазаньи погнуть как следует упругую, неподатливую желтую кожу. Зато защищала эта кожа отлично от соленой воды, перемахивавшей из-за бортов на палубу, а также и от той, что подливалась снизу из так называемых «шпигатов», этих отверстий, хорошо всем знакомых, расположенных по краям палубы для стока воды. Очень занимательно было видеть, как при сильном накренении клипера океанская вода, бурля, будто в котле, проникала в шпигаты ключом и тотчас же разливалась по палубе, чтоб убраться туда же, откуда пришла. Эти посещения волны снизу и разливы ее были бы равномерны, если бы не неожиданные притоки воды через борт в большем или меньшем, но совершенно неожиданном — и разнообразном количестве. Эта вода сверху попадала незаконнейшим образом то за шею человека, то в рукава и составляла, если можно так выразиться, самую неприятную особенность бури при У тепла в воде.
Вид с мостика на океан был чудесен. Необозримыми легионами двигались громадные волны все в ту же сторону, что и «Забияка», как бы нагоняя и подгоняя его. Здесь, на мостике, высоко над палубой, чувствительнее были размахи качки, и можно было наблюдать, сколько сажен по всяким кривым выписывали в воздухе вершинки наших мачт. Кто не знает, кто не слыхал, что существует так называемый девятый вал, гораздо более крупный, чем все остальные. Может быть, это и так, может быть, это подтверждает и наука, но простому, ненаучному наблюдателю это кажется немного иначе. Самые судорожные, самые неожиданные вздрагивания и колебания, захватывающие дух, испытывает судно вовсе не от видимой волны. Если вы смотрите на эти надвигающиеся, изредка перебитые шеренги их, вы приблизительно верно определяете, в какую сторону и насколько накренит вас. Но вот, совершенно неожиданно, без всякого предупреждения, на полпути уже совершающегося накренения в одну сторону качнет вас с титанической силой в другую, вы как будто куда-то глубоко опуститесь и как-то очень высоко подниметесь, вас повалит вбок, вас как бы потянет опрокинуться. Нет никакого сомнения в том, что это сделала волна, но отнюдь не та, видимая, хотя бы и девятая, а какая-то другая, идущая глубоко под волнами, какое-то суммирование этих волн, сила, не имеющая вида, (очертания, имени, но бесконечно большая всех остальных!
Был 7-й час утра, когда на мостике заметно стало особенно много начальственного персонала. Дело заключалось в том, что по расчету мы должны были находиться недалеко от входа в Териберскую губу; надо было распознать, отличить вход в нее. Это было нелегко по многим причинам. Во-первых, сам Мурманский берег в этих местах настолько однообразен скалистыми своими очертаниями, что и в светлый день вход в бухту особенно резкими признаками не отличается. Во-вторых, туманная мгла, завеса дождя, облегала берег серой, сомнительной теменью; идти к берегу ближе 1½-2 миль при ветре, сильно наваливавшем к нему, было опасно, а на этом расстоянии от очертаний Мурмана виднелись как бы клочья, то и дело задвигавшиеся туманом и вновь открывавшиеся. Вдали, сквозь туман, местами прорывавшийся, двигались перед глазами будто какие-то осколки, тряпки берега. За долгий путь наш, благодаря этой завесе тумана, мы мало что видели от Мурманского берега; надо надеяться, что на обратном пути мы ознакомимся с ним больше и декорация его протянется пред нами с желательной ясностью. К счастью для нас, расчет и на этот раз оказался совершенно верен, и «Забияка», несмотря на бурю, привел нас к желаемой бухте точь-в-точь. Из-за мглы, тумана и дождя заметно было на берегу какое-то будто бы углубление общего фасада скал: это именно и была Териберская бухта, и мы повернули к ней. Териберка — одна из лучших, но небольших бухт нашего поморья — и была нам совершенно приятна именно теперь, потому что она, будучи почти открытой северо-западному ветру, отлично защищена от северовосточного, подгонявшего нас, отвесными скалами, поднимающимися с этой ее стороны и называемыми здесь, подле этой губы, «Волчками». А зайти в бухту было своевременно; ветер крепчал, и кренометр показывал уже не 30°, а 35° наклонения; команда была утомлена; большей частью все мы продрогли и промокли да и качки натерпелись достаточно, можно было отдохнуть. В шканечном журнале всякому ветру, а тем более буре, выставляются баллы. Той, которая потрепала нас, поставлено 9; должно быть, 12 баллов не ставят никогда, потому что судно погибает. Мы входили в Териберскую губу в 10-м часу утра. Здесь почти конец нашего поморья, то есть той окраины, возвращаясь от которой поморы «идут в Русь».
От Териберки до Аре-Губе
Вид Мурмана в солнечный день. Западная часть его. Характер скал. Гольфстрим. Характерный остров Кильдин. Мир пернатых. Охотничьи рассказы. Иностранцы. Прибытие к китобойному заводу.
Июня 21-го был яркий, горячий день. Около 8 часов утра мы снимается с якоря и оставляем Териберскую бухту. По выходе в океан «Забияка» взял курс на запад к границе Норвегии, в обход острова Кильдина. Мы направлялись к самому северному, к самому далекому пункту нашего плавания — к Арской губе, так что Кола, в которую мы заедем на обратном пути, самый северный город России, останется от нас к югу слишком на 1/2 градуса широты. Ветра нет почти никакого, но зыбь все-таки велика; куда девались и темень, и туман, и могучие порывы шторма; кажется, им и места не могло быть в этой безупречной лазури неба, над светящейся волной океана, над розовыми очертаниями мурманских скал. Можно ли было предполагать, что эти изможденные скалы тоже умеют быть розовыми?
А Ледовитый океан при ярком солнечном свете обладает богатыми красками; разрезываемая клипером вода цвета зеленого, выступающего с особенной яркостью, благодаря безусловной белизне пены, расстилающейся по ней кружевом; дальше, там, где, по-видимому, волн больше, где они пестрят своими несчетными гребнями, становящимися за далью как бы малыми гребешками, и наконец исчезают, эта искрящаяся зелень переходит в глубокую синь, в сильнейший аквамарин. На самом горизонте на севере этот аквамарин сгущается в одну могучую бархатную черту, проведенную гигантской рукой живописца, как бы сказавшего этим: «тут небо, тут водное пространство; никогда им не смешиваться!», и голубое небо, как оно ни лазурно, не переходит заветной бархатной черты глубочайшей сини водной пучины, способной, как люди, на страсти, на страдания и на великие радости.
Хотя ветра не было почти никакого, но зыбь в океане, как мы сказали, ходила отнюдь не слабее вчерашней. Не скоро улегаются взводни Ледовитого океана; целыми днями длятся они, когда причина их — ветер — давно уже прекратилась. Та же самая вышина волн, то же почти широкое раскачивание «Забияки», только не льет вода через борт, не клубится она в шпигаты, и если злобствовали волны вчера, сегодня они с нами только заигрывают, так, да не так. Вчера все было пасмурно, сыро, серо, все рокотало, свистело, было холодно; сегодня все лазурно, волна ласкает своим шумом, непробуравливаемая вихрями, и солнце ярко, и вам тепло.
А берег? а мурманский берег? Он был весь перед нами, вытянутый в бесконечность в самой красивой его части. Если про какие-либо скалы в мире можно сказать, что они похожи на остовы, скелеты, так это про Мурман. Они в очертаниях своих костлявы и жилисты, и жилы эти как будто служили когда-то путями какой-то жизни и остались следами погасших геологических процессов от тех дней, когда камни еще двигались и совершали свои странствия. Берег этот, иззубренный, продырявленный, выдвинутый со дна океана, с великой глубины, гол совершенно; граниты и гнейсы обнажены вполне, потому что при этих колоссальных размерах пейзажа ни во что нейдут, конечно, всякие мхи, обильно и цепко растущие повсюду, равно как чрезвычайно миловидная розовыми цветочками своими мелкая вороница, и наконец, березка-лилипут, березка-карлица, стланец, предпочитающая стлаться по земле, поблескивая своими густо-зелеными, крепкими листиками в серебряный гривенник величиной. Последняя представительница на Севере наших лиственных лесов, березка эта, съежившись и мельчая, все-таки провожает сюда родную землю, гнется к ней, целует, довольствуется тем, что дает ей эта земля, а дает она ей очень мало, и то только в течение короткого двухмесячного лета.
9 Тысячеверстное обличье мурманского берега, обращенное к океану, начиная от Святого Носа до норвежской границы, не одинаково ростом: к норвежской границе оно возвышается. Скалы Терского берега, мимо которого мы плыли третьего дня, скалы Святого Носа, Семи Островов, — Оленьего, Териберки не превышают 400'; очертания этих берегов однообразны в высшей степени, больших заливов нет; от Териберки начиная, скалы вырастают, достигают 700', и берега изрезываются глубокими бухтами; множество островов, с их разнообразными очертаниями, дробит на многие планы неподвижный, утомительный фасад линии Мурмана и образует множество глубоко художественных эффектов. Это с художественной стороны, но и со всяких других сторон эта западная часть мурманского побережья является и характерной, и важной.
Гольфстрим — теплое течение, опоясывающее наше полушарие, направляется, как известно, к западным берегам Норвегии, в ее фиорды; он заходит прямо в них и обусловливает ту мягкость температуры, то развитие рыбного промысла, которые служат главнейшим основанием быта всего норвежского побережья. Что там все это процветает, что к услугам рыбаков имеются телеграфы и телефоны, срочные пароходства и удобства сбыта — причина этого не в одном только благодетельном, оживотворяющем Гольфстриме, так как он касается и России и приносит и ей свою обильную лепту. Облагодетельствовав норвежские фиорды, он отталкивается ими, огибает Норвегию и направляется прямо на наш Рыбачий полуостров; отсюда, полосой во 150 миль ширины, идет он к SО, О, ОNО, постоянно удаляясь от берегов наших, и уже у Святого Носа находится в одном градусе расстояния по прямому пути на Новую Землю. Вся причина обилия трески, сельди и идущих за ними крупных представителей морской фауны — китов, акул и др., именно в этом теплом течении, отчасти касающемся и нас; от него же зависит и незамерзание многих наших северных бухт в глубокую зиму, когда и Нева и Волга скованы льдами; оно же, одновременно с бурливым характером Северного океана, обусловливает и то, что берега океана местами не замерзают совершенно или замерзают узкою полоской верст на 30, временно, причем этот «припай» льдов, не успев образоваться, уже ломается и разносится по сторонам, унося с собой зачастую промышленников, ушедших на «наледный промысел». Рыбачий полуостров, почти что омываемый Гольфстримом, самое бойкое место нашего западного Мурмана, служит центром весеннего лова, и к нему-то чрез Колу и другими путями идут те промышленники наши со всех сторон, о мартовских походах которых мы говорили. Тут же, в этих местах мурманского побережья, еще со времени новгородцев, широко занималась жизнь; сюда глянул, образовывая китобойное дело, Петр Великий; здесь существует Екатерининская гавань, в которой зимовал когда-то наш военный флот; здесь же, наконец, в последние 10–15 лет, когда поднялись первые голоса в пользу нашего забытого Севера, сказалась первая попытка его оживления и эксплуатации; тут в настоящее время скопляется весь промышленный Мурман, и, наконец, в будущем — вероятно нигде, как тут — должны мы стать твердой военной ногой. Обидно видеть на карте, изданной гидрографическим департаментом, что как раз подле этих мест, на самом северном пункте Норвегии, открытая со всех сторон всем ветрам, обозначена лучистой звездочкой крепостца Вардэ-Хус; она словно зарится на наш Рыбачий полуостров.
По мере движения «Забияки» на запад, по мере того как в полной солнечной ясности тянулись пред нами разные очертания скал над глубокой зеленью океана, картины становились все привлекательнее, не жизнью людской, которой здесь все-таки очень мало, но возможностью такой жизни в будущем. Пример маленькой Норвегии у всех на глазах: север ее оживился только в последнее двадцатипятилетие.
Нам пришлось выйти в океан довольно далеко, или, как говорят поморы, «в голомя», в открытое море, для того чтоб обогнуть самый характерный, в геологическом отношении, остров Кильдин. Мало на Мурмане таких выделяющихся своею конфигурацией мест, как Кильдин. Он виден за много, много миль, как с востока, так и с запада. Если смотреть на него с моря во всю его длину, составляющую 9 миль, представляется он отвесной, со всех сторон обрубленной скалой в 600–650 вышины, безусловно голою; только снизу будто присыпан к нему песок, чтобы прочнее стояла эта скала и не качалась. Тут, в этом наружном виде Кильдина, все обман. Во-первых, это не скала, а хрупкие сланцы первозданных пород, песок, если угодно; все острова, весь матерой берег, пройденные нами, начиная от Белого моря, все это гранит; по Иностранцеву, острова Белого моря гнейсовые, а вот именно Кильдин почему-то составился из хрупких сланцев и принял неуклюжую, столообразную форму. Уж не на русское ли хлебосольство намекает он? Другой обман — это пустынность Кильдина. С севера, с моря, он действительно совершенно наг и гол, даже и мхов на нем не заметно, но с юга, там, где отделяется он от матерой земли узким проливом, от 350° до 3 верст ширины, говорят, представляет он из себя ряд террас, возвышающихся амфитеатром и густо поросших богатой зеленью. К югу смотрит эта сторона Кильдина и совсем защищена от северных ветров; есть там и пресная вода, сбегающая из находящегося на столовой поверхности острова озера, есть и поселенье, и гуляют олени.
Было около полудня, когда, обогнув Кильдин, стали мы сворачивать к юго-западу, направляясь к губе Ара. Отсюда вид становился очень красив, потому что перед нами из волн океана возникла в полной цельности одной своей стороной вся главная, животрепещущая западная часть Мурмана. Впереди, далеко впереди виднелся очень ясно, даже с деталями скал и их очертаний, Рыбачий полуостров, находившийся от нас милях в 30-ти. В сиянии полуденного солнца над глубокой синью моря полуостров этот, состоящий из темных шиферов, был весь розовый с сильными полосами белых снегов, залегавших на нем в большем количестве, чем где бы то ни было. Он казался нам островом, потому что Мотовский залив как бы отрезывал его от материка совершенно. Влево от нас, на таком же расстоянии, взламывая монотонную линию береговых скал, обозначались один подле другого входы в бухты Уру и Ару; мы направлялись к последней, дальнейшей. Скалы, обрамляющие оба входа, освещаемые солнцем сбоку, очень красиво играли большим или меньшим оттенением. По мере приближения нашего к ним, нагота их становилась совершенно наглядной и могучая зыбь ударяла в них, вытягивая вдоль берегов длинную ленту звездившейся пены.
Если вчера, входя в Териберку, «Забияка» двигался осторожно, сегодня не уменьшал он хода, уверенно направляясь к проливчику. Мы держались более левой стороны; справа на низенькие Арские острова, состоящие из громадных гранитных глыб, океанская зыбь налегала неимоверно сильным буруном. В ярком солнечном свете сине-зеленые волны взлетали на острый мысок ближайшего, совершенно открытого северо-восточному ветру островочка. Тут уже не одной только белой полосой, а несколькими параллельными, разорванными полосами виднелась пена прибоя, вздымаемая бесконечно возобновлявшейся волной. Полос этой белой пены было много; дальнейшие от берега, старейшие, покачивались, будто мертвые, отжившие, и исчезали. И треск, и стон неслись от этой могучей толчеи, и «Забияка» поступал очень благоразумно, держась от нее невозможно далеко, держась левого берега.
Эта левая сторона представляла из себя нечто совершенно противоположное. Тут поднимались совершенно отвесные, высокие скалы, так называемый «Толстик»; в могучую накренившуюся темную щель, наполненную осколками попадавших в нее камней, скрывался прыгавший с вершины водопадик, след вчерашнего дождя. На всех выступах Толстика, по всем острым кронштейнам и фантастическим карнизам, на мягких подушечках мхов, будто на диванчиках, высоко, высоко, под самый верхний край скалы восседала в огромном количестве морская птица. При приближении клипера с мест своих слетали немногие, но когда «Забияка», чтоб оповестить о своем приходе лежащий в глубокой бухте китобойный завод, дал свой басистый свисток волжского пошиба, большинство птиц шарахнулось со своих сидений и пустилось в лет. Одни из них улетали опрометью, чуть не касаясь трубы и мачт «Забияки», в сторону; другие тотчас же возвращались, покружившись тревожно и немного: должно быть, это были матери.
Мир пернатых по нашему северному поморью очень богат. Чаек тут больше всего, затем следуют утки. Ценнее всех, бесспорно, гага, Somateria molissima, сохранение яиц которой в Норвегии вызвало самые строгие охранительные законы, которых, к несчастью, нет у нас, и бедная гага, которой очень нравились когда-то наши бухты и заливчики, почти покинула их, почти перевелась; за получением гагачьего пуха нам следует теперь обращаться к Норвегии. Характерна из здешних птиц кайра, с белой грудью и черной спиной, с ногами, поставленными далеко назади; кайра высиживает одно только яйцо, синее, испещренное как будто бы еврейскими каракулями. Очень мал и юрок черненький с красным носиком и лапками чистик; крупен и важен черный баклан, обладающий зобом, схожим с тем, что отличает пеликана; очень велики некоторые сорта морских орлов. Чаек, как сказано, больше других: Larus marinus, L. argentatus, L. tridactylis, L. canus — чайка-буревестник; очень характерна testris parasitiens — разбойник, ворующая рыб, уже схваченных другой птицей; камнешворка, Strepsilas interpres, ворочающая камушки для добычи червяков; следуют морские ласточки, морские сороки, морские кулики, гагары, глупыши и т. д. Сычей и сов достаточно; дикие возгласы их по ночам и раскатывающееся эхо пугают поморов, и тогда говорится, что «леший вторьем морочит». Это целый особенный мир пернатых, все больше белых, серых и черных, но почти у всех из них есть какие-либо яркие отметины: красный клюв, клок ярко-синих перьев, пятно на лбу или на груди, напоминающие о других, более счастливых странах красок и света.
Какие именно из этих птиц, вспугнутые свистком «Забияки», кружились над нами, сказать невозможно, во-первых, потому, что их было слишком много, а во-вторых, потому, что мы продолжали идти полным ходом, не стесняясь птицами, направляясь к китобойному заводу. «Лотовый на лот!» — кликнул старший офицер; клипер пошел самым тихим ходом; следовали промеры. Завод открылся вправо от нас; он построен вокруг небольшой бухты, совершенно закрытой от всяких ветров, но очень маленькой. Мы могли вволю налюбоваться действительно красивым видом на это еще так недавно возникшее поселение, потому что «Забияка» еле двигался. Вправо, на скалистом отдельном холме, стоял двухэтажной дом управляющего заводом; прямо против нас поднимались деревянные постройки завода, разместившись у подножия скал; перед ними, частью в воде, на дощатой покатости лежали два убитых кита: большой — синий и малый — полосатик. Темные колоссальные туши их блестели на солнце, будто лакированные; темные крутые полосы бороздили тела. С вершины скалы, поверх завода, сползал небольшой водопадик, бегущий от двух небольших расположенных на горе озер; он будто плакал о судьбе водяных гигантов, привлечённых в эту маленькую бухточку и ожидавших терпеливо и безмолвно своего распластания, и спускался к ним по острым уступам скалы.
На самой бухте, расцвеченные флагами, слегка покачивались пять китобойных пароходов, принадлежащих двум компаниям: той, завод которой мы посетили, и другой, имеющей свой центр в Еретиках, который мы посетим завтра. На носах пароходов виднелись небольшие толстенькие пушки, которыми стреляют китов; на мачте одного из них висела плетеная корзина, из которой, как с вышки, высматривают кита.
День был удивительно ясен, прозрачен; глаза наши, утомленные видом голых скал, успокоились на довольно яркой зелени берегов бухточки; тут виднелись небольшие березки и какие-то кустики вербы или лозы и чахлой рябины, просовывавшиеся сквозь груды обточенных камней и кругляков. Мхов и вороницы было тоже вволю; белели ягели; голубая вода бухты так чиста, что тарелка, брошенная в нее, совершенно исчезает от глаз только на глубине 30 саженей. Целые стада рыбы кружились в ней подле клипера, и вся игра их была видна как на ладони. Грохнулся якорь, и мы остановились.
Термометр показывал 20° в тени, и картина была бы прелестной, если бы не запах самых убийственных свойств, доносившийся от поры до времени с особенной ясностью от завода и ждавших своего распластания китовых туш.
Стоявший пред нами завод — центр деятельности «Товарищества Китоловства на Мурмане», существующего с 1883 года. Затрачено на все это дело по настоящее время около 300 000 р.; промышленников и рабочих на заводе всего 109 человек, считая в том числе и те 10 человек, которые назначены исключительно для ловли трески, как главного предмета пищи, и остаются здесь сторожами на зиму. Товарищество имеет два китобойных парохода и еще один, небольшой; на каждом из первых двух по 10 человек народу; собственно на заводе участвующих в обработке китовых туш 50 человек. Одной из первых, но не единственных выгод для местных людей от этого прочно поставленного дела является то, что заработная плата за летний сезон, не превышавшая 60 р., поднялась до 90 р. уже в нынешнем году.
За это лето, ко времени нашего посещения, убито было 12 китов; в недалеких Еретиках другой компанией убито 14; те два кита, туши которых блистали пред нами на солнце, распространяя убийственное зловоние, были счетом 11-й и 12-й. Из этих двенадцати экземпляров было 3 синих и 9 полосатиков, большинство самки; местные люди сообщали, будто эти женские киты, резвясь по океану, принимают китобойные пароходы за самцов. Сообщают промышленники и другое наблюдение, касающееся этих же стран и такого же странного характера; толкуют, будто на Новой Земле, опять-таки по наблюдениям над убитыми экземплярами, в противность всяким обычным порядкам, самки и самцы моржей держатся в отдельности на восточном и западном берегу острова. Остров этот величиной чуть не с Англию, и можно себе представить, как трудно этим зубастым, толстейщим и грузнейшим кавалерам быть любезными со своими склонными к отшельничеству плотными дамами. Но опять-таки это, вероятно, один из тех знаменитых охотничьих рассказов, которые сохраняют свою правдоподобность под всеми градусами долготы и широты, совершенно на том же основании, на котором гранит остается везде гранитом, а сланец — сланцем.
Заметим, однако, что эти и тому подобные рассказы далеко не бесполезны. Иностранцы отлично умеют делать ту или другую местность интересной, распуская о ней всякие возможные и невозможные легенды, правды, — предположения; люди любят чудеса и ездят к ним. Мурман тоже то и дело посещался и посещается различными иностранцами. Нам сообщали, что какой-то лорд Дудлей с женой и семейством ездит сюда ловить рыбу и зажигать папироску с помощью лупы светом полуночного солнца; какие-то англичане арендуют у лопарей Пазрецкого погоста, Кемского уезда, реку Паз и приезжают летом, на своих яхтах, для ужения рыбы; сообщают о нескольких посещениях какого-то Роланда Бонапарта; ученый француз Рабо недавно появлялся здесь, отыскивая каких-то допотопных черепов, небывалых, исключительных размеров. Почему избрал он для этой цели Россию и именно ее северное побережье — неизвестно…
Одна из встреч с Тургеневым
Это было в исходе зимы 1860-го года. Меня посетили вечером Иван Сергеевич Тургенев, Павел Васильевич Анненков и Степан Семенович Дудышкин. Я был тогда очень молодым офицером Семеновского полка, в чине, которого ныне не имеется; я был прапорщиком. Офицеры тех дней, при новом царствовании, только что переменили мундиры — с фалдами на казакины, но красные отвороты гвардии оставались. Генералам дали красные штаны и петушьи перья. Я жил в доме покойной матери моей, на Гончарной, четвертом по правой руке от въезда в нее с Николаевской площади. Отец мой умер гораздо раньше.
Хотя в те дни Невский проспект, как и ныне, шел к Александро-Невской лавре, но, собственно говоря, оканчивался он у Знаменского моста, расплываясь на большой площади. Там, где теперь стоит дом, занимаемый «Северной гостиницей», расстилалась никогда не просыхавшая конная площадь. Дальше, к Невской лавре, шли лавки, в которых продавались: возки, телеги, тарантасы для далеких путешествий к северу и северо-востоку России. Николаевский вокзал только что поднял свою невысокую башню, и на Аничковом мосту, принявшем благообразный вид, еще недавно были водружены, повелением императора Николая, бронзовые кони барона Клодта, а их двойники посланы в Берлин. Недавнею новинкою побежали первые в Петербурге общественные каретки, называвшиеся «каретками Невского проспекта». Каретки эти, устроенные генералом Шлиппенбахом, запряжены были парою кляч. Они совершали рейсы между Адмиралтейской площадью, лежавшей тоже непроходимою немощеною степью, через которую по ночам небезопасно было двигаться, и между Знаменскою площадью, сливавшеюся с пустынными Песками. Странно, что в сторону Песков Петербург раздвинулся необычайно быстро, тогда как у Царскосельской дороги, 60 лет назад, как и теперь, вслед за Обводным каналом начинались огороды.
Квартира моя состояла из одной комнаты и прихожей, без кухни. Я столовался в квартире матушки. Одно из трех окон моей комнаты выходило в ту сторону, где воздвигался вокзал Николаевской железной дороги. Дорога эта, как известно, открыта в 1851 году, в 1855 году, то есть в год производства меня в офицеры, названа «Николаевской» и еще не совсем устроилась. Постройки подле вокзала и самый вокзал еще только возводились.
В январской книжке «Современника» появилось в 1860 году несколько моих стихотворений. Появиться в «Современнике» значило стать сразу знаменитостью. Для юноши 20-ти лет от роду ничего не могло быть приятнее, чем попасть в подобные счастливчики, и я попал в них.
Стихотворения эти были доставлены Некрасову помимо меня, следующим образом. Всеволод Крестовский, тогда еще студент, мой приятель, передал их Аполлону Григорьеву, знаменитому в те дни критику, горою стоявшему против того направления либерализма и реализма, которыми отличался «Современник», руководимый Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым. Григорьеву стихотворения мои очень понравились. Он просил Крестовского привести меня к нему, что и было исполнено. Аполлон Григорьев жил в то время в известном всему Петербургу доме Лопатина, длинном двухэтажном каменном строении, тянувшемся по Невскому проспекту в том именно месте, где в настоящее время проходит, благодаря Трепову, Пушкинская улица. Григорьев жил во дворе. Я приведен был к нему утром. Покойный критик был, по обыкновению, навеселе и начал с того, что обнял меня мощно и облобызал. Затем он потребовал, чтобы я прочел свои стихотворения.
Помню, как теперь, что я прочел «Вечер на Лемане» и «Ходит ветер избочась». Григорьев пришел в неописуемый восторг, предрек мне «великую славу» и просил оставить эти стихотворения у себя. Несколько дней спустя, возвратившись с какого-то бала домой, я увидел, совершенно для меня неожиданно, на столе корректуру моих стихотворений со штемпелем на них — «Современник», день и число. Как доставил их Григорьев Тургеневу, и как передал их Тургенев Некрасову, и почему дан был мне такой быстрый ход, я не знаю, но стихи мои были напечатаны.
Может быть, много еще есть в живых людей, помнящих и теперь неистовую травлю, которая направилась на меня вслед за статьей Аполлона Григорьева, напечатанной в «Сыне Отечества», в которой он объявлял, что во мне «народился поэт не меньшей силы, чем Лермонтов». Когда-нибудь мне придется подробнее вспомнить об этом времени, но в настоящую минуту я ограничусь только описанием посещения меня Тургеневым.
В конце января Иван Сергеевич оповестил меня, что заедет ко мне со своими двумя приятелями, Дудышкиным и Анненковым, которых хотел познакомить со мною. Посещение такого крупного литератора, как Тургенев, в сопровождении других двух весьма видных литературных деятелей, являлось событием. Значение литераторов стояло тогда необычайно высоко; знакомство с ними считалось за великую честь, и я помню очень хорошо, как обрадовалась моя покойная мать, когда я сообщил ей, что Тургенев пьет у меня вечером чай.
Обстановка моей квартиры, состоявшей, как было сказано, из полутора комнат, была более чем проста; денщик Семеновского полка Шульц, мне прислуживавший, оказывался почти всегда пьяным, так что рассчитывать на его помощь было нельзя, и я просил моего младшего брата Володю, которому исполнилось тогда лет двенадцать, прийти ко мне и разливать чай. Этот Володя в настоящее время — обер-прокурор уголовного кассационного департамента сената. Вечер, о котором я вспоминаю, памятен ему очень хорошо, и воспоминание о нем у нас осталось общее.
Ночь стояла на дворе морозная. П. В. Анненков и С. С. Дудышкин приехали ко мне часов в девять, один вслед за другим, и ожидали Тургенева, почему-то запоздавшего. Положение мое было не совсем ловкое, потому что люди, сидевшие передо мною, были мне почти незнакомы, а значение их в литературе подавляло меня. Крепкий, энергичный, с зычным голосом и здоровым цветом лица — Анненков являлся значительным контрастом со скромным, как бы неловким Дудышкиным и его изжелта-бледным лицом.
Брат разлил нам чай, и только что сели мы за стол, чуть ли не единственный в моей комнате, как раздался звонок, чрезвычайно сильный — сильный, не по величине помещения. Я выскочил к дверям и увидал, что мой Шульц, детина здоровый и высокорослый, стаскивал с плеч Ивана Сергеевича шубу. Я говорю «стаскивал», потому что крупная фигура Тургенева значительно превышала фигуру моего денщика. Скинув шубу, отряхнув свои седые кудри, Иван Сергеевич вошел прямо в дверь, улыбаясь той широкой, откровенной улыбкой, которая была ему свойственна, и попросил Анненкова и Дудышкина извинить его за опоздание.
— А это кто? — спросил Иван Сергеевич, взглянув на моего брата, сидевшего у стола.
— Это мой брат, Владимир, будущий правовед, — сказал я Ивану Сергеевичу.
— А, юрист? Хорошо, хорошо!
И, подойдя к брату, он потрепал его по плечу.
Я от избытка удовольствия не знал, что говорить и как говорить. Но, к счастью, три литературных собеседника и не требовали моей помощи для того, чтобы разговор между ними завязался.
Разговор шел на разные темы, главным образом между Анненковым и Тургеневым, а Дудышкин вмешивался в него чрезвычайно редко.
Помню, я был крайне поражен тем, что, сознавая, что причиною их появления у меня были мои стихи, они со мной именно о стихах ничего не говорили. Это меня не только удивляло, но даже смущало; почти ничего не говорили о «Современнике», судьба которого в эти годы была поистине замечательна, так как выход каждого номера в свет являлся крупным событием петербургской жизни. Говорили больше о посторонних вещах и, между прочим, о только что начавшей действовать Николаевской железной дороге. Вспомнили Николая I и Клейнмихеля и как он сразу слетел. В значительной степени доставалось, — я это помню очень хорошо, — тогдашнему интендантству, грехи которого после Крымской войны всплыли один за другим и поражали теми широкими основаниями, на которых они практиковались. Говорилось очень много о Севастополе, в котором ни один из трех названных лиц не бывал, но рассказами о котором преисполнено было общество и еще недавно обогащена литература в чудеснейших рассказах графа Льва Толстого. Наконец, как бы сама собою, речь перешла к охоте и к охотникам. Несколько насмешливых слов Анненкова, одобренных молчаливой улыбкой Дудышкина, вызвали Ивана Сергеевича на разговор, и он начал вспоминать о том, чего недописал в своих «Записках охотника».
— Да ведь охотники все люди мнительные и лгуны, — сказал Анненков.
— Ну, лгуны не лгуны, а что мнительны многие из них, то это верно, — ответил Иван Сергеевич. — Да вот, хоть бы и со мною был случай, который не угодно ли вам объяснить!
Надо заметить, что Иван Сергеевич принадлежал к числу людей необычайно мнительных. Стоило ему встретить по выходе из дома лошадь той или другой масти, которая могла предвещать нечто нежелательное, стоило ему услышать в разговоре какой-нибудь намек на число 13, как Иван Сергеевич тотчас если не содрогался, то как бы суживался и уходил в себя. Он ужасно боялся ночи и снов, а в особенности пугало его во всех видах и всегда чувство смерти.
— Да-с, — говорил Иван Сергеевич, — вот что со мною на охоте было… Не задалась мне как-то в один день охота с Ермолаем…
Как только Иван Сергеевич произнес имя Ермолая, так тотчас же у меня в голове промелькнул весь тот характерный облик его спутника на охоте, столь хорошо охарактеризованный в одном из его рассказов; промелькнула и мельничиха, и равнодушная ко всему на свете Ва-летка.
— Охота не удавалась, — говорил Иван Сергеевич, — дичи не было, собаки шли лениво. Денек был серый и неприглядный, скука одолевала нас. Понурил голову и Ермолай.
— Пойдемте, — говорил он мне, — домой. Ничего сегодня хорошего не будет.
— Я, — говорил Тургенев, — послушался его, и мы двинулись по направлению к бричке, оставленной на опушке леса, на излучине реки. Небольшой дождь моросил, и мы шли с Ермолаем молча, понурив головы и свесив ружья. О чем уж я думал, — не знаю, не помню, но я, двигаясь совершенно машинально, решительно не замечал того, что подле меня делалось…
— Вдруг я почувствовал, — продолжал Тургенев, — необычайно сильный удар в грудь, удар до такой степени неожиданный, что я не только остановился, но и отшатнулся. Не прошло и секунды, как глупая причина удара выяснилась. Громадный заяц, — почему уже, бог его знает, — бросился из-под кустов, спросонков, что ли, ко мне прямо на грудь и — ошеломленный моею грудью гораздо больше, чем я зайцем, — немедленно пустился наутек, стрелою по прямому от нас направлению. Ермолай, не пропускавший подобных случаев неожиданных появлений дичи, стоял тоже как вкопанный и даже не подумал вскинуть ружье, пока мы смотрели зайцу вслед. Я тоже не думал целиться, сначала будто руки свинцом налились, а потом мне смешно стало. Когда заяц исчез, юркнув в кусты, я опустил ружье на землю и посмотрел себе на грудь. Следы… следы заячьей шкурки несомненно оставались на моем полукафтане, а удар был так жив и неожидан, что я словно продолжал чувствовать его. Молчание прервал Ермолай.
— Ну, Иван Сергеевич, идемте скорее, нехорошо.
— Да что же нехорошо?
— Да уж идемте, примета нехорошая.
Мы пошли и минут через десять находились подле нашей брички, запряженной парою; взобрались в нее и поехали домой.
Дорога шла подле реки, дождь размочил колеи, жердняк по канавкам, при движении колес, подскакивал… И что ж бы вы думали, — говорил Иван Сергеевич, обращаясь к собеседникам, — что бы вы думали — ведь случилось несчастие…
— Какое? — в один голос спросили Анненков и Ду-дышкин, заинтересованные не тем, что рассказывал Тургенев, а как он рассказывал.
Иван Сергеевич умел говорить, когда ему было любо говорить, и говорил очень хорошо. Не совсем приятно поражало в нем недостаточное соответствие между крупной его фигурой и довольно-таки тоненьким голоском, который, казалось, выходил вовсе не из его мощной груди, а откуда-то со стороны.
— Да-с, — продолжал он, — бричка опрокинулась, я вывалился и сломал себе ключицу…
Здесь я должен повиниться, что не особенно ясно помню, что именно сломал Тургенев: ключицу, руку или ногу. Брат мой, слышавший этот рассказ, тоже не помнит. Но по существу своему, по характеру своему, рассказ этот памятен ему так же хорошо, как и мне.
Почти 40 лет миновало после этого замечательного для меня в моей жизни вечера. Думая написать то, что я только что написал, я хотел все-таки справиться, если это возможно, у кого бы то ни было о том, что именно сломал себе Тургенев на одной из охот? Мне казалось, что такой интересный случай, как тот, который только что рассказан мною, был непременно сообщен весьма словоохотливым Иваном Сергеевичем кому-либо из своих хороших друзей, например Дмитрию Васильевичу Григоровичу. К нему я несколько дней тому назад и направился с целью разъяснить мое сомнение.
Почтенный патриарх нашей беллетристики, болея, сидел у себя дома, не имея возможности выйти на улицу. Несмотря на это, Дмитрий Васильевич оказался настолько любезен, что принял меня и, выслушав мою просьбу объяснить что-либо о сломанной ключице Тургенева, покачал головою, улыбаясь.
— Нет, мне Тургенев никогда ничего подобного не рассказывал, да и вообще я не слыхал ничего такого.
— Однако, — ответил я, — ведь несомненность рассказанного мною для меня подтверждается живым свидетелем, моим братом, который находился, как и я, в здравом уме и полной памяти, когда Иван Сергеевич рассказывал о случае излома.
— Не знаю, не знаю, но мне Иван Сергеевич ничего такого не говорил. Он рассказывал иногда и сам себе верил… Может быть, и это так!..
На протяжении 40 лет совершилось столько событий в общественной жизни нашей, умерло столько людей крупных, деятелей характерных, народилось не меньшее число новых, еще более характерных, но о людях шестидесятых годов каждая страница — назидание, а поэтому и рассказанное мною не излишне. В конце концов по тщательному сравнению того, что совершалось в те дни, и того, что занимает нас сегодня, нельзя не признать, что подъём духа в шестидесятых годах был несравненно выше, чем и конце XIX столетия. Но есть, к счастью, полное основание полагать, что уже и теперь, после долгих странствований и скитаний духа, настают времена более светлые и, может быть, в недалеком будущем повеет в душу людскую тем теплом и тою верою в себя, которыми отличались шестидесятые годы. Страницы их истории еще недостаточно ясно определены, потому что не всех еще прибрала могила, и старые страсти, как бы они ни ослабели, перешли от отцов к детям, еще живут и — часто с достаточной несправедливостью — хулят то, что было хорошо, и хвалят то, что было дурно. Не место, конечно, здесь перечислять дурное и славословить хорошее, но некоторые перемены в нашем общественном настроении к лучшему все-таки имеются. Стоит вспомнить о том, с какой жадностью набрасываются теперь на чтение мало-мальски талантливых вещей; как желали бы люди слышать могучий голос первоклассного таланта, которого теперь не нарождается. Как желали бы они двигаться, действовать, думать о чем-нибудь таком, в чем лежала бы возможность проведения мысли в действие, исполнение, воплощение. Старые идеалы рушились, чувствуется потребность в новых; новые идеалы, несомненно, уже носятся между нас, но они не нашли своего Гоголя, своего Тургенева, своего Достоевского. Заговорят ли они, где и как, неизвестно, но близость заревых лучей чувствуется даже и не очень чувствительными натурами, и свежая поросль зеленеет…