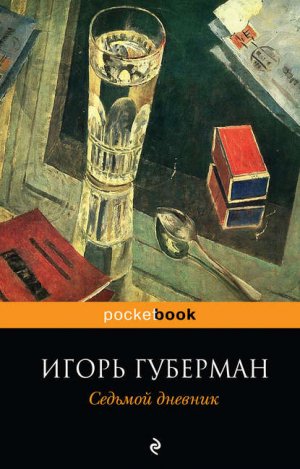
Глава начальная
Два с лишним года я не брался за дневник. А собирался много раз, но вспоминал, как Пушкин заявил категорически, что проза требует мыслей, и бессильно опускались мои руки. Но теперь я вдруг решился и отважился. «В нашем преклонном возрасте надо писать что-нибудь мудрое», – наставительно сказал мне сегодня утром внутренний голос. Но другой, не менее внутренний, резонно возразил: «На склоне лет выёбываться крайне глупо». Я согласился со вторым, хотя подумал мельком, что и первому при случае потрафлю.
Я начинаю эту книгу через два дня после большой семейной пьянки. Мы каждый год, созвав друзей, отмечаем тринадцатое августа, которое на этот раз было юбилейным: тридцать лет как посадили, двадцать пять как выпустили. И двадцать лет на сцене, торжественно добавил я, скостив год ради полноты юбилея. Как тут коллективно не напиться! И конечно же, предаться воспоминаниям. А я подумал, что тогда, в ошеломительную первую ночь в тюрьме, я вряд ли мог вообразить, что тридцать лет спустя буду сидеть в Иерусалиме и похмельно привирать про жизнь в узилище. И что начну новую книгу с некой роскошной фразы, которую придумал для запева. Вот она, простая и немыслимая для того далёкого уже тёмного времени:
Во все предыдущие приезды Париж был солнечным и тёплым.
А на этот раз шёл дождь и не стихал холодный ветер. Из-за этого на кладбище Монпарнас, куда давным-давно я собирался, пробыли мы очень недолго. Впрочем, интерес мой был вполне определённый: мне давно очень хотелось покурить возле могилы Гейне. И мечта сполна осуществилась. Омрачившись, как и всякая мечта от исполнения, убожеством памятника: аккуратный мраморный бюст усердного приличного чиновника. Если бы Генрих Гейне был бухгалтером в банке своего дяди, именно такой памятник он бы и заслужил.
Мы с женой Татой жили у нашей приятельницы на высоком этаже, где из кухонного окна было видно много мокрых черепичных крыш, а главное – почти что вся Эйфелева башня. Вечером она снизу доверху освещалась множеством огней, которые попеременно гасли и загорались. Это было похоже на гигантскую новогоднюю ёлку, заболевшую пляской святого Витта – башня как будто дёргалась в немых судорогах света. Пить кальвадос и видеть эту пляску сквозь потоки с неба было полным и самодостаточным счастьем. Днём можно было смотреть на крыши и читать путеводитель по Парижу, под кальвадос это дивное занятие. Мы, собственно, приехали на выступление, которое давно тут было у меня назначено, но идиотский предрассудок, что турист должен метаться по городу, не давал нам полного покоя. Мы сходили в знаменитое кафе «Чёрный кот», битком набитое такими же заезжими фраерами, сидевшими тут в надежде, что на третьей кружке пива явится им тень Тулуз-Лотрека и других великих завсегдатаев этой некогда дешёвой забегаловки (а ныне цены дикие, поскольку выставлено несколько рисунков посетителей того прославленного времени – их плата за выпитый кофе, очевидно, или за рюмку коньяка). И больше не было у нас, насколько помню, встреч с прекрасным. Если не считать за таковую длительный обед со вполне симпатичным беглым российским миллионером. Он тут скрывается от каких-то злобных подельников, но спокойно ходит в рестораны. Кстати, мы заказали виски довольно хорошей марки, и принесли нам пузатые бокалы какого-то невыразительного пойла: судя по вкусу – слитых вместе остатков из разных бутылок. Я промолчал, поскольку деликатен и тактичен, а миллионер, похоже, просто не заметил. «Всюду надувают бедных россиян», – подумал я меланхолично.
Один приятель мой попался на крючок (они раскиданы повсюду для туристов), донельзя простой и примитивный: обед в кромешной темноте. В фойе этого ресторана к ним вышла невысокая старуха, знаками велела им положить руки на плечо друг друга (они явились вчетвером) и такой цепочкой повела их в зал, легко ориентируясь в действительно полной темноте. Меню там не было, всё предлагалось устно и вполголоса. От супа они отказались, боясь облить одежду, принесли им по кусочку рыбы с неопределимым по вкусу гарниром и ломоть кекса с жидким кофе. Звучала тихая музыка, но главное – сливался воедино гомон многих негромких голосов, то есть ресторан был полон клюнувших на эту чушь туристов, а убогая еда стоила очень дорого.
И на кладбище Пер-Лашез мы тоже побывали. Там надо бы дня два бродить, как минимум, но дождь хлестал, и ветер дул свирепо, и кальвадос удивительной выделки (приятель наш за ним мотается куда-то аж в Нормандию) никак не помогал. Ища укрытия, мы постояли у стены, где рядом – урны с прахом Айседоры Дункан и батьки Махно, о странностях посмертного соседства книги надо бы писать – и обречённо вышли на открытое пространство. А спутник наш (чей был кальвадос) – знаток этого кладбища, но мы богатством его знаний насладились мало. Очень было грустно и неловко у могилы Саши Гинзбурга: огромный православный крест серого камня, ведро из берёзовых чурок с ёлочной веткой и двумя новогодними игрушками – какое всё это имеет отношение к безумного мужества еврею, основателю российского Самиздата, многолетнему неисправимому лагернику? Мы, соблюдая древнюю традицию, положили ему камушки, подобранные тут же, и стоять мне дольше не хотелось, очень уж я помнил истинного Сашу.
Хлебнув из фляжки, мы отошли душой у памятника Оскару Уайльду. Огромный куб, а в вырезе его – большой летящий ангел, а у ангела – хуёк, который посетители кладбища непрерывно отбивают – на память. Администрация даже табличку там повесила: пожалуйста, не надо портить художественный образ. Но туристы эту вежливую просьбу не читают, хуёк отбивают и отламывают, как и прежде, только успевай приделывать несчастный отросток. А на самом кубе – сотни надписей на десятке языков, и голову даю на отсечение – любовного характера. Не знают, очевидно, о превратной сексуальной ориентации великого покойника. А двое россиян – уж те не знали точно, ибо трогательно написали: «Оля + Митя». После мы положили наши иудейские камешки на могилу Модильяни, мельком глянули на бронзового Бальзака и оказались у огромной стелы, где я застрял и долго отойти не мог. Здесь покоился Огюст Маке, мой коллега некоторым образом, поскольку был литературным негром и писал романы, оставаясь безымянным и безвестным. Названия написанных им книг были (по его предсмертной просьбе) выбиты на мраморе: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра», «Королева Марго» и несколько других, столь же известных. Да-да, он был литературным негром самого Александра Дюма. Несомненно, что по написанным им текстам великий Дюма проходил рукою мастера, но в исторических источниках копался, безусловно, негр. А что касается сюжетов, композиций и героев – дело тёмное, но соучастие Маке было весьма значительно. Дюма постоянно недоплачивал бедняге гонорар, всё время торопил (романы ведь сперва печатались в газете, и Маке не мог остановиться и промедлить), уклончиво отвергал все просьбы о соавторстве, но негр его боготворил и много-много лет терпел, надеялся и сочинял. О, как я помнил это ощущение, когда выходит твоя книга, только ты уже к ней не имеешь никакого отношения! А тут великие произведения творились. Но кто теперь хотя бы слышал об Огюсте Маке?
Дождь припустил с такой кошмарной силой, что мы почти бежали, спасаясь в забегаловку у входа на Пер-Лашез. Бутерброды с сыром и ветчиной подавались там в горячем виде, а кальвадос с пивом очень сочетались. Мы сюда ещё не раз приедем, утешал я самого себя, поскольку Тата кладбища не любит и просто совершала подвиг соучастия, как и положено жене.
Я начал с этой мало выдающейся поездки ради нагло свойской фразы о Париже, ибо тридцать лет назад она бы меня очень рассмешила, но гораздо больше что-нибудь приятное (и, разумеется, хвастливое) годилось бы в зачин воспоминаний. Например, в Казани некий судья издал Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями из моих стишков. Этот судья (Ризван Рахимович Юсупов его зовут, я с ним и водку пил, но как-то слабо благодарность выразил) подобрал прекрасных авторов: открывался Кодекс стихотворением Высоцкого, и я оказался в соседстве с Пушкиным, Тургеневым, Грибоедовым, Хайямом, Иртеньевым, однако же моих стишков там было сотни полторы, и я на полку своих книг поставил этот Уголовный кодекс. Вот если бы его по камерам раздать в бесчисленных российских тюрьмах – многим бы он скрасил заключение, мечтательно подумал я. Роскошный переплёт под кожу (или кожа?) и отличная бумага – истинное произведение постмодернизма создал этот казанский судья, дай Бог ему несокрушимого здоровья и пожизненной удачи. Где он столько денег взял на это уникальное издание? Возможно, скинулись друзья? Откуда бы они ни взялись, он потратил их с великим толком.
И на меня недавно денежки свалились. Не такие уж большие, но весьма приятного и даже поучительного происхождения. Мы с моим другом Сашей Окунем десять лет проработали на радио. Платили нам позорные копейки, но уж больно было интересно. В Израиль ведь приехало огромное количество людей, которым было что рассказать о своей прошлой жизни, да и у нас бурлили всякие идеи и истории, так что передача получалась. Называлась она «Восемь с половиной», и не столько в честь Феллини, как по времени, когда ее запускали. Слушали нас и в России, и на Украине, и в Германии с Италией, даже в Финляндии – мы это знали и по письмам, и по звонкам, ибо довольно часто работали с открытым эфиром. Я до сих пор (немало лет прошло) на выступлениях записки получаю с вопросом, куда делась наша передача. Кстати, мы столько там насочиняли, что довольно многое потом использовали с Сашей в наших книгах. И фанаты-слушатели у нас были, в одном городе сколотилась даже компания, где очередной дежурный всю передачу записывал, чтобы потом послушали те, кто был занят в ту пятницу, что шла программа. Это всё я так перечисляю не из хвастовства, увы, мне присущего, а по делу, ибо для дальнейшего вся эта похвальба будет весьма полезна. Просьбы, чтобы нам платили так же, как другим сотрудникам радио, начальству мы исправно излагали и исправно получали обещания, что уже вот-вот и непременно. А плюнуть и уйти никак решиться не могли, уж очень это было интересно.
Прогнали нас, уволили без никакого мелкого спасибо в одну минуту – в тот же день, как мы по телевидению пробную программу показали. Какой-то нам неведомый, но премудрый начальник некогда и навсегда постановил, что радио (государственное) и телевидение (частное) в Израиле – злейшие конкуренты, и тот, кто работает на радио, к примеру, и нос показать с экрана не имеет права. Мы об этом знали, но всегда надеешься на здравый смысл, а не начертанную кем-то глупость. Так мы оказались на свободе, и на радио с тех пор я – ни ногой, хотя порой очень неудобно отказывать хорошим людям в интервью или каком-нибудь участии в совместной говорильне.
История свалившихся на меня с неба денег только тут и начинается. Умелые и знающие люди прожужжали мне всю голову, что я должен подать в суд, и радио заплатит сей же миг за многолетний свой финансовый разбой. Но лень моя и наплевательство (да плюс глубинное и нутряное недоверие к умелым и знающим) держали на коротком поводке мою любовь к деньгам и справедливости. Но тут и Сашку кто-то убедил, и я привычно вслед за ним поплёлся к адвокату (а уже лет семь прошло, но, видит Бог, у нас достаточно других занятий было). Тяжба Саши прогорела сразу, потому что он не сохранял квитанций о своей зарплате (а на радио никто бы копий нам не дал, такое это свирепое учреждение). А все мои квитанции жена моя Тата зачем-то складывала в ящик, и весь он был забит подобными бумагами.
Но тут необходимо отступление, поскольку я-то знаю о корнях этой загадочной предусмотрительности у своей любимой жены. Много лет назад, когда в Сибири жили мы на ссылочных правах, надумал я соорудить летнюю кухню и баню (а после, кстати, и сортир – во вкус вошёл). И доски я для этой цели – частью купил, а часть украли мне приятели со стройки. На законно купленные доски дали мне какую-то убогую квитанцию, куда-то я её закинул и забыл. Но не дремали бдительные люди. И как только закончил я своё великое строительство, приехали два милицейских ревизора. Так быстро (ну почти немедленно), что явно за строительством моим, подобно кошке у норы мышиной, наблюдали. Где я, старый уголовник, только что из лагеря, брал стройматериалы? Я что-то жалкое им лепетал, соображая с ужасом, что светит мне наверняка по меньшей мере возвращение на зону. Но уже из дома нашего царственной походкой выходила Тата с той помятой и ничтожной квитанцией. После утверждала она много лет, что сохраняла эту жалкую бумажку, предвидя именно такой поворот событий, просто мне, заведомому раздолбаю, это даже говорить не собиралась. А оба ревизора милицейских так уже настроились на своё пакостное торжество, что от бумаги этой прямо на глазах скукожились и начисто увяли. Кто-то явно им заказывал такое торжество, и вот они его, бедняги, подвели. Они даже не удосужились сравнить количество законно купленной древесины – с тем, что вбухал я в кухню и в баню. Ибо самая идея провалилась. И теперь торжествовала Тата. И уже почти тридцать лет об этом случае мне мельком, но неукоснительно напоминает. Думаю, что с той поры и появилась у неё замашка не выкидывать, казалось бы, ненужные и отслужившие своё бумаги.
Итак, у Саши его тяжба провалилась, только он по-прежнему ходил со мной к адвокату, ибо на иврите я без переводчика не мог, и адвокат, махнувший на меня рукой, с одним лишь Сашей собеседовал. Я неотлучно находился рядом и старался не утратить на лице выражение преданности и готовности.
И накопал этот молодой адвокат удивительные факты. Десять лет из месяца в месяц мне платили одну треть того, что я должен был законно получать. Мне даже страшно стало, что отвалится мне сразу так много, но адвокат меня немедля успокоил. Срок давности почти стирал это возмещение чиновного хамства, надо было вовремя искать справедливость, теперь же – только за два года получу я (вероятно, ибо суд рассудит) зажиленные у меня денежки. «Ленивый легкомысленный мудак», – подумал я (по-русски я подумал, потому и не озвучил эту мысль).
И был назначен суд. И снова я сидел, преданно глядя уже на женщину-судью, но Саша безотлучно находился рядом, и поэтому я спокойно наблюдал яростные прения двух адвокатов – нашего и с радио. Наш явно не тянул. Говорил он коротко, порой запинался, что-то выискивал в папке, а тот, что с радио, был пламенно красноречив, самоуверен и напорист. Ну пусть не получу я этих денег, думал я, не очень-то хотелось, проживём, как жили, только обидно, суд ведь не советский, из райкома партии никто тут не нажмёт на правосудие, и всё ведь так понятно и прозрачно в этом случае.
На самом деле всё не так было прозрачно. И теперь пора мне рассказать, как я в несчётный раз мог убедиться в том, что люди изменяются непредсказуемо в той ситуации, где надо выбирать. Нужны ведь были показания свидетелей. И запросили таковые с радионачальников. А есть один такой, руководящий всем вещанием на разных иностранных языках – естественно, и русском в том числе. Зовут его Шмулик, а фамилию называть не стану, потому что и от имени его меня уже воротит. Всегда приветливо-угодливый, ко мне и Саше относился он с пылким расположением. Нашу передачу называл он в разговорах гордостью, визитной карточкой и фирменной маркой русского вещания, а комплименты прочие не стоит даже приводить. Но тут спросили его письменное мнение, и тяжесть выбора легла на трепетную душу Шмулика: писать по-честному или защищать честь радиомундира, запачканного о многолетнее финансовое хамство. И Шмулик (замечательно уютная должность его обязывала) предпочёл запачкать радиомундир враньём, но отстоять его финансовую честность. Он написал, что мне платили даже слишком много, потому что вообще я не был автором всех этих передач, я просто изредка бывал на студии в качестве гостя, принимавшего посильное и малое участие в программе. Да и передача-то была весьма средняя, написал Шмулик, вдохновясь и разогнавшись, так себе была передача, ничуть не лучше прочих. Он даже не поленился и добыл откуда-то те числа, когда я отсутствовал в стране, отъехав на гастроли, но забыл сообразить, что передачи-то с моим участием исправно в это время шли, мы их готовили заранее. Ну, словом, лень перечислять те мерзости, которые наворотил услужливый чиновник Шмулик, творя своё благоразумное предательство. Интересно только, что как раз в это время он где-то встретил Сашку и любовно сообщил ему, что из суда к нему пришёл запрос, и он прекрасно отозвался в нашу пользу.
Я читал неоднократно, что люди, имеющие совесть, но вынужденные совершить какую-нибудь пакость, жутко мучаются от этого, и мне ужасно жалко бедного начальника Шмулика. Мы с ним как-то свиделись потом на одном литературном сборище, он ряда на три впереди меня сидел. Он покосился на меня несколько раз, а после глянул я – его уже и след простыл. Такой вот мужественный совестливый человек.
На радио, по счастью, работали и другие люди, и двое из них написали всё как было. И на невозмутимую судью фонтаны адвоката с радио никак не повлияли. Словом, получил я эти свои денежки и тут же (вот ведь человеческая алчность) принялся жалеть, что проворонил остальные.
Тут я погладил нежно Уголовный кодекс упомянутый – и словно душу отряхнул, чтоб рассказать теперь о подлинно прекрасном человеке. Его на свете нет с недавних пор, мне и сейчас диковинно о нём писать в прошедшем времени. Он умер, где и жил, в Лос-Анджелесе, помнить его будут немногие, хотя Сай Фрумкин был один из тех, кому мы все (те, кто рассеялся по белу свету, вырвавшись из бывшего Союза) обязаны своей свободой. И преувеличения тут нет. Но я сперва – о личных качествах ушедшего.
Мне в долгой моей жизни повстречались, слава Богу, люди очень умные и люди, знающие очень много. И люди неумеренного любопытства к миру. И люди светлого доброжелательства к окружающим – далёким и близким. И люди с безукоризненным нравственным чувством. И люди, следующие голосу своего ума и сердца, невзирая ни на какие обстоятельства. И люди с необыкновенной терпимостью к чужому мнению. Но чтобы всё перечисленное совместилось в одном человеке – мне такое встретилось единожды. И поэтому к Саю Фрумкину (хотя мы подружились почти сразу) относился я всегда с лёгкой опаской: меня его цельность и качественность побуждали быть настороже и воздерживаться от крайних суждений, свойственных мне – за рюмкой в особенности. А выпивка была у Сая Фрумкина – разнообразная и изобильная. Но тут не обойтись без нескольких подробностей судьбы.
Он родился в Каунасе – кажется, в тридцатом году. Благополучная интеллигентная семья. Советское вторжение их, по счастью, не задело, но потом пришли немцы. После гетто Сай с отцом оказались в Дахау. Точней – в одном из его филиалов, где тысячи привезенных рабов строили подземный аэродром. Отец не дожил до освобождения, а четырнадцатилетний Сай уцелел. Потом он приходил в себя в Италии, в конце концов оказался в Америке. Закончив университет в Лос-Анджелесе, стал историком. Но занялся текстильным бизнесом, женился на американке, и всё бы в его жизни покатилось, как у миллионов его благополучно процветающих сограждан.
Но в конце шестидесятых он забрёл на лекцию, которая мгновенно изменила его жизнь. Он услышал, что в Советском Союзе живут сотни тысяч евреев, мечтающих эту империю покинуть и не получающих на это разрешение.
С этого дня появился совершенно иной Сай Фрумкин, а единомышленники у него нашлись очень быстро. Пошли пикеты у советского посольства, демонстрации, запросы в Конгресс, бесчисленные листовки и статьи в газетах – к ужасу тихой добронравной жены, Сай отдался этой борьбе со всем пылом своей цельной личности. Над ними смеялись, им угрожали, их не слышали. Но чем эта борьба закончилась, прекрасно знают (только помнить не хотят) все те, кто получил в конце концов возможность выехать.
Нет, я, пожалуй, клевещу. Лет пять назад я выступал в Лос-Анджелесе, и меня с коллегой пригласили после концерта в ресторан. Я сказал, что со мной трое друзей (а двое из них были Сай с женой), и их немедленно позвали тоже. Поднялась устроительница всего этого застолья, я приготовился к обычному для таких случаев тосту за приезжих гастролёров и скромно потупился, но молодая женщина сказала:
– За столом у нас сидит человек, которому мы все бесконечно обязаны тем, что мы здесь, а многие – и тем, что процветают. Спасибо вам, дорогой Сай, и дай вам Бог здоровья!
И все дружно потянулись к Саю с рюмками. Как я был счастлив, это видя!
Обустройством множества приезжих Сай занимался долгие годы с тем же пылом и воодушевлением, как и борьбой за их приезд.
А кроме этого, он четверть века писал каждую неделю маленькую статью в газету «Панорама», и каждая его статья – то первое, что начинал я читать, взяв свежий номер. Ибо почти всегда его текст был самым интересным из того, что находилось в этой большой и содержательной газете. Более того: не склонный собирать какие-либо вырезки, я уже много лет храню собрание этих заметок, штук пять толстенных папок накопил. О чём же он писал? Тут я ответить затрудняюсь. Потому что разных тем – неисчислимое количество, а Сай Фрумкин всю жизнь сохранял детское любопытство к миру. И писал он о событиях то прошлого, то настоящего, но непременно лишь о том, что начисто и наглухо опутывалось ложью в большинстве газет и многих книгах. Тут ведь важен голос, интонация, подход. А это был спокойный чистый голос того наивного мальчика из сказки Андерсена о новом платье короля. Тот мальчик повзрослел и был незаурядно образован. А наивность – сохранилась, несмотря на трезвый разум и осведомлённость обо всём, что в мире происходит. Такое сочетание оказалось удивительным инструментом видения нашей современной жизни. На статьи Умберто Эко походило это более всего, но много шире по размаху интересов. Не успел издать он книгу этих заметок – может быть, ещё появится она. И негромкий голос разума и чести непременно привлечёт читателей повсюду в мире.
Я пока прощаюсь с тобой, Сай. Есть у меня слепая убеждённость, что в том существовании мы непременно встретим тех, кого любили.
А теперь пора мне снова вспомнить что-нибудь, что радовало меня за эти два-три года, прошедших со времени последней книжки-дневника. Прежде всего – записка, которую мне на сцену кинули в Днепропетровске (или в Донецке? – уж не помню точно, к сожалению):
«Игорь Миронович, можно ли с Вами хотя бы выпить, а то я замужем?»
А в Кисловодске мне пришла записка от солидного юриста, держателя собственного адвокатского кабинета, он на своей визитной карточке прислал мне письменный привет:
«Спасибо Вам за то количество неглупых девушек, которые одарили меня своей благосклонностью, когда я выдавал им Ваши «гарики» за собственное творчество». «Вот сукин сын», – подумал я с симпатией и завистью.
О другом таком же удачнике известила меня записка незнакомой молодой женщины. Она писала, что с трудом меня узнала, но в жизни не забудет тот полёт из Калининграда в Ганновер, когда больше часа я вполголоса читал ей свои стихи. Если учесть, что я ни разу в жизни не был в Калининграде, то легко понять, что и в Ганновер я никак не мог лететь оттуда. В конце записки содержалось приглашение продлить сей пир поэзии в домашней обстановке – был, очевидно, очень обаятелен тот мелкий проходимец.
Забавно, что записки порождают порой одна другую. В городе Харькове (кажется) я получил такое сообщение:
«Игорь Миронович, вот Вы вначале говорили, что евреев сильно поуменьшилось в России и на Украине, это правда. Я весь антракт проторчал в мужском туалете: евреев очень мало!»
Записка показалась мне потешной, и поэтому я в Питере прочёл её со сцены. Зал тоже одобрил её смехом. После перерыва получил я продолжение:
«А я весь антракт проторчала в женском туалете: евреев нет совсем!»
Нет, никак нельзя мне отвлекаться на записки, потому что их такое уже собрано количество, что книгу надо бы писать. А мне охота рассказать, как я однажды испытал большое наслаждение, сделав заодно глубокие, вполне психологические выводы.
Благодаря мизерности своих претензий к уровню существования я часто извлекаю удовольствие из вовсе немудрящих радостей земного бытия. Не зря я так высокопарно написал – готовлюсь развести на пустяке большую философию.
Несколько лет назад (мы тогда с Сашей Окунем и жёнами нашими ездили по Европе, сопровождая экскурсии и щедро выбалтывая свои нехитрые познания) что-то не сложилось в пассажирском списке очередного самолёта, и Сашку с его женой Верочкой попросили лететь в бизнес-классе. Как-то раньше нам не доводилось окунаться в эту роскошь, стоившую много дороже привычного экономкласса (и слово «эконом» здесь очень к месту). Сашка наслаждался и блаженствовал (от пуза выпивки да плюс шампанское), но перед самым приземлением произнёс загадочную фразу, в которой было нечто большее, чем просто шутка. Верочка, святая добрая душа, сказала о последней шоколадке, которую им принесла стюардесса, что она оставит её для Таты. А Сашка ей в ответ сказал: «Неужели ты собираешься ещё общаться с этими людьми?» Мы посмеялись, когда Верочка нам это рассказала, только что-то было в этой шутке, и она запала в мою память. А спустя лет пять один малознакомый импресарио позвал меня проехаться по нескольким южным городам и, спутав меня, кажется, с Кобзоном или Пугачёвой, прислал мне билет в бизнес-класс. Я и посадки ожидал в отдельном зале для весьма важных персон, и привезли нас к самолёту (шестеро всего нас было) в отдельном микроавтобусе, а прочего летящего населения я даже и не видел. А ведь самолёт – гораздо более демократический транспорт, чем, например, поезд, где пассажиры всё-таки разделены стенками их купе, в салон самолёта вливается единая густая толпа. А тут нас было шестеро, и мы не замечали друг друга. И сразу же явилась выпивка в большом ассортименте. Я перечислять не буду, только виски одного там было три различные марки. И, конечно же, я ждал еду. Ведь в самолёте это вообще большое развлечение и радость, тут наверняка особенное что-то надо ждать, и Сашка говорил об этом тоже. Самое вкусное, опасливо подумал я, нам достаётся, когда многое уже мы вряд ли можем разжевать.
Но я ошибся. На подносе, который принесла источающая симпатию (ко мне лично, разумеется) стюардесса, прежде всего привлекала внимание упаковка с белой и красной рыбой, а лимон с петрушкой тонко оттеняли цвет и сочность. Далее лежала упаковка из трёх разных сыров. Один из них был, вероятно, деликатесным, ибо пах, как носки студента. А ещё была натёртая морковь, обёрнутая в ломоть баклажана, и великолепно изготовленная рыба с жареной картошкой. К ней (а может, и не к ней) был кетчуп под названием «Нежный» – он оправдывал своё название. Апельсин, виноград, киви. Виски мне подливали каждые минуты три. Юная стюардесса любила нас изо всех сил. Она улыбалась, строила глазки, грациозно изгибалась, спрашивая о чае или кофе. Две большие шоколадные конфеты я заначил сразу – под вечерний глоток выпивки в гостинице (когда-то был я сластолюбец, но, состарясь, превратился в сладкоежку). Нет, я ничуть не жадничал и не напрягался, но почти уверен, что выпил виски на полную стоимость билета от Москвы до Тулы в общем вагоне.
В естественное впав блаженство, вдруг я ощутил, почувствовал – не нахожу глагола, чтоб точнее передать, – что населения салона позади меня не существует в моём сознании, их рядовая жизнь течёт поодаль, совершенно непричастная к моей. Я даже протрезвел немного, начиная понимать подоплёку той Сашкиной шутки. Я подумал, что именно такова основа психологии сегодняшних хозяев российской жизни. Ведь им должно быть свойственно глубокое чувство своей отдельности, нет – отделённости от слитной и неразличимой массы, именуемой населением. И тягостно им вынужденное редкое общение, у них своё пространство жизни, а отсюда – многие поступки и решения проблем. Как бы где-то я об этом и читал, но тут мне эта истина явилась непреложно в виде собственного явственного ощущения. И я так обалдел от этого, что отрезвление своё немедленно залил.
И выходили мы раздельно, я толпу своих попутчиков увидел уже только возле движущейся ленты с чемоданами. Докучливо и странно было мне стоять в этой обыденной толпе.
А кстати, тоже в самолёте, как-то был я озарён открытием, забавным для петушьего мужского самоощущения. Мы с женой летели не куда-нибудь, а на остров Мадейра, родину известного вина. Там был назначен семинар (не помню, как точнее назывался этот хурултай) преуспевающих российских энергетиков, и я был приглашён им почитать свои стишки. Труба, снабжающая деньгами Россию, уделила и мне несколько нефтяных брызг. И я с вульгарным удовольствием летел на этот остров, куда в жизни не попал бы просто так. А в самолёте стюардесса, изящно к нам склонившись, спросила у моей жены, что та предпочитает на обед. По-моему, был выбор между курицей и рыбой, это не суть важно. Тата ей ответила, и стюардесса с тем же вопросом обратилась ко мне. Я это описываю так подробно, потому что тут нужна как бы замедленная съёмка: я вдруг обнаружил, что плавно поворачиваюсь к Тате, собираясь спросить её, что хочу я. И в оторопь придя от машинальной этой слабости, я кое-как пробормотал, чего бы съел. У стюардессы ничего в глазах не промелькнуло – неужели привыкла к этому явлению мужской самостоятельности в семьях? Я потом весь эпизод рассказывал в застольях, и друзья, женатые и сами лет по сорок, хоть и ухмылялись снисходительно, однако явно вспоминали что-то сокровенное и мигом укорачивали разговор на эту выразительную тему.
А на Мадейре, кстати, было очень хорошо. На маленьких разливочных заводиках вино дают сперва попробовать – стаканчик небольшой, но видов и сортов довольно много, так что время протекало интересно и достойно. Тут, конечно, автор поприличней непременно сообщил бы, что Мадейра – остров вулканического происхождения и есть на нём места, где холмы и наплывы чёрной застывшей лавы образуют необыкновенной красоты пейзаж, а вместе с буйной зеленью субтропиков и тёмно-синим морем – это нечто вообще неописуемое. А я – о чуде, но другом предпочитаю рассказать. О чуде тоже чисто зрительном. В роскошном нашем гостиничном номере сортир (я слово «совмещённый» ностальгически упомяну) был совершенно выдающимся. Не только по размерам и наличию всего, что нужно заходящему туда, но главное – по некоей дизайнерской задумке. Слева и напротив унитаза обе стены были огромными зеркалами. А теперь прошу себе представить: вы привычно усаживаетесь на этот фаянсовый трон, видите своё отражение слева, видите его напротив, после чего (и тут я вздрогнул) обнаруживаете ещё одного участника: четвёртый вы сидит в углу, где зеркала сходятся. Такова игра загадочных зеркальных отражений. Если к этому добавить, что я как раз читал в это время книгу Дины Рубиной о циркачке, играющей зеркалами, то поймёте, вероятно, и богатство моих разнообразных ощущений.
Но к новым русским непременно стоит возвратиться. Минула эпоха красных и малиновых пиджаков, почти исчезли золотые цепи, все облеклись в культурные одежды, многие во власть подались – внешне их уже не отличить. Но только человек внутри меняется (если меняется) куда неспешней. И потому порой можно услышать редкостные истории. Мне повезло. Меня в Москве позвали как-то на передачу под названием «Апокриф». Я не пошёл бы, суеты в Москве хватает, жалко времени, только тему мне назвали – отказаться я не смог. Собрались говорить о библиотеках – тема необъятная, но как-то я сообразил, что без меня никто не вспомнит о держателях подпольных, самиздатских библиотек. И я для этого пошёл и всё любовно изложил (я лично знал таких подпольщиков, из коих часть и в лагерь угодила), успел заметить, как это уже неинтересно даже тем интеллигентам, что на передачу прибрели, но тут же был вознаграждён благоуханнейшим рассказом директорши Библиотеки иностранной литературы.
На территории библиотеки этой стоит небольшой бюст Генриха Гейне – подарок из Германии туманной. И однажды получила директорша письмо от одного заметного хозяина российской жизни. Он писал, что хотел бы прикупить небольшой кусок земли в библиотечном садике, чтобы его семья могла быть похоронена возле могилы знаменитого немецкого поэта Гейне. И хотя, получив такое письмо, дружно посмеялись все сотрудники, олигарху вежливо и серьёзно отписали, что это, дескать, не могила, просто бюст, и не хоронят никого на территории библиотеки. Письмо отправили и думали, что всё закончилось на этом. Только вскоре получили новое послание. Возможно, его плохо поняли, писал хозяин жизни, он заплатит, разве деньги не нужны библиотеке?
Я, эту историю услышав, даже не смеялся, а оцепенел. Такое изумительно дремучее сознание явилось мне из этой переписки, что никакие бы научные статьи его не объяснили, словно постоял я на психологических раскопках только что канувшей эпохи.
Я вообще всегда радуюсь, когда какие-то случайные слова (а то и письменные тексты) позволяют заглянуть внезапно в глубину, которая обычно скрыта в человеке. Например, мне рассказали, как пришли однажды к Ельцину (он тогда ещё в Свердловске был царём партийным) городские фанаты туризма. Эти неуёмные путешественники по родному краю и необъятным просторам Родины что-то Ельцину хотели разъяснить насчёт психологической, патриотической, экономической и всяких прочих польз туризма, чтобы он там что-то разрешил, одобрил и помог. Среди них были учёные, врачи, инженеры – совершенно бескорыстные люди, сколотившиеся в группу по признаку активности и фанатизма. Говорили они пылко, убедительно и лаконично. Ельцин выслушал их восклицания и аргументы и задумчиво сказал:
– Это, видно, и впрямь дело хорошее, если вокруг него крутится столько евреев.
А ещё бывают тексты, за категоричностью и краткостью которых видно, как отлично знают авторы повадку и замашки будущих читателей этого текста. Помню, как восторженно и умилённо стоял я в Умани у огромного объявления при подходе к могиле великого еврейского мудреца и праведника рабби Нахмана. Туда ведь ежегодно приезжают десятки тысяч паломников, и превращена эта могила в гигантское коммерческое предприятие, и кладбище вокруг неё (он завещал себя похоронить среди народа) почти затоптано этими толпами, но я – всего лишь о прекрасном объявлении. Это святое место, предупреждало объявление паломника, поэтому:
«1. Запрещено вести какие-либо торговые или деловые операции на кладбище.
2. Запрещено спать на территории кладбища.
3. Запрещено устраивать трапезы на территории кладбища.
4. Женщины обязаны разговаривать и молиться тихо и с соблюдением правил скромности».
Я дальше списывать не стал, ибо от смеха скис, воочию себе представив, что здесь творилось бы, не будь такого строгого предупреждения.
Однако же пора заканчивать главу. Мечта моя о новом дневнике начинает сбываться. Потом я столько чуши напишу, что вся мечта естественно скукожится, исполнившись, и снова станет грустно на душе. А чтоб не стало грустно сразу, я припомню некую свою мечту, которая сбылась, ничуть не повредившись в очертаниях.
Мы с Сашей Окунем затеяли на телевидении (только-только основался тогда этот русскоязычный канал) программу под названием «На троих». Нам оборудовали даже студию: висели копии Сашиных работ, а посреди стоял большой круглый стол (им послужила огромная катушка, на которую наматывают кабель). Третьим был у нас какой-нибудь интересный собеседник – их было с лихвой, мы сами подбирали посетителей. Этот третий приносил на передачу выпивку с закуской, так было условлено, и он ещё обязан был нам рассказать, почему принёс именно это, а не что-нибудь другое. Мы разливали на троих (чисто российская забава) и беседовали на различнейшие темы. Много передач получились удачными. Нам довольно трудно приходилось, ибо в день, когда предоставляли студию, порой три передачи подряд мы писали, а ведь пили мы не понарошку, и на третьей записи уже держать себя в руках было непросто. Только нам всё это очень нравилось. И так мы проработали чуть больше года, сделав тридцать девять (или сорок?) передач. Зрителей у нас было много, и немало разных замечательных гостей. Надо сказать, что главный режиссёр канала (и его организатор) нас не просто пригласил, но принял в нас горячее участие, мы провели немало времени, различные детали обсуждая. Но, похоже, оказался он из тех людей, которые разительно меняются, работая в начальниках. И год или чуть более спустя решил он, уж не знаю, сам ли, что у передачи нашей мало зрителей (как говорится – невысокий рейтинг). Как тут поступить? Да очень просто – пригласить соавторов к себе в кабинет, сказать: «Ребята, вы не потянули, извините и спасибо» – и пошли бы мы, солнцем палимы, без малейшей, никакой обиды. Только что-то в нём уже необратимое, начальственное что-то произошло. И нам некий посланник, общий наш приятель, сообщил от начальственного имени главного редактора Лёни, что передача закрывается. И ни привета, ни спасибо сказано нам не было. И от этого мы некую обиду ощутили, мы-то знали по звонкам и разговорам, как нас слушают. И появилась у меня одна мечта, но сразу я её не назову.
У Саши много времени очистилось на живопись, я сел за новую книжку, мы не тосковали и в нужду не впали. Только наблюдали, усмехаясь, как все наши передачи повторили раза три (а как же рейтинг?), а потом ещё и продали в Америку и Австралию. Я стал подумывать, что сбудется моя мечта. И через какое-то время (как оно мелькает быстро!) явился к Саше в мастерскую тот же самый гонец-посланник и передал нам Лёнино приглашение немедля изготовить ещё тридцать передач. Сбылась моя мечта, подумал я с восторгом, целиком и полностью сбылась в своём первоначальном виде. Мы с Сашей даже не переглянулись, и я мягко, вежливо сказал:
– Передайте Лёне, что его послали на хуй.
Глава славословия
В недавней своей книжке «Вечерний звон» я целую главу пустил под оды, дифирамбы и панегирики друзьям, которых поздравлял на юбилеях. Там же я писал об удовольствии от этих сочинений: пьяное застолье с таким восторгом принимает любой рифмованный текст, что чувствуешь себя творцом шедевра. Но какие-то из этих поздравлений не особо стыдно видеть и потом, поэтому я часть такого славословия друзьям решил и в новой книге напечатать. Мне очень приятно это делать, потому что все герои – люди штучные, и я не только ум их и способности в виду имею, но и человеческие качества. Таких сейчас рожают редко, говорила моя бабушка, желая похвалить кого-нибудь. И я с ней полностью согласен.
А начну я – с Сандрика Каминского. Подружились мы в Москве давным-давно, а ныне уже двадцать почти лет живём в одном доме. Это большое удовольствие – выпить вечером с соседом безо всякого особенного повода. Но об одной его черте – железной дружеской надёжности – хоть я в стихе и написал, но следует о ней сказать особо. На примере одного всего лишь факта. Когда меня уже осудили и пошёл я в лагерь по этапу, Тата услыхала от кого-то, что в пересыльных тюрьмах можно получить свидание. А из тюрьмы в Волоколамске, куда Сандрик её привёз, я уже отбыл. «Поехали искать», – спокойно сказал Сандрик, и они отправились во Ржев. В России расстояния не маленькие. Но куда важней другое: на дворе – восьмидесятый год. Карается любое соучастие в жизни людей, властями осуждённых, – множество уже известно случаев такого подлого воздаяния. А Каминский – кандидат наук, доцент в столичном институте. Но, ни секунды не колеблясь, он повёз жену преступника по пересыльным тюрьмам. А всё прочее об этом моём друге – в оде на его семидесятилетие:
А начало дружбы с Ициком Авербухом вспоминается легко: двадцать два года назад он встречал нашу семью в Вене, он тогда работал в Сохнуте. Я запомнил эту встречу навсегда. Мы стояли тесно сбившейся, усталой и слегка растерянной группой: только что удалилась большая толпа наших самолётных попутчиков – они летели в Америку. К нам подошёл невысокий быстроглазый человек, приветливо сказал, чтоб мы не волновались, всё будет прекрасно, он сейчас вернётся и всё время будет с нами. После чего, обратившись ко мне, как будто мы давно знакомы, коротко сказал: «Губерман, пойдёмте со мной!» И я за ним пошёл, слегка недоумевая, откуда он меня знает. Попетляв по коридорам (он быстро шёл впереди), мы нырнули в какую-то дверь, и я впервые в жизни оказался в западном баре. Глаза мои тут же растеклись по сказочному обилию выпивки, а когда я обернулся, в руке у меня возник большой бокал коньяка. «Наш общий друг художник Окунь попросил вас встретить именно таким образом», – объяснил мне Ицик Авербух. И у меня непроизвольно брызнули слёзы. А после Ицик стал работать в Джойнте, занимаясь делом удивительным: он распределяет американскую гуманитарную помощь бедствующим еврейским семьям на территории России, Украины, Грузии и каких-то ещё бывших республик. Я ему к пятидесятилетию написал как-то стишок, откуда пару строф и позаимствую для начала:
А на шестидесятилетний юбилей (как же молод он, мерзавец!) я о нём написал гораздо подробней:
А о любимой дочке Тане я люблю рассказывать одну чисто пророческую историю. Ей было шесть лет, когда я её повёз куда-то. Исполнилось как раз полвека с образования Советского Союза – всюду флаги трепыхались, и какие-то из громкоговорителей плескались песнопения и бравурные речи. Стоя возле меня в битком набитом автобусе, малютка Таня сказала исторические слова:
– Лучше ехать на такси, чем со многими народами.
Сами народы это осознали только двадцать лет спустя.
А вскоре (как же время-то летит!) явились к Тане мы на юбилей. И я прочёл ей оду на сорокалетие:
А Боря Шильман тоже возмутительно молод: только что исполнилось шестьдесят. У Бори профессия загадочная – он хиропракт. У него своя клиника, и к нему густым потоком текут страждущие. Он не расспрашивает пациента о его болезнях и недомоганиях, он кладёт его на живот, гуляет пальцами по позвоночнику и сам говорит удивлённому больному, что именно того беспокоит. После чего он что-то гладит, разминает, порой встряхивает пациентов, невзирая на их жалобные стоны, и за несколько сеансов (а порой – всего за один) достигает чуда облегчения. И сам я был свидетелем таких чудес. И всё это – игрой на позвоночнике. Поэтому и славословие ему на юбилей я назвал —
Ода спинному хребту
А про Витю Браиловского и его жену Иру я уже писал неоднократно. Дружба наша скреплена тюремным испытанием, хотя в местах сидели мы разных: Витя – в тюрьме столичной, в Бутырской, а я – в Загорске и Волоколамске. «Видишь, – сказал мне как-то Витя снисходительно, – тебя в Москве даже сидеть не пустили!» Так что и стихи я им пишу, сдобренные по возможности любимыми словами из уголовной фени. Подруга вора, например, – маруха, у Вити это слово очень нежно и ласкательно звучит, когда мы говорим об Ире. По этому пути пошёл, естественно, и я, когда случился Ирин юбилей:
А Вите на его семидесятилетие я описал весь его жизненный путь:
Тут непременно надо сделать интересную добавку. Витя действительно был министром науки всего три-четыре дня, а после что-то поменялось в их правительственных играх, и Витя стал заместителем министра внутренних дел. Я даже как-то навещал его по месту службы: когда ещё доведётся посидеть в кабинете заместителя министра, да ещё внутренних дел? Я только очень был разочарован: клетушка и клетушка, да к тому же – плохо сделанный ремонт. Но дело не в этом. Витя решил, что столь недолгое пребывание в министрах – может быть, рекорд всемирный, и послал запрос об этом в комитет (так ли он называется?) Гиннесса по рекордам. Оттуда ему вскоре вежливо ответили: уж извините, это не рекорд, известны люди, пробывшие в должности министров четверть часа, после чего их расстреляли. Так что Витя дёшево отделался.
А Яше Блюмину писал я восхваление – к восьмидесятилетию. Он и сегодня хоть куда, дай Бог ему здоровья и удачи. О его таланте творческом я написал в стихе, а вот о доброте его необычайной надо бы сказать особо. Он к себе в свою столярную мастерскую брал, чтобы помочь им прокормиться, таких проходимцев, что потом его печальные истории мы слушали, не зная, смеяться или плакать. Но главное о нём – в торжественной оде:
Вот пока и всё. Но близятся другие юбилеи и, Бог даст, ещё я славословий накропаю. Ведь кого, как не друзей и близких, нам положено в короткой этой жизни восхвалять?
Сентиментальное путешествие
Да конечно же, я знаю, что такое название уже было, даже читал я некогда этот прекрасный роман, только никак иначе не назвать мне мелкие заметки о коротких гастролях по нескольким российским городам. Я с самого начала вдруг почувствовал, что будет хорошо и интересно. По дороге во Владимир проезжали мы известный ныне (даже знаменитый) город Петушки, а у меня с собой было, и я усердно помянул Веничку Ерофеева. К моменту, когда мы достигли дорожного знака о выезде из города Петушки, во мне воссияло прочное ощущение, что дальше будет всё прекрасно. И я спокойно заснул, чтобы прибыть на концерт как стёклышко.
Ещё надо добавить, что в поездке этой я довольно много думал, а так как это нечастое состояние моего организма, то оно мне и запомнилось поэтому.
Лет пять назад по этой же дороге ехал я в один некрупный город (умолчу его название), где после выступления повстречался с забавным человеком. В гримёрную ко мне народ набился, все неторопливо выпивали, а когда зашёл рослый молодой парень с шикарной девицей, то пространство около меня мгновенно как-то опустело, многие даже ушли из комнаты, мы с этой парой оказались сами по себе. Красивый молодой человек сказал мне всякие слова и даже предложил мои стихи мне почитать как доказательство приязни, и роскошный протянул подарок: нарды явно лагерной работы. С отменно вырезанным волком на лицевой стороне, с искусно выжженным орнаментом снаружи и внутри. Такие лагерные поделки (выкидные ножи, браслеты из цветной пластмассы, шахматы) под общим названием «масти» я знал ещё по лагерю, где сидел, и несколько таких сувениров подарил когда-то музею общества «Мемориал». С великой, надо признаться, жалостью, ибо на зоне занимаются этим ремеслом очень способные зэки.
– Откуда у тебя такая масть? – благодарно спросил я парня.
– А я смотрящий по нашей области, – просто ответил он.
Я ошалело вынул сигарету. Парень чиркнул золочёной зажигалкой. Смотрящий – это хранитель огромных денег, так называемого общака, воровского банка, куда исправно сдаёт взносы весь уголовный мир для поддержки («подогрева») своих коллег в лагерях. Смотрящий – очень важная, доверенная и авторитетная должность, солидные и уважаемые всеми воры избираются на это место коллективным сходняком. А тут – мальчишка.
– Слушай, ты ж ещё ни разу не сидел? – невежливо и ошарашенно спросил я. И угадал.
– Ни разу, – ответил он. – Я положенец.
Мне почему-то запомнилось, что он себя назвал назначенцем, но потом мне объяснили, что положенец – правильное название. Я задавал ему какие-то несуразные вопросы, он спокойно и с большим достоинством мне отвечал. Я всё никак не мог смириться с тем, что воровской подпольной кассой управляет юный парень из чужого, презираемого ворами мира. По дороге к машине (его всё-таки задело моё недоверие) он говорил мне, как часто его били в милиции – выуживая, вероятно, какие-то сведения, – и что он не один такой на Руси.
Нарды эти я храню и никуда дарить не собираюсь – очень уж красива лагерная масть, а мысли навевает она – странные. О том, как дико и причудливо сросся уголовный, заведомо подпольный мир с обыденным, благопристойным и легальным, если воры открыто и спокойно берут себе в менеджеры людей из этого дневного мира. И вновь, как уже много лет назад, подумал я о радиации лагерного духа, пропитавшего насквозь Россию и растлившего её на много поколений вперёд. И от сумбурных и угрюмых этих мыслей я в тот раз не выпил, проезжая Петушки.
Записок во Владимире так было много, что на часть из них я не ответил. А вернувшись в Москву, эту пачку я случайно смешал с теми, что мне прислали зрители, когда ездил я по Украине. И поэтому из двух, которые хочу здесь напечатать, в географии только одной вполне уверен:
«Как Вы думаете, Украине легче будет выходить из кризиса, если она примет иудаизм?»
Вторая всё-таки скорее из Владимира:
«Сам свидетель. Дубна. Застолье – физики, врачи, инженеры.
– А теперь Леночка прочтёт стишок (это хозяйка говорит).
На табурет ставят четырехлетнюю Леночку в бантах.
– Про что стишок?
– Про зайку.
– Ну давай.
Леночка – своим звонким ангельским голоском:
А в городе Перми провёл я дня четыре – удружило расписание гастролей. Я бродил по улицам, в музеях побывал и посидел в библиотеке, полистывая книги о городе. Из них, конечно, самая интересная – труд местного профессора Абашева «Пермь как текст». Идея, очевидная уже в названии, пришлась мне очень по душе. Хотя, конечно, тут куда точней ложится слово «палимпсест», что означает, как известно, рукопись, где прежний текст (и не один) размыт или соскоблен. Но слово очень редкое и чуть научное, оно бы только отпугнуло множество читателей. А было б это точно и почти буквально: вот, например, на бывшем архиерейском кладбище, где издавна хоронили виднейших горожан, теперь устроен зоопарк, и нынешние пермяки-посетители коллективно топчутся на могилах своих предков – истинно советская коллизия.
А на когдатошней окраине Перми, где начинался некогда Сибирский тракт (и лучшие из россиян тут проходили или проезжали к месту наказания), почти сохранно здание тюремного привала арестантов. И тюрьма была тут – аж до сорок пятого года. Эти стены, хоть и перестроены неоднократно, многое могли бы рассказать, но стены молчаливы, а сегодняшнему люду очень мало интересны страшные недавние истории. После войны чекисты этот дом пустили под свой клуб. На первом и втором этаже всё перестроили под их культурный отдых, а подвал таким же и оставили: убого мрачный длинный коридор и крытые железом двери в камеры. Глазок для надзирателя на каждой двери и маленький прямоугольник кормушки. А нары сняты были, яму крохотного подземного карцера (трудно и представить себе смертный холод в этой тесной яме) досками покрыли и залили цементом. А впрочем, ведь в подвал никто не опускался, наверху в тепле они гуляли. Я пишу не понаслышке, двери я ещё застал. Поскольку десять лет спустя чекисты подобрали себе здание поавантажней и побольше, а сюда вселили – вот ирония судьбы и смена текста – кукольный театр. Впрочем, ведь и сами чекисты были такими марионетками в сталинских играх и спектаклях, что, пожалуй, смена жанра не такая уж резкая приключилась. А в театре этом, очень в городе любимом, с неких пор стал художественным руководителем поразительного таланта режиссёр Игорь Тернавский, мой давний приятель. Он театр этот до неузнаваемости перестроил (красота внутри такая – радуется сердце), а совсем недавно заменил и двери, поскольку в подвале расположились театральные мастерские, и людям ни к чему такая память. Я же по тому тюремному коридору мимо тех дверей успел походить, и у меня так было сладостно и смутно на душе от личных оживившихся воспоминаний, что я Игоря совсем не одобряю. Кажется, и он жалеет тоже: памятники надо сохранять, подвал тот для экскурсий был бесценен – подлинно российский палимпсест. Игоря часто спрашивают, не опасается ли он, что зловещая аура этого жуткого здания влияет как-то на атмосферу в театре. Нет, отвечает он уверенно, детский смех и детская радость смывают начисто любую ауру. Услышав это, я подумал: не потому ли российское телевидение своими передачами так усиленно старается вызвать у вполне взрослых зрителей именно детский смех и детскую радость?
Пермь – единственный в мире город, чьё имя носит целый геологический период в жизни нашей планеты. В середине девятнадцатого века тут побывал известный в то время английский геолог Родерик Мурчисон. Исследуя этот край (и двадцать тысяч километров по нему нагуляв), он обнаружил мощные отложения красноцветных глин, песчаника и чего-то ещё – приметы некоего геологического периода, который не был до него учёными описан. Он назвал этот период пермским. И добавлю ради красного словца, чтобы нечаянно блеснуть осведомлённостью, что это был конец палеозоя – приблизительно двести пятьдесят миллионов лет назад. Здесь поднимались горы, оттесняя море, море высыхало, и отсюда здесь неизмеримые запасы соли под землёй. Уже цвела повсюду жизнь, гуляли меж хвощей и папоротников древние ящеры гигантских размеров и невероятных наружностей, а климат был почти тропический. Найденные тут во множестве кости этих ящеров, а также многие виды окаменевших растений и насекомых (в частности – огромных тараканов) по сю пору радуют учёных изобилием. Одну прекрасно слепленную фразу явного пермяка-патриота я даже выписал из просмотренной книги: «А в областях с более холодным климатом тараканы редки, малоразнообразны и имеют мелкие размеры». Забавно было повторять эти надменные слова, топоча по снегу и трясясь от ветра по дороге из библиотеки в гостиницу.
И было ощущение все эти дни нечаянного отдыха, что я бездельничаю праведно и занят тем, чем должен заниматься. Как тот безвестный симпатичный работяга, написавший, объясняя свой прогул: «Я вчера не вышел на работу, потому что думал, что вышел».
А ещё в этих краях издавна выплавляли медь (отчего и назначено было стать городом этому пустынному месту возле старого медеплавильного завода: царица Екатерина просто ткнула сюда пальцем). Древние мастера (середина первого тысячелетия до новой эры) умели отливать из меди плоские изображения разных зверей и птиц, людей (порою всадников) и неопознаваемых животных. Это старинное литьё – художества поразительного, недаром Строгановы его стали собирать (и ныне почти вся эта коллекция хранится в Эрмитаже), а названо оно – по имени опять же города – «пермский звериный стиль».
Нет, не иначе как какой-то Божий свет сиял над этими местами в разные столетия и годы: я теперь о деревянной скульптуре восемнадцатого века хоть бы мельком, но хочу упомянуть. О «пермских богах». Уже, наверно, раз шестой сюда я приезжал и снова с немым обалдением смотрел на это совершенство резанных по дереву фигур. Я вообще люблю резьбу по дереву и в разных городах Европы с наслаждением торчу в музеях возле раскрашенных фигур разных святых. Жаргонные слова об удовольствии – «тащусь я от этого» – наиболее точно передают мои ощущения. Так вот от пермских я тащусь сильней, чем от других. Скуластые, немного плоские их лица (а порой и чуть раскосые глаза – ведь местные изображались люди), их позы, жесты – выразительны настолько, что словами ничего не передашь, каким ни будь искусствоведом. У меня же лично сокровенный способ есть, чтобы выразить очарование и чувства выплеснуть: я, по возможности, негромко пару нецензурных слов произношу. И мне легчает.
Здесь когда-то жил загадочно исчезнувший народ («звериный стиль» они как раз затеяли) – чудь, это предки нескольких народностей сегодняшних. О них есть миф, что при крещении языческого местного населения они ушли под землю, чтобы остаться в прежней вере.
Об одном сугубо пермском мифе грех не рассказать. О Башне смерти. Это редкий (очевидно) случай, когда миф (кошмарно впечатляющий) родился и разросся из чьей-то лёгкой шутки. Прямо в наше время, когда мифы сотворяло разве что правительство страны (про то, как мы отлично все живём и как нам на планете все завидуют). На углу двух улиц высится в Перми десятиэтажный дом (и башенка со шпилем) архитектуры сталинских времён. Это и есть Башня смерти. Миф, известный всему городу, гласит, что некогда на этом месте были пыточные камеры ещё во времена Ивана Грозного (ещё Перми-то не было!), и что останки замученных тут людей скопились под землёй, и что тайные подземные пути отсюда тянутся ужасно далеко, и что даже в стены здания вмурованы тела погибших тут, и много ужасов иных. Но зданию совсем немного лет: его построили в пятьдесят втором году – и с той поры здесь угнездилось областное управление Министерства внутренних дел. Конечно, у ребят этих вполне дурная репутация, но почему же корни мифа, столь кошмарного, в седую древность тянутся?
Но проста причина, и забавна, и о силе меткого слова свидетельствует. Когда выстроено было это здание и въехало туда поганое управление, весь город (как и вся страна) смотрел трофейный фильм «Башня смерти» – по пьесе Шекспира «Ричард Третий». И шутник какой-то Башней смерти окрестил действительно зловещий этот дом. Весьма рискуя, кстати (год пятьдесят второй, заметьте, чистая пятьдесят восьмая за такую шутку). Название, естественно, приклеилось. И принялись рождаться мифы.
Они и нынче появляются в Перми. Что связано с гордыней, обуявшей патриотов города. Наверно, с той поры ещё гордыня завелась, когда отлили тут царь-пушку, весившую не только на четыре тонны больше, чем знаменитая московская (каких-то жалких сорок тонн), но ещё и стрелявшую, в отличие от столичной неудачницы. Снарядами в двадцать восемь пудов. Ну как тут не зародиться тайной гордыне? А в каком другом городе мелкая речушка, отделяющая старый город от кладбища, называется Стикс? А на деревьях, спиленных в здешних окрестностях, стоит вся Венеция – это знаменитый карагай – лиственница, она единственное дерево, которое твердеет в воде. Ну, словом, много оснований для того, чтобы считалась Пермь хотя бы третьим по России городом, где вполне кипит столичная жизнь. К тому же множество талантливых людей отсюда вышло (взять хотя бы Дягилева, который в восемнадцать лет сбежал и более старался Пермь не вспоминать. Попов опять же – радио он изобрёл пускай не первый, но самостоятельно). И правда, очень многие талантливые люди жили здесь или отсюда в жизнь пускались. Оружейники, к примеру, пушечные мастера, создатели авиационных моторов. Писатели: Бажов, и Мамин-Сибиряк, и Осоргин. Однако патриотам настоящим мало этого. В одном письме (кажется – Горькому) написал как-то Чехов, что героини его пьесы «Три сестры» могли бы жить в любом провинциальном городе. Ну, например, в Перми, неосторожно пояснил Чехов. И вот уже экскурсоводы резвые показывают дом, где тосковали три сестры. В Москву, в Москву!
Дай Бог этому городу расти и хорошеть. Я очень интересно там пожил. А через месяц, когда я уже вернулся, приключился тот пожар кошмарный в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли сотни полторы людей. «И ты бы мог!» – вздыхали сердобольные знакомые. Нет, я не мог. Я не хожу в такие заведения. Там современная российская элита гужевалась. Там гуляли на ворованные или взяточные деньги. Потому что на свои, на кровные, не станешь пить коньяк ценой тридцать четыре доллара за пятьдесят граммов, а там как раз такие цены были. По уровню – вполне столичные.
В Перми я доверительную донельзя записку получил:
«Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда возможно записаться?»
При подъезде к Челябинску меня охватило странное чувство близости: город этот некогда двумя стежками прошил всю мою биографию. Сюда в самом начале войны переехал завод, на котором работал мой отец, и вся наша семья прожила тут год или полтора. Мне было пять лет, и ничего о времени эвакуации я помнить, естественно, не мог. Кроме одного эпизода – впрочем, он повторялся периодически. Раз в неделю (или в месяц?) отцу выдавали паёк, в котором была большая плитка шоколада. Яркая, цветная, невыразимо прекрасная даже внешне. Эту плитку шоколада мама сразу же меняла на буханку хлеба – у одной и той же женщины. А я при маме неотлучно находился, и однажды эта женщина спросила, не горюет ли ребёнок, что досталась шоколадка не ему. Мама непривычно резко ей ответила, что нет, нисколько. Мама неправа была, ребёнку эту шоколадку было очень жалко всякий раз, иначе он бы не запомнил краткий разговор двух женщин.
А спустя почти сорок лет я провёл в Челябинске несколько дней в пересыльной тюрьме – по дороге в сибирский лагерь. После каждых трёх дней пути в столыпинском вагоне полагался отдых в какой-нибудь тюрьме, таков был гуманизм начальства, знавшего условия этапа. Мне тюрьма эта запомнилась и внешне: нас туда пешком вводили почему-то, высадив из автозака у ворот, – и нелепой радостью, меня вдруг обуявшей от неожиданной человечности, впервые мною встреченной у надзирателя. Нас вели по длинному коридору явно старого здания, и я по своему дурацкому любопытству спросил у шедшего рядом пожилого тюремщика, когда эту тюрьму построили. И он не цыкнул на меня и не обматерил, а с некоей даже приветливостью ответил:
– В восемнадцатом году. То ли её красные для белых строили, а то ли белые для красных, – и засмеялся.
Я к нему такую ощутил симпатию и благодарность – вдруг на минуту окунулся в мир нормальный и естественный.
На этот раз меня к тюрьме подвёз не автозак, а маленький автобус городского телевидения. Оператор хищно задвигался, снимая с разных сторон, как я сладостно курю, глядя на тюремное обшарпанное здание.
– Так на отчий дом смотрят, – сказала мне журналистка.
– А я так эту тюрьму и ощущаю, – ответил я вполне искренне.
Мы находились в двух шагах от улицы, названной в честь моего покойного тестя – я, к сожалению, уже его не застал. Юрий Николаевич Либединский прожил в Челябинске много лет, он вырос тут, и на здании реального училища висит мемориальная доска. Он был одним из ярких основоположников советской литературы. И дом его родителей мне показали, оба они были врачами. А после покурил я возле основательного купеческого дома, тоже связанного с семьёй Либединских. Именитый купец Елькин очень много сделал для Челябинска, но мемориальная доска на его доме посвящена двум его сыновьям – Якову и Соломону, павшим, как и подобало еврейским детям того времени, за дело революции. А младший сын по младости ввязаться в это дело не успел, ввиду чего остался жив и женился на сестре Юрия Николаевича – девушке Рике. И я ещё застал её – сухую грустную старушку, прикованную к кровати. Она всю жизнь преподавала в Ленинграде (уж не помню института) основы марксизма-ленинизма. Погрузившись в эту будто бы науку, она стала ярой антисоветчицей и, приезжая изредка в Москву, такие говорила речи в семье брата, что после её отъезда в семье долго ждали неприятностей. Но преподавать она не прекращала. Я пришёл её навестить, когда писал роман о художнике (поэте, авиаторе, священнике) Николае Бруни, убитом в лагерной Ухте в тридцать восьмом году. Я рассказал ей, чем сейчас занимаюсь, и старушка горько мне прошелестела:
– А я почти пятьдесят лет обманывала молодых марксизмом-ленинизмом.
Такая вот была типичная еврейская семья.
Вернувшись в гостиницу, я вдруг вспомнил одну странную историю. Её рассказывала мне и тёща Лидия Борисовна, и жена Тата, благодарно помнит её вся семья Либединских. Юрий Николаевич ещё с двадцатых годов дружил с Фадеевым, в честь него даже назвал своего сына Александром. В конце сороковых они встречались крайне редко: Фадеев был по уши занят – пас писательское стадо, а Либединский счастлив был в семейной жизни и замкнулся дома, не принимая никакого участия в разборках, сварах и интригах своих коллег. С Фадеевым он виделся так редко, что придумал себе тонкое психологическое утешение, которым даже с дочерью делился: дружба, говорил он, вовсе не подразумевает частых встреч, в ней важно ощущение, что друг у тебя есть и таковым всегда останется. Летом сорок восьмого года, в пору грянувших кошмаров (травля космополитов, дело Антифашистского комитета, много было светлых мероприятий) Фадеев без звонка явился поздно вечером в квартиру Либединских. Трезвый, хмурый и куда-то торопившийся. Вся семья была на даче, дома оставалась только Татьяна Владимировна, мать Лидии Борисовны. Спросив, где кабинет Юрия Николаевича, гость молча сел за его письменный стол и принялся выгребать из ящиков все бумаги, наскоро просматривая старые конверты с письмами. Несколько из них он отложил и забрал с собой (по другой версии – тут же сжёг в помойном ведре). И ушёл, тепло попрощавшись и не извинившись за вторжение. Татьяна Владимировна утром кинулась на дачу в Переделкино. А следующей ночью в квартире побывали странные воры: они взяли всего-навсего серебряную сахарницу, но раскидали все бумаги из ящиков письменного стола, что-то ища. На этом происшествие закончилось, хотя тревожно (а скорее – страшно) было ещё очень долго. Фадеев явно совершил во имя дружбы деяние, сорвавшее какие-то неведомые планы в отношении Юрия Либединского, но ничего не объяснил ему и впоследствии. А это ведь неоспоримо означает очень тяжкую деталь в и без того трагической жизни Фадеева: он не только был рьяным и беспрекословным исполнителем всего, что диктовалось ему сверху, но и доверяли ему полностью – настолько, что его и в перспективу посвящали, в планы разработок для арестов, ещё только предстоявших. Вряд ли этот факт обрадует его биографов.
А вечером я на концерте получил прекрасную и грустную записку:
«Дорогой Игорь Миронович, посоветуйте, как девушке с двумя детьми выйти замуж за еврея?»
Зал хохотнул сочувственно, когда я это прочитал, а я припомнил вслух давнишний мой стишок: «Русской девушке теперича нелегко найти Гуревича».
Из Челябинска мой путь лежал в Магнитогорск. Я очень давно хотел тут побывать. Город этот, лежащий сразу в двух частях света (Европу и Азию тут разделяет река Урал, а город – на обоих берегах), возник благодаря легендарной советской стройке – металлургическому комбинату. На пустом практически месте, в глухой степи возле горы Магнитной в двадцать девятом году началось сооружение первенца социалистической индустрии. Невольно впадаешь в тон и лексику советской прессы, год за годом воспевавшей это рукотворное чудо. Рукотворное буквально: кроме тачек и лопат, здесь долго ничего не было. Строители жили в палатках, землянках, глиняных лачугах, битком набитых деревянных бараках, где спали по очереди. Кто-то вспомнил в разговоре, что первым каменным зданием на стройке этой стала тюрьма. Что же касается поголовного энтузиазма строителей, то стоит уточнить: половина из них приехала сюда не по собственной воле – здесь были так называемые спецпереселенцы, которых выгнали из разных городов страны за их происхождение, и просто зэки – в основном по пятьдесят восьмой статье. И множество крестьян, бежавших от разбоя коллективизации. Несколько тысяч таких энтузиастов были здесь расстреляны, а участь сменявшихся руководителей была такой же, как по всей стране в тридцатые годы, и они погибли почти все. Было время, когда на комбинате, уже огромном, оставалось менее десятка дипломированных инженеров, ибо все остальные (множество) были арестованы, их заменили практики – без образования, но социально надёжные. Когда газеты с упоением сообщали всей стране, что комбинат возводят энтузиасты тридцати шести национальностей, это говорило лишь о том, насколько одинаково мела по всей стране железная метла. Конечно, можно смело отнести к числу энтузиастов несколько сот иностранных специалистов, приехавших сюда творить светлое будущее всего человечества. Когда построили рудник, задули первую домну, заработала мартеновская печь и прокатные станы – ликование было безмерное, многих вовлекая в социалистическую веру. И в войну, кстати сказать, каждый второй танк и каждый третий снаряд были произведены из металла Магнитки.
Я стоял на высоком берегу, глядя издали и сверху на здания и трубы комбината. Из труб сочились густые волны дыма – цвет их был словами непередаваем. Нечто серо-жёлтое и фиолетово-лиловое; впервые видел я, как цветом можно передать чудовищную ядовитость производственного дыма. Я о ядовитости буквальной говорю: Магнитка – одно из видных в списке вредоносных для живой (и неживой) природы мест. И когда ветер прямо дует в сторону города, этим дымом дышат четыреста тысяч его обитателей. А снег тогда становится оранжево-жёлтым.
И тут меня насквозь пронзила мысль, что это ведь, по сути, уникальный памятник творцу империи и лютому убийце – Сталину. Магнитка – и она сама, и вся история её – точнейшая модель того, что совершалось в сталинские годы. И со страною, и с людьми. Судьба незаурядного поэта Бориса Ручьёва – краткая, но ёмкая страница в летописи этого памятника. Совсем мальчишкой он сюда приехал, плотником работал и бетонщиком, с восторгом воспевал Магнитку во множестве стихов. А после канул в лагеря на десять лет. И не куда-нибудь, а в Оймякон, полюс холода, зимой – минус семьдесят. Но выжил, несмотря на хрупкое здоровье (и на зоне о Магнитке он писал), сюда потом вернулся и до смерти жил тут, продолжая ту же тему с тем же упоением и верой.
Всё для памятника этого годится – даже пресса всей страны, сошедшая с ума от восхищения великой стройкой. И ведь же удалась этому чёрному злодею индустриализация страны! Но здесь уже цена пошла на миллионы жизней. И подробность эту (о цене) никак нельзя забыть при описании зловещего памятника. Магнитку проектировал американец Альберт Кан, знаменитый архитектор промышленных предприятий, автор всех заводов Форда. Из Америки везли в Магнитогорск огромные стальные балки, фермы и перекрытия точно рассчитанных очертаний, и здание завода возводилось, как гигантский детский конструктор. Руководили сборкой инженеры из проектной конторы Альберта Кана. И всего таких заводов на просторах империи возвели эти специалисты – более пятисот! Одновременно закупались в Америке и Германии оборудование и станки для всех заводов. Откуда брались дикие, немыслимые деньги для оплаты этого преображения страны в военную империю (ибо почти любой завод мог почти немедленно перейти на производство вооружения)? Ответ кошмарно прост: из России вывозились в эти годы миллионы тонн зерна, муки, масла, сахара и мяса. И в тех же цифрах (миллионы) исчислялась смерть от голода ограбленного населения страны.
А главное, конечно же, для памятника этого – тот ядовитый дым, что день и ночь течёт из труб завода, отравляя атмосферу и окрестное население – жестоко точный символ неизбывного сталинского влияния на души и умы, вплоть до сегодняшнего дня. Удивительно созвучен этот памятник великому выродку, на костях и крови воздвигнувшему дикую империю, где все были рабы и все – энтузиасты.
Однако же приехал я сюда по прекрасному и светлому поводу. Рядом со старейшим в городе театром имени Пушкина стоит новое здание обдуманно старинной архитектуры. В нём открылся ресторан русской кухни восемнадцатого и девятнадцатого веков. На первом этаже можно выпить чая (из самовара того времени, разумеется) с выпечкой по рецептам той поры. А на втором этаже – такая красота, что стоит описать её особо. В огромном, очень светлом и высоком зале всю стену напротив окон занимает грандиозное полотно (метров двадцать в длину и метров восемь высотой, точных размеров я не знаю). Глядя на него, вы находитесь как бы на сцене, перед вами – зал театра, уходящий в глубину картины. Партер, амфитеатр, ложи… И везде стоят или уже сидят замечательно одетые люди с интересными и привлекательными лицами. Часть из них – знакомые художника (или владельца ресторана), а другие – попросту сочинены художником. В такой компании так хорошо бы было оказаться, что после возлияния решился я и попросился в настенную массовку. И художник обещал меня изобразить. Такого потока жизнелюбия, которое льётся с этой работы, я не видел никогда.
Назначен был обед-концерт, для этого меня сюда и звали. Сперва все приглашённые немного выпили (я очень им завидовал, но я, подобно девушкам по вызову, не пью на работе). Потом я им читал стишки и всякие истории рассказывал, а после был обед, и тут я от восторга одурел. Перелистав поваренные книги того времени, соорудили эти люди стол необычайный. Да, я ещё забыл: имеется тут огромная русская печь (уверен я, что нет такой подобной в самых разудалых ресторанах). И в печи этой восемь часов томился на соломе грузный говяжий оковалок, которым обнесли весь стол и лишь потом нарезали. Ещё мы ели (тоже всем сначала показали) запечённую индейку, в которой содержалась курица, нашпигованная телячьим языком. Рыбное блюдо называлось «лососёвой бандеролью»: опутанный верёвками (на них – сургучная печать) большой лосось лежал на старинного облика ладье, вылепленной из теста и закалившейся в печи. Это произведение кулинарного искусства тоже сперва проплыло вокруг стола. Закуски и соленья с пирожками и блинами всякими перечислять не буду по простой причине: я хоть и скрал листок с меню, однако потерял его в дороге. А теперь – о выпивке, что дело не последнее: на столе не было ни одной марки фабричной водки. Было множество бутылок с чисто рукодельными наклейками, в которых сообщалось, на каких травах, плодах и ягодах настаивалось это божественное зелье. Я употребил столь высокий эпитет, потому что сортов пять-шесть опробовал самолично, а в вопросах выпивки я опытен и привередлив. Словом, до сладкого я, кажется, не досидел.
Сочинил всё это заведение и блестяще воплотил замысел некий российский патриот (поскольку ездит по всему миру и непременно возвращается) Павел Беньяминович Рабин. (Кстати сказать, советские отделы кадров так ориентировались в отчествах, что им даже не надо было заглядывать в анкетную графу «национальность»). Он же и название придумал: «Наше всё».
Когда очень ранним утром нас подняли, чтоб уезжать, ещё раз подтвердилось качество напитков: голова была прозрачна и чиста.
А в городе Вятке моя гастрольная жизнь вообще обернулась чистым праздником. Обязан я этой радостью некоему молодому человеку (сорок лет – какие годы?) по имени Роман Гозман. Именует он себя свободным предпринимателем, занимается строительством, насколько я понял, самозабвенный мотогонщик (слово «байкер» как-то не ложится на язык) и живёт на свете с любопытством и наслаждением. Мы разговорились уже сразу по дороге в гостиницу. Я с удовольствием услышал от него, что древнюю Вятку основали новгородские ушкуйники – полукупцы-полупираты: они грабили торговые суда и на своих уже судёнышках сбывали всё награбленное по речным маршрутам. Это были дюжие забубённые ребята, которых Великий Новгород обратно уже не принял бы, отпетыми бандитами слыли они в чинном отчем городе. Возможно, именно поэтому издавна было в крохотной Вятке несообразное множество церквей: нет лучше способа замолить грехи, чем денежку пожертвовать на новый Божий храм. А впрочем, это я, заезжий фраер, клевещу, все церкви позже возникали, перед революцией их было уже в Вятке более двухсот. Солидные купцы на них давали деньги, но психология их щедрости, мне кажется, была всё той же, о которой я уже упомянул. А связанные с Вяткой имена людей известных оказались очень дороги моей душе и памяти, я назову их постепенно в том порядке, как мы объезжали связанные с ними места.
Почти три года прожил в Вятке сосланный сюда молодой Александр Герцен. Дом его, к великой моей жалости, не сохранился. Сперва он был простым писцом в губернском управлении и от тоски стал крепко по вечерам выпивать. Но вскоре поручили этому выпускнику Московского университета ведать статистикой: никто лучше его не мог заполнить заковыристые толстые вопросники, которые текли из Петербурга. А он, в свою очередь, должен был опрашивать входящие в губернию города, и на те никому не нужные вопросы, что шли из столицы, получал вполне тьмутараканские ответы. Так, из городишка Кай ему сообщали, что за прошедший год: «Утопших – 2, причины утопления неизвестны – 2», а в графе, сколько всего таких случаев, написано было «4». На бессмысленный вопрос о нравственности жителей города ответили оттуда просто и замечательно: «Жидов в городе Кае не находилось». Это я от любви к Герцену перечитал «Былое и думы», те страницы, где описывалась ссылка в Вятку. Веют с этих страниц тоска и отчаяние человека, попавшего к тёмным и несчастным людям, чисто случайно говорящим на одном с ним языке. Притом – к безжалостным обирателям своего собственного местного народа. Жил Герцен в одном доме с тоже ссыльным, гениальным архитектором Витбергом, трагедия которого столь современна, что её нельзя не описать.
Совсем молодой архитектор Александр Витберг узнал о конкурсе, объявленном царём Александром Первым: речь шла о сооружении в Москве на Воробьёвых горах огромного храма в память о войне с Наполеоном. В конкурсе участвовали русские академики, видные итальянские и немецкие архитекторы. Возвышеннее и талантливее всех (а конкурс анонимный, разумеется) оказался проект никому не известного юнца Витберга. Царь лично с ним поговорил и был в восторге. Тут-то Витберг и совершил роковую ошибку: согласился быть не только архитектурным руководителем, но и директором строительства, то есть ответственным материально, как сказали бы сегодня. Как его и казну обворовывали толпы поставщиков и подрядчиков, легко себе представить. Отпущенные на постройку храма деньги они пилили (говоря на современном сленге) так лихо и беззастенчиво, что однажды вспыхнула разборка и назначили комиссию. Витберг плохо знал Россию и жестоко поплатился за незнание: его оговорили все, и вся вина пала на него. А в результате – конфискация имения, всего имущества и ссылка в Вятку за нанесенный казне ущерб. И ловко пущенные слухи о несметных его деньгах, хранящихся в американском банке. Герцен пишет о той «страшной бедности», в которой семья Витберга существовала в Вятке.
И ещё одна подробность этой искалеченной судьбы. Однажды вятское купечество задумало построить новую церковь. Типовой проект (уже такие были) их не устраивал, и они обратились к Витбергу. Но для церквей нетиповых потребно было царское соизволение, и то, что Витберг им нарисовал (подобие московского проекта), было послано в столицу. Царь Николай так восхитился, что особо предписал губернской власти не искажать замысел архитектора. А узнав, что автор – тот самый Витберг, разрешил ему вернуться. А в Москву ли, в Петербург – мог выбрать Витберг сам. И он вернулся. Но уже был сломлен человек. И жить по сути было не на что. Он тихо и безропотно ждал смерти. Таковым и видел его Герцен, навестивший друга в Петербурге.
Здесь же, в Вятке, вырос Александр Грин. Отсюда он ушёл в шестнадцать лет, мечтая стать матросом, и повёл свою скитальческую жизнь. И его залитый солнцем шумный Зурбаган – такая противоположность тихой и заснеженной Вятке, что наверняка он помнил сумрачную скуку своего детства в доме, где сейчас его музей. Который, кстати говоря, меня слегка расстроил. Вся романтика, которую принёс Александр Грин в души миллионов читателей, здесь передана картинами, скульптурами – пластически, короче говоря. И жутко пошло это выглядит. Увы, мне кажется, романтика обречена на опошление, когда её пытаются изобразить. Но походить по подлинному дому, где он рос (стараясь не смотреть на интерьер), и постоять возле него снаружи – удовольствие нешуточное. Отец его, поляк Гриневский, потомственный польский дворянин, был сослан сюда в ранней молодости за участие в восстании, тут и женился на местной уроженке, но жена его умерла, когда сын ещё был подростком. Больше отец ни с кем не связывал свою судьбу, отсюда и явилась та запущенность домашнего существования, о которой после вспоминал писатель Грин. Хотя преувеличивал безбожно. Вообще насочинял он столько, что и вокруг его имени после шумного успеха первых повестей начали клубиться мифы. То он был морским волком, долго бороздившим океаны всего света, то, будучи матросом, убил в пьяной драке какого-то английского капитана и прихватил его сундук с рукописями, то найден был совсем младенцем на необитаемом острове… Не сам ли он всё это сочинял, избывая память о тоскливой юности? Он ещё однажды возвратился в этот дом. Поплавав чуть матросом и к мечте своей довольно скоро охладев, пустился он в скитания. Бродяжничал, порою голодал, то в лесорубы подавался, то в золотоискатели. Пошёл было служить в армию, но сбежал и оттуда. Отсидел два года в тюрьме (связался с эсерами и арестован был за пропаганду), отпустили по амнистии. Всего четыре класса он закончил и учиться далее не собирался. Через год его опять арестовали и приговорили к ссылке в Тобольскую губернию, откуда он немедленно бежал и добрался до отеческой Вятки. Дело у него тут было: знал он человека, изготовлявшего фальшивые паспорта. Так что и с отцом ещё он повидался. И уже писал рассказы.
Тут я докурил вторую сигарету и хотел было вернуться в дом, но вспомнил о романтическом интерьере и решил, что уже мало времени.
А в доме Салтыкова-Щедрина великолепно и внутри. И даже стол его стоит – большая вероятность, что подлинный. Как-то не столь давно заехав в город Тверь, был я приглашён местным телевидением дать интервью не где-нибудь, а за музейным столом когдатошнего вице-губернатора Салтыкова-Щедрина. Стол был моложе того времени лет на пятьдесят и был слишком миниатюрен для употребления большим чиновником, но я тактично промолчал всё время съемок. А потом не выдержал, конечно, и свою уверенность, что им фальшак подсунули, невежливо озвучил. Но музейная девица с укоризной мне ответила, что людям интересно и они даже потрогать норовят. А с этим аргументом не поспоришь.
Прекрасный дом был у ссыльного писателя и четыре человека прислуги. По служебной лестнице он подвигался очень быстро и спустя три года после приезда был уже советником губернского правления – совсем немаленькая должность (а было ему в ту пору двадцать два года). Жить и жить бы в такой ссылке, где в лучшие дома он приглашался непременно – хоть и ссыльный, а жених завидный, – но писал он непрерывно в Петербург прошения, чтобы помиловали. Все восемь (почти) лет, что прожил он в Вятке.
Начинал он очень уж блестяще. Выучился в Царскосельском лицее, где заведомо готовили будущих губернаторов и министров, лучшим был поэтом среди сверстников (потом своих стихов всю жизнь стеснялся), и уже печатали его столичные журналы. Только бес его попутал (а точней – талант уже проснувшийся): написал он повесть «Запутанное дело». В сорок восьмом в марте он её напечатал, а в апреле уже ехал в Вятку, сопровождаемый жандармским офицером. Сам он эту повесть иначе как ерундой не называл, но российское начальство всегда лучше разбиралось в литературе, чем сами авторы.
А на самом деле ему очень, чисто по-российски повезло, ибо спустя всего год начался процесс по делу Петрашевского, а Салтыков-Щедрин не только ходил в этот кружок, но и дружил с его основателем. Так что стоял бы он на эшафоте рядом с Достоевским, но уже был в ссылке, и по делу этого кружка воспалённых юношей его допрашивали в Вятке только в качестве свидетеля.
Мотался по всей губернии этот усердный молодой чиновник, сочинял за начальство все годовые отчёты (специальный переписчик был к нему приставлен по причине неразборчивого почерка) и начисто забыл, казалось бы, свои литературные забавы. Ни единого свидетельства не сохранилось. Но только-только возвратившись в Петербург, через каких-то несколько месяцев он предложил журналу «Русский вестник» объёмистые «Губернские очерки». Без заметок-заготовок, сделанных заранее, такое быстро не напишешь. А значит, в этом доме, не внушающем никаких подозрений (тут и пили, и играли в карты), где-то прятал он заветную рукопись, тихо радуясь, что она пополняется. И я с чувством душевной близости опять прошёл по комнатам, стараясь догадаться (я три года в своей сибирской избе прятал рукопись на чердаке между брёвнами – прости, читатель, манию величия, явленную в этой ассоциации, но ссыльные всея земли равны по чувству страха за свои бумаги). Вот и доверяй после этого письменным заверениям чиновника Салтыкова, что исправился и умоляет о возможности вернуться. И ему не доверяли.
Тут возникает человек, об имени которого не догадался бы даже такой великий знаток того времени, как историк Натан Эйдельман. О, как бы я был счастлив загадать ему эту загадку! Но как раз, когда я всё это пишу, друзья в Москве пьют водку, отмечая двадцать лет со дня его нелепой смерти.
Сопровождая своего мужа, генерала, посланного в Вятку по делам солдатского набора (шла война), сюда приехала Наталья Николаевна Ланская. О чём она разговаривала с Салтыковым, познакомившись с ним на балу (провинциальные балы роскошны), что они вспоминали, сидя у него дома (а она туда наезжала), и мелькало ли в их беседах светлое имя Пушкина – никто не знает. Только легенда есть (в музее рассказали), что к последнему прошению помиловать и отпустить из ссылки было приложено личное ходатайство Натальи Николаевны Ланской. И в пятьдесят шестом советник Салтыков-Щедрин оставил этот дом.
Когда мы проезжали мимо городской тюрьмы, услышал я, что здесь сидел когда-то знаменитый немецкий лётчик Эрик Хартман, сбивший за войну триста пятьдесят два самолёта, а потом в плену благополучно отсидевший десять лет. Выпустили его со всеми пленными немцами в середине пятидесятых. Я уже в который раз проглотил свой всегдашний вопрос: помнят ли здесь хоть чуть о страшном Вятлаге, одном из огромных подразделений ГУЛАГа? Было как-то ясно, что не помнят. А уже, наверно, нету и свидетелей живых.
Потом мы неторопливо проехали по краю огромного оврага, заросшего кустами и деревьями, и тут я услыхал историю, которая такой дурацкой радостью меня наполнила, что более я ничего смотреть не захотел. А благодетель Рома Гозман мне ещё и книжку подарил, где вся история описана.
Этот Раздерихинский овраг был некогда надё-жной защитой древней Вятки. На краю его стояла крепостная стена, с которой горожане лили горячую смолу на головы нападавших и поражали их стрелами из луков. А в пятнадцатом веке приключилась горестная история. Ещё была Вятка вольным городом, ещё не прибрала её Москва под свою широкую руку, правили городом воевода и три атамана. Жили горожане пушным промыслом, ремёслами и торговлей. И разнёсся слух однажды, что идут на Вятку татары. Быстро собрались вятичи на площади, обсудили свои силы и решили, что сами не справятся, надо просить помощи. Ближе всех был Великий Устюг, туда гонцов и послали. А спустя неделю донесли сторожевые, что к городу приближается какое-то войско. И хоть не ночью дело было, но стояла тьма кромешная, как и положено в хорошем эпосе. Когда втянулось это войско в Раздерихинский овраг и к стене подступило, горожане принялись за дело: полилась горячая смола и стрелы полетели. С криком отступили нападавшие, и вятские смельчаки кинулись их преследовать. Завязалась нешуточная битва, полилась кровь с обеих сторон, пал в бою отважный воевода. Не сразу распознали вятичи, что дерутся не с татарами они, а с подоспевшей к ним дружиной из Великого Устюга. Но четыре сотни уже пали в этой битве. Учинили по ним пышные поминки (с той поры, возможно, и пошла присказка – «своя своих не познаша и побиваша»), и часовню порешили тут поставить в память столь оплошно убиенных. А татары так и не пришли. Поминки совершались каждый год, на них устраивали состязания стрелков из лука и борцов и пили изобильно, постепенно этот день стал из поминального – праздничным.
Но что ж тогда произошло? Как можно было спутать устюжан с татарами, которые от века налетали конницей? Ответ на этот заковыристый вопрос совсем недавно дал один местный писатель, сочинивший книгу (вот она лежит рядом со мной) сказов о когда-то вольной Вятке. Вот что было там на самом деле пять веков тому назад.
Незадолго до случившейся трагедии явился в город Вятку очень неказистый человек. Был заметно кривоног он и слегка горбат, кудрявились из-под нелепой шапки волосы и круто опускался длинный нос к рыжей бородёнке. В кафтане был каком-то странном, нехорошие заплывшие глаза и пухлые слюнявые губы. А звали его – Ицка сын Соломона.
Вздрогнули, читатель? Лично я был рад безмерно: очень я люблю читать про разные злодейства нашего народа, где к тому же и нечистой силой пахнет.
Ибо Ицка Соломонович был ещё и колдуном. Он быстро умертвил невинную старуху Феклинью, которая лечила весь город целебными травами, и даже не пощадил её любимого гуся. Чтобы занять её избу, удобно стоявшую на отшибе. После он обвинил в воровстве и нерадивости местного сборщика налогов и сам стал мытарем, затеяв непомерные поборы. Воеводу Аникея он опоил хмельной медовухой и очаровал настолько, что тот шагу от него не отходил и подтверждал своим авторитетом всё, что Ицка говорил. Когда гадали жители, чьё войско подходит к городу, безвольный Аникей за Ицкой вслед стал убеждать сограждан, что это непременно татары, а коней они недалеко в лесу оставили, чтобы сподручней было штурмовать стены. А сами устюжане после вспомнили, что потому они на штурм пошли, что встретился им маленький горбатый человек, который сообщил, что татары уже взяли Вятку, празднуют победу и бесчинствуют, и самая пора сейчас на них напасть внезапно.
Но для чего же это учинил зловредный Ицка Соломонович? От нестерпимой страсти зло творить или какой-то у него другой был умысел?
Конечно, был, и вятичи это довольно быстро обнаружили. Когда пошли они на поле боя, чтобы павших с почестями похоронить, то ходили там по полю Ицка с Аникеем, и обшаривал блудный атаман покойников, а Ицка складывал добычу в кошелёк. И конечно, кинулись на них разъярённые воины, да только вместо Ицки Соломоновича объявился им огромный вепрь, с диким хрюканьем и криком унёсшийся в лесную чащу.
Такая вот история случилась пять веков тому назад в той самой Вятке, где сегодня я был должен выступать со своими стишками.
После концерта (и народу было много, и смешливого по счастью) мы до ночи ели-пили на уютной кухне в доме Романа Гозмана, а я, уже в гостиницу попав, никак не мог уснуть: про Ицку Соломоновича думал. Очень у меня глобальные роились мысли (но и выпил я немало). Две похоже маленькие, равно неказистые (в литературном отношении) книжонки крепко повлияли на историю двадцатого века – «Манифест коммунистической партии» и «Протоколы сионских мудрецов». Первую сочинил некий Мозес-Мордехай Леви (более известный как Карл Маркс), вторую (получив заказ на эту фальшивку и уворовав наполовину текст у француза Жоли) – один мелкий российский журналист Матвей Головинский. Однако же идею общую он тоже позаимствовал – у некоего довольно одарённого еврея по фамилии Эфрон. Этот чрезвычайно изобильный автор (он писал статьи, рассказы, пьесы, повести, романы), начисто забытый сразу после смерти, за несколько лет до появления «Протоколов» напечатал повесть, весь сюжет которой предвосхищал будущую фальшивку. Там одна российская девица в поисках работы набрела на коммерсанта Бердичевского, который согласился взять её в гувернантки (и учить немецкому двух дочерей) лишь при условии, что она скажется еврейкой, потому что его старый отец не потерпит в доме никого из иноверцев. Бедная русская девушка согласилась и пришлась весьма по сердцу ветхому и хилому старику отцу. Настолько, что почтил он эту гувернантку высшей степенью доверия: повёл в некую секретную комнату с решётками на окнах и огромным железным шкафом в углу. Там хранилась тайная корреспонденция из всех крупных городов всех стран света. На множестве различных языков. Плюгавый старый еврей оказался чуть ли не главой (или главой?) всемирного еврейского заговора. В письмах содержались сообщения о подрыве экономики и нравственности всех стран мира. Евреи сообща и тщательно работали во имя порабощения наивных народов. Ужаснувшаяся девушка сняла копии с нескольких писем (сколько же трудилась бедная, ведь ксерокса ещё не было), украла несколько оригиналов и смоталась из этого страшного дома. Так что и сюжет будущих «Протоколов», и миф о смелом их похищении сочинил еврей Савелий Эфрон.
Тут я принялся смеяться пьяным хриплым смехом и никак не мог остановиться – ни вода, ни сигарета мне не помогали. Но в конце концов уснул. И ещё утром, старый идиот, посмеивался от глупой радости. «Во что мы только не встревали», – думал я. А после первой сигареты, за второй чашкой кофе вспомнил почему-то, что сегодня мифы даже мягкие и как бы симпатичные бывают. Так, одна старушка в белорусском (кажется) селе такую повестнула байку собирателям фольклора: дескать, ежели родился мальчик у евреев, он сразу головкой вертит – думает, как он устроится в дальнейшей жизни, а вот ежели такой же мальчик у коренного населения рождается, то сразу вертит он ручонками, ища чего уворовать. И снова я загоготал от удовольствия. Тем более, что вспомнилась ещё одна история из той же книги собирателей фольклора. На Украине где-то им одна старушка рассказала. Когда Моисей спустился с горы Синай, он обнаружил, что стало очень много грешников среди ведомых им евреев. И привёл он их к подножию горы Синай, велел им всем взяться за руки, а сам опять полез на гору. Но совсем недалеко. Оттуда сбросил он довольно длинный провод, крикнув одному из грешников, чтобы тот взял провод в свободную руку. Тут Моисей покрутил какую-то рукоятку и сразил огромную толпу сильнейшим электрическим разрядом. Двадцать три тысячи трупов пали одновременно к подножию Синая!
«Вот когда ещё мы знали электричество», – подумал я и головой легонько покрутил, чтобы прикинуть, как устрою жизнь на сегодня.
А на концерте в Вятке получил я среди множества записок три очень хорошие. Одна такая: «Игорь Миронович! У меня папа – еврей, а мама – русская. Утром хочется в Израиль, а вечером – водки. Что делать?» А вторая – доверительная: «Дорогой Игорь Миронович, я готовлюсь стать матерью. Посоветуйте, как научить ребёнка вовремя и к месту пользоваться ненормативной лексикой». А третью написал интеллигент, разгневанный моими вольными стишками: «Таких евреев, как Вы, не было, нет, и не надо!»
Ещё другие навестил я города. Но в памяти всё время выплывала Магнитка. Верно посоветовал когда-то Хармс: не надо ездить слишком далеко, а то увидишь там такое, что потом никак не забудешь. Я вдруг принимался думать, что могли бы возле памятника этого рассказывать экскурсоводы, – выходил кошмар кромешный. И наверняка ведь надо было помянуть самое подлое преступление советской власти, на которое без личного распоряжения отца народов наверняка никто бы не осмелился. Нельзя было не помянуть судьбу солдат, искалеченных в мясорубке Великой Отечественной. После войны во множестве городов появились безногие нищие. На деревянных кое-как сколоченных платформах (и четыре шарикоподшипника) они отталкивались от земли двумя деревянными чурбаками с ручками («утюгами»). Более всего их было много на вокзалах и рынках. Днём они просили милостыню, к ночи исчезали кто куда, постоянного крова у большинства из них не было, и близких – тоже. И однажды все они исчезли. Сразу. Одновременно из всех городов империи. Случилось это в самом конце сороковых (возможно – в начале пятидесятого). Это была столь же слаженная акция, как чуть раньше – массовое выселение народов, объявленных пособниками немцев. Осуществили её милиция и чекисты. Инвалидов увозили в зэковских вагонах, и оказались они в дальних, наглухо закрытых специнтернатах. Очень они портили собой вид советских городов, напоминая о цене победы. А их было много, очень много тысяч. И по мановению верховной руки они мгновенно канули куда-то. В этом по сути тюремном заключении они, конечно, очень быстро умирали – от обиды, от недоедания, от безвыходности и отчаяния. В девяностые лишь годы появились скупые свидетельства: один из таких интернатов был на острове Валаам – пригодились разорённые монастыри. Смутно упоминались Соловки и Сахалин, далёкие окраины нескольких городов. Так империя воздала благодарность своим калекам, вернувшимся с войны за родину. И снова воцарилась тишина. И нет даже кладбищ с именами. При задержании отбирали у них паспорта и солдатские книжки, так что где-то есть архивы, очевидно, и когда-нибудь это забвение прервётся. Хочется так думать, что прервётся.
Меня часто спрашивают (и на концертах, и по возвращении), что я думаю о сегодняшней России. Прежде всего, мне кажется, – вожди российские напрасно печалятся, что нет у населения страны какой-нибудь идеи – общей, и глубокой, и одушевляющей. На самом деле она есть, общероссийская национальная идея. Явная и очевидная. Она проста и лаконична: выжить. Пережить с как можно меньшими потерями всё, что вокруг творится, и детей от пакостных соблазнов уберечь. А потому здесь каждый в меру способностей утоляет свои потребности, кладя с прибором на державный беспредел.
Что же касается общественной апатии, повальной и повсеместной, то, по-моему, устали очень люди от надежд, недавно вспыхнувших, но обернувшихся враньём и разложением, и инстинктивно затаились. Один мой знакомый предложил такую партию создать, что все в неё запишутся, она бы всех устроила одним своим названием: Российская Совестная Партия Замедленной Демократии. А сокращённо – РСПЗД.
Клуб мудрозвонов
Случайный разговор
В тот день я приехал в аэропорт, почти опаздывая, но успел купить две бутылки, да ещё осталось время выпить кофе. Мне приветливо махал рукой и улыбался какой-то средних лет потёрханный незнакомый еврей, и было бы неудобным не присесть к его столику.
– Лет десять назад вы подписывали мне книгу в Хайфе, помните меня, наверно? – спросил он чуть нагловатым от смущения тоном.
В год у меня случается с десяток выступлений в разных городах, и на каждом я надписываю несколько десятков книг – как же я мог его не помнить?
– Конечно, – ответил я.
– Стакан у меня есть, будете? – спросил он, вытягивая из портфеля крепко уже початую бутылку виски. Я благодарно поднял брови. Мы беззвучно чокнулись пластиковыми стаканами за всё хорошее. Он тут же плеснул добавку. Лысоватый, замечательно блудливое лицо.
– Я тоже в Минск лечу, – сказал он жизнерадостно.
Из аэропорта Бен-Гурион летят самолёты во множество стран и городов, но я действительно собрался в Минск и потому невольно засмеялся. По второй мы выпили за удачный полёт.
– Давно я не был в Белоруссии, – задумчиво сказал попутчик. – Наверно, года полтора уже. Мне всегда не везёт, когда туда еду, что туда, что обратно. Как-то перевес у меня был на много килограмм, чуть ли не сотню баксов надо было доплатить, так я их еле уболтал, чтобы разрешили без доплаты. А как-то деньги вёз – немного, тысяч десять, так в Белоруссии таможенник меня минут сорок мурыжил: я, говорит, вижу тебя насквозь, ты где-то деньги спрятал, почему не пишешь декларацию? Так еле я его уговорил, что нету ничего, уже он было шмон собрался учинять. А как-то раз курю я в минском аэропорту в неположенном месте, а менты мне говорят: пошли-ка, парень, протокол оформим. А у меня деньги заначены, и знаю, что найдут – отнимут. Еле-еле я от них отговорился. А ещё я прилетаю как-то в Минск, и три бутылки в чемодане у меня, по литру каждая. Так они мне чемодан своим рентгеном просветили, прямо из толпы меня выдернули, вот ведь суки зоркие. А можно только один литр, уж не знаю, как сейчас. Так две литрухи им пришлось оставить.
– А вы ни разу не пробовали, – вежливо спросил я, заранее грустя о своей второй бутылке, – так поехать, чтобы всё по закону?
Он дико на меня посмотрел и машинально плеснул нам по глотку. Такая мысль ни разу ему в голову не приходила, и поэтому мы выпили без тоста. Каждый думал о своём. А тут как раз объявили посадку (до сих пор чуть напрягаюсь, когда слышу или пишу это слово). В Минске он ко мне не подошёл – наверно, каждый раз волнуясь по приезде в Белоруссию.
А я, уже в гостиницу едучи, угрюмо думал, что неправильно веду себя в последние годы, я ведь очень мало записываю, а такие благодатные разговоры приключаются в дороге сплошь и рядом. Почему же я даю им улетучиться из памяти? И сам себе всё очень просто объяснил. Я уже давно довольно обнаружил с радостью и удивлением, что гастроли – это замечательно уютный и надёжный вид одиночества. Хотя всё время я на людях и меня встречают, опекают, провожают, я готовно отвечаю на вопросы и легко поддерживаю лёгкий разговор. Веду вполне публичное существование, контактен, и приветлив, и отзывчив. Только это чисто внешнее и машинальное общение. Я всё время нахожусь в невидимом коконе, я думаю, о чём-то вспоминаю, или просто в тихой внутренней отключке нахожусь. Хотя наружно – светлый и типичный образ кочевого фраера. Как такое происходит, я не смог бы объяснить связно и достоверно, только это именно так. Меня куда-то водят выпивать и закусывать, я честно исполняю ожидаемую роль застольного балагура, но всё время сам, один, внутри себя. Поэтому, возможно, я почти не помню, как эти гастроли проходили, где я был и даже (что порой обидно) забываю, что я видел в этих городах, мелькающих с неуловимой скоростью. Из этого блаженного (блажного?) состояния меня выводят только те случайные разговоры (фразы или случаи), которые мне хочется запомнить, и я порой записываю их. Коряво, наспех, в нескольких отрывочных словах. Эти блокнотные каракули я сам не в силах разобрать, когда я возвращаюсь, но сижу над ними и в конце концов припоминаю. Далеко не всё, но многое. А записав их аккуратно и разборчиво, я думаю с тоской, куда теперь их подевать. Поскольку прозу не пишу, и как бы ни к чему эти забавные случайные обрывки. Поэтому я здесь решил собрать их вместе без какой-нибудь системы и порядка. Так: услышал, удивился, записал. Осколки жизни кочевой.
Начать, конечно, следует с Москвы. Мы как-то с Татой побрели в один обильный магазин, поскольку вечером предвиделась большая пьянка. Мы всё необходимое нашли и закупили (до сих пор я удивляюсь вежливости и радушию, осенившим нынешних продавцов), и я с двумя большими сумками пошёл наружу покурить, а Тата ещё что-то там смотрела.
– Извините, вы не Губерман? – ко мне обращался очень, очень невысокий плотный старичок моих примерно лет. Смотри-ка, и фамилию назвал. Обычно имя и фамилию не помнят и негромко задушевно говорят: «Ведь это вы и есть тот самый?» Я послушно соглашаюсь: да, тот самый. За уличным такого рода узнаванием обычно следует просьба об автографе или интимное воспоминание, что видел как-то раз по телевизору – с оттенком гордости, что память хоть куда.
– Читал ваши стихи, – медлительно сказал старик, – в них есть о чём подумать думающим людям.
Я молчал, докуривая сигарету.
– Я сам чекист, – журчал старик, – а вы, читал я, с нашим братом вдоволь пообщались. Я большим подразделением командовал, тяжёлая была работа…
Он полез в карман и показал мне какое-то красное удостоверение – то ли ветерана, то ли сохранившееся с тех прекрасных лет, когда он вынимал его уверенно и властно. Я подумал, что, скорей всего, он управлял огромной сворой топтунов.
– Наружное наблюдение? – вежливо спросил я.
– А все награды, премии и поощрения – другим отделам отдавали, – подтвердил он мою догадку. – Хотя без нас им ничего бы не светило.
Я уже нетерпеливо ждал жену, и ни о чём его расспрашивать мне не хотелось. Он ещё мне так же тускло сообщил, что он и нынче секретарь районного совета ветеранов и что с тягостями той былой работы примирял его только начальник непосредственный, большого ума человек и редкой душевности. Это я прекрасно понимал, у них таких в избытке было, сам удостоверился не раз. Но тут он о начальнике сказал такое, что испытал я неожиданную радость.
– Я к нему когда ни загляну, всегда на что-нибудь пожалуюсь, а он всегда в ответ мне говорит… – старик выдержал безупречно артистическую паузу и тоном мудреца Эзопа произнёс: – Не бзди в скафандр, а то всплывёшь.
Ни разу в жизни не слыхал я столь прекрасной мерзкой фразы. Появилась Тата, и я с благодарностью пожал его пухлую, но ещё крепкую руку.
Я приезжал в тот раз не только ради выступлений: меня пригласила на свой юбилей очень любимая мной «Новая газета». Это единственная российская газета, которую я читаю, каждый раз удивляясь мужеству её сотрудников и загадочному факту, что её не задавили. Вся остальная пресса (как и телевидение, впрочем) давно уже втиснулась в дозволенные рамки умолчания. Но ведь и убили в этой газете четверых уже сотрудников. Ну, словом, – счастье, что она существует. На концерте в честь юбилея мы сидели с женой Татой возле родителей Ходорковского, и это клало дополнительный отсвет на всё происходившее. А после удалось мне протолкаться и пожать руку Горбачёву, я его великим полагаю человеком, хотя он совсем нечаянно, того нисколько не желая, повалил кошмарную империю. А так как мы ещё всё время поддавали (выпивку и лёгкую закуску по всему фойе носили), то прекрасный получился праздник. Повидал я нескольких людей, приятельством с которыми весьма горжусь, а лица множества других были на редкость симпатичны, такого скопления интеллигенции я уже много лет не видел. И поэтому, когда мы столкнулись в толпе с Алексеем Симоновым, я его немедленно спросил:
– Скажите, Алексей, нас тут собралось человек пятьсот, наверно, с замечательными лицами, и я уверен, что любому вы пожали бы тут руку, не колеблясь. Это и всё, что осталось нынче в Москве, или есть ещё такие же?
Он засмеялся моему иностранскому вопросу, чуть подумал и ответил так, что я немедля и невежливо сбежал, чтоб записать.
– Нет, – ответил он, – ещё, пожалуй, наберётся тысячи две, но в том беда, что большинство из них с каждым годом пожимает руку всё слабее.
Этот короткий диалог настырно ёрзал в моей памяти, как будто понукая вспомнить, как совсем недавно я сидел, курил и точно так же думал, что только два бывалых советских человека могут с полным пониманием так коротко поговорить. И вдруг сообразил, что мучаюсь, поскольку место, где случился этот разговор, уж очень, очень мало подходило к содержанию его. А было это в Барселоне. Берег моря, славная гостиница, слёт авторской песни. Барды из Америки, Германии, Австралии и уж, конечно, с необъятных просторов рухнувшей империи советской. Хоть наехало немало графоманов, но и те вполне уютно слушались под лёгкое испанское вино. А прямо перед корпусом гостиницы огромный был бассейн, возле которого с утра особенно приятно пилось ледяное пиво. Там я и сидел, когда ко мне подошёл невероятной симпатичности человек, поэт и незаурядный музыкант Витя Луферов. Мы видимся с ним редко и случайно, и поэтому я очень удивился, когда он сказал мне, что вчера ему приснилось нечто, тесно связанное со мной.
– Ты понимаешь, – говорил он тоном человека из подполья, – я сижу в какой-то камере и следователь грубо на меня орёт, чтоб я кололся, после так ударил, что я в угол отлетел, и я ещё не встал, как он пошёл к дверям и посулил мне, что сейчас он позовёт амбалов, чтоб меня топтали, как умеют. Я, ты понимаешь, встал, жду, что придут меня метелить, и вдруг вижу на столе у следователя папку с твоим именем. Я её раскрыл, там всего несколько листочков – на тебя заведенное дело. Ну, думаю, мне всё равно ведь пропадать, так я эти листы порвал, помял и съел. Давился, но глотал. Тут дверь стала открываться, я проснулся – ну, думаю, счастье какое, а во рту – вкус жёваной бумаги…
Я молчал, зачарованный этим кафкианским рассказом, а Витя Луферов вдруг совершенно серьёзно меня спросил:
– Если ты такое на меня увидишь, ты ведь тоже так поступишь, правда?
Это не предположением звучало («если бы»), а вопросом о конкретной завтрашней реальности, и я невольно вздрогнул, посмотрев на Витю непонятливо и даже с подозрением, что шутит или нездоров. Но тут нагрянули его приятели, и их разноголосицей наш разговор прервался. Только ещё долго я сидел в ошеломлении, такие сны давно уже не снятся мне. Вторая кружка пива показалась мне ещё прекрасней.
А в том, советском времени когда-то состоялся у меня (естественно припомнившись сейчас) один короткий разговор, тогда меня глубоко поразивший. Мы в Сибири жили, я был «химик», то есть зэк, отпущенный из лагеря досрочно, чтобы работать в назначенном месте на стройках большой химии (Хрущёв такое сочинил, дай Бог ему благополучия в загробной жизни). И мы с женой пошли в библиотеку нашего шахтёрского посёлка. А там невзрачная, немолодая и помятая библиотекарша, едва на меня глянув, утвердительно спросила:
– Вы ведь химик?
Я в ответ кивнул недоумённо – мол, какая разница, как я сюда попал, я житель этого посёлка, гражданин и всё такое прочее.
– А химикам мы книги не выдаём, – надменно сказала эта сеятельница культуры. С полминуты я молчал оторопело, а потом пролепетал униженно и робко, что я, собственно, и сам литератор, даже книги мои есть, возможно, в этой библиотеке – так нельзя ли сделать исключение.
– Я знаю, – с омерзением отрезала библиотекарша, – но так все химики сюда полезут.
Эта логика сразила меня полностью. А Тата вежливо и мягко попросила:
– Запишите в таком случае меня, пожалуйста, я вольная, приехала сюда жить с мужем, вот мой паспорт.
– Где работаете? – неприязненно спросила охранительница книжного богатства.
– Я нигде пока, я только что приехала, а вообще филолог, – объяснила Тата.
И баба отчеканила с нескрываемым злорадством:
– Мы домохозяйкам книг не выдаём.
Мы шли домой такие удручённые, что чуть не поссорились, потому что Тата поносила бедную библиотекаршу различными словами («сука» было самое приличное), а я уныло бормотал, что эта пожилая девушка наверняка несчастна, и вот пришёл ей случай отыграть свои печали на химической семье бесправной. И немедля Тата на меня переключилась – и в душевной мягкотелости меня виня, и в жажде оправдать любых позорных сук. А так как это свойство мне и впрямь присуще, то и бормотать я вскоре перестал. А книги стали слать нам из Москвы, и получать очередной их ящик было радостью неимоверной.
«Ну, а светлый разговор какой-нибудь ты помнишь, старый очернитель?» – спросил меня внутренний голос. «Ещё как», – ответил я ему. Но первый же, который вспомнился, был пересказом некой чужой истории. А я её услышал в Балтиморе, большом американском городе. Там одна моя знакомая известна всем как замечательный экскурсовод. И вот её однажды попросили поводить по Вашингтону очень важное лицо – министра внутренних дел Армении. (Возможно, это был всего лишь заместитель, но пускай будет министр – так интересней.) Оказался он вполне симпатичным средних лет мужчиной, с той интеллигентинкой, что вообще присуща армянам, и водить его по городу было легко и интересно. А в процессе этого похода оказались они возле площади, где в урочные вечерние часы тусуются городские гомосексуалисты и лесбиянки. А министру это рассказав, спросила его гидша, есть ли геи с лесбиянками в Ереване.
– Да, гомосексуалисты у нас есть, – подтвердил министр, – а лесбиянок у нас нет.
– Как же это, всюду они есть, а у вас нет? – усомнилась рассказчица.
– А мы их ебаем, – лихо объяснил министр.
Ещё один чужой и светлый разговор мне было б очень жалко упустить. Моя хорошая и давняя знакомая, живущая в Париже, созвонилась со своей подругой, жительницей Швеции, и они совместно отправились куда-то погреться и подышать морским воздухом. Расположившись на пляже, они оживлённо чирикали о своих делах и заботах, как вдруг к ним обратился пожилой еврей, степенно возлежащий под тентом.
– Я извиняюсь, – сказал он, – я слышу русскую речь, я тоже из России, но сейчас живу в Израиле.
Выразив по этому поводу живую вежливую радость, подруги продолжали разговор. Однако же еврей не унимался.
– Я извиняюсь, – снова сказал он, – а вы где живёте?
Подруги сообщили, что живут во Франции и Швеции.
– Вот вы мне и скажите, – попросил еврей, – что вы думаете об Израиле? Только скажите объективно.
Моя приятельница, человек весьма учёный и логично мыслящий, терпеливо объяснила, что, поскольку она может высказать лишь собственное мнение, объективным оно быть не может, оно будет субъективным, то есть личным.
– Нет, вы меня не поняли, – поморщился старик, – и я вам объясню. Многие люди говорят об Израиле плохо, а это – не объективно.
Мне никак не миновать историю, услышанную мной в турецкой Анталии. Как я оказался на курорте этом (да ещё в гостинице роскошной) – песня отдельная. Один мой знакомый задумал юбилей отпраздновать распахнуто и грандиозно – пригласил в Анталию аж двести человек друзей, приятелей, по бизнесу партнёров и родных людей, естественно. Ещё туда оркестр приехал (как не два), и я был приглашён читать стишки. Ах, как это было замечательно! Трём международным шахматным гроссмейстерам я руку пожимал и с бывшими чекистами беседовал (все, как один, оказывается, всю жизнь поборники свободы были), а во всех гостиничных барах – пиво с выпивкой, не говоря уж о закуске, загодя и наперёд оплачено широким юбиляром. А на берегу нам жарили перепелов… А в зале настоящий шахматный турнир гигантов видел я впервые в жизни. И вплотную если к столику любому подойти (жаль только, сразу отгоняли), то всем телом чувствуешь поле нервной напряжённости в воздухе… А бассейн внутри гостиницы с водою подогретой (тут же баня всякая и разная)… А… Словом, это всё прекрасно было, дай Бог здоровья устроителю такого праздника. Ну и в делах – успеха, разумеется, поскольку и заметить не успеет человек, а близок уже будет новый юбилей. Положим, я не доживу, но людям повезёт, если удачно эти годы протекут. Теперь и перейду к обещанной истории.
А впрочем, я сначала отвлекусь. Поскольку посреди турецкой этой роскоши (а именно таким был интерьер гостиницы, хотя местами что-то и египетское было) вдруг припомнился мне день, когда я так же переполнен был острейшим чувством удовольствия от жизни. В городе Тамбове, в пересыльной городской тюрьме. Там нас помыли (баня, правда, хуже, чем в Анталии, но всё-таки вода горячая), а на обед был суп – точнее, жижа, где варились макароны, их обрывки попадались в каждой миске. И мясным бульон был этот, мяса не было, конечно, только повара чуть позже его вынули, чем надо, чуть оно переварилось, и на радость зэкам плавали мясные волоконца. Очень, очень убедительным был тот суп, и больше никогда такой не попадался мне за всю отсидку. А потом и каши жидкой кинули по черпаку. Ну не тюрьма, а санаторий. Только главное не в этом. Когда наша камера возвращалась с прогулочного дворика, на повороте коридора, на углу, где каменно сидит дежурный надзиратель, не было его на месте. А на столике лежала книга, начисто уже ошкуренная от обложки, но страницы ещё не были напополам разрезаны, чтоб нам такие половинки штуки по три на день выдавать. Поскольку никакой бумаги туалетной отродясь по тюрьмам не бывало, то такие вот рассеченные книги были нам гигиеническо-гуманитарной помощью от наших пастухов. А эту, повторю, ещё не рассекли – возможно, он за бритвой и пошёл. Я отклонился вбок чуть-чуть и в пируэте этом книжку прихватил и сунул под рубаху, плавный ход колонны нашей ни на миг не задержав. На случай шмона, если хватятся и вычислят, я ещё час её не вынимал. Но тюрьма была большая, камеру за камерой вели туда-обратно, скоро нам в кормушку сунули обрезки пожелтевшего учёбника какого-то (предмет не помню). И тогда я достал свою добычу. И так на нарах повернулся, что в глазок дверной её не мог увидеть надзиратель. Оказался у меня в руках целёхонький Лесков – «Очарованный странник». И лежу я сытый, сигареты ещё есть покуда, и читаю. И меня такое счастье разобрало, что Тамбов я вечно буду помнить, и туда если случайно попаду, бесплатно дам концерт для всей администрации тюрьмы.
Однако же вернусь теперь в Анталию. Ко мне в антракте подошёл один из друзей юбиляра и стеснительно спросил, готов ли я и впрямь, как говорил вначале, выслушать историю, недавно у него в семье происшедшую. Конечно!
– Мы с женой – украинцы, – сказал рассказчик, – а семья наших приятелей – оба евреи. Как-то мы пришли к ним в гости, и хозяйка по рецепту её бабушки нам приготовила фаршированную рыбу…
Он чересчур подробно это мне повествовал, поэтому я главное перескажу. Гостье-украинке так это блюдо понравилось, что она рецепт спросила у хозяйки и с усердием его записала. Прошло какое-то время, и еврейская семья пришла гостевать к украинской. Хозяйка-украинка им приготовила такую точно фаршированную рыбу. И настолько вкусную притом, что еврейка с восхищением сказала:
– Слушай, у тебя гораздо вкусней рыба получилась. Ты по моему рецепту всё делала?
– Всё в точности, – ответила польщённая украинка, – я только, знаешь, на свой страх и риск в этот фарш немного сала намесила.
Мне эти краткие случайные истории нравятся, конечно, за их похожесть на анекдоты, только есть в них нечто большее порой – ну, вроде достоверного свидетельства о психологии участников. Один приятель наш, врач по профессии и по душевному устройству врач, поехал по своим делам в Москву. Дела были такого свойства, что по нескольким московским больницам довелось ему подробно походить. И другу своему, с которым некогда учился здесь, теперь уже солидному профессору, он изложил свои довольно скорбные впечатления о состоянии российской медицины. Попутно, разумеется, упоминая и израильское врачевание. Профессор выслушал несколько его монологов, а потом сказал задумчиво:
– Ты знаешь, так ты ругаешь нашу медицину, так израильскую хвалишь, что просто хочется съездить…
– Так приезжай, – обрадовался наш приятель, – приезжай, посмотришь сам.
– Нет, – поморщился профессор, – ты не понял. Хочется съездить тебе по морде.
Расскажу теперь о разговоре, которого на самом деле не происходило. Я просто был дуплом, куда слетелась перекличка двух военных ветеранов. В Москве я читал стишки недавно в замечательном кафе «Гнездо глухаря» – там барды почти каждый вечер исполняют свои песни, и вполне своя приходит публика, я не случайно каждый раз туда прошусь, когда в Москве бываю. И по ходу выступления я рассказал смешную историю о пожилом недалёком еврее, бывшем полковнике авиации. Он объяснял свою эмиграцию в Америку обидным для его души антисемитизмом: когда в семьдесят третьем году его эскадрилья собралась лететь бомбить Израиль – его не взяли. Среди полученных от зрителей записок одна была по-армейски суха и категорична:
«Уважаемый Игорь Миронович! Поверил во все Ваши рассказы, кроме еврея-полковника (его нужно доработать). Вы как еврей и я как полковник понимаем, что в армии евреев, дослужившихся в авиации до полковника, – НЕТ. Спасибо за концерт». И неразборчивая, с очевидностью начальственная подпись. (Слово «нет» написано заглавными буквами, а запятые я расставил сам, их не было.)
Я сразу же обиделся на совет «доработать» – все мои байки подлинные, я ничего не сочиняю. И я мог бы возразить, но жалко было времени концертного, и я записку эту умолчал. Но здесь отвечу на неё, тем более что вся дальнейшая история – о чрезвычайно дружеской гуманности.
В Германии, в городе Хемнице (где байку эту про полковника я тоже излагал) ко мне подошёл в антракте пожилой улыбчивый еврей и попросил минуту времени. Оно у меня было, я уже все книги подписал.
– Знаете, Игорь Миронович, – сказал он, – я как бы и есть тот самый ваш полковник, только у меня гораздо человечней получилось.
Когда в семьдесят третьем в Израиле шла война, по его авиачасти прокатился слух, что их вот-вот пошлют против еврейских агрессоров. Его вызвал к себе командир их части (или эскадрильи, как там это называется?) и доверительно сказал:
– Семёныч, бери отпуск и гуляй на всю катушку целый месяц. Не хуя тебе своих бомбить и нервы портить.
А теперь – короткая история об очень светлом человеке. У жены нашего сына есть бабушка. Ей уже восемьдесят лет, но она неустанно пестует четырёх внуков, на себя же взяв и все почти заботы по хозяйству. И её во время родственной гулянки кто-то легкомысленно спросил, не тяжела ли ей такая дикая нагрузка в её возрасте (сама она именует это «сладкой каторгой»).
– Да, тяжело, – вздохнула бабушка, – но вот умру и отдохну. Дожить бы только.
Мне кажется, что к разговору смело можно причислять и случаи (они нередки), когда один из собеседников молчит, ответив только взглядом, усмешкой или жестом. Например, сидя у приятеля на свадьбе, я услышал вдруг, как за соседним столом молодая женщина громким шепотом сказала своей подружке:
– Посмотри, вон слева от меня за столиком сидит какой-то пьяница с обвислым красным носом – правда же, похож на Губермана?
Я обернулся к ней и лучезарно улыбнулся. И глаза у неё стали – как у школьницы, описавшейся на уроке.
Один случайный разговор никак нельзя тут упустить, поскольку два-три слова обнажают изредка такую глубину душевного настроя, что психологам и социологам в большой статье не описать. Тем более – зловещего настроя. Одна моя приятельница ехала в такси по какому-то большому городу (по какому именно – не помню), и водитель принялся ей сетовать на пагубное обилие инородцев. Моя приятельница, будучи еврейкой, чуть насторожилась, но немедля выяснилось, что речь идёт о тех, что «понаехали»: и жить не дают, и ведут себя нагло. Выгнать бы их всех и выселить туда, откуда заявились. Пассажирка молча развела руками: невозможно. Ей хотелось что-нибудь ещё услышать.
– А тогда, – сказал водитель злобно и решительно, – такие надо им создать условия, чтобы стало очень плохо, и они уедут сами.
– Но в таком раскладе вам ведь тоже будет плохо, – удивилась приятельница.
– А я потерплю, – мрачно сказал водитель.
Я теперь немного отвлекусь и расскажу о разговоре не случайном, просто у меня другого места в книге не сыскалось для него. А я уже давно хочу покаяться в одном некрупном шулерстве. Пятнадцать лет прошло с тех пор, пора, мой друг, пора. Один приятель мой, слегка и нескрываемо смущаясь, сказал, что он с коллегами хотел бы сделать обо мне кино.
– Поскольку, понимаете ли, Игорь Миронович, – мямлил он, – уж вы не обижайтесь, только вы уже, как говорят у нас, – кадр уходящий, и пора вас снять на плёнку.
Я засмеялся и сказал, что буду очень рад. Они сперва снимали в Иерусалиме, а потом поехали со мной в Москву, где в разных местах я рассказывал им байки и читал стишки по ходу съёмок. Получилось превосходное кино (семь частей по полчаса каждая), и стали они его продавать. На фильм этот запал один большой телеканал, но приключилась долгая заминка. Мне позвонил режиссёр фильма и пожаловался, что продюсер этого канала уже месяц как молчит в раздумьях. По всей видимости – горестных ввиду необходимости платить. А кстати, деньги были небольшие, лишь в обрез они бы окупили все расходы трёх энтузиастов съёмки уходящего кадра. Я очень симпатичного теленачальника этого знал и вызвался позвонить ему, чтобы выяснить хотя бы перспективы. Но задумка у меня была покруче. (Имена я поменяю по тактичности, по деликатности и щепетильности.)
– Марк, – сказал я ему интимным тоном, – у меня к вам чисто нравственный вопрос. Мне позвонил режиссёр Фима и спросил совета: у него какая-то телестудия хочет купить тот фильм по большей цене, чем он назначил вам, но с вами он уже повязан предложением своим, и как бы совестно ему теперь в кусты смываться, и он меня спросил, как ему быть. А я не знаю, я же не профессионал, хочу у вас спросить совета.
– Зачем вы меня шантажируете, Игорь? – сухо и догадливо спросил профессионал Марк.
– Марк, – ответил я обиженно вопросом на вопрос, – похож ли я на человека, который станет шантажировать кого-то?
– Пусть сам решает, как находит нужным, – буркнул Марк, и мы разъединились.
А назавтра к вечеру мне Фима позвонил:
– Он покупает наше кино! Как вы его уговорили?
– Я ничуть его не уговаривал, – честно ответил я.
Надо сказать, что оправдалась полностью затея, и не прогадал купивший фильм продюсер: несколько раз прошло это кино в Израиле, Америке и странах, где доступен тот телеканал. И я без капельки стыда теперь вот искренне покаялся в своём удачном шулерстве.
А как-то у меня случился содержательный, хотя и мимолётно краткий разговор с московским мэром, знаменитым Юрием Лужковым. Он приехал по своим делам каким-то, в честь него устроен в Тель-Авиве был банкет, и мне его сотрудник позвонил, от имени своего шефа пригласив на это торжество. Я был приятно удивлён, а Тата по привычке заподозрила неладное, но ехать согласилась. Лужков встал из-за стола нам навстречу, закадычно обнял меня и сказал, что давний мой читатель. Тут же он из-под салфетки на столе достал и подарил мне свою книжку переделанных на российский лад мыслей и афоризмов Паркинсона (или Мэрфи – я уже не помню, книжку лень искать), сделав на ней очень лестную и дружескую надпись. Я тоже подарил ему свою книжку, и мы с женой отправились куда-то в конец зала, где ещё были места. Но выпив и поев, я побрёл к его столику, чтобы утолить своё давнее любопытство. Очень уж он был похож на моего дядю Исаака. Он вежливо привстал мне навстречу.
– Юрий Михайлович, – сказал я тихо и интимно, – у меня к вам есть один вопрос…
– Всё, что угодно, – распахнуто ответил он, привычно понимая под вопросом какую-нибудь просьбу. Я ни о чём просить не собирался.
– Мне уже давно говорили, – сказал я, – что в вас есть какая-то часть еврейской крови – это правда?
– Враги клевещут! – воскликнул он так жарко, что вполне мне стало очевидно, как ужасно для него такое гнусное предположение.
Я сразу ощутил, какую пакость заподозрил в этом чистом человеке, и смущённо извинился. Зря я так его расстроил, покаянно думал я, плетясь на своё место.
А ещё я вспомнил один случай, когда краткий разговор (и выпивка вослед) мне очень помогли поправить захиревшее здоровье. Мне тогда сделали довольно тяжкую операцию – нет, надо бы начать с того недолгого времени, когда я ещё томился в предоперационной палате. Нас там было человек пять-шесть, и мы лежали по своим кроватям, ожидая очереди под нож хирурга. Ко мне подошёл человек в зелёном (операционном) одеянии и сказал очень душевно:
– Игорь Миронович, я из бригады анестезиологов. Мы вас сейчас усыпим, так что пообщаться не сможем, но мы вас знаем, любим, и всё будет хорошо. Вы как себя чувствуете?
– Старина, – ответил я, – чувствую себя я плохо, начинайте без меня.
Он громко засмеялся и ушёл. А после операции ко мне в палату несколько раз заходили разные врачи, на иврите и на русском желали выздоровления и быстро уходили. А один не уходил.
– Игорь Миронович, – сказал он, когда мы остались вдвоём, – вы ничего не едите, а надо бы, уже вторые сутки пошли.
– Да неохота, – тихо промямлил я.
– Может быть, вам выпить хочется? – спросил он.
Я ожил и встрепенулся.
– А у тебя есть? – спросил я хриплым забулдыжьим голосом.
– Есть полбутылки виски, – ответил он и назвал марку моего любимого напитка.
– Так неси скорей! – сказал я радостно и бодро.
Он пошёл к дверям, а глядя ему вслед, я подумал о его несолидной молодости (немного за тридцать) и окликнул его:
– Послушай, только ты спроси какого-нибудь местного профессора, мне можно ли уже?
Он обернулся и сказал мне с укоризной:
– Что ж вы обижаете меня? Я и есть ваш местный профессор.
И принёс он полбутылки «Чивас регель», я отпил глотка четыре и ощутимо возвратился к жизни. Вечером ко мне пришёл приятель, мы с ним на балконе всё допили, там же покурили, и поправка моя двинулась стремительно.
Одна история, рассказанная мне, обогатила мой эстрадный репертуар, теперь я всюду рассказываю её всем со сцены. Я, к сожалению, не помню города, где подошла ко мне в антракте женщина и, чуть запинаясь, сказала, что мне будет интересно, как порой родители участвуют, сами того не замечая, в обогащении своих детей различной неформальной лексикой. Она смущалась явно от того, что предстояло изложить. И чудную услышал я историю.
Мы сели ужинать втроём, рассказывала женщина – мы с мужем и наша семилетняя дочь. Две недели уже дочь ходила в первый класс. И ангельским своим прелестным голоском спросила вдруг она: «Папочка, а что это такое – полный пиздец?» Отец мгновенно покраснел, вспотел, беспомощно глянул на жену и медленно ответил: «Понимаешь, ласточка, это такая ситуация, когда всё сложилось очень хуёво».
Глава научно-популярная
Мне как-то раз воочию довелось убедиться, что советские вожди врали нам про светлое будущее не так уж огульно. Случилось это в Америке, в каком-то небольшом городке штата Нью-Джерси. Меня позвали выступить в заведение странное – ну, как бы детский сад для пожилых людей. Я было хотел отказаться: зрелище старушек, мучительно пытающихся что-нибудь услышать и бессильно засыпающих в креслах, уже заранее удручало меня (когда-то я такое испытал).
– Пойди-пойди, – сказал приятель, – ты такого в жизни не увидишь.
И я согласился. В зале сидело человек триста (подвезли из двух соседних садиков) хорошо одетых, аккуратно прибранных, очень оживлённых пожилых людей. Такого прекрасного вечера не было у меня уже давно: я полтора часа общался с ровесниками моими, и взаимопонимание наше было полным. Возраст их был от шестидесяти до семидесяти с гаком (порой весьма большим). Такой однородный по возрасту состав создавал замечательное чувство единения. К тому же привезли меня чуть ли не за час, и я знал уже о буднях жизни в этом садике. Их собирали утром на автобусах и развозили по домам на закате. К их услугам постоянно были и врачи, и медсёстры – кажется, даже парикмахер. О шахматах, телевизорах, комнатах отдыха, бильярде и бассейне нечего и говорить. Экскурсии, поездки и прогулки. Согласно некой американской программе (из бюджета страны) на каждого из них в день полагалось столько долларов, что цифру я назвать не решаюсь – она очень близка к месячной пенсии какого-нибудь российского учителя. О кормёжке следовало бы написать отдельно, только лучше привести маленькую деталь: вечером каждый мог забрать с собой сумку продуктов, если дома у него не возражали против такого приношения. Начиная с пенсионного срока, такой сад доступен каждому. А любовные и дружеские страсти, которые разыгрываются в этих стенах, достойны книг и сериалов – я уверен, что они ещё появятся. Бывшие советские люди обойтись без стенгазет не могут, и они там есть. Отдельно – всякие доски с фотографиями ветеранов войны (со всеми орденами и медалями) и самодеятельность в виде живописи и рисунков. Живая и насыщенная жизнь.
Короче, выступление своё я начал с того же, чем начал эту главу. Советские вожди не всегда врали нам, сказал я. Вот ведь Никита Хрущёв отнюдь не сболтнул, заявив некогда вполне громогласно, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И смотрите-ка, сбылись его слова. Все дружно засмеялись этой нехитрой шутке, зря я опасался, что кто-нибудь патриотически насупится.
Кстати сказать, я знаю, что такие же садики есть и в Израиле, но там был американский размах, и старость ввиду вольготного и комфортного общения с ровесниками выглядела донельзя достойно.
Хотя время натекало даже там со всей неумолимостью, ему присущей.
У Корнея Чуковского есть в дневнике очень удивившие меня и очень спорные (поскольку чисто личные) слова: «…Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, что ни день – мои мысли добрей и светлей».
Вторит ему Юрий Нагибин: старость – «это самая важная, тонкая, нежная, грустная и прекрасная пора человеческой жизни». «Ну и ну, – подумал я, прочитав. – Разве что со словом «грустная» могу согласиться».
Больше ничего одобрительного мне о старости сыскать не удалось. Хорошо о ней отзывались только древние мыслители, но в то время старостью считался возраст около пятидесяти лет, смешно об этом говорить сегодня. А нынешние златоусты издеваются над старостью без всякого сочувствия. Я взял толстенный сборник афоризмов на все случаи жизни и оттуда выписал немного. Авторов не буду называть и кавычками пренебрегу, чтоб очевидней стал безжалостный парад печального злоязычия. Старость – это послесловие к жизни, пишет один из афористов. Старость – это огрызок жизни, усугубляет другой. Старость – это переходный возраст: с этого света на тот, шутит третий. И другие остроумцы дуют в ту же дуду. Самое великое утешение старости – что вы до неё дожили. Старость – это когда знаешь все ответы, но тебя никто не спрашивает. У старости две полярные заботы: время кончается, и куда девать этот остаток. Не бойся старости – она проходит. А вот попалось, наконец, и нечто почти светлое: любой возраст хорош, пока он есть. Это, кстати, написал Геннадий Малкин, пожилой и замечательный автор, недавно переехавший в Израиль, – дай Бог ему здоровья и достатка в мыслях.
Я вдруг недавно ощутил, что мне пора опять писать о старости. Об уже иной её фазе, гораздо более продвинутой. Я сидел у своего письменного стола, задумался о чём-то и уснул. Так вот – сидя я не засыпал ещё никогда, ну пару раз в театре, но ведь там иные механизмы усыпления. Проснулся, закурил с эпической печалью и подумал, что пришла иная стадия дряхления. Уже смешно и вспомнить даже, как ещё совсем недавно жаловались мои сверстники на старость: всё редеет, плакались они – зубы, волосы, мысли. А когда не стало ни того, ни другого, ни третьего – насупились и жаловаться перестали. Наступило время обсуждать уже совсем, совсем иное. И хотя ещё мы из последних сил бодримся, пыжимся, ерепенимся и хорохоримся, а также петушимся и кочевряжимся, однако же совсем не прочь услышать что-нибудь о светлых перспективах – неужели их не наработала наука?
Победить или хотя бы потеснить старение люди пытались уже многие века. Из многочисленных попыток стоит несколько упомянуть. Это несложно, ведь сейчас добыча сведений и фактов чрезвычайно упростилась: на закате залезаешь в Интернет и к ночи уже блещешь эрудицией. И я немного потаскаю. Спасибо названным и безымянным авторам, на них же – и ответственность, ежели я чего совру. Но кроме этого, читатель, если бы ты знал, сколько пустой херни и жидкого философического трёпа я перечитал, листая книги и статьи в поисках чего-нибудь путного о старости, то ты б наверняка зауважал меня как редкостно усердного изыскателя. Совсем недаром я недавно получил от зрителя записку, дышащую безграничным доверием к моей осведомлённости: «Игорь Миронович, когда наступит конец света?»
Ну, древности касаться мы не будем, ибо мифы и легенды про омоложение теснятся в изобилии в фольклоре всех стран, и только слишком они сказочны для нашего научного повествования. А географически множество таких мифов тяготеют к Тибету. Порою даже с точно названными цифрами (что говорит о достоверности) отвоёванных у смерти лет. Так, например, монах Чжан Даолин (первый век нашей эры) озаботился своей сохранностью в возрасте около шестидесяти, изготовил некое лекарство и прожил до ста двадцати двух. Рецепта почему-то не оставив.
Средневековые алхимики – вот кто занимался этой проблемой изо всех сил, ибо очень уж настойчивы и могущественны были заказчики: и королей не сосчитать, и даже папы римские (на Бога уповавшие умеренно). Так, папа Бонифаций VIII (конец тринадцатого века), едва взойдя на престол, возжаждал если не бессмертия, то хотя бы очень долгой власти. И его личный врач (алхимик, естественно) изготовил ему снадобье из смеси царственных веществ: там были в измельчённом виде – золото, жемчуг, сапфир с изумрудом, рубин и топаз, красный и белый кораллы, слоновая кость и сандаловое дерево. Всё это смачивалось мускусом, амброй и соком алоэ. Такое не могло не помочь. Да, я ещё забыл про сердце оленя некой особо благородной породы. Но через несколько лет Бонифаций всё-таки помер.
А в конце пятнадцатого века другой римский папа, Иннокентий VIII, прославился чрезвычайным жизнелюбием: восемь сыновей и столько же дочерей при полном соблюдении обета безбрачия. Он не стеснялся своих детей, не называл их, в отличие от других пап, своими племянниками и племянницами, очень заботился об их процветании. Его распутство и чревоугодие были настолько широко известны, что даже воспевались в уличных стишках. Но время шло, и папа Иннокентий почувствовал упадок жизненных сил. И тогда личный врач влил в его слабеющее тело кровь трёх подростков. Папа Иннокентий был осведомлен об этом средстве, но очень жить хотелось, и он благословил врача на тройное убийство. Кровь не помогла, и жизненные силы не восстановились. Кстати, убеждённость в том, что свежая кровь способствует долголетию, бытовала уже с давних пор: на арену римских цирков часто выбегали старики и старухи, чтобы выпить глоток крови только что убитого гладиатора.
А уже в семнадцатом веке знаменитый врач и алхимик Парацельс изобрёл пилюли бессмертия. По слухам, они даже оживляли умерших (как те глотали эти пилюли, осталось неизвестным). А согласно тем же слухам, продлевали годы они многим. Кроме самого Парацельса, который умер в сорок восемь лет.
На сегодняшний день официально зафиксирован рекорд долголетия: его поставил некий малоизвестный китаец Ли Цуньюн, проживший на белом свете 253 года (1680–1933). Это подтверждают записи в разных бумагах, но более всего – тот факт, что он пережил двадцать три жены, его вдовой стала двадцать четвёртая. Хотите – верьте, хотите – нет, но эта подробность показалась мне убедительной: чтобы извести столько жён, надо действительно много времени. Он всю жизнь пил настои из каких-то трав (рецепт остался неизвестен) и пережил благодаря им великое множество исторических событий, о которых почти наверняка и слыхом не слыхивал.
Ещё бы не забыть упомянуть: веками длилась у людей уверенность, что омоложению и долголетию весьма способствует дыхание юных девушек. Так не отсюда ли идут корни пресловутого старческого сластолюбия? А вовсе не от чего-либо другого.
Вот мы и подошли к времени научных изысканий. Их, безусловно, следует начать с французского физиолога Броун-Секара. В последний год девятнадцатого века (учёному уже исполнилось семьдесят два) он сделал сам себе подарок в виде попытки омолодиться. Никаких предварительных опытов на животных он не ставил, полностью доверившись собственной интуиции. Он изготовил вытяжку из семенных желёз молодых собак, кроликов и морской свинки и сделал себе несколько инъекций. Помолодел он (по собственным наблюдениям и ощущениям) – на тридцать лет. Его докладу и проявленному мужеству восторженно рукоплескало Парижское биологическое общество. Через пять лет он умер, положив начало подлинной эпидемии этой «клеточной терапии», как тогда назвали его метод.
Успешно и с большой шумихой клеточную терапию продолжил знаменитый некогда доктор Серж Воронов. Он вообще-то Самуилом звался от рождения (на свет явился он в России – под Воронежем), но выучился и в дальнейшем жил во Франции, где имя заменил на благозвучное, что приключается с евреями нередко. И выпала ему судьба служить несколько лет личным врачом верховного правителя Египта (хотел я было по привычке фараоном этого правителя назвать, но он тогда именовался иначе – хедив). И обратил внимание этот врач на евнухов, служителей хедивского гарема: они выглядели очень старыми, рано умирали, и ужасно плохо было у них с памятью – известно было, что даже строки из Корана они слабо помнили. Обнаружив эти несомненные приметы преждевременной старости, Воронов связал их с кастрацией ещё в детском возрасте, и мысль его парадоксально повернулась к идее замедлить старость путём прямого вживления чужих, но молодых семенных желёз. Возвратившись во Францию, он принялся за эксперименты. За сравнительно короткое время он сделал пятьсот операций: юные козлы, бараны и быки лишались своих яичек, которые получали пожилые животные и обретали прыть, игривость, сексуальную потенцию молодости. В двадцатом году его постиг ошеломительный успех: тонкие срезы яичек шимпанзе и бабуинов он вживил в мошонку пожилым людям. И они помолодели! Фурор был чрезвычайно бурный. В лабораторию Воронова посыпались сотни заказов. Кстати сказать, он иногда вживлял пациентам и свежий материал, полученный от только что казнённых преступников, но после целиком переключился на обезьян, даже завёл на Ривьере специальный питомник, куда бесперебойно доставляли обезьян из Африки. А женщинам он пересаживал яичники обезьяньих самок. Богатые старики платили любые называемые им суммы. А газеты пестрели двойными фотографиями: согбенный немощный старикан, опирающийся на палку, и моложавый, явно энергичный человек – один и тот же пациент до и после операции. Легко понять, какой завистливой враждой коллег был овеян этот удачливый авантюрист и сколько было всяческих статей о тягостных и неминуемых последствиях такого наглого вмешательства в природу человека. Но и ему, как некогда Броуну-Секару, однажды дружно аплодировало огромное собрание видных хирургов на международной медицинской конференции в Лондоне. Только он сам довольно скоро приуныл и разочаровался: такая пересадка была лишь краткой и удачной стимуляцией, и пациенты всё же умирали через небольшое количество лет. К тому же и статьи противников делали своё дело: звание вредоносного шарлатана прочно приклеилось к нему. Даже полвека спустя, когда уже явился и вовсю распространялся СПИД, вину за это африканское вторжение легко взвалили на него. А после сняли это обвинение. Так что и после смерти имя его трепалось не меньше, чем при жизни.
А клиник по омоложению открылось очень много. И чего только не прививали старым людям, которые могли платить! Недавно я в Швейцарии видел роскошное здание такой больницы, основанной ещё знаменитым хирургом Нихансом. «Здесь вводят вытяжку из каких-то желёз чёрного барана», – с придыханием шепнула мне спутница. Но почему именно чёрного, объяснить не могла. (А вот немецкие врачи работают на голубых акулах, прочитал я недавно.) В этой больнице побывали в своё время, веря и надеясь на долгое омоложение, многие знаменитые люди: Шарль де Голль, Томас Манн, Уинстон Черчилль, Сомерсет Моэм и другие. Но никто из них не написал о результатах, и они скончались, промолчав.
Сегодня в детективе «Поиск бессмертия» новый герой – стволовые клетки. Их обнаружили только в конце прошлого века, и мечта всего человечества засияла новыми надеждами. Стволовые клетки универсальны, они могут превращаться в любые клетки организма, ремонтируя органы и ткани, заменяя собой повреждённые и умершие клетки. И естественно, что больше всего таких клеток – у человеческого эмбриона, у которого только ещё формируются разные органы тела, и стволовые клетки, отправляясь по назначению, образуют сердце, печень, почки, желудок и всё остальное, навсегда утрачивая свою способность превращения. Источник стволовых клеток, их основное депо – костный мозг человека. Кровью они доставляются в любое место тела. После рождения человека, по мере его взросления их количество стремительно убывает, и вскоре эта аварийная служба, внутренняя скорая помощь почти совсем перестаёт работать. Ну так чего же проще: впрыснуть человеку раствор со стволовыми клетками, и они разнесутся кровью по всему организму, залатывая и омолаживая его. Но – первая же закавыка: можно вводить только собственные стволовые клетки, а чужих наш организм не принимает, отторгая их как враждебное вторжение. Однако же стволовые клетки человеческого зародыша допускаются спокойно, только тут возникает множество морально-этических проблем, которые человечество, конечно же, решит, как веками это делало, с изящным хитроумием. Но пока что нрав и поведение стволовых клеток не изучены досконально, так что и этот ясный путь к омоложению находится ещё в густом тумане.
И нечто совершенно необычное обещает наномедицина, которой пока что не существует, но трубят о ней повсюду и с восторгом. Слово «нано» – это просто размер, одна миллионная от миллиметра. Вы себе это представляете? Я лично – нет. Но сегодня таковы приборы у науки, что она нацелилась из отдельных атомов строить молекулы с заранее заданными свойствами. Как детский конструктор, только все детали в нём не видимы простым глазом. Более того: вот-вот (через какие-нибудь двадцать-тридцать лет) из таких молекул будут собирать наноробот, который сможет строить себе подобных, и вся эта армия примется созидать (или разрушать) всё, что будет им заказано в программе. И немыслимой красоты картина воображается сегодня энтузиастами: такая армия свободно путешествует по кровеносным сосудам человека (несколько десятков километров), на пути своём немедля и усердно ремонтируя всё, что испортилось и подлежит исправлению. Но так как мы давно уже знаем от писателей-фантастов, что роботы, свихнувшись, могут поднять бунт, то ясно, что эти не видимые глазом микромеханизмы могут кинуться, к примеру, пожирать и уничтожать то, что им вовсе не положено. Так что в будущем человечеству предстоит бороться не с железными непобедимыми гигантами (каких в кино играет Шварценеггер), а с незримыми и обезумевшими нанороботами. Волнительная перспектива, как говаривала моя бабушка Люба. Однако что-то и получится, глядишь. Хотя изношенность у лично моего организма такова, что нанороботы наверняка свихнутся от усталости, и я порадовался тихо, что не доживу до счастья этого. А внуки разберутся сами.
Ещё с одной теорией работают в Москве очень способные учёные, тоже обещавшие за двадцать-тридцать лет начисто обуздать возрастное дряхление. В нашем организме есть во множестве молекулы, с удивительной точностью названные некогда свободными радикалами. Они сполна оправдывают своё название, напоминающее о Че Геваре и ему подобных. Они свободны от всех связей, пристойных для приличной молекулы, дьявольски активны и занимаются в человеческом организме чистым терроризмом: нападают, сея повреждения, на тихие достойные молекулы, служащие в разных наших органах. От разбойных этих анархистов есть у нас везде природная защита, только с возрастом она весьма слабеет, и радикалы нападают всё успешней, сея неполадки и разрушения. Учёные надеются, что, укротив их, дряхление возможно приостановить. Забавно, что работы эти финансирует известный (и ещё совсем не старый) олигарх Дерипаска, отчего и фонд, из которого черпаются средства, именуется среди коллег – «Дерипаска бессмертный». Ну что ж, дай Бог удачи им (таких лабораторий много в мире), терроризм и правда следует прижать. Любой, добавлю я, и все меня поймут.
Поскольку о болезнях (слабостях, недомоганиях и пр.) нашего преклонного возраста писать мне неохота, кивну я просто на обилие лекарств, которые множатся к тому же со страшной скоростью, ибо печально выясняется бесполезность предыдущих. А также их опасность, ежели не вредоносность. Больной идёт на поправку, но не доходит. Поскольку, кроме своего прямого и целебного (хотя проблематичного) воздействия, лекарства эти пагубно влияют на какие-то другие части организма. Я с этим столкнулся лично и совсем недавно. Я был в Москве и как-то простудился – всё же я теперь южанин. И купили мне какое-то известное лекарство с опереточным названием «Терафлю». Предвкушая, как стремительно пройдут у меня насморк и другие горести простуды, вынул я пластинку этих замечательных таблеток, но за нею вылезла бумажка с разными лечебными советами. Я развернул её и машинально прочитал. От чистого ужаса у меня сам собой прошёл насморк, рассосалась головная боль, исчез кашель и спала температура. Ибо там перечислялись возможные побочные эффекты от приёма этого лекарства. Вот они (желающие могут купить «Терафлю» и убедиться, что я не сочиняю): сыпь, зуд, крапивница, отёки, повышенная возбудимость, замедленные реакции, чувство усталости, задержка мочи, тошнота, рвота, боли в желудке, сердцебиение, повышение кровяного давления, головокружение и нарушение сна. Там было ещё что-то, но я уже не в силах был читать, подозревая, что не исключался и летальный исход. Понятно даже идиоту (я, во всяком случае, понял), что фармацевтическая фирма просто страхует себя от различных нареканий – мы, мол, вас предупреждали, – только вдруг и впрямь какие-то побочные эффекты существуют? Лучше потерплю-ка я до появления лекарства столь совершенного, что и не надо его будет принимать – достаточно взглянуть и знать, что оно в доме есть. При современном уровне науки и скорости её развития мне не придётся долго ждать.
Но раз уж мы заговорили о лекарственной химии, заметим, что наука далеко не всё делает для облегчения старости, начисто игнорируя многие очень важные направления. То ли до них никак не доберётся, то ли трусливо закрывает на них глаза.
Вот, например, общеизвестно, что старики постоянно и непроизвольно испускают ветра (я слово «газы» не люблю). Это неудержимое пуканье – предмет конфуза бедной старости и определенного неудобства для окружающих. Забавно, что во Франции есть красное вино, которое так и называется – «Старый пердун». На этикетке нарисован старик, вальяжно и достойно восседающий в кресле, и так искусно сделан рисунок, что заметно, если приглядеться: часто пукает старик и этим раздосадован весьма. Что же это за таинственно изобильные газы, рвущиеся наружу именно на склоне лет? Невоплощённая (возможно, творческая) энергия? Ветер, некогда гулявший в голове? Результат какого-то разлада в обмене веществ? Обратившиеся в дух и ветер остатки былых иллюзий и амбиций? Наука этого не знает, очевидно, а вплотную заняться конфузным феноменом – руки не доходят или же кишка тонка. Но только как бы было хорошо придать этим ветрам изысканное благовоние! И ведь под силу это современной химии. Запахи сирени, розы, флоксов, жасмина и лаванды – всё изобилие цветочных ароматов, что имеется в духах, привить печальным старческим ветрам, и это было б истинным и благородным достижением учёной мысли. А степные травы? А свежескошенное сено? Перечень благоуханий огромен, и в каждом доме, где живёт старик, возникнет атмосфера праздника и дух победы человека над безжалостной природой. Сходив к врачу, а то и попросту в аптеку обратившись, ароматы эти можно изредка менять, и старики почувствуют себя источниками радости. Уверен, что вот-вот спохватится наука, гуманизм восторжествует, и дети (да и внуки) дряхлых стариков ещё хвалиться будут друг перед другом, споря, у кого благоуханней в доме воздух.
Я так ясно себе представил эту освежительную ауру, висящую вокруг блаженствующей старости, что две больших слезы омыли мои мутные подагрические глаза.
Эй, постой-ка, скажет бдительный читатель, ведь подагра – это болезнь суставов на ногах. Нарушается обмен веществ, и вредные соли оседают на суставах, безжалостно разъедая их. Увы, не только их. Зловещая соль времени откладывается на всём человеке, всё в нём разъедая, просто эта подагра очень разно называется: то слабостью зрения, то глухотой, то почечными коликами, то ухудшением характера, то склерозом.
Пора, однако же, поговорить о чём-нибудь приятном. В преклонном возрасте люди часто и подолгу сидят, уставив невидящий взгляд в пространство, сидят отрешённо, словно погрузившись внутрь себя. И многие старики слегка стесняются такой отключки, полагая в силу давних предрассудков, что человеку пристало непрерывно присутствовать, участвовать и предаваться бурному кишению жизни. Ничего подобного! Ведь это бездумное погружение в себя, этот уход куда-то в никуда – и есть заветное буддийское (и не только буддийское) состояние, которое целительно и благодатно. Старость инстинктивно к этой мудрости приходит, никакая тут не слабость организма, и уж вовсе глупо этого стесняться. Это ведь и есть те подступы к нирване, о которой все восточные религии твердят как о духовном благоденствии.
И не от этого ли благостного погружения в себя старики довольно часто предчувствуют свою смерть и точно называют время её прихода? Но это уже тема не научная. Одна приятельница (очень умный человек) рассказала мне про свою знакомую старушку, которая как-то на посиделках вечером ей доверительно шепнула: «Как мне надоело жить! Но уже скоро». «И ты представляешь себе – она умерла, – восторженно говорила рассказчица, – но через десять лет».
На склоне жизни более всего пугает нас (не говоря о том, что огорчает) стремительное и явное ухудшение памяти. Уже и в магазин мы ходим, заранее подготовив список нужных продуктов, многие с утра составляют себе перечень забот и расписание занятий. (Мой приятель называет такой список – «опись дел», а произносит так, что это сочной неприличностью звучит). И я легко себе вообразил, как опись дел такая запросто могла бы получиться у стареющего Альберта Эйнштейна: «Не забыть сегодня: 1. Отнести рубашки в китайскую прачечную. 2. Ответить на письмо Нильса Бора. 3. Купить хлеб и сардельки. 4. Закончить общую теорию поля».
Однако же заметим, что беда эта, не минующая никого, может доставить большое удовольствие. Вы, например, любите Льва Толстого? Нынче вы имеете возможность насладиться этим чтением почти что заново. А «Три мушкетёра»? А хорошей вообще литературы – пруд пруди, а ваше восприятие теперь – свежо и чисто. Можно даже запросто перечитать ещё раз то, что не читали отродясь по недостатку времени и лени. Я всегда слегка завидовал людям, мгновенно забывающим анекдоты, а нынче я замшелым шуткам радуюсь настолько, что благодарным слушателем числюсь в обществе любителей античности. А с кинофильмами у меня случается теперь чистое счастье. Каждый вечер (если удаётся) я смотрю американский боевик. Какой дают, по большей части – низкопробный. Там стреляют и взрывают, бешено гоняют друг за другом на немыслимых машинах, яростно и мастерски дерутся, и крутая варится интрига. Самое же главное, что за эти два всего часа героя успевают застрелить, пронзить ножом неоднократно, утопить в каком-то жутком водоёме, сбросить с небоскрёба или немереной скалы, сжечь в деревянном доме, где он скрылся, и умело отравить. Но я-то знаю, что в конце фильма он оживёт и призовёт к ответу (столь же кошмарным образом) всех негодяев, врагов и прочих недостойных лиц. Попутно трахнув, разумеется, прелестную красотку. И под виски (пьют его герои, пью и я) блаженно это смотрится, душа гуляет и полным-полна переживаний. Только вот уже который раз я в самом конце фильма (по какому-то особенно забористому кадру) вдруг соображаю, что кино это смотрел совсем недавно. Жена Тата обычно говорит мне это в самом начале, но я так злобно огрызаюсь, что она теперь предпочитает промолчать и сидит рядом, книгу взяв или журнал, изредка презрительно оглядываясь на экран. А в конце, когда я уже спохватился (но досматриваю с тем же удовольствием), мы с ней выпиваем по рюмке за попутные благодеяния склероза.
Тут ещё мне хочется хотя бы вкратце описать, что происходит с жёнами стареющих мужчин, – пока нигде в психологической литературе мне об этом почитать не довелось. В жёнах просыпается инстинкт материнства и детсадовского опекунства. И теперь они внимательно следят, чтоб их мужчина вовремя сходил к врачу и принимал предписанные им лекарства, чтобы не пошёл в гости в домашних тапочках и с расстёгнутой ширинкой, менял хотя бы изредка исподнее бельё и не надевал рваные носки, а ел не то, что хочется, а то, что можно и полезно. За столом чтоб сохранял опрятность («ты опять загваздал супом брюки и брызнул соусом на свежую рубашку!»), ел при помощи ножа и вилки, пальцами ничуть не помогая. Заботливое око женщины следит уж не за тем, как именно и с кем ты любезничал нынче за столом (плевать, лишь бы здоровый был), а за тем, как ты выглядишь (похоже, поднялось давление), не слишком ли много выпил и нет ли признаков недомогания, на которые этот упрямый идиот сам ни за что внимания не обратит. И чтоб достаточно тепло оделся, не забыл ни зонтик, ни ключи, а главное – чтоб ясно помнил, для чего куда собрался. Да, и побриться не забыл, уже прошла неделя, как не больше. И эту охранительную бдительность уже покорно (хоть совсем не благодарно) принимает потускневший мужичок, ещё позавчера лишь – бравый и самолюбиво-вздорный мачо.
Как-то в Интернете я набрёл на малодостоверную историю, которая весьма по нашей теме. Итальянке Розе Фарони было девяносто семь лет (шесть внуков, пятнадцать правнуков и шестнадцать праправнуков), когда свихнулся в ней какой-то ген, и время её жизни потекло вспять. Она молодела стремительно и неприлично. Ко времени, когда врачи и пресса обратили на неё внимание, она выглядела тридцатилетней, и в полном соответствии со внешностью оказались все проверки и анализы её организма. Доктор Граза, который делал о ней доклад на медицинской конференции в Генуе, потряс и переполошил своих коллег. Она ест всё подряд, пьёт и курит, как в молодости, с радостью вернулась к любовным играм и предохраняется, чтоб не смешить беременностью правнуков. А если так пойдёт и дальше, скоро она станет юной девочкой, и что потом? Как ни забавно было это мне читать, а всё-таки в уме моём скептичном слабо шевельнулась робкая мыслишка: вдруг и правда? И какие перспективы это посулило бы науке! Только сразу вспомнилась шумиха, которую поднимала советская пресса начала пятидесятых вокруг открытия академика Ольги Лепешинской. Эта старушка (старая большевичка, кстати, что окружало ореолом достоверности все её квазинаучные работы) сообщила миру, что ею найден секрет омоложения: надо принимать содовые ванны. Просто соду растворять в воде и в ней купаться. Уже она на мышах это всё проверила, и опыты на добровольцах тоже подтвердили её ошеломительную идею (уже снабжённую теорией, конечно). И немедленно статьи согласных с ней учёных появились, и поднялся бум невероятный. Полностью во всей стране исчезла сода, потекли к ней даже благодарственные письма помолодевших. Очень быстро спала и сама собой затихла эта эпидемия безумия. Но с той поры сохранился прекрасный анекдот. Как возвратился в отчий дом солдат, три года отслуживший в армии, и дверь ему открыла молодая женщина с ребёнком на руках. «Мама, – сказал парень восхищённо, – как же ты помолодела! И ещё мне брата родила!» «Это не брат, – грустно сказала мама, – это твой отец, его передержали в содовой ванне».
А параллельно с этим итальянским чудом нечто подобное случилось в Японии. В городе Фукуока у женщины семидесяти пяти лет Сэй Сенагон вдруг исчезла седина, волосы обрели прежний чёрный цвет, под зубными протезами начали кровоточить дёсны, и изумлённый стоматолог сказал, что это заново прорезаются зубы. На её лице разгладились все морщины, дряблое тело обрело былую упругость, без единого следа исчезли все недавние болезни и недомогания, вернулся менструальный цикл, она бросила старого мужа и приобрела сорокалетнего, который очень ею доволен. (Все подробности усиливают достоверность.) Единственно, чего она теперь боится, – превратиться в маленькую девочку.
До подобных чудес наука ещё не дошла, но довольно многие учёные вполне всерьёз нам говорят, что уже вот-вот человек станет жить намного дольше, сохраняя и былые силы, и былое жизнелюбие. Немыслимые средства тратит сегодня человечество на изучение и преодоление старости. Есть даже специальный Фонд Мафусаила (наш библейский прапредок жил, как хорошо известно, девятьсот шестьдесят девять лет) – он поощряет наиболее перспективные работы. Есть ещё Приз мыши Мафусаила – это миллион долларов для тех учёных, чья подопытная мышь проживёт дольше всех (нормальный срок их жизни – два года). Пока что рекорд – пять лет. Основатель и председатель Фонда Мафусаила биолог Обри ди Грей полон оптимизма. Он утверждает, что первый человек, который справит свой сто пятидесятый год рождения, – это наш современник, пока ещё молодой, естественно.
В копилку наших упований и надежд всё время что-то упадает. Так, совсем недавно в Якутии, на берегу реки Алдан, из вечной мерзлоты достали вдруг бактерий, сохранявшихся живыми более двух миллионов лет. Науке не известных, разумеется. Их отогрели, подпитали мясным бульоном и принялись исследовать. Как их устройство, так и действие на прочие живые организмы. Начали, естественно, с мышей. И мыши престарелых лет явили явное омоложение: не только их активность возросла, но они снова стали упоённо заниматься сексом, самки снова начали рожать, и явно растянулся срок их жизни. Тут и вспомнили учёные, что Якутия непостижимым образом является одним из немногих на планете центров долгожительства. (Тут я не премину упомянуть, что в абсолютном большинстве своём долгожители малограмотны или неграмотны совсем, из чего тоже можно сделать некие выводы.) В этих краях нередок и столетний возраст стариков. Что подлинное чудо, потому что те условия, в которых они существуют, в жутком сне не могут привидеться людям, живущим в цивилизованном тепле. Но воду они пьют из Лены и Алдана, куда запросто из разрушающихся временем земных пород могут попадать эти загадочные (пока) бактерии. Перспектива такой несомненной сенсации тоже пока в тумане.
А что же делать нам, которые наверняка не доживут до лучезарных (и весьма проблематичных) успехов научной мысли? А ничего. Жить, как жили, и надеяться, что внукам повезёт. Оглядываться, кто желает, на советы современников и предков. Пруд пруди таких советов. Но если присмотреться, в самом главном они полностью совпадают с убеждённостью древних греков: умение радоваться каждому дню жизни – это особый вид мудрости, продлевающий наше земное существование. Ещё я помню и ценю два ответа Черчилля на вопрос о секрете его долгой жизни. Вот что он сказал: «Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лечь». И ещё: «Пять-шесть сигар в день, три-четыре стакана виски и никакой физкультуры». Я, правда, курю сигареты, но никакой другой поправки не могу внести в эти заветы.
А ещё нельзя не привести слова мудрейшего Эпикура: «Умение жить и умение умирать – одна и та же наука».
Но было бы недобросовестно и глупо в этой краткой, популярной (и однако же – вполне научной) главе не упомянуть о ещё одной светлой перспективе человечества: идее о переселении души. Будучи сотни лет достоянием разных религий (по преимуществу восточных), она принимается сегодня и многими учёными. Сторонники этой прекрасной мечты (сильно утешительной, заметим) издавна водились среди очень выдающихся мыслителей: Сократ, Платон и Пифагор, поздней – Декарт, Спиноза, Лейбниц. И Льва Толстого грех тут не назвать. И замечательно спокойно как-то заявил Вольтер: «Родиться дважды – не более удивительно, чем родиться единожды». Только названы тут люди умозрительных суждений – а что сегодня думают и делают учёные?
Врач-психиатр Ян Стивенсон объездил весь мир, занимаясь историко-детективными поисками. Дети, которые говорят, что помнят свою прошлую жизнь (в возрасте семи-восьми лет всё начисто стирается), порой конкретно называют имя, которое тогда носили, место проживания, подробности окружавшей их реальности, имена родственников. Стивенсон разыскивал и посещал эти места, рылся в местных архивах. И находил, часто находил следы подлинного существования названных людей! Ну вот, вздохнул уже скептически настроенный читатель, сейчас этот подвинутый автор примется рассказывать байки о больных, что после травмы вдруг начинали говорить на иностранных языках, которых сроду не учили, – множество таких историй издавна известны психиатрам. Да, непременно я упомяну и этот несомненно достоверный феномен. И привлеку в поддержку имя знаменитого психолога Юнга, который полагал, что мы в себе храним, не ощущая, духовное наследие многих предыдущих поколений. Под гипнозом (Стивенсон использовал и этот способ доступа в подсознание) такие пациенты что-то вспоминают из былого своего существования, и порой такие факты удаётся удостоверить. За несколько десятков лет этот врач (представляю себе, каким свихнутым считали его коллеги) собрал две тысячи случаев вполне убедительных, документальных подтверждений имён и житейских подробностей, совпадающих с услышанными им осколками воспоминаний о прошлой жизни. Таков сегодня уровень исследований этой поразительной загадки. Дальше – только тьма несметная различных спекуляций о перевоплощении (переселении) души. Но сколько радостных надежд в такой игре воображения!
Ведь, может быть, вечерняя тоска, так свойственная многим людям, – это боль души, попавшей в личность, ей не симпатичную. А может быть, реально и такое, что душевные болезни (их разнообразие огромно) связаны как раз с недомоганием души, когда-то совершенно иначе пожившей неизвестно в ком. Как интересно верить, например, что чем ты недостойней жил на свете, тем мерзее будет существо, в которое поселится потом твоя душа. И всё-таки всегда в таких соображениях есть большая доля светлой радости: нет, весь я не умру.
Во дворе моего дома в тихом иерусалимском районе (да и всюду в городе такое) живёт немыслимое количество кошек. Вертятся они вокруг помойки, где всегда найдётся пропитание. Драчливые, грязные, злобно смотрящие на прохожих (друг на друга – нечего и говорить) – они явно были кем-то в прошлой жизни. Лично я уверен, что политиками. Но возможно и коммерческое, и уголовное прошлое. А в поведении собак разных пород и характеров сплошь и рядом наблюдаются черты их прежнего житейского опыта. А вспомните о крокодилах и гиенах – не случайны их характер и замашки. «У животных нет души», – возразит какой-нибудь самодовольный эрудит. Но Божьи твари потому ведь так и именуются, что их создал тот же Творец, который оплошал (слегка) на человеке. Верую, ибо осмысленно, как говорил какой-то древнеримский грек из Палестины. Поэтому вполне возможно, что нам лучше думать не о рае с его явно скучноватым обустройством, и не ада ужасаться, а стремиться, чтоб душа твоя впоследствии попала в столь же приличное создание, каким при жизни был ты сам. Очень, по-моему, достойная и светлая задача. Утешительная – в высшей степени. А те, кому все мои рассуждения покажутся пустой и праздной болтовнёй, могут ещё жестоко пожалеть о явленном неверии в разумное и справедливое устройство мироздания.
Маркиз Ипполит Ревайль (жил он в девятнадцатом веке) просто пожал бы снисходительно плечами, дивясь подобной слепоте в наше продвинутое время. Сам он беседовал с сотнями душ, лишённых бренной оболочки. Они являлись к нему на спиритических сеансах и либо разговаривали с ним, либо его рукой писали ответы на заданные им вопросы. Возникала ясная и убедительная картина загробного существования. Освободившись из телесной клетки, душа попадала в некий духовный мир, где не только встречала души былых знакомых и близких, но даже вспоминала свои прошлые пребывания в разных личностях. А духовное пространство это, где кишат освободившиеся души, – рядом с нами и вокруг, мы просто-напросто его не ощущаем, хотя души близких иногда подсказывают нам какие-то решения, поступки, даже мысли. А потом душа опять вселяется в кого-то (только люди ей годятся, никаких животных тот духовный мир не признаёт). И часто, искупая грехи предыдущего обладателя, ввергает нынешнего в чистую и праведную жизнь. Согласитесь – привлекательный сюжет. Года наши идут, если точнее – катятся, если ещё точней – летят, и скоро мы проверим наговоренное выше на своём личном опыте.
А пока что писатель Умберто Эко в эссе «Как подготовиться к безмятежной кончине» предложил идею небанальную:
«…В момент, когда ты покидаешь эту юдоль слёз, попробуй обрести неколебимую уверенность в том, что весь мир (насчитывающий пять миллиардов человеческих особей) состоит из одних мудаков: мудаки пляшут на дискотеках; мудаки думают, будто постигли какие-то тайны космоса; мудаки предлагают панацею от всех наших бед; мудаки заполняют страницу за страницей пресными провинциальными сплетнями; мудаки-промышленники разрушают планету. Разве не будешь ты счастлив, рад, доволен, что покидаешь эту юдоль мудаков?»
Умберто Эко пишет далее, что убедить себя в этом – вдохновенный труд, и надо этому учиться не спеша, так рассчитав время, чтобы перед самой смертью радостно прийти к полной уверенности, встретив кончину беспечально и достойно.
И лучшего совета я покуда не читал.
Соло на ослабшей струне
Постскриптум
Это латинское слово явно покрасивее, чем «послесловие». Кроме того, в нём скрыто обещание, что текст последует краткий. Так оно и будет.
В рейсе «Иркутск – Москва» выпивка не полагалась, и поэтому у многих было с собой. А в их числе был, разумеется, и я. Глотнув немного, принялся я медленно и благодушно думать, что теперь имею право и на долгое безделье, и на лёгкое застольное бахвальство. Закончилась ещё одна гастроль, и я остался жив, объехав пятнадцать городов. Дня через три снова буду в Иерусалиме. Друзья усядутся за стол, мы чокнемся по первой и немедля по второй, и на меня все вопросительно уставятся: ну, где ты был, гулящий фраер? Я небрежно им отвечу, что не стоит все пятнадцать городов перечислять, я лучше просто назову те реки, на которых покурил, бездумно глядя на воду. Начну с Невы (Москва-река не в счёт), а дальше – Дон, Кубань, Волга, Обь, Енисей, Иртыш и Ангара. Все покачают головами и нальют по третьей, ожидая связного рассказа. Но его у меня нет. Ведь это всё за месяц увязалось. Я приезжал в очередной город, по нему меня чуть-чуть возили (Томск с Иркутском – чудо деревянной архитектуры), после спал перед концертом, а после него – глухая пьянка, и наутро – поезд, самолёт или машина. Досконально убедился я в великой правоте художника Ярошенко: всюду жизнь. Конечно, ещё что-то позже в памяти всплывёт, а что-то обнаружится в блокноте, и проявится картина моих странствий и несчётных разговоров с очень разными людьми. Тогда я это всё и опишу. Как дивно выразилась одна стихотворица – «у поэта на такое завсегда перо встаёт».
Записки в этот раз я отобрал (из множества привычных и обычных) довольно странные. Меня спрашивали, наладились ли мои отношения с Богом (я и не знал, что они есть и что портились), сколько у меня детей, известных мне, и «в чём заключается (мы на концерте первый раз) ваша деятельность на сцене?». Благодарил («ничуть не жалею») какой-то бедолага, по ошибке приблудившийся на выступление: ему сказали, что я известный саксофонист.
Зато отдельно от других лежала у меня записка, которая оправдывала полностью и всю эту поездку месячной длины, и самое моё существование отчасти:
«Игорь Миронович, мне предстояла тяжёлая операция, и я взяла с собой в больницу книгу Ваших стихов. После операции я попала в палату, где нас было шестеро, все такие же, как я. Всем было больно, и у всех отвратное настроение. Я стала им читать Ваши стихи. К вечеру у троих разошлись швы. Лечащий врач отобрал у меня Вашу книжку. Спасибо Вам! Живите долго!»
Тут моё приятное мышление прервалось по естественной причине, и я побрёл в туалет. А возвращаясь, вспомнил, как один приятель мой спросил у пожилого профессора-патологоанатома, возможно ли по трупу голого мужчины опознать, что покойник был интеллигентом. Спросил он в шутку, но профессор без улыбки утвердительно кивнул. И объяснил: интеллигент не в силах писать где угодно, как только приспичит, терпеливо ищет туалет, и потому у него весьма заметно расширен мочевой пузырь.
Усаживаясь в кресло, я ещё смеялся, мой сосед недоумённо и приветливо мне тоже улыбнулся, и я плеснул ему виски в стаканчик из-под воды. Историй в этот раз прислали мне в записках мало, но одну я непременно собирался вставить в книгу (жалко, город я не записал). На каком-то крупном машиностроительном заводе много лет висел огромный плакат: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» А снизу подпись: «В. И. Ленин». Я налил ещё по чуть-чуть себе и соседу и снова ощутил острую радость, что возвращаюсь.