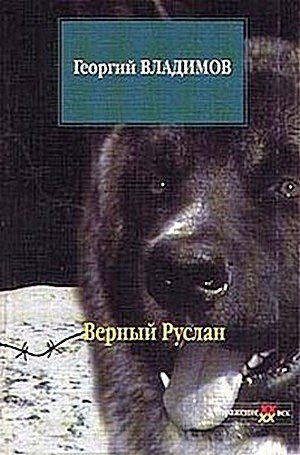
1
Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось — и пришёл хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил — ждал, когда Руслан доест похлёбку. Свой автомат хозяин принёс с собою и повесил на крюк в углу кабины — это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая.
А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести её в угол и затолкать в подстилку, чтобы уж потом разгрызть как следует — в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал всё мясо на всякий случай — опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно её передвигая носом, он вылакал навар и принялся сглатывать комья тёплого варева, роняя их и подхватывая, — как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо:
— Готов?
И, уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, чтоб это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжёлым хвостом — в знак благодарности за кормёжку и что он готов её отслужить тотчас. На косточку он взглянуть себе не позволил, только наспех полакал из пойлушки. И был совсем готов.
— Пошли тогда.
Хозяин предложил ему ошейник. Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикосновения хозяевых рук, застёгивающих пряжку, проверяющих — не туго ли, вдевающих карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец крепился у него к поясу, — так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга, — свободной рукою подбросил автомат и поймал за ремень, закинул за спину вспотевшим стволом книзу. И Руслан привычно занял своё место — у левой его ноги.
Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой, — сквозь прутья влажно блестели косящие глаза, не кормленные собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти, — и Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу.
Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепяще яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием.
— Нно! — сказал хозяин и рванул поводок. — Засиделся, падло. Чо пятисси, снега не видал?
Вон что выло, оказывается. И вон как улеглось — толстым пушистым покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не согласился бы, пожалуй, чтоб это вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто — белое. И от него всё теряло названия, всё менялось, привычное глазу и нюху, мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь чёткая виднелась цепочка от кухни к порогу — это хозяевы сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением; он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть; отфыркавшись, даже пролаял ему что-то нелепо-радостное, приблизительно означавшее: «Врёшь, я тебя знаю!» Хозяин его не придерживал, распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперёд забегал — уже белобородый, с белыми ресницами и бровями — и не мог успокоиться, надышаться, нанюхаться.
Оттого-то он и допустил маленькую оплошность — не взглянул, куда следует, когда тебя выводят на службу. Но что-то, однако, насторожило его, он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками, а дальше — пустынное поле и тёмная иззубренная стена лесов, и слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками — низкими, как погреба, из брёвен, почерневших от старости. И как всегда, они на него глядели заиндевевшими, пустыми, как бельма, окошками. Всё стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычайная, неслыханная тишина опустилась на мир, шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно: никто в тех окошках не продышал зрачка — полюбопытствовать, что на свете делается (ведь люди в этом отношении нисколько не отличаются от собак!), — и сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалёванными на белом, и ни звука не издавали. Как будто все сразу, кто жил в них, шумел и вонял, вымерли в одну ночь.
Но — если вымерли, то ведь он бы это почувствовал! Не он, так другие собаки, — кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет, — подумал Руслан. — И куда ж они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а — убежали! Он весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко; ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие, необыкновенные дни, когда они пробегали иной раз по нескольку вёрст и всё-таки догоняли — ни разу не было, чтоб не догнали! — и начиналась настоящая Служба, лучшее, что пришлось Руслану изведать.
Однако ж не всё укладывалось — даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже «побег одиночный» и «групповой», но в такие дни всегда бывало много шума, нервозной суеты, хозяева с чего-то орали друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они — в ошеломлении, в беспамятстве — затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели бараков, а хозяева — за ними, и так поспешно, что даже не успели прихватить собак, а без них какая же может быть погоня! И теперь лишь они вдвоём, хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место — всё смрадное, ревущее, обезумевшее стадо.
Он почувствовал томление и страх, от которого захолодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось: так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продетую сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там, в животе, захолодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит! Он приник к шинели хозяина, потёрся об неё плечом — это значило, что он всё понимает и на всё готов, пусть даже и умереть. Руслану ещё не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшней ничего не бывает, но если вместе с хозяином — это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб, и вот это уже было скверно.
Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собою вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зрением, — и знал за собою этот порок, честно его искупая старательностью и чутьём, — главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли — открытые настежь, поскрипывая от ветра в длинных оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криками и стрельбою, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые ворота, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настежь; белая дорога вытекала из лагеря, не разгороженная, не расчерченная в решётку, и убегала к тёмному горизонту, в леса.
А с вышкой что сделалось! Её не узнать было, она совсем ослепла — один прожектор валялся внизу, заметённый снегом, а другой, оскалясь разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с неё куда-то и белый тулуп, и ушанка, и чёрный ребристый ствол, всегда повёрнутый вниз. Линялый кумач над воротами ещё остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром. А с этим красным полотнищем, с его белыми таинственными начертаниями у Руслана свои были отношения: слишком запечатлелось в его душе, как чёрными вечерами после работы, в любую погоду — в стужу, в метель, в ливень — останавливалась перед ним колонна лагерников, с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нём своими дымными лучами; оно всё загоралось — во весь проём ворот, — и невольно лагерники вскидывали головы и, ёжась, впивались глазами в эти слепяще-белые начертания. Всей затаённой мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слёз, и на него тоже вдруг нападали трепет, сладостная печаль и восторг невозможный, от которого внутри обморочно замирало.
Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана, он растерялся перед наглостью беглецов. Как они были уверены, что уж теперь-то их не догонят! И как все заранее знали — что выпадет снег и заметёт все следы и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились: ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы и приходил только хозяин Руслана, и то — без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике, — как всё это время вели себя лагерники. В высшей степени странно: расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то ещё и собак принимались передразнивать — так непохоже и безо всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не замечал, когда буквально все собаки чувствовали неладное и от злой тоски грызли свои подстилки!
Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он уже был немолод и знал — хозяева иногда ошибаются. Но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И раз уж так выпало, эту ошибку — он знал — ему придётся разделить с хозяином и помочь исправить её, чего бы это ни стоило. И, думая о том, как ловко беглецы обвели хозяина, он просто растравлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была жёлтого цвета. В жёлтое окрасились небо и снег, жёлтыми сделались лица беглецов, в ужасе оборачивающихся на бегу, жёлтыми бликами замелькали подошвы. Увидя всё это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, и выволок хозяина за собою в ворота.
— Ты что, ты что, падло! — Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе. И, чтоб успокоить, проделал свой обычный номер: привздернул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел. — Куды рвёсси, в рай не успеешь? Ага, там таких только не хватает.
Затем отпустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман шинели.
— Вот теперь иди. Вперёд иди, не ошибёсси.
Рукою он показывал в поле, вдоль белой дороги, и это одно могло значить: «Ищи, Руслан!» Такие вещи Руслан понимал без команды. Только вот никакого следа он не чуял, намёка даже на след.
Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию, и, опустив голову, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой, а людьми — не пахло. Не останавливаясь, он сделал второй круг — пошире. И опять ничего. Так давно они здесь прошли, что глупо и пытаться вынюхать что-нибудь толковое. А соврать, куда-нибудь наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует, — этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин, они ушли в ворота, это яснее ясного, вот и танцуй от ворот. Скоро он лишился сил, почувствовал себя как выпотрошенным и плюхнулся в снег задом. Вывалив набок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своём бессилии.
Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Ни малого сочувствия Руслан не нашёл в его глазах — в двух таких восхитительных плошках, налитых мутной голубизною, — а только холод и усмешку. И захотелось распластаться, подползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Всё, чего хотели эти любимейшие в мире плошки, всегда делалось, сколько ни скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким гуталином. Руслан когда-то и пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек — и человеку это не помогло.
— Может, подалее? — спросил хозяин. — Или тут хочешь, к дому поближе? — Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча. — Один хрен, можно и тут…
Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стало разламывать челюсти, но он себя пересилил и встал. Иначе и не мог он. Всё самое страшное зверь принимает стоя. А он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день, уже минуту назад случилось — и дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал понимать, что к чему?
Он знал хорошо, что за это бывает, когда собака перестаёт понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексова падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникло предчувствия: как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. И вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся наутёк. Безумец, куда бы он делся в открытом поле, да на виду всех! Он никуда и не делся, ещё его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в три, в четыре ствола, а с вышки ещё добавил пулемётчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иной раз двуногие! Но своей глупостью он сильно подвёл Рекса, который шёл рядом и должен был держаться начеку и всё предчувствовать заранее, а если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. Вместо этого Рекс, увлёкшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы ещё двое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Конечно, их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал! Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку, в поле, — который уже и не хрипел! — и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прежалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу ещё доверили конвоировать, но все собаки поняли — случилось непоправимое, и Рекс это понял лучше всех.
Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины, и не притронулся к еде, а ночью то и дело принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и не могли глаз сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришёл за ним, и как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничто не помогло. Его повели за проволоку, в поле, все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда — ещё несколько дней его присутствие чувствовалось в зоне, и неподалёку от дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого всё было впереди.
Рано или поздно, так случалось со всеми. Одни теряли чутьё или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки, третьих — от долгой службы — постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один — все уходили дорогою Рекса, за проволоку. Лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине. Когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой, хозяева принесли его из леса на шинели, гладили его и трепали за ухо, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал!», не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же издох в корчах.
Так уж повелось, что Служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и восемь лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это и ему когда-нибудь предстоит. Оно страшило его, навеивало кошмарные сны, от которых он просыпался с жуткими завываниями, но понемногу он с этим ощущением свыкся, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить — можно, только нужно стараться, стараться изо всех сил. И предстоявшее стало ему казаться естественным завершением Службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почётным. Ведь ни одна собака всё-таки не пожелала бы себе другого конца — чтобы её, к примеру, выгнали за ворота и предоставили ей побираться, вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу подхарчиться гнильём с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан.
Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался убежать. Если б увидел хозяин его глаза — жёлтые, подолгу не мигающие, с чёткими, как воронёные дула, провалами зрачков, — то не прочёл бы в них ни злобы, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то — позади Руслана — мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел — что. Он это и раньше различил краем глаза, слышал вполуха тарахтенье и лязг, но заставил себя не обращать внимания, весь занятый поиском следа.
По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто сто лет уже как сжился с этим снежным полем и с этим белесым сводом небес, и без него невозможно было их себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоти и струящемся воздухе, он тащил сани-волокушу; на них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то, ещё огромней его, малиново-красное; когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колёс, прикрученный ржавыми тросами.
Руслан заворчал и ушёл с дороги. Тракторы были ему не внове — они вывозили брёвна с лесоповала, и ничего хорошего он из знакомства с ними не вынес. От чёрного выхлопа у него надолго пропадало чутьё, и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали «вольняшки», народ ему чужой и очень странный: они всюду расхаживали без конвоя и к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами; колонна ещё только втягивалась в лес, а они уже там вовсю тарахтели. В общем, неприятный народ.
Трактор подполз и остановился, но не затих, что-то в нём возмущённо подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину своё приветствие. Руслана оно поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий:
— Здорово, вологодский!
Возмущал уже самый вид водителя — этакая лоснящаяся багровая харя, с губастой огнедышащей пастью, с ухмылкою до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немыслимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами:
— Ты не меня ли ждёшь? Чо, не слышишь, чо говорю? Бытовку вон те припёр, куда её, дуру, ставить прикажешь? Или ты чо — не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом ещё, гляди, не выпустишь, а?
И он возмутительно, противно заржал, навалясь на открытую дверцу, поставив ногу в валенке на гусеницу. Хозяин на его ржанье и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что и не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана: на вопрос лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а только смотрели на него — холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и взгляд производили такое же действие, как поднесённый к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным умением хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно, а если спрашивал Главный хозяин, которого они звали «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», так отвечали очень даже быстро и руки прикладывали к ляжкам. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как с кем себя вести, — совершенно, как и собак!
— А ты чо такой невесёлый? — спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи, лицо у него не покрылось испариной, а только приняло вид сочувственный. — Жалко, что служба кончилась? И вроде бы жизнь по новой начинай, верно? Ничо, не тужи, пристроишься. Только в деревню не езди, не советую. Слыхал насчёт пленума? Особо не полопаешь.
— Проезжай, — сказал хозяин. — Много разговариваешь.
Однако дороги трактору не уступил. И автомат держал крепко обеими руками у груди.
— Это есть, — согласился водитель, — это за мной числится. Люблю это… языком об зубы почесать. А что делать, ежели чешется?
— Я б те его смазал, — сказал хозяин. — Ружейной смазкой. Он бы не чесался.
Водитель ещё пуще заржал.
— Умрёшь с тобой, вологодский! Ну, однако, красив же ты — с пушкой. Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит маруха, не полюбит. Им же, стервям, чтоб пушка была, а человека-то — и не видют.
Хозяин не отвечал ему, и он, наконец, спохватился:
— Так куда, ты говоришь, её ставить, бытовку-то?
— Где хошь, там и ставь. Мне дело большое!
— Ну, всё же ты тут за начальство…
— На кой ты её пёр? В бараках не поживёте?
— В бараках — не-е! Лучше в палаточках.
Хозяин повёл нетерпеливо плечом.
— Ваши заботы.
Водитель кивнул и, всё ещё сияя харей, уселся, потянул к себе дверцу, но тут его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил — на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка.
— А ты чего это — пса в расход пускаешь? Я-то думаю — тренировка у них. Еду, смотрю — чего это он его тренирует, когда уж на пенсию пора? А ты его, значит, к исполнению… А может, не надо? Нам оставишь? Пёс-то — дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?
— Покараулит, — сказал хозяин. — Не обрадуешься. Водитель поглядел на Руслана с уважением.
— А перевоспитать?
— Кого можно, тех уж всех перевоспитали.
— Н-да. — Водитель скорбно покачивал головой и кривился. — Самое тебе, вологодский, хреновое дело доверили — собак стрелять. Ну, порядочки! За службу верную — выходное пособие девять грамм. А почему ж ему одному? Вместе ж служили.
— Ты проедешь? — спросил хозяин.
— Ага, — сказал водитель. — Проеду.
Взгляды их встретились в упор: неподвижный, ледяной — хозяина, бешено-весёлый — водителя. Трактор взревел, окутался чёрными клубами, и хозяин отступил нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе другой путь — дёрнувшись, отвернул своё рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками Неприкосновенную полосу.
Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство, но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проёме дверцы; в него жаждалось впиться, прокусить до кости. Руслан зарычал, завыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще — он ждал от него, он выпрашивал «фас». Сейчас прозвучит оно, уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись, сейчас оно послышится — красно вспыхивающее и точно бы не изо рта вылетающее, а из брошенной вперёд руки: «Фас, Руслан! Фас!»
Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону — и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искажённым его лицом, но берёшь только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и держишь её, держишь, слыша, как он кричит и бьётся, и густая тёплая одуряющая влага тебе заливает пасть, — покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил… Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду, есть он в такие минуты всё равно не мог. И не было наградою, когда потом, в лагере, перед угрюмым строем, его понукали немножко порвать нарушителя, — ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко, — и Руслан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за Службу была сама Служба — и даже странно, при всём их уме хозяева этого недопонимали, считали должным ещё чем-то поощрить. Где-то на краешке его сознания, в жёлтом тумане, чернело, не стёрлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот эта Служба-награда, пусть ему напоследок скомандуют «фас» — и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лязгающую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина.
Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головою и скулил, а хозяин всё медлил и не кричал «фас». А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его, и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ; он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул — с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперёд, и проволока, струна за струною, касалась снега. Гусеницы подминали её, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья. И когда опять показался столб, то лежал, как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.
Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча. И водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину:
— Что б ты без меня делал, вологодский! Учись, пока я жив. А ты всё собак стреляешь.
Его грудь, в распахнутом ватнике, была так удобно подставлена для выстрела. Но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели свой портсигар, постучал папироской по крышечке. Он посмотрел на рисунок на этой крышечке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то, а когда показывал её другим хозяевам, так те чуть не падали от регота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный путь ко второму ряду и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега.
Когда и он завалился, хозяин повернулся, наконец, к Руслану — и будто впервые увидел его.
— Ты тут ещё, падло? Я ж те сказал — иди. Кому я сказал? — Он вытянул руку с дымящейся папироской — опять вдоль дороги, к лесам. — И чтоб я тя никогда не видел, понял?
Понять его Руслан не то что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедля кинуться, а совсем в другую сторону. Двуногий приблизился к проволоке, порвал её… и был прощён, когда в других за это палили даже без окрика. И оттого ещё лютее он возненавидел харю-водителя — который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах.
Однако Руслан подчинился и пошёл. Он прошёл немного, услышал, что хозяин не идёт за ним, и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад волочился по снегу. И, глядя на его ссутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и автомат, и сам он — больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжёлта-серому солнцу и извыть ему свою тоску, которой предела не было. Ещё худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы: его за тем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей душой и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого поступка, за который бы полагалась эта особенная, невиданная кара!
Но приказ хозяина был всё же приказом, хотя и последним, поэтому Руслан побежал один по белой дороге к тёмному иззубренному горизонту.
Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго, — может быть, целый день, — всё через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней посёлка. Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег, и глухие заборы, высотою с барьер на учебной площадке, будет пахнуть дымом и вкуснотою от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щёлочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и, наконец, он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией. В этом скверике тоже есть нечто, знакомое ему, виденное на учебной площадке, — два неживых человечка, цвета алюминиевой миски, зачем-то забрались на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперёд и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас скомандует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира — всем видом давая понять, что апорт следует принести ему.
А ещё там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо, днём иной раз голубые, а вечером — розовые. Но те рельсы, что возле самой платформы, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются; загнутыми кверху концами они поддерживают чёрный брус с фонарём, всегда загорающимся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зелёный, с косыми решётками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щёлочки. Здесь кончалась дорога Руслана — единственная, которую он знал. Он бежал мерной, неспешной рысью, но вдруг, спохватясь, припустил вовсю. Он догадался, зачем посылали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.
2
Утром другого дня путейцы на станции наблюдали картину, которая, верно, поразила бы их, не знай они её настоящего смысла. Десятка два собак собрались на платформе тупика, расхаживали по ней или сидели, дружно облаивая проносившиеся поезда; в их голосах явственно слышался изрядной толщины металл. Были эти собаки почти одного окраса: с черным ремнём по спине, делящим широкий лоб надвое, отчего выглядел он угрюмым, короткость ушей и морды ещё добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-воронёного к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари». Светились зарёю пушистый воротник на горле, тяжёлое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы. Звери были красивы, были достойны, чтоб ими любовались не издали, но взойти на платформу к ним никто не отважился, здешние люди знали — сойти с неё будет много сложнее.
Проходили часы, и проносились поезда — красные товарняки и зелёные экспрессы; голоса у собак скудели, металл заметно терял в толщине, а в сумерках сделался тоньше жести. Всё меньше собаки расхаживали, всё больше присаживались и прилегали, тупо уставясь в розовеющие полоски рельсов. Пробыв на платформе до темноты и своего не дождавшись, они сгрудились в стаю, дружно сошли наземь и разбрелись по улицам посёлка.
Повторялось это и в следующие дни, но внимательный наблюдатель мог заметить, что раз от разу собак приходило всё меньше и уходили они быстрее, а в металле появилась надтреснутость. Вскоре он и совсем умолк, пятеро или шестеро собак, не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсиживали свои часы.
В самом посёлке их появление вызвало поначалу тревогу. Слишком уж рьяно прочёсывали они улицы, проносясь по ним аллюром, — с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками. Однако ни разу они никого не тронули. А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались. Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе, наконец, определённое занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу. Завидев прохожего и установив ещё за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась от стаи и пристраивалась к нему — слегка поодаль и позади. Проводив до места — возвращалась, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну. Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трёх мужчин. Но трое — как раз законная норма на Руси, а в морозную зиму и не частая. И понемногу к собакам привыкли. Привыкли, наверное, и они к посёлку, по крайней мере, не собирались отсюда уходить.
Не мог привыкнуть один Руслан, да у него и времени не было для этого. Каждое утро он отправлялся по белой дороге к лагерю и часами сидел у проволоки. Он много важного имел сообщить хозяину: что поезд ещё не пришёл, но когда придёт, то не будет не встречен, кто-нибудь из собак обязательно там караулит; что, в общем, пока устроились на первое время и живут дружно, ну и ещё кое-чего по мелочи. Как он это сообщит — Руслана не заботило, он просто о том не задумывался, всегда как-нибудь да сообщал, а хозяин как-нибудь да ухватывал. Заботило и грусть наводило другое — то, что теперь творилось в зоне. Уже повалены были многие столбы, а меж не поваленными зияли в проволоке огромные безобразные проходы и лазы, а возле бараков жгли костры какие-то непонятные пришельцы. Они здесь сбрасывали кирпичи с грузовиков и складывали в штабели, но всем этим занимались между прочим, а больше любили побороться на снегу, перекурить часик-другой или попеть хором, сидючи рядком на брёвнах — поди-ка, на тех же священных столбах! С особенным же удовольствием обыскивали женщин, похлопывая их по штанам или по груди, а те при этом шмоне хохотали или визжали как резанные. Слишком всё это было непохоже на прежнюю жизнь прежних лагерников, и к тем беглецам чувствовал Руслан всё возрастающую нежность. Пожалуй, он бы простил их глупый побег, только б они вернулись и снова стали в красивые стройные колонны, с хозяевами и собаками по бокам.
Очень хотелось ему войти в зону и хорошенько облаять пришлых — пусть помнят, что лагерь не им принадлежит, и нечего устанавливать свои порядки. Но заходить за проволоку ему запретил хозяин, и только он мог снять свой запрет. Однако сумерки наступали, а хозяин не появлялся. Ни разу Руслан не напал на его след, не почуял любимый мужественный запах — ружейной смазки и табака, сильной, хорошо промытой молодости. Так, впрочем, пахло от всех хозяев, но Русланов ещё любил душиться одеколоном, который он покупал в офицерском ларьке, и, кроме того, целый букет принадлежал ему одному, его характеру, а Руслан знал хорошо, что люди точно так же отличаются друг от друга характерами, как и собаки. Потому-то и пахнет от всех по-разному, внюхайся — и не останется никакой загадки. К примеру, его хозяин — судя по этому букету, — может быть, и не слишком храбр, но зато он не знает жалости; он, может быть, не чересчур умён, но зато он никогда никому не доверяет; его, быть может, не так уж и любят его друзья, но зато он застрелит любого из них, если понадобится для Службы. И, всё это зная про хозяина, Руслан себе живо представлял, каково ему там, среди чужих, как он всех подозревает и ненавидит и весь занят мыслями, как ему вернуть беглецов и наказать других хозяев, позволивших им убежать. А в это время — единственный, кто ему во всём поможет, сидит совсем рядом и ждёт только, чтоб его позвали! В представлении Руслана хозяин был велик, всемогущ, наделён редкостными достоинствами и лишь одной слабостью — он постоянно нуждался в помощи Руслана. Когда бы не так — стоило ли прибегать сюда каждый день, коченеть на морозе часами и терзаться голодом?
Ведь с того утра — накормленный в последний раз — он мало чего раздобыл себе поесть. В брюхе у него горело, тошнота изнуряла до одури, и всё труднее было одолевать эту дорогу — туда и обратно. И всё же он ни разу не взял из чужих рук, не подобрал ничего с земли.
Тайный и ненавистный враг поставил на его пути булочную — здесь пробивался Руслан сквозь вязкое, тормозящее бег, пьянящее облако, изливавшееся из дверей при каждом взмахе. Однажды из этих дверей вышла женщина и кинула ему довесок, и Руслан как будто напоролся грудью на преграду. Едва хватило у него сил отвернуться и зарычать.
— На спор: не возьмёт, — сказал женщине вышедший с нею мужчина. — Это ж лагерная, они специально занятия проходили.
— Что же она, отравы боится? Но я же вот ем — и ничего! — С выражением умильно ласковым она отщипнула от тёплого каравая и сжевала, чмокая. — Видишь, собаченька, жива-здорова. Какая ж ты глупая!
Руслан равнодушно смотрел в сторону. Эти штуки он тоже знал: сами откусывают, и им ничего, знают, с какого краю, а у тебя потом пламя разгорается в пасти и всё брюхо выворачивает.
— На спор, — сказал мужчина.
Подобравши довесок, он поднёс его со злорадством к самому носу Руслана. Глупый мучитель, ему в голову не пришло, что если собака у женщины не взяла, существа безразличного, так у него и подавно. Он только вызвал подозрение. Руслан проводил его до дому — и запомнил этот дом.
Помогло неожиданное, все годы дремавшее в Руслане, а теперь пробудившееся представление, что еда — для него безопасная — должна быть живой. Бегающая, прыгающая, летающая, не могла же она быть кем-то подброшенной ему нарочно и, наверное, отравленной быть не могла — иначе б её саму измучила отрава. А с давних дней погонь остались в нём воспоминания о каких-то посторонних следах в лесу, окровавленных перьях, клочках шкуры, костях — остатках чьей-то живой добычи. В первый же свой поход он проверил себя — и не обманулся. Он свернул с дороги, углубился в лес и через минуту стал охотником. Как будто всю жизнь только тем и занимался, он сразу научился разнюхивать подснежные ходы лесных мышей и пробивать снег лапой как раз в том месте, где мышь пробегала или затаилась. Скудная охота не утолила голода, но успокоила, вселила надежды. И помогла вернуться к своим обязанностям.
В остальном же было — прескверно. И как ещё может быть собаке, привыкшей спать в тепле на чистой подстилке, привыкшей, что её мыли и вычёсывали, подстригали когти, смазывали ранки и ссадины, — лишась всего этого, она быстро доходит до того предела, до которого не опустится и бродяга, бездомный от рождения. Бродяга себе не позволит спать посреди улицы, да ещё под колесом стоящего грузовика — Руслан именно так спал, и чудом его не раздавили. Бродяга избежит греться на кучах паровозного шлака — Руслан это делал сдуру, и в несколько дней свалялась, полезла его густая шерсть, надёжнейшая защита от холода, а лапы покрылись расчёсами и порезами. Он с каждым днём обтрёпывался, тощал, себе самому делался противен. Но глаза горели всё ярче — неугасимым жёлтым огнём исступления. И каждое утро, проверив караул на платформе, он убегал к лагерю.
За всё время никто из собак не бегал с ним. Ещё в первый день, выпущенные из кабин, они обшарили всю зону и лагерь и поняли, что хозяева давно отсюда ушли и что одна надежда их увидеть — отправиться по цепочке Руслановых следов, которая и привела к платформе. Руслан оказался счастливее, его хозяин ещё оставался в зоне, и чувствовалось это не нюхом даже, а сверхчутьём, верою необъяснимой, но и не обманывающей — как и представление о живой добыче.
Что станется, если и он уедет, Руслан даже думать боялся. Тогда, наверное, незачем станет жить. Потому что всё, в общем-то, складывалось скверно. Да, служба несётся, голод ещё не заставил собак забыть о ней, но с некоторых пор при встречах с ними замечает Руслан — они его сторонятся, воротят угрюмые морды, а когда он приближается к стае — тут же расходятся. К тому же иным удаётся и выглядеть не такими отощавшими, как он, — небось, не побрезговали падалью или помойкой, а может быть, — но как ужасно это заподозрить! — уже кое-кем совершён величайший грех: напросились на другую службу, во дворы, и были приняты, и берут теперь спокойно — из чужих рук! Но разве забыли они, разве не учили их: сегодня не отравили — отравят завтра, но отравят непременно!
И подозрения его подтверждались. Как-то он встретил Альму, они столкнулись нос к носу на углу двух заборов, и оба растерялись от этой встречи. Он не ждал увидеть её такой сытой, холёной, весёлой, переполненной какими-то своими радостями. Ему вспомнилось, кстати, что она давно уже не появлялась на платформе. Альма тоже была поражена, но тут же сделала вид, что не знает такого. А следом выскочил из ворот кривоногий гладкий кобель, угольно-чёрный и с белыми надглазьями, и побежал с нею рядышком по улице. И Альма ему, уроду, позволяла покусывать её в плечо. Должно быть, она что-то сообщила ему на бегу — кобель обернулся к Руслану толстой отвратной мордой и нагло ощерился. Это он угрожал — находясь на приличном расстоянии и под защитой своей же подруги! Руслан отвернулся с презрением и побрёл своим путём.
Альма его не признала! А не дальше как позапрошлой весной хозяева сводили их вместе в углу двора, освободив от всякой службы — ради той особой, которой они придавали большое значение. На это время даже клички у него с нею переменились, хозяева их звали Жених и Невеста. Что вышло из этой службы, он никогда не узнал и долго потом не видел Альму, но совместное задание сблизило их необычайно; встречаясь после этого на большой Службе, они тянулись друг к другу, сколько позволяли поводки, и всячески выказывали расположение и приязнь. Он надеялся, что скоро их опять сведут вместе, но хозяева решили иначе: привезли ей откуда-то другого пса. Кажется, впервые в жизни Руслану хотелось себе подобного загрызть до смерти, но с тем псом он так и не встретился, даже имени его не узнал.
А с этим шпаком белоглазым и связываться не стоило, до того всё выглядело жалко и противно.
В другой раз он напал на след Джульбарса, старейшего в их стае. След привёл в сырую вонючую подворотню и дальше во двор, завешанный бельём и заваленный дровами. Здесь Руслан просто оторопел, увидев Джульбарса лежащим на грязном половике, возле поленницы дров, — с таким видом, будто он охранял её! С точки зрения Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в реке или небо над головою; она не представляла никакой ценности, ценность могли представлять только люди. И хоть бы он просто дрых у поленницы, но этот свирепейший из свирепых, этот пёс-громила, с распаханной шрамами мордой, ещё и вилял хвостом, угодливо осклабясь. Кой там вилял! — просто лупил по дровам в припадке подхалимажа. И кому же предназначались его восторги? Какому-то заморышу в белой овчинке без рукавов, который там с чем-то возился около сарайчика, с машиненкою о двух колёсах. От неё и машиной-то не пахло, гадостью какой-то — чуть-чуть бензина и масляная гарь. И скорее этого недокормыша с впалыми щеками можно было за лагерника признать, и то — хорошенько обвыкшегося в зоне, но уж никак — за хозяина!
А знать бы и недокормышу, что за подарочек Джульбарс, ему бы не с машиненкой возиться, а побыстрее лом в руки. Он кусал кого ни попадя, хоть своих же собак, хоть лагерников, он день считал пропащим, если кому-нибудь не пустил кровь. Стоило человеку не то что шагнуть из строя, а оступиться, шатнуться от усталости, — собака же различает, когда нарушение неумышленное, — Джульбарс его тут же хватал, даже не зарычав предупредительно. Заветная была у него мечта — покусать собственного хозяина, и он таки её осуществил — придравшись, что тот ему наступил на лапу. Момент был серьёзный, все собаки ждали, что наконец-то эту сволочь отправят к Рексу, да и сам Джульбарс на лучшее не надеялся, но надо признать, повёл себя удивительно: когда хозяин наутро пришёл к нему, весь перебинтованный, Джульбарс его поприветствовал как ни в чём не бывало и прошёлся туда-сюда по кабине, показывая, как он ужасно хромает. И всё ему сошло, даже заработал три дня отдыха. Должно быть, хозяева сочли его правым или уж таким ценным, что без него Служба развалится. Ведь он всем собакам был пример: неизменный «отличник по злобе», «отличник по недоверию к посторонним». Кто б заподозрил, что он и повилять умеет чужому!
Руслан подошёл и лёг напротив отступника, глядя ему в глаза неистовым взглядом. Джульбарс, хоть и застигнутый врасплох, не слишком, однако, смутился. Разика два он ещё лупанул по дровам и зевнул, показав бугристое чёрное нёбо — предмет гордости, знак неутомимого кусаки и бойца. Зевнул в такую сласть, что даже слёзы выступили на его кабаньих глазках, из коих один по причине шрама открывался не полностью, а покуда смыкал челюсти да склеивал чёрно-лиловые губы, его перепаханная морда успела состроиться в гримасу сострадания. Удручало его — состояние товарища, немощь тела, растерзанность души.
«И чего психовать-то? — спрашивал взгляд отступника. — Жить же надо, старик. Думаешь, неохота мне ляжку этому хиляку обработать? Так ведь жрать не даст, прогонит. Тут тебе не зона; где выдай, что положено, не повиляешь — не съешь».
«И это теперь твоя служба?» — спрашивал неистовый.
«Э, святого не трогай! На службу-то я как штык являюсь».
И его правда была, на платформу он приходил, и по два раза на дню. И как не прийти, когда клыки чешутся. Если бы поезд пришёл, то-то б им было работы!
«А ежели честно, — отступник уже наступал, — то где она, твоя служба? Кто нас на неё посылал? И почём знаешь — может, она вообще не вернётся?»
И теперь отступал неистовый:
«Как это может быть? Она вернётся! И тогда не простят таким, как ты».
«А вот уж не беспокойтесь! Первыми позовут. Потому что, когда она будет, ты-то уже околеешь. А и выживешь — так сил не останется служить. А я, погляди-ка, псина в порядке, в мясе, в теле!»
Неистовый закрыл глаза. Не было у него сил долее препираться. И странно, он почувствовал правоту отступника — может быть, и спасительную для всех. Ведь помнилось, как этот же изменник однажды всех выручил, от смерти спас… Руслан встал и побрёл со двора. А в подворотне оглянулся на новый стук: намозоливши себе хвост дровами, «отличник по злобе и недоверию» трудился теперь на мягком половике. Перешагнув высокий порог калитки, неистовый брезгливо отряхнул лапу. И не знал Руслан, — а мы, грамотные, знаем ли? — что наше первое движение к гибели всегда бывает брезгливо перешагивающим через какой-то порог.
В этот день он многое ещё узнал, чего бы лучше не знать. Да, попросились уже во дворы — почти все, — и были приняты и накормлены, а до следующей кормёжки успели показать, что умеют. Начали с курятников, это попроще, а кто и с живности покрупнее. Дик, успевший половину кабанчика сожрать, пока не застигли, теперь хранит отметину от железного шкворня — на морде, где её и не залижешь как следует. Курок сам себя наказал: таща с плиты мясо, прямо из кипящей кастрюли, опрокинул её на себя — полголовы и грудь остались без шерсти, таким его и прогнали за ворота. Затвору, правда, удалось бежать с гусём в зубах, а как вернуться теперь, когда новый хозяин ему издали показывает кочергу? В одном дворе, где всех собак привечают, кто ни попросится, взяли сразу двоих — Эру и Гильзу, так эти неразлучницы с того начали, что разодрались меж собою из-за кобелька, равно притязавшего на обеих, а помирившись, дружно его загрызли — только что не до смерти, едва успели у них отнять. Тоже выгнаны. А кто не выгнан — потому что не приняли или не попросился? Гром, решивший своим путём идти в жизни, пришёл к помойке у станционного буфета, нажрался тухлятины — и теперь, безгласный, смёрзшийся, лежит в яме неподалёку, политый извёсткой. Глупая Аза придумала кошек промышлять — грех невелик, Руслан бы ей и простил его, сам отведавший мышатины, но никакого же опыта работы с кошками, не знала даже, что эту тварь ни в коем случае нельзя в угол загонять, — да никого нельзя! — и кошачья лапка вмиг ей съездила по глазам. Кошку она задавила, но глаз вытек, а другой гноится, еле она им видит, с ума сходит от боли. Скверно, всё скверно! И не то особенно худо, что устали ждать. Устали — верить.
Оглушённый, раздавленный всеми этими несчастьями, он лежал, вытянувшись поперёк тротуара, закрыв глаза. Прохожим он казался околевающим; в таких случаях человечество разделяется на два потока — одни тебя обходят с опасливым состраданием, другие же, сердцем покрепче, просто перешагивают. Он не замечал ни тех, ни других, прислушиваясь к боли, жёгшей ему брюхо и дёсны, натёртые снегом. В последнее время он часто ел снег — от жажды и от голодной тошноты. Вдруг он вспомнил, что сегодня не бегал к лагерю. И страшно ему стало, что он только сейчас это вспомнил, а перед этим надолго упустил, — страшно, как перед неведомым наказанием. Голод повредил его память. Он силился услышать запах того человека, что совал ему довесок, а слышал лишь запах хлеба. И видел только хлеб — сквозь сомкнутые веки. А когда захотел свой дом увидеть — всплыла сахарная косточка, оставшаяся в кормушке, и с нею рядом — размокший жёлтый окурок. Но это и подняло его с тротуара.
«Всё-таки надо сбегать, — подумал Руслан. — Так много накопилось сообщить хозяину!» Ужас как не хотелось ему отправляться в далёкий путь — уже близились сумерки, а возвращаться предстояло совсем в темноте или ещё хуже — при луне. В темноте он почти ничего не видел, а лунный свет его чуть с ума не сводил, пробуждая неясные скорбные предчувствия. В этом смысле Руслан был вполне обычным псом, законным сыном той первородной Собаки, которую этот страх перед темнотою и ненависть к луне пригнали к пещерному костру Человека и вынудили заменить свободу верностью. Чтобы взбодриться, Руслан стал думать о косточке, которую, может быть, не выбросил хозяин, а приберёг для него, — но в это как-то слабо верилось, так не бывало ещё, чтобы кусок, который ты сразу не спрятал, к тебе же опять вернулся. И он задумался о грехе, о том, что забыл свои обязанности, — вот пусть проклятая луна и будет ему наказанием! Ведь всякий грех наказывается, даже самая малость, это он хорошо усвоил за свой собачий век — и не видел исключений.
Кончилась главная улица посёлка, глухие её заборы и слепенькие окошки, для чего угодно прорубленные, только не затем, чтобы из них смотреть. Здесь остановило Руслана какое-то воспоминание — о чём-то недавнем, но уже успевшем расплыться в памяти. А между тем оно не пускало его дальше и наполняло неясным предчувствием, — но не скорбным, а радостным. Он заскулил, завертелся на месте, как щенок, впервые увидевший собственный хвост, и вдруг замер, широко расставив лапы. Постояв так несколько мгновений, он опустил голову и медленно побрёл обратно, веря себе и не веря.
Вот оно, это место, мимо которого так поспешно он пробежал, занятый своими мыслями. Это, правда, на другой стороне улицы, но хозяина-то можно было учуять! Его, оказывается, привезли на машине, — чёрт бы пожрал эту резину, чёрт бы выпил этот бензин! — но вот здесь он спрыгнул и потоптался, пока ему подали чемодан и мешок. Ну, что в чемодане, того не разнюхаешь, какой-то он дрянью оклеен, а в мешке — стираное бельё и мыло (сиреневое, из офицерского ларька), и ещё вазелин, которым смазывают консервные банки. А здесь он закурил, спичка ещё пахнет дымом и его руками, потом взял чемодан и вскинул мешок на плечо — всё исчезло, остался только след хозяина, чётко впечатанный в снег. Тут уж не спутаешь! У него немножко кривые ноги и, пожалуй, коротковатые для его роста, зато ступает он твёрдо, всей подошвой сразу, как будто несёт тяжёлый груз. На нём сегодня праздничные, кожаные сапоги — такие, правда, у всех хозяев есть, но ведь под сапоги наматываются портянки, а они (как мы уже выяснили) пахнут его характером. И важно, что след не петляет среди других, — хозяин вообще петлять не любит, — всё прямо, ни одного отклонения в сторону.
Теперь прохожие шарахались от Руслана; они его, охваченного любовью, принимали за бешеного, с цепи сорвавшегося, и впрямь был он страшен — отощавший до рёбер, с жёлтой пеленой в глазах, мчащийся с хрипом и со звяканьем болтающегося ошейника, — страшен был и его бег по прямой, к неведомой для них цели. У станции путь ему преградил медленно разворачивающийся грузовик; Руслан проскочил под ним, ударившись спиною, но след заставил его забыть о боли и повлёк дальше, в тепло раскрытых дверей, в шумную надышанную залу. И здесь, на слякотном полу, среди пропотевших валенок, гнилой мешковины, сыромяти ремней, плевательниц с вымокшими окурками, среди нечистых истомившихся тел, — оборвалась ниточка, продетая в его ноздри, за которой он бежал, как бык за своим кольцом. Тщетно он пытался почувствовать её спасительную резь, её натяжение, — тут ещё и едой пахло, от её пряных паров он совсем ошалел. Но вдруг он услышал — голос хозяина, неповторимый, божественный голос, который не звал его, но звучал где-то рядом, и кинулся туда — не обходами, а напрямик, через скамьи и чьи-то мешки, готовый любого порвать, кто б его не пустил к хозяину.
Однако ему пришлось справиться со своей радостью. Ворвавшись в буфет, он только хотел пролаять: «Я здесь! Вот он я!» — как увидел, что хозяин сидит за столиком не один, а с кем-то ещё беседует, и подойти не решился. Став робко у стенки, он разглядывал хозяина и его собеседника — суетливого человечка с розовой вспотевшей лысиной, в сильно потёртом пальто и раскиданном по груди косматом зелёном шарфе, который то ли рубашку грязную прикрывал, то ли её отсутствие. Руслан разглядывал их обоих сравнительно, и сравнение вышло в пользу хозяина — молодого, сильного, статного, совершенно чудесного хозяина. Он бы ещё чудеснее выглядел, если б не забыл надеть погоны и не сидел бы с расстёгнутым воротом и закатанными рукавами. Но лицо его всё равно было прекрасное, божественное, с прекрасными, божественными глазами-плошками, и он прекрасно, божественно держался. А его собеседник был просто отвратителен — с этими слезящимися глазками, с дурацкой манерой беспричинно хихикать и чесать при этом всей пятернёй небритую щёку. От них, правда, от обоих попахивало не очень приятно, даже скорее омерзительно, и источником этой мерзости, как Руслан заподозрил, был графинчик с прозрачной, бесцветной, как вода, жидкостью, — но, сделав некоторое усилие, он нашёл, что от хозяина пахнет гораздо меньше, совсем чуть-чуть, просто даже почти нисколько не пахнет, а вот уж от Потёртого — разит невыносимо. Потёртый уже тем не понравился Руслану, что при нём нельзя было кинуться к хозяину, но особенно тем, что он разговаривал с хозяином странно небрежно, не опустив глаз, даже с какой-то не скрытой усмешкой. Как тот водитель трактора.
— А ты, гляжу, попризадержался, сержант, — говорил Потёртый. — Ваши-то когда подмётки смазали!
Всё время он называл хозяина Сержант, тогда как на самом деле его звали Ефрейтор, и странно, что хозяину это новое имя больше нравилось. Руслану оно не нравилось совершенно. Он любил имена, где слышалось «Р», он и своё любил за то, что оно с «Р» начиналось, так ведь в Ефрейторе их было целых два, и так они оба славно рычали, а в Сержанте и одно-то еле слышалось.
Хозяин отвечал не сразу, он два дела не любил делать одновременно, а прежде докончил разливать из графинчика в стопки — сначала себе, а потом Потёртому.
— Значит, надо, ежели задержался.
— Ну, ты не говори, коли секрет.
— Зачем «секрет»? Теперь уже — не секрет. Архив охранял.
— Архи-ив? — тянул Потёртый. — Наш-то? А как же теперь он, без охраны остался?
— Не остался, не бойсь. Опечатали да увезли.
— Понятное дело. А на кой это, сержант?
— Чего «на кой»?
— Да вот — охранять, опечатывать. Сожгли б его в печке — и вся любовь. Опять же, и все секреты там, в печке. Зола — и только.
Хозяин смотрел на него с сожалением.
— Ты чо, маленький? Или так — из ума выжил? Не знаешь, что он — вечного хранения?
— Вечного ж ничего не бывает, сержант. Ты же умный человек.
Хозяин вздохнул и взялся за свою стопку. Тотчас и Потёртый схватился за свою, он только того и ждал.
— Ну, будем, — сказал хозяин.
Потёртый к нему потянулся со стопкой, но хозяин его опередил, поднявши свою чуть выше, чем они могли бы столкнуться, и быстро опрокинул в рот. Медленно убрал руку и выпил Потёртый. Затем они отхлебнули жёлтенького из кружек и затыкали вилками в еду. Руслан глотал слюну и не мог себя заставить отвернуться.
— Всё же ты мне не ответил, сержант, — напомнил Потёртый.
Хозяин опять вздохнул.
— Чо те отвечать, с тобой же — как с умным, а ты детством занимаешься. Ну, какой те пример привести, чтоб те понятней? Видал ты — пионеры жучков собирают, бабочек там всяких? Поймают — и на иголочку, а на бумажке — запишут. Вот те пример: вечное хранение.
— Да какое ж оно «вечное»? Через год от этого жучка пыль останется. Ну, через десять.
— Не пы-ыль! — Хозяин поднял палец. — На бумажке же всё про него записано. Значит, он есть. Вроде его нету, а он — есть!
Руслан поглядел на Потёртого с укоризной. Палец хозяина должен был, кажется, убедить его, а он всё посмеивался и почёсывал щеку.
— Это мы, значит, жучки?
— Те же самые, — сказал хозяин. Обхватив себя за локти, он налёг на столик и смотрел на собеседника с ласковой улыбкой. — Вот вы разлетелись, размахались крылышками, кто куда, а все — там остались. В любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой, и кто куда повернёт, если что. Всё заранее известно.
— Так мы ж вроде невиновные оказались…
— Так считаешь? Ну, считай. А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобождённый. Понял? Временно тебе свободу доверили. Между прочим, больше ценить будешь. Потому что — я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А в лагере ты как стёклышко был и печёнка в порядке. Верно?
— Да вроде, — как будто согласился Потёртый. — Ну, так тем более — чего про нас-то интересно знать? Из нас уж труха сыпется. А вот их возьми, — он кивнул через плечо на сидевших за другими двумя столиками, — что тебе про них известно?
— Не бойсь, и их возьмут, если надо. Про них тоже кой-чего записано.
Потёртый тоже налёг на столик, и они долго смотрели в глаза друг другу, добро посмеиваясь.
— Между прочим, — сказал Потёртый, — заметил я, сержант, палец у тебя — дёргается. Руки дёргаются — поболе, чем у меня. Весь ты дёрганый, брат. Тоже это — навечно, а?
Хозяин посуровел, убрал руки со столика и взялся за графинчик. Разлил из него поровну и подержал горлышко над стопкой Потёртого, чтоб последние капли стекли ему. Потёртый следил за его рукою. Хозяин это заметил и потряс графинчиком — хоть ничего уже и не вытряс.
Они опять выпили, отхлебнули жёлтенького, после чего подобрели друг к другу, и Потёртому, верно, уже неловко было за свой вопрос.
— Но ты ж не скажешь, что я живоглот был, — сказал хозяин. — Тебя, например, я хоть раз тронул?
— Меня — нет.
— Вот. Потому что ты главное осознал. Раз на тебя родина обиделась — значит, у ней основания были. Зря — не обижается. А раз ты осознал — всё, для меня закон, ты — человек, и я к тебе — человек. Ну, прикажут тебя тронуть — другое дело, я присягу давал или не давал? Но без приказа… Ты меня понимаешь?
— Я тебя, брат, понимаю.
— И хорошо. А на этих — мы клали, они этого никогда не осознают. И нас с тобой не поймут. А мы друг друга — всегда, верно? Вот я почему с тобой сижу.
Потёртый наконец-то не выдержал хозяева взгляда или устал пререкаться, но опустил глаза.
Устал и Руслан ждать, когда на него обратят внимание в шуме и толчее буфета. Входившие и выходившие задевали его, он сиротливо прижимался к стене — покуда не сообразил, чем себя занять и быть полезным хозяину: охранять его чемодан и мешок и брошенную на них шинель. Мягко упрекнув хозяина в душе — за неосмотрительность, он важно разлёгся подле, занял ту позицию, которая внушает нам уважение к четверолапому часовому и не позволяет не то что задеть его, но подойти ближе, чем на шаг. И тем ещё хороша была позиция, что позволяла спокойно любоваться лицом хозяина. Его чуть портили капельки, выступившие на лбу и на верхней губе, но всё равно оно было прекрасное, божественное!
Руслан давно заметил, что лица хозяев, самые разные, чем-то, однако, схожи. Лицо могло быть широким или узким, могло быть бледным, а могло и смуглым, но непременно оно имело твёрдый и чуть раздвоенный подбородок, плотно сжатые губы, скулы — жёстко обтянутые, а глаза — честные и пронзительные, про которые трудно понять, гневаются они или смеются, но умеющие подолгу смотреть в упор и повелевать без слов. Такие лица могли принадлежать только высшей породе двуногих, самой умной, бесценной, редчайшей породе, — но вот что хотелось бы знать: эти лица специально отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает? С собаками было проще: чёрный Тобик с белым ушком, прижившийся около кухни, тоже как будто служил, иначе б его кормить не стали, но за всё время таинственной своей службы и на вершок не прибавил в росте, не изменил окраса, да и характера не изменил — всё таким же оставался попрошайкой и пустобрёхом; он даже на мух лаял, а лагерникам — которые только и мечтали изловить его да зажарить на костерке — через проволоку посылал приветы хвостом. Собак, ясное дело, отбирают, всех ведь их, караульных, не с улицы позвали, привезли из питомников, а как с хозяевами — оставалось загадкой. Но в одном Руслан не сомневался: с таким лицом хозяин мог бы не тратить на Потёртого столько слов, а тому давно уже следовало встать руки по швам и отправиться на работу.
— Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потёртый. — В город какой или же к себе, в деревню?
— Домой, — отвечал хозяин как бы в раздумье. — В городе-то чо хорошего? И отдохнуть охота.
— Это понятно. Ну, а делом каким?.. Ты уж, поди, позабыл, как и вилы держат.
— На кой мне вилы? Я свои вилы подержал, семидесятидвухзарядные. Считай, полтора твоих срока оттрубил, так мне за это пенсия — как у полярного лётчика. Который мильон километров налетал.
— Это хорошо. Да денежки-то не лечат. Я б на твоём месте только б сейчас и уродовался. Живо помогает.
Хозяин уставился на него неподвижным взглядом.
— Я думал, мы об этом договорились. И кончили. А ты, значит, так: сидишь со мной и подкалываешь? Это — неуважение называется.
— Тебя-то не уважать, сержа-ант! — засмеялся Потёртый. — Да чему ж меня столько годков учили? Ну, не огорчайся, воскреснешь ещё душой. Молодость, вся жизнь впереди!
И с этими словами он выкинул штуку, которая могла бы ему стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяина по плечу. Руслан вскочил и кинулся — стремительно, почти бесшумно, только шваркнув когтями об пол.
Мгновенно обернувшись, хозяин успел опередить его, выбросив навстречу кулак. Удар пришёлся в челюсть и задел по носу. Руслан едва не покатился с воем, но устоял, не показал врагу, как ему больно, а зарычал грозно в его сторону, почти не видя его из-за слёз.
— Бох ты мой, — удивился хозяин. — Это ты, падло? Что, по буфетам уже промышляешь?
Руслан, всё ещё ворча, потёрся носом об его колено, стало полегче, а когда погладил хозяин, то и совсем прошло.
— Твой такой? — спросил Потёртый. Он даже не успел испугаться.
— Какой «такой»? Обидчивый? Это точно, мы друг дружку в обиду не даём. Правда, Руслаша? Так бы мы этого ухайдакали — будь здоров!
Все в буфете смотрели на Руслана, как будто фокуса от него ждали. А может быть, он всё ещё был красив, и просто любовались им, как в прежние дни, когда хозяин им гордился. Однако ж буфетчице чем-то он не понравился.
— Гражданин, — заявила она хозяину из полутёмного, плотно накуренного угла, — вы бы вашу собаку страшную увели куда-нибудь, тут всё-таки не зона. А буфет всё-таки. В общественных местах намордник полагается.
— Это зачем? — Хозяин улыбнулся ей. — Он его сроду не носил, так обходился. А ты — возьми его себе, хозяйка. Что плечьми пожимаешь? Он те свой харч отработает, ревизора на порог не пустит.
— Мне ревизора бояться нечего. А вас я, учтите, на полном официале предупредила. Покусает — штраф будете платить. И за уколы.
— Слыхал, Руслаша? Учти. Кто тя знает — может, ты бешеный. Ты ж без справки гуляешь.
Руслан слегка пряднул ушами, нагнал страдальческую морщинку на лоб и перемнулся с лапы на лапу. Если и ждали фокуса, то едва ли увидели его, когда пёс так просто и так много этим сказал: что даже странно, как можно говорить о нём такие глупости, что ему, право, неловко за эту вздорную бабу, от которой хозяину пришлось из-за него выслушать неприятное, и что неплохо бы уйти отсюда поскорее, но он подождёт, пока хозяин освободится.
Хозяин, развалясь на стуле, сыто рыгнул и вытащил свой портсигар. Он чувствовал недобрые взгляды и был немножко в себе неуверен; в таких случаях закуривание превращалось у него в целый ритуал: папироса долго выбиралась, потом ею стучали по крышечке с выколотым рисунком, дули в неё с трубным гудением и, хрустко разминая, ввёртывали в рот по спирали; хозяин хищно закусывал её своими ровными мелкими зубами и, поджигая, сводил глаза на кончике, а затянувшись, держал её двумя вытянутыми пальцами на отлёте и выпускал колечко дыма.
— Вот проблема, — сказал он Потёртому, кивая на Руслана. — И заплатишь — никто не возьмёт. А такие кадры бегают!
— Да жалко, что говорить, — ответил Потёртый. — То думали: «Хоть бы вы передохли скорей, тварюги!», а теперь — жалко. Прикончили бы их разом, чем так…
— Ага, именно! Все больно жалостные, гляжу, а пострелять — другой дядя пускай.
— Другому дяде, небось, и приказано.
— Мало мне чо приказано. Кто приказал — уже погоны засолил и пиджачок меряет. А мне — руки марать? Когда можно и не марать. Только, видишь, как она, жалость-то? Хуже всего выходит.
Руслан понял так, что хозяин всё переживает из-за вздорной бабы, и носом подтолкнул его руку, лежавшую на колене. Рука нехотя поднялась, легла на его лоб. Не падкий на ласку, не привыкший к ней, он всё же ценил эту единственную, к тому же и очень редкую. Но в этот раз рука не понравилась Руслану, она была вялой, безвольной и отчего-то подрагивала, и пахло от неё этой мерзостью из графинчика.
— Ничо, Руслаша, обживёсси, — сказал хозяин. — А то — позовут ещё: обратно служить. Службу-то не забыл? По ночам, говоришь, снится? У, жёлтоглазина! Закрой зенки-то, глядеть страшно!
Рука медленно прошлась по закрытым глазам Руслана и, обхватив челюсти, вдруг сжала их жёсткой хваткой. Клыки, громко клацнув, защемили губу, от боли даже вспыхнуло под веками. Но ещё сильнее ужалила обида. Что за привычка была у них, у таких умных хозяев, — непременно хватать рукой. Собаку — за морду, человека — за лицо. У них это длинно называлось: «Я те щас смазь сделаю, поговори у меня!», но делалось коротко, ни собака, ни человек не успевали отшатнуться. А потом долго не могли опомниться. Вот так однажды хозяин сделал одному лагернику, который с ним пререкался и не спешил в строй, а потом — стоял оглушённый, с бледным, сразу вспотевшим лицом. С его носа упали стёклышки, которые этот лагерник очень любил, часто на них дышал и протирал платком, — теперь он за ними даже не нагнулся, хотя хозяин ему напомнил: «Подбери глаза!» — и сам же их ему подбросил носком сапога. Вот что он чувствовал тогда на своём лице, этот человек, когда шёл в строю, спотыкаясь, как слепой, а потом с криком бежал по полю, упущенный несчастным Рексом.
— Не тискай, — сказал Потёртый. — Вот черт какой, ведь тяпнет же — ну, прав же будет!
— Много ты про него понимаешь, — засмеялся хозяин. — Нас ведь с Руслашей служба спаяла, правду говорю?
Рука опять легла на лоб, гладила его, трепала за ухом, а Руслан едва сдерживался — так хотелось ему сбросить её и истерзать. Не впервые он чувствовал это желание, при всей любви к хозяину, и сам же его страшился, и долго потом переживал, как могло ему такое прийти в голову. Но сейчас и другое ему пришло — озарение, догадка, отчего тогда Рекс упустил того лагерника: да ведь не мог он ничего предчувствовать заранее, потому что и сам человек не знал, что он через секунду сделает!
Высвобождаясь от ненавистной руки, он медленно — трудным поворотом головы, сумрачным из-под широкого крутого лба взглядом — обвёл сидевших в буфете, поднял немигающие глаза к хозяину. У них на столе оставалась еда, они с нею не торопились, но смолоду Руслан был жестоко отучен просить — и не на еду он смотрел, ничего не просил этот тяжёлый взгляд, в котором лишь дурак или незрячий не смогли бы прочесть: «Ты нехорош сегодня, хозяин. Ты плохо шутишь. А мы ведь среди чужих».
Потёртый вдруг сморщился горестно, схватил со стола кусок хлеба, положил на пол. Руслан этого никак не заметил, не покосился.
— Ага, взял! — ухмыльнулся хозяин, очень довольный. — Всю жизнь он мечтал твоим хлебушком попитаться. На чем тогда держава стоит!
— Ладно, держава… Сам ему дай.
Посетители буфета опять, верно, ждали фокуса, нехитрого, но обречённого на успех. Неизменно умиляются наши сердца, когда младший наш брат проявляет зачатки разума, так самоотверженно насилуя свою природу: не принимая пищу от чужих и тут же хватая её, давясь от жадности, с ладони хозяина. Но в этот раз фокус вышел ещё занятнее, чем ожидался: хлеб так и не покинул дарящей руки, пёс лишь взглянул на него и отодвинулся — осторожно, чтоб не повалить ненароком державу.
— Ага! — возликовал Потёртый. — И ты ему нынче — никто, понял?
— Ты чо это? Брезгуешь? — спросил хозяин. Розовость медленно отливала с его лица. — Уже где-то обожраться успел? Быстренько ты! Ну-кось, — он положил кусок на пол, — подбери. Кому сказано?
— А вы, гражданин, там не разбрасывайте, — опять вмешалась буфетчица.
— Ещё мне дело: за вашими собаками подбирать!
— Зачем? Он — возьмёт. Ещё как возьмёт.
Уже с побелевшими скулами, но всё ухмыляясь, хозяин сам подобрал хлеб, нашарил весёлыми глазами вилку. Макая её в баночку и ляпая на хлеб, стал густо по всему куску намазывать горчицу.
— Не надо, — попросил Потёртый. Попросил кто-то и в очереди у буфета:
— Сержант, не дури.
— Нельзя, — объяснил хозяин. — Чтоб он моей команды не выполнил — это нельзя. Не бойсь, он уж сам знает, что допустил провинность, с первого разу не подчинился. Значит, отвечать надо. А он — службе верный: он те щас покажет, какая у него верность. С чем её едят… Весь запас я у тя использовал, хозяйка!
Он разломил кусок пополам и сложил его — намазанным внутрь.
— Кушать, Руслан, кушать. Взять, говорю! Мужчина в кожаном, сидевший спиной к хозяину, повернулся, блестя белками скосившихся глаз.
— Ты, часом, не сбесился?
— Я те щас поговорю, «сбесился», — сказал хозяин. — Смотри, куда смотрел!
Кожаный, однако, не повернулся обратно. Сидевшая с ним женщина в сером платке, кормившая с ложечки ребёнка, положила ложечку и прикрыла глаза ребёнку ладонью.
— Толя, не связывайся, — попросила она. — Ты ж знаешь, как с ними связываться. Мы на это смотреть не будем.
Но сама всё-таки смотрела, морщась и кусая губы. И весь буфет смотрел и роптал:
— Не мучай собаку, конвойный!
— Живоглот, привыкли там измываться…
— Бухой же, разве не видно?..
— Хоть бы отнял кто…
— У него отнимешь! Тебя же ещё и порвёт… Кусок в неверной руке хозяина качался перед Русланом.
— Ведь возьмёшь же! Сам знаешь — возьмёшь! Что знал Руслан об этом запахе? То, что и полагается знать караульному псу, которого с этих-то угощений и начинают учить уму-разуму. Однажды утром его — ещё не пса, а подпёска — выводят перед кормёжкой в прогулочный дворик, и куда-то на минутку отлучается хозяин, сказав:
«Гулять, гулять», — и тут-то как раз происходит удивительная встреча. Как из-под земли является Неизвестный, в телогрейке и сером балахоне поверх. В длинном рукаве у него что-то спрятано, он показывает — что, протягивает к самому твоему носу. Пахнет так дивно, что пасть переполняется слюною. Ах, всё не так просто! От его одежды разит причудливой вонью барака, про который уже известно собаке, что там — «фуки!», там — «злые живут!», и уже высказано ею по этому поводу категорическое «Ррр!» Но — солнышко греет ей голову, утренняя истома в её душе и сладостная уверенность, что всё в её жизни преотлично складывается. И так беден наш изобильный мир, что всё живое ценит еду, борется за неё — ещё в слепоте, у сосцов матери. Ценит, наверное, и человек, если не швыряет наземь, а на ладони протягивает с улыбкой — как дар, цены не имеющий. И, одарив его в ответ улыбкою глаз, взмахом хвоста, собака берёт кусок в зубы. В зубах он ещё приятнее пахнет, душистая пряность щекочет нёбо, чудесно пощипывает язык, не разжевать — нет возможности, и она жуёт, ещё качая хвостом, ещё не заслезившимися глазами благодарит Неизвестного, который так скромно удаляется. В следующий миг ей кажется, что в пасти у неё — пожар, ей туда натолкали горящей пакли, от которой не освободиться теперь никак, не выхаркнуть в мучительном кашле, всё обожжено пламенем, и дым съел глаза. Она слышит смех убегающего и свирепеет от обиды; злоба пересиливает муки, бросает в погоню, а тот и не спешит удрать, он протягивает свой длинный толстый рукав, в котором вязнут клыки… Ничего не подозревающий хозяин приходит наконец; можно ему пожаловаться, он все поймёт, пожалеет, даст попить вволю, накормит вкуснотой необыкновенной. И все забудется? Пожалуй, что и забылось бы, если б эти лагерники не предпринимали новых козней, всякий раз похитрее. Но никакая новая их каверза так не поразит, как первая, от которой уже сделала собака свой маленький шажок к истине: всё, что не из рук хозяина, — мерзко, ядовито, греховно, даже если и хорошо пахнет.
А теперь и из этих рук ему предстояло взять отраву. И он знал, что придётся взять. Он всяким видел лицо хозяина, но никогда не видел жалким. Шутка затянулась, хозяин уже и рад бы её прекратить, но именно этого хотели чужие, а он их ни за что не мог послушаться. В другом месте и Руслан выказал бы неповиновение, он знал свои права и умел о них напомнить: тихим, но грозным ворчанием, не разжимая пасти и полузакрыв глаза, превратясь в глыбу, которую ни окриком, ни битьём не расшевелить. Перед чужими это нельзя — и, как ни глупа шутка, Руслан её должен был поддержать. Нехотя разжав клыки, он принял этот кусок с ладони, скосив глаза — куда бы отнести и положить.
Хозяин обеими руками взял его за челюсти и с силой сомкнул. Руслан дёрнулся, но руки держали крепко, и скоро он почувствовал жгучую боль в дёснах, натёртых снегом. Он попытался разжать челюсти, вытолкнуть отраву языком — всё только хуже вышло, пламя охватило язык и нёбо, даже в уши проникло звенящим шумом. Весь сумрачный, завешенный табачной синевою буфет и розовое лицо хозяина расплылись и потекли обильными едкими слезами. Чтобы не длить пытку, он стал судорожно глотать, а пламя только пуще разгорелось в брюхе, и без того сжигаемом голодной тошнотой. До смерти испуганный, ставший сразу беспомощным, больным, он уже и не помышлял, вырвавшись, искусать эти руки, а только пятился от них, скользя когтями по полу, и одно держал в голове — то, что владело всеми его предками, измученными раной или болезнью: уйти, уползти куда-нибудь — в тёмное логово, в подворотню, в лесные заросли, в камыши или густую траву — и там перемучиться или издохнуть, наедине со своей болью.
Чьи-то другие руки отняли его наконец у хозяина, рванув за ошейник, и Руслан тотчас двинулся наугад — туда, где свет, откуда тянуло морозным воздухом, жадно втянул его всей грудью вместе с огнём и задохнулся, задёргался в изнуряющей икоте.
— Ладно, Руслаша, помиримся, — услышал он голос хозяина, непривычно ласковый и точно вязнущий в вате. — Куда пошёл, ко мне!
Руслан оглянулся, вздрагивая, обвёл слезящимся взглядом весь буфет. Лица расплывались, дрожали, двоились; среди них он едва различил хозяина — нет, сразу двух хозяев, одинаково улыбавшихся виновато, одинаково розовых, мутноглазых. Одним и тем же голосом оба они скомандовали: «Ко мне, Руслан!» — и он силился понять, к которому же из двух он должен подойти. Кто был прежний, любимый хозяин, а кто — предатель, на которого следовало зарычать и кинуться? Он так и не понял этого и решил оставить обоих.
Уже за порогом он услышал, как там опять начали роптать на хозяина, и кому-то он отвечал, срываясь на крик:
«Знаю, что делаю, не в своё дело суёёси! Его отучать надо. А то все жалостные, а чтоб убить — ни у кого жалости нету!» Руслан постоял в раздумье: они там могли и напасть на хозяина, а ведь он, помнится, сидел без автомата. Но ещё в первое снежное утро не зря заподозрилось, что не нужны ему больше ни его оружие, ни Руслан, теперь это лишь подтвердилось горько и унизительно. Ему, хозяину, лучше знать, как ему дальше жить. Да никто и не решился напасть.
С опущенной головою Руслан прошёл опять всю залу, осторожно сошёл с крыльца и двинулся вдоль заиндевевшей стены, стараясь держаться к ней вплотную. Завернув за угол, он взял в зубы немного снега — десны заныли от холода, но и огонь стал утихать. Он обронил льдистый комок с налипшим хлебом и сгустками горчицы и шумно выдохнул остатки пламени. Однако икота всё мучила его, он чувствовал себя больным и искал, где бы укрыться. Тропинка привела к помойке, где нашёл свой конец одуревший от голода Гром, за нею стояла дощатая, изжелта-белая уборная, и вот тут, между ними, в тесном закутке он и улёгся, положив морду на лапы. Вонь ему не мешала, он её и не слышал сейчас, зато дышало теплом от уборной и мусорного ящика, и скоро Руслан угрелся, перестал ворочаться, только чуть вздрагивали его брови, когда слышались чьи-нибудь голоса, скрежет шагов по снегу или паровозный гудок.
Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем всё её существо, отнимает волю к жизни. Потрясло оно и Руслана, хоть, казалось бы, мог он и раньше догадаться. Мог бы, и догадывался, да только легче бы, право, съесть всю банку этой горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина. Что же тогда, если не любовь, позволяло сносить все тяготы Службы? Что помогало им всем, хозяевам и собакам, держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулемётов, никакой проволоки? Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним? Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину? И разве только за корм прощал он Ефрейтору незаслуженные окрики, хлестание поводком? Всё, что случалось порою, случалось между своими, чужим не дано было видеть унижения Службы. Так унизить его при всех только и могла не любящая рука, предавшая всё, что их связывало, и саму Службу, которая не жила без любви. Из этой руки получил он то, что привык лишь от врагов получать, и значит, сам его бывший хозяин стал врагом. Пусть он живёт как знает. Но как дальше жить Руслану?
Вот что ему вспомнилось: хозяева иногда менялись. У того же Грома было их трое — и ничего, он дважды привыкал к новому и любил его, почти так же, как первого, данного ему вместе с жизнью. Привыкали и другие, хотя, конечно, полного счастья не было. И всё же оставалась Служба! Хозяева уходили и приходили, а она всегда была, сколько стоял этот мир, ограждённый колючкою в два ряда и вышками по углам, залитый светом фонарей, музыкой и голосами из чёрных раструбов, точно с неба свисающих на невидимой проволоке. Начала этого мира не знал Руслан — и не мог себе представить его конца. Мог прийти конец лишь этому страшному бесприютному времени — и неважно, как он придёт; через бездны мелких серых подробностей Руслан переносился мечтою и видел уже конечный блистающий результат: вот однажды распахивается дверь кабины, и «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» приводит другого хозяина — в новых скрипучих сапогах, с мискою в руках, полной пахучего варева и сахарных костей; он ставит свои дары на пол и говорит ещё не слышанным, но божественным голосом: «Ну что, Руслан, давай знакомиться», — и Руслан, только хвостом качнув, подходит и принимается за еду: в знак полного доверия…
Чьи-то неуверенные ищущие шаги помешали ему. Он увидел, что сумерки сгустились, и решил не уходить, а затаиться, даже глаза прижмурил, чтобы уж совсем стать невидимым. Но этот кто-то, должно быть, его почуял — остановился напротив, сделал к нему робкий шаг.
— Вон ты где, — удивился Потёртый. — Что ж ты среди вонищи-то лежишь, совсем нюх отшибло? Или помирать собрался, Руслан? — Он сделал ещё шаг, осторожно присел на корточки. — Ах, тит твою мать, как собаку обидел, обормот! Ну, без креста же они, вертухаи! Без креста родились, от не венчанных, и так же в землю уйдут, одни пирамидки стоять будут из поганой фанеры. Ну, вставай, друг, что ж тут лежать. Уже его нет давно, уехал твой ненаглядный. Уе-ехал, ту-ту, не вернётся. Пойдём-ка со мной лучше, а?
Слова текли к Руслану, вливались в его чуткие уши и насторожённое сердце, и из общего их течения он выловил, как щепку из журчащего потока, что хозяина больше не будет. Руслан это принял спокойно, даже почти равнодушно: спустившись с небес своей мечты на мёрзлую вонючую землю, он с удивлением обнаружил, что теперь куда больше его интересует вот этот, сидящий перед ним на корточках. Хозяин успел уже умереть для Руслана, а этот, в драной ушанке с падающим на глаза лбом, был жив и позвал с собою. Для начала Руслан хотел бы обнюхать эту ушанку и бахромчатые рукава латаного пальто.
Но вот Потёртый, точно бы повинуясь его желанию, потянулся к нему — медленно, всякую секунду готовый отдёрнуть руку. Он не знал, что не успел бы этого сделать. Не знал также, что Руслана можно погладить — но лишь растопырив пальцы, показав ему всю безобидность руки, и для начала рука была отброшена ударом костистой морды. На вторую попытку Потёртый не отважился. Но вдруг Руслан сам к нему потянулся. Привстав на передние лапы, не спеша обнюхал замершее колено, затем, поймав ускользающую кисть, легонько её прихватив клыками, несколько долгих — и для Потёртого мучительных — мгновений втягивал в себя тепло рукава. Всё хотелось ему увериться, что он не ошибся тогда, в буфете, когда эта рука положила перед ним еду.
Нет, не ошибся. Могла бы истлеть одежда Потёртого, и он бы её сменил на другую, но ведь кожу-то он не мог бы сменить, и она будет таить в своих порах этот нетленный, не выветриваемый запах, покуда, наверно, сама не истлеет, — запах застиранного белья, прожаренного в вошебойке, стократ пропитанного обильным потом слабости, запах болезней и лекарств, ни одной болезни не исцеляющих, потому что все они одним называются именем — «бесполезное ожидание», запах костра, на который подолгу глядят расширенными зрачками, поддерживая вспыхнувшую надежду, и запах самих надежд, перегорающих в одрябших мускулах, запах жёстких нар, дарящих, однако, глубокий, как смерть, сон — последнее прибежище загнанному сердцу; запах страха, тоски, и опять надежд, и глухих рыданий в матрас, выдаваемых за кашель. Втянув в себя весь этот букет, Руслан поднялся и дал подняться Потёртому, и они пошли рядом, куда хотел Потёртый, — оба утешенные, что нашли друг друга. И, наверное Потёртый думал о том, как ему легко, по случаю, достался этот красавец пёс, могучий и склонный к верности, которого и воспитывать не надо и который с этого дня будет ему спутником и защитой.
Что же до Руслана, то для него это новое знакомство имело иной смысл. Случилось не предвиденное уставом службы, однако и не противное главному её закону: житель барака сам напросился, чтоб его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кров, — и в том не было удивительного, возвращались же добровольно иные беглецы после целого лета блужданий в лесах, полумёртвые от голода, едва державшиеся на ногах. Таких обычно не били хозяева и не натравливали собак, а лишь смотрели на них подолгу — холодно, светло и насмешливо, покуда иной бедняга не сваливался замертво к их сапогам.
Потёртый был на пути к возвращению, и Руслан счёл себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева. А когда вернутся они — и поставят поваленные столбы, и натянут проволоку, и зачернеют на вышках ребристые стволы, а над воротами во весь проём запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными начертаниями, — тогда Потёртый пойдёт, куда захочет Руслан.
3
В первый же час этой службы выяснилось, что подконвойный успел обзавестись хозяином. И у него (точнее — у неё, поскольку хозяин носил юбку и пуховый платок) ещё надо было испрашивать разрешение для Руслана, едва они с Потёртым ступили во двор:
— Эй, хозяйка! Тёть Стюра, ты жива ли?.. Погляди, какого я тебе охранника привёл. Не прогонишь нас?
Тётя Стюра, статная и дородная, застившая почти весь свет в дверях, с крыльца оглядела Руслана и осталась недовольна.
— Ещё неизвестно, кто кого привёл. А кормить его, бугая, чем?
— А вот и интересно, что — ничем. Он так, без прокорму живёт. Чудной мужик, ты ещё с ним намаешься.
Последнее замечание успокоило тётю Стюру вполне.
— Пускай живёт. Трезорку бы моего не съел. Руслан не стал ждать, когда его пригласят в дом. Легко потеснив хозяйку, он прошёл в комнаты и скоро вернулся. Тёте Стюре принадлежала половина домика; он убедился, что обе комнаты и кухонька окнами выходят во двор и на улицу перед воротами, уйти незамеченным подконвойный никак бы не смог. Одно обстоятельство, правда, удивило Руслана: явное и не столь давнее присутствие Главного хозяина, «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца». Но знакомый запах в то же время и успокоил; а кроме того, с Руслана как с подчинённого вроде бы снималась ответственность — поскольку начальство этот дом заприметило и осматривало самолично.
Тётя Стюра всё-таки выставила новому жильцу угощение — полную миску тёплого супа с костями. И было несколько мучительных, полуобморочных минут, отравивших этот маленький праздник новой службы. Миску пришлось убрать нетронутой — при этом Потёртый разыгрывал торжество, а тётя Стюра не сдержала злости и пообещала Руслану, что завтра же отправит его на живодёрню.
— Там, — сказала она, — из тебя мно-ого мыла получится! Вот увидишь.
Руслан уснул на крыльце, растравленный, зверски голодный, питаемый зыбкой надеждой. Несколько раз его будило сонное квохтанье в курятнике, и он ещё и ещё подходил удостовериться, что дверь закрыта плотно и засов не отодвинуть лапой. И всякий раз из-под дома слышалось тоненькое рычание невидимого Трезорки, так и не рискнувшего выйти познакомиться.
К рассвету Руслан почувствовал себя совсем скверно; его мышиная охота стала ему рисоваться в образах фантастических: мыши, размером с кошку, так и выпрыгивали из-под снега, а потом они построились в колонну по пять и с дружным писком двинулись к нему в пасть. Он зарычал и совсем проснулся.
Потёртый ещё и не пошевелился в доме, и Руслан всё-таки решил отлучиться ненадолго в лес. Возвращаясь, он обежал весь квартал — на тот случай, если Потёртый имел где-нибудь лазейку или перелез через забор. Но оказалось, он и на крыльцо ещё не выходил, хотя небо порозовело и всё на дворе стало цветным. Тут Руслан вспомнил: вечером его подконвойный, с тётей Стюрой на пару, налакался этой прозрачной мерзости, от которой свалился замертво. А перед этим он слишком громко и с глупым лицом разговаривал, махал руками без толку, порывался петь — словом, перестал понимать, что к чему, — совсем, как собака. Правда, у собак это печальное состояние приходит с возрастом, люди же для его приближения совершают усилия. Это наблюдение показалось Руслану интересным и обнадёживающим: как ни презирал он эту мерзость, но ведь она-то ему и позволила нынче поохотиться. И ещё он успел соснуть порядком, пока наконец подконвойный соизволил выйти — смутный лицом, собою недовольный, воняющий ещё омерзительнее, чем накануне. Свет Божьего дня не понравился ему — он поглядел на небо и скривил рожу, затем сплюнул и направился неверным шагом к сарайчику.
Тот же час явился как из-под земли Трезорка. Размялся, сладко зевнул и в середине зевка, будто впервые увидев Руслана, сделал «здрасьте» коротким, как обрубок, хвостиком. Псом он оказался, совсем ничтожным, даром что кличку носил с двумя рокочущими «Р», — криволапый, низкорослый, с раздутым животом и недоподнятыми ушами, к тому же и окрашенный как попало чёрными, белыми и рыжими пятнами. Руслан его едва удостоил взглядом. Явившись так поздно, когда новый жилец уже обследовал двор. Трезорка тем самым поступился своим правом на территорию, признал себя как младшим на ней. Но Руслан и не претендовал на неё, всем видом он показывал, что его интересует лишь этот человек, скрывшийся в сарайчике, — и Трезорка это прекрасно понял. Скосясь на дверь сарайчика, он состроил гримасу весьма сложного состава: одновременно и сострадательную к Руслану, и полную презрения к Потёртому, и о своих неоценённых достоинствах сказавшую без ложной скромности, и содержавшую горестный извечный вопрос: «Ах, сосед, за что нам такой удел!» За такое инакомыслие, пожалуй, досталось бы Трезорке, будь Потёртый хозяином, но коль скоро он был подконвойным, Руслан лишь отвернулся, не желая поддерживать общение.
Потёртый там долго ещё сопел, охал и даже рычал, не зная, видно, за что приняться, как начать день; наконец, показавшись в двери, исторг членораздельные слова:
— Тит твою мать, где ж это я рукавицу-то задевал, брезентовую? Одна есть, а другую посеял. Руслан, ты, часом, не видал?
Руслан лишь взглянул с холодным удивлением. Ему предлагали найти вещь, и он знал — какую и где лежит она, но никакое приказание, ни просьба не могли быть исполнены, если исходили от лагерника. И Руслан об этом напомнил подконвойному на своём языке: поднялся, но лишь для того, чтоб перелечь на другое место.
Трезорка, всё это наблюдавший с живейшим интересом, опрометью кинулся под крыльцо и вытащил искомую рукавицу. Однако Потёртому он её не поднёс, а обронил неподалёку от Руслана, чтобы и тот имел возможность послужить. Руслан и головы не повернул. Потёртому пришлось-таки подойти и кряхтя нагнуться за рукавицей.
— Пожалста, — сказал Потёртый, — мы люди не гордые. А кой кто у нас без понятия. Эх, казённый! Только и знаешь: «Гав-гав, стройсь, разойдись!», а Трезорка-то, он лучше соображает.
Этого Руслан уже совершенно не мог вынести. Он пошёл со двора и, перемахнув через ворота, улёгся на улице. Право, он лучшего мнения был о своём подконвойном. Упрекая Руслана в недостатке сообразительности, сам-то Потёртый соображал ли, почему караульный пёс его не послушался? И почему со всех лап кинулся Трезорка? Да сам же он её и заиграл под крыльцо, эту рукавицу, кому же и бежать за ней!
Вышел на улицу Потёртый, опоясанный солдатским ремнём, с ящиком для инструмента в руке, сказал:
«Пошли, казённый» — единственную команду, которую Руслан готов был исполнять и которую мог бы Потёртый не говорить.
Так начались их походы на тот странный промысел, которым занимался подконвойный по утрам, если только их можно было назвать утрами. Они отправлялись на станцию и там сворачивали, шли по шпалам в дальние тупики, на кладбище старых вагонов; здесь-то и находилась у них рабочая зона — так же, как стали жилой зоной квартал и двор тёти Стюры. Они поднимались в эти вагоны — Руслан вспрыгивал в тамбур единым махом с разбега, а Потёртый карабкался по ступенькам с отдышками — и переходили не спеша из одного купе в другое. Стёкла здесь были выбиты или кто-то их утащил, и гулял сквозняк, а на полу и нижних полках лежал пластами снег, и пахло гнилью, трухой, ржавчиной, людским дерьмом, всеми дорогами и станциями, где побывали эти вагоны. Потёртый поднимал и опускал скрипучие полки, протирал рукавом и мерял пядями и, вздыхая, говорил Руслану:
— Ну как, вот эту досточку — оприходуем? Узка вроде, но текстурка имеется. С игрой планка, верно же?
Руслан ничего не имел против, и Потёртый начинал «приходовать». Руки у него тряслись, и отвёртка долго не попадала в шлиц, и не хватало у него сил и рвения сразу вывернуть приржавевший шуруп, а среди дела он ещё подолгу перекуривал, соображая, как бы приладить гвоздодёр и отъять планку, не расщепив. Но и когда отдиралась она целая, то не всегда сохраняла для Потёртого интерес; огладив её ладонью и поглядев вдоль неё на свет, даже понюхав, он мог её и выбросить в окошко, а потом долго сидеть, печально вздыхая, прежде чем приняться за другую. И все говорил, говорил:
— Вот, Руслаша, это почему в России хорошей доской не разживёшься? А я тебе скажу: в лесу живём. Кругом леса навалом, вот и причина, что его — нету. Было б его поменьше, так мы б его берегли, чужим не продавали — и всем бы хватало. Ну, однако, разговорчики безответственные — отставить! Ты, Руслаша, следи, чтоб я лишнего не болтал.
Иной раз лукавая мысль вползала в его отуманенную голову, водянистые глаза оживлялись, хитро сощуривались, впивались в жёлтые сумрачные глаза Руслана.
— А что, паря, не сходить-ли нам на лесоповал? Дорожка нам знакомая, а там на пилораме какую-нибудь досточку подберём, твёрдо-ценной породы. Там-то они не считанные, наши досточки. — И сам же отвечал на свой вопрос: — Не, лучше не ходить. Там я тебя забоюсь, на лесоповале. Это мы тут друзья — не разольёшь, а там ты старое вспомнишь, покурить особо не дашь, верно? И правильно, чего это я с тобой разболтался? Уж в рельсу бить пора, а мы ещё ни хрена не наработали.
Никто здесь не ударял в рельсу, но каким-то чутьём он угадывал, — а со второго дня стал угадывать и Руслан, — что пора им домой. К этому времени насчитывалось три-четыре планки, о которых Потёртый говорил: «Звали етого грузина — не Ахтидзе, но Годидзе», — хотя, по мнению Руслана, они особо не отличались от выброшенных, разве что послабее воняли плесенью. Потёртый их перевязывал шпагатом и уносил под мышкой. К этому времени ослабевало действие прозрачной мерзости, уже не так ею разило из его рта, и подконвойный вышагивал по шпалам резво, как и положено идти с работы лагернику, вызывая неудовольствие конвоира только дурацким своим пением. Пел он всегда одно и то же, с ужасными нищенскими завываниями, от которых Руслану тоже хотелось завыть.
Ещё слава Богу, он прекращал свои вопли на улицах; перед чужими Руслан, право, умер бы от стыда.
Планки уносились в сарайчик; там Потёртый, мурлыкая себе под нос, пилил их, вжикал рубанком, выносил их одну за другой на свет и наконец тащил в дом — совсем тоненькие, но посветлевшие и даже приятно пахнущие. Руслан входил за ним по праву конвоира, растягивался у двери и лежал неслышно, так что о нём забывали. То, что сооружалось в тёти-Стюриной комнате, занимавшее почти всю стену, походило, с точки зрения Руслана, попросту на огромный ящик — Потёртый его называл «шкап-сервант трехстворчатый». Сидя на табурете, он прикладывал новые планки к тем, что уже стояли на месте, менял их так и сяк, спрашивал тётю Стюру, нравится ли ей. Тётя Стюра стелила скатерть на стол и отвечала, коротко взглянув или не глядя вовсе:
— Да хорошо, чего уж там…
— Всё тебе «хорошо», — возмущался Потёртый. — Тебе лишь бы куда барахло уместилось. А не видишь — доска кверху ногами стоит, разве это дело?
— Как это «кверху ногами»?
— А по текстуре не видно, что комель — вверху? Может дерево расти комлем кверху?
Тётя Стюра приглядывалась, супя белесые бровки, как будто соглашалась и всё-таки возражала:
— То — дерево. А доске-то — не всё равно, как стоять? И этим давала повод для новых его возмущений:
— Тебе-то всё равно, а ей — нет. Она же помнит, как она росла, — значит, с тоски усохнет, вся панель наперекосяк пойдёт.
— Ну, надо же! — изумлялась тётя Стюра. — Помнит!.. И он торжествовал, ставя планку, как надо, и доказывал тёте Стюре, что вот теперь-то «совсем другой коленкор», и много ещё слов должно было утечь, пока притёсывалась планка к месту, мазалась клеем, прижималась струбцинами:
— Вот погоди, Стюра, как до лака дойдёт — вот ты увидишь, краснодеревщик я или хрен собачий. Учти, я никакого тампона не признаю — только ладонью. Лак нужно своей кожей втирать, тогда будет — мёртво! Что ты! Я же до войны на весь Первомайский район был один, кто мог шкап русской крепостной работы сделать. Или — бюро с секретом. Вот это закончу — и тебе сделаю, будет у тебя бюро с секретом. Я же славился, Стюра! Две мебельные фабрики из-за меня передрались, чтоб я к ним пошёл опыт передавать молодёжи. Я посмотрел — так мне ж там руками и делать-то не хрена. Они же что делают? Сплошняк экономят, а рейку бросовую гонят с-под циркулярки, и клеят, и клеят, а стружку тоже прессуют. А я им только рисуночек дай, фанеровку подбери. Нет, не пошёл. Моя работа — другая. Мою работу, если хочешь знать, на выставке показывали народного ремесла, на международную чуть не послали, но — передумали, политика помешала. Так этот мой шкап, знаешь, где поставили? В райсовете, под портретом — ровненько — отца родного. Что ты! Почёт!
Вторая планка пригонялась ещё дольше, он её так и этак вертел и отставлял — для долгого перекура. Жадно затягиваясь, отчего ходил по небритой шее острый кадык, он сводил глаза на кончике потрескивающей папиросы, и лицо его вдруг теплело от улыбки.
— Одно жалею, — говорил он, — не я ему, живоглоту любимому, гроб делал.
— Да уж, — вздыхала тётя Стюра, нарезая хлеб, — ты б постарался!
— Уу! — гудел он с воодушевлением. — Ты представь: вот дали бы мне такое правительственное задание. Три полкаша у меня для снабжения или же — генерала. «Так и так, — говорю им, — чтоб к завтрему мне красного дерева выписали — в неограниченном количестве. Столько-то — гондурасского кедра. Н-да… Тика не забыть — тесинок восемь, а также и палисандры». А на крышку изнутри самшит бы я пустил. Или бы — кизил. Нет, лучше сандал, он пахнет, сволочь, вечное время не выдыхается. Даже балдеешь от него — без бутылки. Спи только, родной, не просыпайся! Самое тебе милое дело — спать. И народ тебя в спящем состоянии больше полюбит.
Он смотрел куда-то в неведомую даль, будто видел что-то сквозь стены, и улыбка понемногу делалась маской, которая никак не отклеивалась с побелевшего от злости лица.
— Ведь ты, отец любимый, такое учудил, что двум Гитлерам не снилось. И какие же огни тебя на том свете достанут! Хорошо ты устроился, отец, ловко удрал…
В голосе человека слышалась тоска, и Руслан её разделял по-своему: ведь он тоже скучал по прежней жизни, тоже в неё рвался. Но имел же он терпение ждать, не скулить так жалобно! Тёте Стюре и той не нравилось, как скулит Потёртый:
— Вот, до чего тебя глупые мечты доводят! Сколько ж про это говорить? Пустое всё, ничего не вернёшь. Дальше нужно как-то жить!
— А вот шкап соберу — всё забуду, как отрежу.
— Да ты жизнь свою как-нибудь собери, нужен мне твой шкап! Ходишь, шатаешься. Или нарочно себя жгёшь? Столько лет в рот не брал, а тут — закеросинил.
— А это во мне, Стюра, дефициту накопилось.
— Уезжай-ка ты лучше отсюда, от дефицита этого. Думаешь, держусь я за тебя? Да я тебе денег достану, поезжай в свой Октябрьский район, там-то, может, скорей очнёшься.
— Не Октябрьский, тёть Стюра, Первомайский. Да как же я от работы своей уеду?
— Ну, подрядился — так уж докончи, ладно.
— Да не в том дело, что подрядился. Мне надо хоть одну вещь, но сделать. Хоть почувствовать — не разучился. И вот ты говоришь: поезжай. А кто меня там ждёт?
— Ты ж говорил — жена была, дети…
— Ну-ну, ещё племяшей прибавь, кумовьёв. А посчитай, сколько годков минуло. Меня-то ещё на финскую призвали, да к шапочному разбору; то б демобилизовали, а так ещё трубить оставили. Ну, теперь эта. Отечественная, да плен, да за него ещё другой плен — вон меня сколько не было! А они под оккупацией находились, и кто там живой остался — поди узнай. И на кой я ему — с амнистией! Разбираться ему некогда, за что попал. Все по одному делу попадают — за глупость. Был бы умный — как-нибудь уберёгся. Их-то из-за меня почему тягать должны? Это одно дело, а другое — он меня за живого-то уже не считал. В душе-то он со мной простился. Помню я, с соседом мы в пересылке встретились, на одной улице когда-то жили. «Батюшки, — он мне говорит, — да ты живой! А я тебя который год в усопших числю». Ведь за всех за нас по домам, по церквам свечки ставили, как же это мы теперь вернёмся? Кто нам, не подохшим, рад будет? Ведь они грех совершили — по живому свечка!
— Ну, а в другой какой район? — спрашивала тётя Стюра, стягивая плечи платком. — Не обязательно в Первомайский…
— Да в какой же ещё другой, Стюра? А я где живу? Я же в другом и живу!
Покачав головою, она уходила в кухоньку. Он провожал её загоревшимся взглядом, поворачиваясь с табуретом вместе. Там она гремела посудой, с грохотом лазила в подпол и возвращалась с тарелкой помидоров и грибов, переложенных смородиновыми листьями, а в середину стола ставила запотевшую бутылку. Потёртый зябко вздрагивал, уводил в сторону масляно заблестевшие глаза, а бутылка всё рано была центром притяжения, главной теперь вещью в комнате.
Эта мерзость, как уже знал Руслан, называлась ласково «водочкой», она же была «зараза проклятая, кто её только выдумал», — и понять он не мог, нравится ли её пить Потёртому. По вечерам он к ней устремлялся всем сердцем, утрами — страдал и ненавидел её. Не в первый раз Руслан наблюдал, как эти двуногие делают то, что им не нравится, и вовсе не из-под палки, — чего ни один зверь не стал бы делать. И недаром же в иерархии Руслана вслед за хозяевами, всегда знавшими, что хорошо, а что плохо, сразу шли собаки, а лагерники — только потом. Хотя и двуногие, они всё-таки не совсем были люди. Никто из них, например, не смел приказывать собаке, а в то же время собака отчасти руководила их действиями, — да и что путного могли они приказать? Ведь они совсем были не умны; всё им казалось, что где-то за лесами, далеко от лагеря, есть какая-то лучшая жизнь, — уж этой-то глупости ни одна лагерная собака вообразить себе не могла! И чтобы убедиться в своей глупости, они месяцами где-то блуждали, подыхали с голоду, вместо того, чтобы есть своё любимое кушанье — баланду, из-за миски которой они готовы были глотки друг другу порвать, а возвратясь с повинными головами, всё-таки замышляли новые побеги. Бедные, помрачённые разумом! Нигде, нигде они себя не чувствовали хорошо.
Вот и здесь — разве нашёл свою лучшую жизнь Потёртый? Уж что там его держало около тёти Стюры, об этом Руслан преотлично знал, — да то же, что и у него самого бывало с «невестами». Право, это не самое скверное в жизни, но этим двоим не было друг от друга радости. Иначе зачем бы им тосковать, живя под одним кровом, зачем спорить столько, иной раз до крика? Потёртый и здесь оставался истым лагерником — делал не то, что хотелось бы ему делать, делала то же и его «невеста», и Руслан твёрдо знал: когда придёт время их разлучить и увести Потёртого туда, где только и может он обрести покой, то он, Руслан, не испытает ни жалости, ни сомнений.
Сев за стол, тётя Стюра приглашала обоих своих «жильцов» — один отказывался, не взглянув на поставленную около него миску, другому хотелось ещё поработать. Но вся его работа в том состояла, что он ещё разок прикладывал оставшиеся планки и, отложив их, сидел, курил, намеренно оттягивая блаженное свидание с бутылкой. Что-то уже изменилось в нём причудливо: на лице сияла беспричинная ленивая доброта, а в душе чувствовался нервозный позыв двигаться, говорить без конца.
— Так-то, Стюра дорогая, с финской, значит, войны… Н-да. Ну, то, правда, не война была, а «кампания». Точно, «кампания с белофиннами». Ах, тит его мать, гениальный всё ж был душегуб! Как он их по-боевому назвал — «белофинны». Кто их разберёт, захватчики они, не захватчики, а белофинны — это ясно: белые, значит, а белых не забыли ещё, так винтовка легко в руку идёт. А так-то — финны они, финляндцы. Н-да, ну победили мы их… Ну, как победили? Сами рады были, что они нам мир предложили. А они-то всё-таки умные, они ж понимали, что мы же все наши головы положим за правое дело и за отца любимого всех народов, — зачем это им? Лучше же миром людей сохранить, а территории всё равно мало будет, всем её мало. И в Отечественную они тоже умно поступили: своё оттяпали до бывшей границы, а дальше не пошли, сколько им Гитлер ни приказывал. Вот бывают же умные народы! Нам бы у них ума поднабраться, у белофиннов этих, — то есть я «финны» хотел сказать, «финляндцы».
— Вишь ты, куда тебя уносит, — говорила строго тётя Стюра. — Тебя не сажать, тебе язык обрезать — и ходи ла-лакай.
— А я, Стюра, не за ла-ла сидел. Я — шпион, я руки перед ненавистным врагом поднял. Так руки и секи, а язык при чём?
— Как это ты за народ судишь — кто умный, кто нет?
— А так и сужу, милая. — И в его голосе вскипали раздражение и злоба.
— Тот человек неумный, кто хочет, чтоб все жили, как он живёт. И тот народ неумный. И счастья ему не видать никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему счастливо живётся.
Тётя Стюра, прикусив губу, кидала искоса пугливый взгляд на Руслана. И он отводил в сторону мерцающие глаза или закрывал их, притворяясь спящим.
— Счастья злым не бывает, — говорила она. — А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?
— И этого хватает, Стюра. Мы ж недаром народ суровый считаемся. Но то ещё полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь — какая-нибудь финтифля юбку задерёт повыше твоего понимания или же грудя выкатит на огневую позицию, ведь ты ж мимо не пройдёшь. Твоя бы сила — ты б её со свету сжила.
— Господи, да пускай хоть голая ходит! А только я на это смотреть не обязана.
— А вот ей так нравится!
— Мало ли чего ей нравится. Ещё другим должно нравиться. Люди ж не дураки, думали всё-таки — как прилично.
— Вот! — Он торжествующе поднимал палец. — Хоть всю политику на вас изучай, на бабах. Эх, Стюра! Всё же не зря я через это всё прошёл. Каких я людей повидал, ты не поверишь. Какого ума люди, образования, видели сколько! Я бы так серым валенком и остался, когда б не они. Вот, помню, два года у меня с немецким товарищем общая вагонка была. Он, значит, внизу, а я — наверху.
— Ну, знаю вагонку.
— Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист-раскоммунист, но нацию-то не переделаешь, и вот что заметил я: обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному, что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А, поди-ка, наш заведёт — где побывал да что видел, то главное у него выходит, что вот там-то комсомол организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте — дела неважней, марксистская учёба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведётся. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что всё кругом по-нашему, ну как в родном Саратове. А спросишь, что же там ещё интересного, — зыркнет на тебя с таким это удивлением:
«Простите, если это вам не интересно, что же вам вообще тогда интересно?» Видишь, как!
Она слушала, подперев кулаком щёку, нахмурив белое большое лицо, и вдруг спохватывалась:
— Ну, ты сядешь? Или так всё будешь ла-ла?
Он придвигался к столу и тянулся быстрой рукой к бутылке. Заставляя себя не спешить, наливал тёте Стюре — до черты, которую она показывала пальцем, и почти полный стакан — себе.
— Много наливаешь, — говорила она, — для первого-то разу.
— А это смотря за что пить. За Большой Звонок первый глоточек. Я-то своего маленького звонка дождался, а Большой — он впереди ещё. Это когда все ворота откроются, и скажут всем: «Выходи, народ! Можно — без конвоя». Ну, прощай, Стюра.
Крупно вздрогнув, он опрокидывал весь стакан сразу, а потом дышал в потолок, моргая заслезившимися глазами, точно в темя ударенный. Отдышавшись, тыкал вилкой в тарелку, но тут же бросал вилку и торопился опять налить. Тётя Стюра накрывала свой стакан ладонью, но он говорил: «Пускай постоит», — и она убирала ладонь.
Нетерпение его проходило, он делался расслабленно весел и лукав, и в их разговор вплеталась какая-то игра.
— Стюра! А, Стюра? — спрашивал он. — Это что ж за имечко у тебя такое? Никогда не слыхал.
— А вот женись, — отвечала она, — в загс меня своди — в тот же час и узнаешь. Всю меня полностью к тебе впишут.[1]
— Всю тебя полностью, Стюра, и в шкап не поместишь, такая ты у нас больша-ая!
Она притворно обижалась, фыркала, но скоро оказывалась у него на коленях, и продолжалась их игра уже с участием рук.
— Стюра, а этот-то, наш-то, гражданин начальничек, он как — ничего был мужчина?
— Дался тебе начальничек! Обыкновенный, как все.
— У, как все! Ты всех, что ли, тут привечала? Так знала бы, что все по-разному. Это вы все одинаковые.
— Тебе, во всяком случае, не уступит.
— Врёшь. Это ты врёшь. «Не уступит!» Он выдающаяся личность, скала-человек, орёл! Клещ, одним словом. Как вопьётся, так либо его с мясом отдерёшь, либо он тебе голову на память оставит. Я так думаю, хорошо он тебя пошабрил!
— Иди к чертям! Прямо уж, пошабрил… Одна видимость, что военный.
— А по сути — нестроевой? Ну, это ты приятное мне говоришь. За это ещё полагается по глоточку.
Руслан поднимался и, лбом распахнув дверь, выходил на двор.
День только успевал догореть, но Руслан уже знал наверняка, что до позднего утра подконвойный никуда не денется, эта «зараза проклятая» удержит его в доме надёжнее всякого караула. Привыкший ценить время, когда он бывал свободен, предоставлен себе, Руслан не мог нарадоваться его обилию. Покуда опять порозовеет небо и мир сделается цветным, можно и выспаться всласть, и поохотиться, и сбегать посмотреть, что делается на платформе, и навестить кое-кого из товарищей. Вот только б дожить до утра с пустым брюхом, в котором, казалось, гуляет ветер и плещется горячее озеро. Он знал, что в тепле его совсем развезёт, и нарочно охлаждал брюхо снегом, растягиваясь на улице перед воротами. Здесь был его всегдашний пост — и очень удобный. Отсюда он прозревал улицу в обе стороны, а сквозь проём калитки, никогда не закрывавшейся на ночь, мог видеть крыльцо. А в любимый час на покосившемся столбе загорался фонарь и бросал на весь пост и на Руслана конус жёлтого света. Этот свет согревал душу Руслана, он так живо ему напоминал зону, караульные бдения с хозяином, когда они вдвоём обходили контрольную полосу или стояли на часах у склада; им было холодно и одиноко, обставшая их стеною тьма чернела непроницаемо и зловеще, и по эту сторону были свет и правда, и взаимная любовь, а по ту — весь нехороший мир с его обманами, кознями и напастями.
Сюда, под конус, к нему выходил Трезорка и укладывался чуть поодаль, но с каждым днём всё ближе. Своих приятелей он уже, разумеется, оповестил насчёт Руслана, и на второй же вечер они явились знакомиться. Пришёл худющий Полкан — с ошпаренным боком и печатью недоумения на морде, с сединою в козлиной бороде, постоянно кивающий, точно всё время с кем-то соглашался. Пришёл мучительно умный Дружок, с загадочным прищуром, будто знающий какую-то тайну, а на самом деле весьма недалёкий и не помнящий родства, в других дворах отзывавшийся на Кабысдоха. Пришёл элегантный и нервный Бутон, ужасно гордый своими шароварами и таким же вовсю распушённым, в колечко закрученным хвостом. Знакомство вышло одностороннее — Руслан их не удостоил ни одним движением, ни взглядом, высясь над ними равнодушной каменной глыбой, но и это Трезорка себе обратил на пользу. Он лежал и помалкивал, приняв ту же позу, что и Руслан, и с таким же независимым выражением на морде. Приятели жестоко позавидовали и удалились в смятении.
А то прибегали совсем уже задрипанные сучонки — какие-то Милки, Чернухи, Ремзочки, одна так и вовсе без имени, — располагались полукругом и смотрели на Руслана с обожанием. В их порочных глазах так откровенно читалось: «Ах, какой красивый! Какой большой, длинноногий. Ну, обрати же внимание, военный!..» Со своими страстями они обращались не по адресу, в их плоские головки не приходило, что он находится на службе, и то, чего бы им хотелось с ним, он привык исполнять, как долгие поколения его предков: будет команда, возьмут на поводок, укажут — с кем. Когда их присутствие надоедало ему, он лишь привздергивал черно-лиловые губы и обнажал клыки — всех их как ветром сдувало, а Трезорка тотчас же находил себе дело во дворе.
Никто из своих собак не приходил проведать Руслана, а новых знакомств он избегал, превыше всего ценя одиночество. В эти часы, глядя в надвигающуюся ночь, он по давней лагерной привычке переживал ещё раз день прожитый и готовился к новому дню. Он тревожил и напрягал память — не перестал ли он помнить всё, чему его учили, не растерял ли все уроки, что достались ему жестоким опытом и за которые, в случае потери, мог он слишком дорого заплатить.
…Вот он опять приближается, Неизвестный в сером балахоне, воняющий бараком. Он подходит со стороны солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползёт к твоим лапам. Будь настороже и не тени бойся, а его руки, спрятанной в толстом рукаве. Рукав завернётся — и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом — она открыта и пуста. Он только хочет тебя погладить — нельзя же во всем подозревать одни каверзы! Тёплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновения ласковы и бережны, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты вскидываешь голову — ответить высшим доверием: подержать эту руку в клыках, чуть-чуть её прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она, — а рука убегает, вонзив в ухо иглу.
А ты и не видел её, спрятанную между пальцами. Учись видеть.
Вот опять — стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И — какая боль! А самое скверное, что придётся признаться в своей глупости: вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться — ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться, что ни сделаешь, всё только больнее. Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, так начавшийся славно. Но вот и хозяин — ах, он всегда приходит вовремя и всё-всё понимает. Он тебя нисколечки не наказывает, хотя ты это несомненно заслужил. Он куда-то ведёт тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь, и там быстро выдёргивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг — и всё кончено. Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же всё-таки умником, подумай: неужели и в следующий раз не постараешься рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс: никому не верь — и никто тебя не обманет?
Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию — Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел, вместе с их балахонами. Несколько раз бывало, что он переставал понимать, что к чему, — и ему одному это сходило. Ничего не соображая, он впятеро, вдесятеро форсировал злобу, на нём чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разило псиной. Вот что он отлично усвоил: перестараешься — сойдёт, хуже — недостараться.
— Всем вам учиться у него, учиться и ещё раз учиться, — говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею, и молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти. — Этому псу ещё б две извилины в башке — цены б ему не было!
Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя: если он так и будет никого к себе не подпускать, так ведь он никого и не покусает! И однажды он усложнил номер, он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика ещё не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами, и даже хозяева кинулись его выручать: они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить, — ничто не помогало, Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут с чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин; Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтоб тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мёртвой хватки, он уже при всём желании не мог разжать челюсти, он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец то, что было раньше рукою, лагерник уже и встать не мог, хозяевам пришлось его прямо-таки утаскивать с площадки.
Своё подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить: с этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз всё сошло, только славы прибавилось. И то правда — у кого бы ещё учиться молодёжи! С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего — ведь он уже не причинит им вреда — и какое тут, собственно, удовольствие. Джульбарс рассеивал все их сомнения; хрипло пролаяв:
«Делай, как я!», он догонял бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трёпку, что и самые бестолковые прозревали, в чём смысл жизни.
Руслан этого смысла долго не мог постичь, его пришлось дразнить помногу и терпеливо: дёргать во время кормёжки за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то ещё — посаженного на цепь, обливать водою и убегать после этого с диким хохотом.
Особенно же неприятные были занятия по воспитанию «небоязни выстрелов и ударов». Рождённый ровным счётом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны палили ему в морду из большого пистолета и колошматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже притерпелся, но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать — всё это он проделывал без охоты.
— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор, и его слова обидно пощипывали Руслана в сердце. — А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьёзнее, он вам не верит.
Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалясь, делал ужасающий замах.
— А ну, куси меня! Куси как следует!
Но хватать инструктора за голую кисть ещё меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтоб даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление, — одно его присутствие скрашивало все тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от неё пахло каким-то зверьём, что хотелось её немедленно разорвать в клочки и унести их на память. Нравились его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и востренькое личико, на которое можно было только в профиль смотреть, — и в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду поспевал, каждой собаке умел всё так толково объяснить, что она его тут же понимала — лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается; ещё немножко — и они поймут, о чём он лает. И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и мало что выражающую, и предпочитает ещё ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырёх.
Но, впрочем, инструктор уже делал к этому попытки, и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки пленял собак — инструктор его применял не часто, но уж когда применял, то всё занятие было — праздник!
— Внимание! — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга. — Показываю!
И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору всё же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал:
«Не считается, показываю ещё раз!» — и с коротким лаем снова кидался в атаку — до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне.
Иной раз собаки даже шли на хитрость: кто-нибудь притворялся непонимающим, — только б ещё разик насладиться работой инструктора, услышать его «Внимание, показываю!» А как резво бегал он по бревну, — куда лучше, чем на двоих! — каким делался при этом изящным, поджарым, как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок, как ловко он перемахивал через канаву или барьер или взбегал единым духом по лестнице, а будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только лёгкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение — инструктор брал вкуску зубами, не вставая с четырёх, и так смачно её съедал! Собаки сглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу.
Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил, — сделать лёгкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными Джульбарсовыми зубами:
— Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее… Хозяева не могли в это поверить, им казалось, что инструктор должен бы остаться без пальцев.
— Никогда! — он им отвечал. — Никогда собака не укусит того, кто её безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог, на такое извращение способен только человек. А про Джульбарса он сказал:
— Он не зверюга. Он просто травмирован службой. Инструктор любил собак всем сердцем — и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им досталась такая тяжёлая служба. Но насчёт Джульбарса собаки были другого мнения. Ему небось и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки.
А вот что инструктор сказал однажды Руслану — с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе:
— Этот случай мне знаком. В чём несчастье этого пса, я знаю. Он считает, что служба всегда права. Это нельзя, Руслан, пойми — если хочешь выжить. Ты слишком серьёзен. Смотри на всё как на игру.
Руслана инструктор тоже ценил высоко — хоть тот и не проявлял должной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса, а одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных, — «выборка из толпы».
Эту работу — нелёгкую, но чистую, вдумчивую и не слишком шумную — Руслан больше всего полюбил. И надо же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него — как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его отличали — и может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали — это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка достаточно было Руслану, чтобы он привыкал таких людей считать особыми. А однажды, морозным утром, когда они с хозяином намёрзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога, сняв шапку, он курил и беседовал — да с кем ещё! — с самим Главным хозяином. «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» был чем-то недоволен и выговаривал ему резко, а тот лишь твердил:
— Гражданин капитан, но вы же и в моё положение войдите. Понимаете? Вы войдите в моё положение.
Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите-В-Моё-Положение» ушёл тогда очень расстроенный, тревожно озираясь, а день или два спустя собак привели поглядеть на него — лежащего неподалёку от караулки с железным тросом на шее. Живой, он отчего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал: глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую — откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука, и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой.
Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, обнюхивали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и клочьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф, — и нанюхивались одной махорки, после неё вся работа была уже бесполезна. Он начал — с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтоб убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кисти. Они смёрзлись и стали мутными, как брызги извёстки, но если их чуть отогреть дыханием…
Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположения, кто бы это мог сделать; у каждого были свои счёты с лагерниками и свои догадки, близко сходившиеся со счётами, а главное, что занимало их, — сколько же было участников? Трое? Четверо? И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтоб её сразу увидели и почуяли, а не заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры — Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли, он же не размышлял вовсе, не имел ни счётов, ни догадок, а просто увидел, как всё происходило, — как видится галлюцинация или связный цветной сон, — и услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы.
«Войдите-В-Моё-Положение» шёл в синих сумерках из караулки, — да, именно оттуда, и там ему дали покурить хозяйских папирос, — и, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен, он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого силка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжёлый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите-В-Моё-Положение» и повернулся — конец троса лёг на плечо убийце, он его держал обеими руками и, навалясь всем телом, сделал всего полшага. И петля затянулась; убийца почувствовал, как дёргается трос, — это руки жертвы пытались разжать петлю, со всей силой, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды глотнуть воздуха, — тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он лягнул её наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И ещё целую вечность он стоял, изнемогая, будучи один и палачом, и виселицей, а «Войдите-В-Моё-Положение» хрипел и дёргался у него за спиной, все хватаясь безнадёжно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата — слабая, беспомощная хватка уже вспотевшей руки, убийца этого и не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удавленника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что всё сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, в смёрзшихся капельках: и тысячу раз утёртые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынущие ночами под жиденьким одеялом, — и какая удача, что руку завернуло судорогой за спину, и она оказалась внизу, под телом. Что ж, можно считать — концы найдены. Руслан быстро отошёл и ткнулся лбом в колени хозяину — это значило: «Я не обещаю, но я постараюсь. Веди меня скорей».
А выборка оказалась на удивление лёгкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы её без напряжения — наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, согнанной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад — и оставила одного, в чёрном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике:
— Собаку не надо! И так всё скажу. Ну, не пускайте же зверя!..
И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата — где хваталась рука убитого — и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение — из рук самого Главного — и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы.
Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен, и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетавшиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю дорогу человек шёл спокойно и не спеша, нёс лопату на плече или волочил за собою, чертя по снегу зигзаги, временами насвистывал. Сам заворожённый этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег, и так же молча они свернули с просеки и пришли тропинкой к чёрной, выжженной костром поляне. В середине её зияла яма — неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом, с крохотными шрамчиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма, он ступил в неё ногою, и там ему оказалось по колено, он даже сплюнул в неё от злости.
— Я один за всех на это дело пошёл, — сказал он хозяину, — могли бы и все одного уважить.
— Чем тебя не уважили? — спросил хозяин.
— Понимаешь, черви — они всем полагаются, ты тоже с ними в свой час познакомишься, но чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было — насчёт волков.
Хозяину очень хотелось покурить, он доставал портсигар и снова его прятал в карман белого своего полушубка — ещё больше ему хотелось, чтоб всё побыстрее кончилось.
— Значит, к своей же бригаде у тя претензии? — сказал хозяин. — Приговор-то чо обсуждать?
Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи.
— На! Потом хоть притопчешь как следует. Ни к кому у меня претензий нет, ради жмурика и я б не уродовался. Бушлат мой — может, снесёшь им? Пускай разыграют. Снять — чтоб тебе не трудиться?
Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.
— Что же не отвечаешь? — спросил человек. — Или совсем уже я безгласный?
Всё длилось мучительно долго. Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, чтоб не завыть. И что-то ещё случилось у хозяина с автоматом, он никак не мог дослать затвор, и человек этот так надеялся, что у него сегодня и не получится. Но хозяин сказал: «Ща исправим, не бойся» — и вправду исправил. Он выбросил смятый патрон, затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до них на четвереньках и прижался так сильно, что, когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались чёрные пятнышки. Он улыбался бледной заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко-приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне и теперь хозяин может его отпустить; он уползёт в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось, и только одного человека в мире — хозяина — он будет считать братом своим, молиться за него и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих не родившихся детей. Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова, — страстное обещание любви, её последнюю истину, её слёзы и толчки крови в висках, — и чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку; он верил его лицу с запавшими горящими глазами; ничуть не помрачённый разум горел в них, не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольно всему живому на свете.
— Ну, ты чо, маленький? Не слышишь, чо лепечешь? — уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не опасаясь, что тот рванёт его за ноги или выхватит автомат, он знал, как слаб против него любой из лагерников и как быстро кидается Руслан на помощь. Если б знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться! — Ты походишь и объявисси, а мне тогда с тобой на пару — стенка. Потому что куда тебе деться? Листиками будешь питаться, ящериц жрать, а после за людей примешься. Чо, не правду я говорю? Не ты ж первый… Так что считай — дело кончено. И давай вставай, себя же не мучай мечтами. Не бойсь, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойся, договорились же — больно не сделаю.
Он встал, этот человек, и крепко отёр лицо рукавом.
— Делай, как умеешь. Шакальей жизни — и то ты мне пожалел. Вспомнишь ещё не раз…
— Знаю, — сказал хозяин. — Всё, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился ещё?
Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника, всё хотелось ему вернуться и разгрести лапой мёрзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вёл он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводком. Может быть, с этого дня хозяин и невзлюбил его.
Те мёрзлые комья остались в душе Руслана, отягчив её страхом и чувством вины, — будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, а лишь притворяется, — а такую собаку можно без промедления отвести за проволоку, потому что она в любую минуту может подвести, сделает что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом ни водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошёл все науки, для которых и рождается собака; он прошёл общую дрессировку — всю эту нехитрую премудрость: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», — блестяще себя показал в розыске и в караульной службе, но когда подвинулся к высшей ступени — конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на всё одна команда: «Охраняй!», — а там как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая — люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. «Ничо, — сказал тогда хозяин. — Обвыкнется. Не сорвётся». А сколькие срывались! Скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то если собака была молода и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя — один был путь: за проволоку.
Всех обманул Ингус. Он казался таким способным, всё схватывал на лету. Он покорил инструктора в первое же своё появление на площадке. Инструктор только успел сказать:
— Так. Будем отрабатывать команду «Ко мне». Ингус тотчас же встал и подошёл к нему. Инструктор пришёл в восторг, но попросил всё повторить сначала. Ингус вернулся на место и по команде опять подошёл.
— Чудненько! — сказал инструктор. — А как насчёт «Сидеть»?
Ингус сел, хотя ему даже не надавливали на спину.
— Встанем.
Ингус встал. А инструктор присел перед ним на корточки.
— Дай лапу.
Ингус её тотчас подал.
— Не ту, кто же левую подаёт?
Ингус извинился хвостом и переменил лапу. С тех пор он подавал только правую.
— Не может быть, — сказал инструктор. — Таких собак не бывает.
Он взял учётную карточку Ингуса, чтобы убедиться, что тот ещё не проходил дрессировки и знает только свою кличку и команду «Место!».
— Так я и думал, — сказал инструктор. — У него, конечно, исключительная анкета. На редкость удачная вязка! Какие производители! Я же помню Рема — редчайшего ума кобель. И матушка — Найда, ну как же, четырежды медалистка. Её воспитывал сам Акрам Юсупов, большой знаток, кого с кем повязать. А сынишку он, видно, для Карацупы готовил, отсюда и кличка. И всё-таки я говорю: «Не может быть!»
Он созвал хозяев подивиться необыкновенным способностям Ингуса. Он спросил у них, видели ли они что-нибудь подобное. Хозяева ничего подобного не видели. Он спросил, не кажется ли им, что под собачьей шкурой скрывается человек. Хозяевам этого не показалось. Человек в любой шкуре от них бы не укрылся.
— Что я хочу сказать? — сказал инструктор. — Если б такая собака была на самом деле, я бы здесь уже не работал. Я бы с нею объездил весь мир. И все поразились бы, каких успехов достигло наше, советское собаководство, наши гуманные, прогрессивные методы. Потому что такие собаки могут быть только в нашей стране!
Ингус внимательно слушал, склонив голову набок, как ему и полагалось по возрасту, но глаза были недетски серьёзны. И уже тогда, в первый день, заметили в этих янтарных глазах тоску.
Он рос, и росла его слава. С лёгкостью необычайной переходил он от одной ступени к другой — да не переходил, а перепрыгивал. Сухощавый, изящный и грациозный, он стрелою мчался по буму, играючи одолевал барьеры и лестницу, с первого раза прыгнул в «горящее окно» — стальную раму, политую бензином и подожжённую, в розыске показал отличное верхнее и нижнее чутьё. («Верхнее чутьё» — способность улавливать запахи в воздухе, «нижнее» — читать следы на земле.) Оправдал себя и в карауле, хотя хорошей злобности не выказал, а скорее какую-то неловкость и смущение за дураков в серых балахонах, пытавшихся стащить у него мешок с тряпками, порученный ему для охраны. В гробу он видел и этот мешок, и эти тряпки, но ни разу не отвлекли его, не смогли подойти незаметно или проползти на животе за кустами, чтобы напасть со спины. Он показывал, что видит все их проделки, и самим балахонам делалось неловко, когда с такой грустью смотрели на них эти янтарные глаза.
Джульбарс тогда обеспокоился не на шутку. Законный отличник по своим предметам — злобе и недоверию, он, однако, лез быть первым во всём, хотя чутьецо имел средненькое, а по части выборки был совершенная бестолочь: когда его подводили к задержанным, он до того переполнялся злобой, что запахов уже не различал, хватал того, кто поближе. Но он считал, что если собака не постоит за себя в драке, то все её способности ничего не стоят, и всем новичкам, входившим в моду, предлагал погрызться. Не избежал его вызова и Руслан — и испытал натиск этой широкой груди и бьющей, как бревно, башки. Дважды он побывал на земле, но покусать себя всё же не дал, а зато у Джульбарса ещё прибавилось отметин на морде, к чему он, впрочем, отнёсся добродушно, даже покачал хвостом, поощряя молодого бойца. С Ингусом всё вышло иначе: он просто отвернулся, подставив для укуса тонкую шею, и при этом ещё улыбался насмешливо, показывая, что не видит смысла в этих солдатских забавах. Старый бандит, конечно, впился в него сглупа и уже было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает правило хорошей грызни: «Кусай, но не до смерти», — и отступил, не дожидаясь трёпки от всех собак сразу.
Джульбарс, однако, скоро утешился. Он увидел — а другие собаки это и раньше видели, — что первенствовать Ингусу не дано. Не рождён он был отличником — во всём, что так легко делал. Не чувствовалось в нём настоящего рвения, жажды выдвинуться, зато видна была скука, неизъяснимая печаль в глазах, а голову что-то совсем постороннее занимало, ему одному ведомое. И скоро ещё заметили: он мог десять раз выполнить команду без заминки, и всё же хозяин Ингуса никогда не мог быть уверен, что он её выполнит в одиннадцатый. Он отказывался начисто, сколько ни кричали на него, сколько ни били, и отчего это с ним происходило, никто понять не мог. Вдруг точно столбняк на него нападал, он ничего не видел и не слышал, и только инструктору удавалось вывести его из этого состояния.
Инструктор подходил и садился перед ним на корточки.
— Что с тобой, милый?
Ингус закрывал глаза и отчего-то мелко дрожал и поскуливал.
— Не переутомляйте его, — говорил инструктор хозяевам. — Это редкий случай, но это бывает. Он всё это знал ещё до рождения, у мамаши в животе. Теперь ему просто скучно, он может даже умереть от тоски. Пусть отдохнёт. Гуляй, Ингус, гуляй.
И один Ингус разгуливал по площадке, когда все собаки тренировались до одури. К чему это приведёт, заранее можно было догадаться. Однажды он просто удрал с площадки. Удрал вовсе из зоны.
Он должен был пройти полосу препятствий вместе с хозяином, но без поводка. И вот они вдвоём пробежали по буму, перемахнули канаву и барьер, прорвались в «горящее окно», а напоследок им надо было проползти под рядами колючки, натянутой на колышки, но туда полез только хозяин Ингуса, а сам Ингус помчался дальше, перепрыгнул каменный забор и понёсся широкими прыжками по пустынному плацу. Его не остановила даже проволока, — ну, под проволокой собаке нетрудно пролезть, но как преодолел он невидимое «Фу!», стоящее перед нею в десяти шагах и плотное, как стекло, о которое бьётся залетевшая в помещение птица? И куда смотрел пулемётчик на вышке, обязанный во всё живое стрелять, нарушающее Закон проволоки!
Когда сообразили погнаться за Ингусом, он уже пересёк поле и скрылся в лесу. Он мог бы и совсем уйти — бегал он быстрее всех и ему не нужно было тащить на поводке хозяина, но проклятая мечтательность и тут его подвела. Что же он делал там, в лесу, когда его настигли? Устроил, видите ли, «повалясики» в траве, нюхал цветы, разглядывал какую-то козявку, ползущую вверх по стеблю, и, как заворожённый, тоскующими глазами провожал её полет. Он даже не заметил, как его окружили с криками и лаем, как защёлкнули карабин на ошейнике, и только когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него — с удивлением и жалостью.
Когда пришло время допустить Ингуса к колонне, тут были большие сомнения. Инструктор не хотел отпускать его от себя, он говорил, что у Ингуса ещё не окрепли клыки и что лучше бы его оставить на площадке — показывать работу новичкам. Но Главный-то видел, что с ватным «Иван Иванычем» Ингус расправляется других не хуже, а насчёт показа, сказал Главный, так это инструктор и сам умеет, за это ему и жалованье идёт, а кормить внештатную единицу — на это фонды не отпущены. И сам Главный решил проэкзаменовать Ингуса. Все волновались, и больше всех инструктор, он очень гордился своим любимцем и всё же хотел, чтоб тот себя показал в полном блеске. И что-то с Ингусом сделалось — может быть, не хотелось ему огорчить инструктора, а может быть, снизошло великое вдохновение, оттого что все только на него и смотрели, но был он в тот день неповторим и прекрасен. Он конвоировал сразу троих задержанных; двое попытались бежать в разные стороны, и всех их он положил на землю, не дал даже головы поднять и не успокоился, пока не подоспела помощь и на всех троих защёлкнулись наручники. Целых пять минут он был хозяином положения. Главный сам следил по часам и сказал после этого инструктору:
— Вы ще в меня сомневаетесь! Работать ему пора, а не цветочки, понимаешь, нюхать.
Но когда допустили Ингуса к колонне, выяснилось, что работать он не хочет. Другим собакам приходилось работать за него. Колонна шла сама по себе, а он гарцевал себе поодаль, как на прогулке, не обращая внимания на явные нарушения. Лагерник мог на полшага высунуться из строя, мог убрать руки из-за спины и перемолвиться с соседом из другого ряда — как раз в эту минуту Ингуса что-нибудь отвлекало, и он отворачивался. Но ведь помнился хозяевам тот экзамен, похвала Главного! Оттого, наверно, и прощалось Ингусу такое, за что другой бы отведал хорошего поводка. И только собаки предчувствовали, что ему просто везёт отчаянно, а случись настоящее дело, настоящий побег — это последний день будет для Ингуса.
Так он и жил — с непонятной своей мечтой, или, как инструктор говорил, «поэзией безотчётных поступков», всякий день готовый отправиться к Рексу, а умер не за проволокой, а в лагере, у дверей барака. Умер зачинщиком собачьего бунта.
В цепкой памяти Руслана был, однако, свой порядок событий, своё прихотливое течение, иногда и попятное. Всё лучшее — отодвигалось подальше, к детству; там, в хранилище его души, в прохладном сумраке, складывались впрок сладкие мозговые косточки, к которым он мог вернуться в тягостные минуты. Все же обиды и огорчения, всё скверное — он тащил на себе, как приставшие репьи, которые нет-нет да стрекнут ещё свежим ядом. И вот выходило по хронологии Руслана, что та счастливая выборка, тот день его отличия, торжества — остались чуть не на заре его жизни, и там же лежал «Войдите-В-Моё-Положение», удавленный тросом, — к несчастному собачьему бунту, как будто вчера случившемуся, он уж поэтому не мог иметь отношения. Но когда потекли воспоминания о бунте, когда наполнились запахами, звуками, цветом, «Войдите-В-Моё-Положение» вошёл в них ещё живой, он вошёл в тёплую караулку, дыша себе на руки, и сообщил хозяевам что-то тревожное, от чего они тотчас побросали окурки и поднялись, разбирая автоматы и поводки.
Вскочили и собаки, разомлевшие в тепле, одуревшие от вони овчинных полушубков, и уже рвались с хрипом на двор, позабывши начисто, почему их в этот день не гоняли на службу. Боже, какой мороз схватил их за морды когтистой лапой! Он калёными иглами пронзил ноздри и вытек из глаз слепящей влагой; даже во лбу от него заломило, точно они в прорубь окунулись. И уж тут не помнилось, куда же он делся, «Войдите-В-Моё-Положение», тут хронология прощалась с ним навсегда, — то ли он остался в караулке, то ли это он, весь нахохленный, плечом отодвигал воротину и потом спрятался в будке у вахтёра, а может быть, он исчез возле самого барака, рассеялся в тумане, осыпался льдистыми искрами, и их замело позёмкой. Завидев барак, собаки опять стали рваться — там уж какая ни будет работа, а всё же тепло! — но Главный хозяин, который шёл впереди и тёр себе рукавицей багровое лицо, всех остановил у дверей. А сам, подкравшись, отворил их без скрипа и стал слушать, вздев одно ухо на ушанке.
Из тамбура потянуло теплом и привычным смрадом и послышался неясный гул — вот так собачник гудит, возмущённо и неразборчиво, когда запаздывает кормёжка. За тонкими вторыми дверьми что-то громадное ворочалось, стукалось глухо об пол или об стенки, исходило криками и причитаниями, быстрым запальчивым бормотанием. Похоже, происходила одна из тех свар, которые у людей невесть с чего начинаются, с полуслова, раздражённого спора, и неумолимо разрастаются в грызню, а потом так же быстро остывают, и все расходятся, но кто-нибудь, бывает, и остаётся лежать с прижатыми к животу руками, корчась в судороге, а то и вовсе не шевелясь.
Главный хозяин открыл и эти двери — пошире, точно в них должен был грузовик войти, — и стал на пороге, по пояс в морозном облаке.
— Сука, закрой, а то ушибу! — и вслед за этим хриплым воплем, долетевшим из тёмной глубины, что-то ещё прилетело тяжёлое и шмякнулось о косяк рядом с его ушанкой.
Главный хозяин спокойно выждал, когда утихнет.
— Так, — сказал он, покачиваясь, заложив руки за спину. — Так. Значит, судьбы родины обсуждаем?
Барак совсем замолк. Но тотчас же кто-то, поближе к дверям, отозвался с готовностью:
— Что вы, гражданин начальник. И думать себе не позволим! Мы только о том, что не возбраняется в свободное время.
— Ага… А то я иду мимо — шо-то, смотрю, в их жарко сегодня. Может, думаю, поработать надо дать людям. А то ж стомятся.
Барак опять отозвался — тем же голосом, с лёгким быстрым смешком:
— Работать — это мы всегда, с большой радостью. Только градусник, сука, ниже нормы упал.
— Вы вже поглядели. А я ще нет. Так мне сдаётся, шо вроде потеплело.
— Гражданин капитан! — он был неистощим, этот голос, и столько в нём было приветливости, вкрадчивого умиления. — За что мы вас так уважаем? За хороший, здоровый юмор. Зайдите, будьте добреньки, а я дверь закрою.
И неясная тень приблизилась к облаку, вошла в него. Но Главный её отстранил рукою.
— Так я ж разве против шуток? Я и дебаты, если хотите, признаю, когда культурно, выдержанно. Но только ж работа страдает, это ж нехорошо.
В тёмном нутре барака опять возникло гудение. И другой голос — хриплый, таящий в себе надреманное тепло и тоску расставания с ним, — спросил с унылой безнадёжностью:
— Стрелять будешь?
— Как это «стрелять»? — удивился Главный. — Шо в меня — восстание в зоне, шоб я стрелял? Нету ж восстания?
— Нету, — облегчённо, радостно выдохнул барак. — Нету!
— Видите? Так шо — зачем я буду стрелять? Лучше я каток вам тут залью.
— Какой каток?
— Обыкновенный. Вы шо, катка не видели? У кого коньки есть, тот покатается.
Робкая тень опять приблизилась, попыталась проскользнуть в двери и была отодвинута рукою Главного.
— Нет, это мне толку мало, шоб один вышел или десять. Мне — шоб все, дружно.
Барак только на миг затих, только чтоб успело прозвучать тоскливое, молящее:
— Братцы! Ну, выйдем. Сами ж виноваты… И тотчас опять заворочалось громадное, забилось в корчах, разразилось воплями:
— Ложись ты, сука, убью!..
— Закон есть!..
— Ниже нормы градусник!.. Не выгонишь!
— Ложись все!..
— Закон!..
Они не видели, что катушка с пожарным рукавом уже покатилась от водокачки. Двое хозяев толкали её, наваливаясь на лом, продетый в середине, и, не докатив немного до дверей, повалили её на снег. К ним ещё двое кинулись сбрасывать оставшиеся витки, а те ни секунды не ждали, схватили жёлтый сияющий наконечник и с ним побежали к дверям. Главный хозяин отошёл со скорбным лицом, грустно выдохнул пар изо рта и кому-то вдаль махнул рукавицей. И оттуда, куда махнул он, потёк еле слышный шорох, сплющенный рукав стал оживать, круглиться, из жёлтого наконечника выплюнулось влажно-свистящее шипение, и те двое пошатнулись в тамбуре. Толстая голубая струя ударила под потолок барака, опустилась ниже, снесла лежавшего на верхних нарах вместе с его пожитками, несколько робких теней, ринувшихся навстречу, отшибла вглубь. Двое хозяев, упираясь сапогами в скользкий порог, с трудом удерживали тяжёлый наконечник, струя металась из стороны в сторону и раздавала удары, гулкие, как удары дубинки. Над их головами потекло из барака белое облако, и вместе с надышанным теплом вылился не крик, не вопль, а протяжный прерывистый вздох, какой издаёт человек, перед тем как надолго погрузиться в воду.
Этим вздохом забило уши Руслану, и он уже почти не слышал, как брызнули стёкла в окошках и затрещали рамы, не понял, что за серая дымящаяся пена поползла из окон на снег, понял лишь, когда она стала распадаться на отдельных людей, пытавшихся подняться, в то время как сверху на них валились другие. Главный хозяин вытащил руку из-за спины и показал в их сторону, — струя, потрескивая, опустилась на них плавно изгибавшейся дугою, задержалась надолго и возвратилась в барак. Но те, выпавшие из окон, уже не пытались подняться, а только слабо шевелились на снегу, сами делаясь белыми прямо на глазах.
Руслан, не в силах устоять на месте, вертелся и взвизгивал, поджимая то одну, то другую лапу. Эти белые блёстки, покрывавшие их одежду кольчугой, он словно бы ощутил на своей шкуре, плотной и пушистой и всё же продуваемой ледяным ветром. И понемногу блёстки стали желтеть, что случалось с ним в минуты наивысшей злобы, и сквозь жёлтую пелену он только и видел отчётливо — толстый, шевелящийся на снегу рукав. Эта гадина подползала к его лапам, брызгаясь из своих мельчайших прорех, а в одном месте, переламываясь складкой, которую хозяева не успевали расправлять сапогами, приподнималась и зависала прямо перед носом у него, угрожая броситься, но сразу же опадая, как только Руслан подавался навстречу.
На его счастье, кто-то был моложе, нетерпеливее — и не выдержал первым. Руслан услышал его звенящее рычание, и по краю жёлтой пелены промелькнул он сам — тёмно-серый и тонкий, вытянутый в прыжке. Угрозу, предназначавшуюся Руслану, Ингус перехватил на лету, упал с закушенным рукавом и придавил лапами. Тот сразу стал вырываться, и это ещё придало Ингусу злости; он рвал своего врага с остервенелым урчанием, мотая головою, и из-под клыков его брызгало радужными искрами. Те двое хозяев, что держали наконечник, закричали и потащили рукав к себе, но вместе с Ингусом. А поводок тащил его назад, сдавливая тонкую шею, и у Ингуса помутились глаза, налились кровью, но он не отпустил взятое.
— Шо то с им? — спросил Главный хозяин. Он уже подходил не спеша, он надвигался — божество с голубыми страшными глазами, с гневным лицом, подпирая своей ушанкой голубой купол небес. А Ингус лишь покосился в его сторону, Ингусу было не до него. — Шо то с им, я спрашиваю? Сбесился?
— Холера его знает, тарщ ктан, — сказал хозяин Ингуса. Он был в отчаянии. Он пнул Ингуса в бок сапогом, Ингус жутко всхрипнул, но не разжал клыков. — Что с ним всегда. Вы ж знаете.
— А ну, дайте сюда. — Главный протянул руку, и один из хозяев кинулся подать ему лом. Главный досадливо поморщился. — Та не, я ж вам не то показываю.
Он протягивал руку к автомату. Хозяин Ингуса торопливо, суетясь, стащил через голову ремень. И с болью, угнездившейся навсегда в душе Руслана, он увидел наконец, как же это бывает, когда собаку уводят за проволоку. Дырчатый воронёный кожух опустился, закачался над головой Ингуса, как бы примериваясь вонзиться между буграми крутого лба и оттянутыми в ярости ушами, но не вонзился, а в нём самом, в кожухе, что-то быстро задвигалось, и вокруг скошенного чёрного рыльца вспыхнул яркий красно-оранжевый ореол, а из головы Ингуса… из чёрной рваной дыры плеснуло горячим, розовым, с белыми осколками. И, содрогнувшись, Ингус стал вытягиваться — головою к ногам Главного хозяина, точно тянулся ещё напоследок положить закушенный рукав на его сапоги.
Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав — и голова Ингуса запрокинулась; он ещё жил, ещё шевелился, но лишь челюстями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел, и смотрел Главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может — и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом. Ещё и теперь, вспоминая, как всё случилось, он ощутил фанерную твёрдость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадёжность перегрызть брезентовое горло он почувствовал сжавшимся сердцем, — только прокусить он мог, наделать ещё прорех, из которых били с шипением колючие струйки, а загривок, беззащитный загривок дыбом вставал от жгучей близости чёрного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата! Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он всё же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан, последовал за мёртвым Ингусом? Его единоличный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного, ещё через мгновение бросилась хитрая Альма, совсем близко от челюстей Руслана приладил мохнатые челюсти Дик — отличник по охране задержанных, — и вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все, все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед чёрным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинить себе, когда звери особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которого чуть не ломалось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что Главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью: всё равно они порченые и нужно набрать новых! А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться, кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездонному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба — на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него, не до любой вершины с ним дойдёт, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт.
И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошёл с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за своё первенство, когда уже все противники свели счёты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок — а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать, — но все увидели, как он идёт не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошёл вплотную к Главному и стал против чёрного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полутора глазками зорко следил, чтоб Главный не положил палец на спуск: маленькое незаметное движение, но отлично известное Джульбарсу, — столько раз его показывал на площадке инструктор, — и оно могло стать последним в жизни Главного хозяина. И Главный не решился положить палец, он-то знал, что за деятель этот Джульбарс, которого он подпустил слишком близко. Он немножко растерялся, а Джульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую наглость — поддел своей раздвоенной медвежьей башкой чёрный ствол и чуть подбросил кверху. Главный от этой наглости оторопел, но всё же она ему понравилась, лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой:
— Ничо, пусть погрызут собачки. Воды хватит.
Тогда Джульбарс, всё так же спокойно, поворотился к нему задом и пошёл на место.
Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали, — Руслан об этом вспомнить не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлёбывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвётся с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они все, укрытые всегда своими роскошными шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отощавшие, жалкие, слёзно молящие о пощаде!
Этой же струёй хозяева потом вымывали их, примёрзших к наледи, и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползлись в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять — их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить.
А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелаиваться сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было передать друг другу, кроме взаимных упрёков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс, они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра, — Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, ещё до Рекса торил эту тропу, а для совсем старичков первой была знаменитая Леди, которую хозяева называли ещё «Леди Гамильтон», — она-то и открывала всю злосчастную плеяду, а до неё история лагеря тонула во мраке.
Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о Главном хозяине, и одни говорили, что он «конечно, справедливый, но зверь», а другие им возражали, что он «всё ж таки зверь, хотя — справедливый». Потом пришёл сам Главный и велел пощупать у собак носы.
— В кого горячий, нехай отдыхають, а других — выводить. Та следить мне, шоб никаких таких эксцессов не було!
Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же бараком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колёсах, эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти? Две заплаканные лошадёнки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали её в лагерные ворота и тащили от барака к бараку, а потом, нагруженную, трясли по колдобинам к лесу, и собакам в голову не приходило, чтобы кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да эта фура себя охраняла сама лучше любого конвоя: зимой она жуть наводила шуршанием и костяным стуком об её высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось куда глаза глядят от её тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать названия запахам, он сказал бы, что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти-небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может, — и что такое собачий ад, он всё же смутно представлял себе: это, наверное, большой полутёмный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене, день-деньской хлещут поводками и колют уши иглой, а есть дают одну сплошную горчицу. Картина человечьего ада представлялась ему загадочной, но, верно, и там весёлого было мало, уже и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собой живые, и Руслан ещё долго их путал с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился; в свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дождаться, как встретиться с живым Рексом. Но что объединяло эти два ада — непонятный, неутишимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны.
В тишине безветрия был слышен мороз: шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комки навоза, потрескивало, постанывало всё дерево фуры. Лошадёнки, с заиндевевшими гривами и хвостами, стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиной, будто кидали ему из окна большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укутался до бровей в свой чёрный тулуп.
Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как всё спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки, хоть очень уж пристуживало зады на снегу и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других бараков смотрят в продышанные зрачки чьи-то горящие глаза, иногда и сами не выдерживали и оборачивались, — да в такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям, произойти ничего не могло. Ничего и не произошло, только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком Главному: «Вы за это ответите!» — но другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся.
Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось Главному, и за то, наверно, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы её высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как всё нелепо вышло с Ингусом; даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось, инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушённый. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» — и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус, постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уже сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с куском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими «неокрепшими» клыками, а хозяевам лень было дробить ему челюсти ломом.
Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса. В самом деле, в нём появилось что-то ингусовское: та же мечтательность, задумчивость, безотчётность поступков; он даже и бегал теперь на четырёх, пританцовывая, как Ингус. И всё больше эта игра захватывала инструктора, всё чаще он говорил: «Внимание, показываю!», и показывал, как если б это делал Ингус, и всё лучше у него получалось, — а однажды он взял да и проделал это в караулке: о чём-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши её лбом. Хозяев он рассмешил до слёз, но когда они отреготались и решили всё-таки поискать инструктора — где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы.
— Я Ингус, поняли? Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковод, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав! Гав!
И тут-то собаки впервые поняли — о чём он лает. В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою.
— Уйдёмте отсюда! — лаял инструктор-Ингус. — Уйдёмте все! Нам здесь не жизнь!
Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине, и во всю ночь не мог он успокоиться и будоражил собак своим неистовым зовом, всю ночь надрывал им души великой блазнью густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоённых сладостной прохладой, обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздёрнутых ушей, и такие реки, где чиста вода, как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьётся, и самый громкий звук в этом воздухе — дремотное гудение шмеля; там, в заповедном этом краю, они будут жить, как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку! Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнее путешествие, в которое отправятся утром же под руководством инструктора, — уж тут само собою решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джульбарс не возражал, согласившись быть вторым.
А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его, связанного, и посадили в легковой «газик», крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял беспрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет — может быть, вытолкнет кляп или освободится от верёвок, но он ничего не показал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слёзы. Да впору было и собакам забиться в рыданиях — не так переживали они, когда мутноглазыми несмышлёнышами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь и заново открыли они и полюбили инструктора, — и всё обрывалось, и возвращалась к ним прежняя, унылая и беспросветная, череда будней.
И впрямь осиротели они, опустела площадка. Она перестала быть местом праздника, она стала местом истязаний и тягостных склок. Приехавший вскоре другой инструктор уже ничего не показывал, а больше орудовал плёткой…
Ах, лучше не вспоминать! Шумно вздыхая, Руслан уходил из-под фонаря на тёмное крыльцо, долго устраивался там, кряхтя и скрипя половицами, и замирал наконец, чутко вслушиваясь в замирающий мир. Ночь густела, наливаясь чернотою и холодом, и вызревали всё новые и новые звёзды, мерцающие, как глаза неведомых чудищ. Впрочем, живые эти светильники были ему всё-таки больше по душе, чем ненавистная луна, от которой даже и пахло покойником; он мог их наблюдать подолгу и знал за ними одно хорошее свойство — если задремлешь и опять откроешь глаза, то застанешь их уже переместившимися. Так судил он о течении времени — и всё отслуженное им не просто уходило зря, но отмерялось на этих небесных часах.
Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звёзд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерёг. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своём добровольном посту.
Он спал вполуха, вполглаза, не давая себе провалиться в бесчувствие. Голова его упадала на лапы, он встряхивался в испуге — и ещё прибавлялась морщинка на крутом его лбу. Только отпускали его воспоминания — как надвигались завтрашние заботы.
4
Иногда привычный их маршрут слегка нарушался. Дойдя до станции и перед тем как свернуть к своим дурацким вагонам. Потёртый вдруг останавливался, чесал себе щёку вынутой из варежки пятернёю и нерешительно говорил Руслану:
— А сходим, проведаем — может, не забыли про нас?
Руслан нехотя соглашался, и они сворачивали к станции — только не к главному её крыльцу, а к боковому, с двумя синими ящиками по обеим сторонам двери. У этого крыльца Потёртый старательно оттопывал снег с ботинок и косился — чисты ли у Руслана лапы. В первые разы он ещё норовил оставить своего конвоира на улице и поручить ему охранять ящик с инструментами, — Руслан эти попытки пресёк. Он поднимался за Потёртым, входил и строго ждал его в помещении, брезгуя присесть на слякотный пол. Здесь стоял густой размаривающий зной — от круглой голубой печи, занимавшей весь угол и подпиравшей потолок, — а крохотная форточка забранного решёткой окна была закрыта наглухо, а две головы за барьером ещё и кутались в толстые серые платки. Эти удивительные головы стрекотали друг с другом беспрерывно и совершали зеркально-симметричные движения, подхватывая на лету семечки из подбрасываемых с пулемётной скоростью кулачков и в них же сбрасывая ползущую изо ртов лузгу.
Потёртый бочком подвигался к барьеру, доставал глубоко из-за пазухи мятую бумажку, разглаживал её, робким покашливанием прочищал горло для вопроса. Долго его не замечали, но наконец симметрия мучительно разрушалась — и одна голова, замерев на подхвате семечка, уставлялась на него неподвижным, не моргающим взглядом, другая же — застигнутая на сбросе лузги — утирала губы тылом ладошки и хмуро склонялась куда-то под барьер, почти сразу же начиная отрицающие движения из стороны в сторону.
— Пишут, — сам отвечал Потёртый извинительно и прятал свою бумажку опять глубоко за пазуху.
Впрочем, со временем они усвоили это слово и уже иной раз прямо на пороге пригвождали Потёртого, не давая повода шагнуть внутрь:
— Пишут вам, пишут!
Затем, собственно, он и приходил сюда, чтобы это услышать, и больше у него никаких тут не было дел, но он ещё долго проминался, разглядывал стены, читал, заложа руки за спину, всё, что попадалось глазу.
— Перевод телеграфный — слышь, казённый? — семь рублей стоит сотню, а по почте — только два. Ну, чо ж, правильно, время — оно деньги стоит. С Москвой поговорить — два шиисят минута. Жаль, у меня нету в Москве, с кем поговорить. У тебя тоже нету, Руслаша? А то б чего-нибудь на пять копеек нагавкали.
Особенно подолгу стоял он перед плакатом, с которого глядел мордастый румяный молодой человек с победно-язвительной улыбкой на губах, держа в одной руке серую книжицу, а другой рукой, большим её пальцем, указывая себе за спину на груду каких-то предметов; из них Руслан смутно распознавал легковой автомобиль и кровать.
— Я рубль к рублю, — читал Потёртый, — в сберкассе коплю. И мне, и стране — доходно. Сумею скопить и смогу купить — всё, что душе угодно. Во как складно! А мы и не дотюпались. Мы чего копили? Мы дни копили, сколько там «не нашего» набежало, а для души-то надо — рубли-и! И годовых тебе пять процентов, тоже не баран чихал…
Руслан, уже головою к двери, остервенело скалился и крутил хвостом — время, время! Но выйти отсюда ещё не значило — на работу. После таких отклонений подконвойный заворачивал в буфет, вытягивал кружку жёлтопенной мерзости, в добавление к наканунешней, отчего несло из его рта совсем уж ураганно, и лишь если собеседника себе не находил, шёл наконец в рабочую зону. А иногда и не шёл. Иногда и вторую кружку вытягивал и возвращался восвояси, а тёте Стюре объяснял с виноватым удивлением:
— Вот, едрена вошь, день какой недобычливый. Ничо сегодня не оприходовали, вот и Руслаша подтвердит. Ну, дак задел-то есть, пара досточек со вчерашнего осталась вроде.
— И хорошо, — соглашалась тётя Стюра, сама не большая любительница шевелиться. — Оно и лучше дома посидеть, чем незнамо где шакалить.
Эти вольности просто бесили Руслана. Он не терпел безответственности. Сам-то он был — весь забота, весь движение! Отхватить толику сна, раздобыть себе еды — хоть раз на дню, отконвоировать туда и обратно, да сбегать на платформу, разнюхать — кто был, что произошло за истёкшие сутки, да собак по дворам проведать, узнать новости, разобраться — у кого какие предчувствия. Эти же двое — дрыхли, сколько хотели, еду себе устроились добывать из подпола да из курятника, а остальное их не трогало: и что поезда всё нет и нет, и что работа не движется, и что так нелепо, впустую катятся его, Руслановы, дни. Но что было делать — гнать, понукать Потёртого? Сказать по совести, это не входило в собачьи обязанности, темп задавали хозяева — и когда бежать колонне рысью, и когда посидеть на снегу; тут он боялся переступить дозволенное. И оставалось одно — самому шевелиться и ждать. Ждать, не теряя веры, не отчаиваясь, сохраняя силы для грядущих перемен.
А между тем снег уже грязнел понемногу и делался ноздреватым, и от него потягивало чем-то неизъяснимо чудесным, вселяющим надежду и волнение. Всё больше влажнел воздух, и солнечными днями всё бойчее капало с крыш. Потом и ночами стало капать, перебивая Руслану сон, и посреди улицы явились проталины, вылезли на свет измочаленные доски тротуаров. Лишь в канавах, в глубокой тени заборов, снег ещё сохранялся грудами, но день ото дня слёживался, тощал, истекая лужицами, даже и не холодный на вид.
И пришла девятая весна жизни Руслана — не похожая ни на одну из его вёсен.
Ему предстояло узнать, что, когда сходят снега и лес наполняется клейкой молодой зеленью и делается непроглядным, в нём прибавляется живой еды. Мыши Руслану уже не попадались — кое-чему их научил трагический зимний опыт, а может быть, у него самого недостало опыта, как этих мерзавок нашаривать в палой листве, пружинившей под его лапами. Зато привлекли его внимание птицы, дуреющие от своих же песен, и чем крупнее была птица, тем неосторожней. Позже, когда у них с песнями пошло на спад, стали попадаться — низко в кустах или вовсе на земле — их гнезда с продолговатыми, округлыми камушками, белыми или бледно-розовыми или голубоватыми в крапинку. В них что-то теплилось живое, и он сообразил, что это тоже можно есть, хотя оно не бегает и не прыгает. Он забирал их в пасть всё сразу и, хрумкая скорлупою, всасывал тёплую клейкую влагу. Хозяйка этих камушков обычно старалась ему досадить, порхая над самым его носом, но её возмущённые крики не производили на него впечатления — насчёт отвлекающих манёвров он кое-что знал. И всё же простой грабёж ему претил; жестокий боец, он жаждал борьбы, состязания, не исключая и обоюдной крови. Вот даже и с барсуком можно было померяться хитростью — тут сразу понял Руслан, что этого увальня нахрапом не возьмёшь, тут надобно шевелить мозгами, а главное — не спешить, когда он вылезает в первый раз, и даже во второй — это он разведывает и может вернуться в свою нору мгновенно, а нужно дать ему насладиться тишиной и безопасностью, тем сильнее его растерянность и отчаяние, когда ты закроешь ему пути к отступлению. Никто никогда не учил этому Руслана, и многого он не знал о себе, а вот теперь открывал — к своему удивлению и радости: во-первых, сколь прельстительно добывать себе пищу клыком, не дожидаясь, что тебе её принесут в кормушке, а во-вторых, что он, оказывается, всё это умеет — подкрадываться, пластаться в траве и в папоротниках, долго таиться и нападать молниеносно, без промаха.
Ошалев от своих удач, он однажды и лосёнка рискнул завалить, ещё и за секунду на это не решаясь, — и не в том был риск, чтоб перегрызть ему слабые шейные хрящики, не получив самому копыта в бок, а том, что мать-лосиха шла впереди по тропе, в двух каких-нибудь шагах, и застигла его на месте преступления. Сгоряча он и на лосиху кинулся — и было на волосок от того, чтоб нам здесь и закончить жизнеописание Руслана, — но спасительный голос свыше внушил ему, что он встретился с такой силой, перед которой благоразумнее отступить. Он бежал в преувеличенной панике, не забывая, однако, делать круги и не слишком отдаляясь от добычи. Ждать ему пришлось долго, и он знал, что безбожно опаздывает на службу, но тут было что-то сильнее него, сильнее долга и раскаяния. И всё-таки он дождался, когда лосиха покинула своё бездыханное дитя, — не затем дождался, чтобы сожрать, на это уже не хватало времени, а чтобы удостовериться, что он оказался терпеливее безутешной матери.
Виделся он и с хозяевами леса, о существовании которых смутно подозревал, они оказались похожими на него, но до чего же убогими! Он был куда крупнее и сразу прикинул, что с одним или даже двумя волками справится вполне, а от стаи сумеет удрать. Да и волки с ним поладили мирно — сделали вид, что не заметили.
Однако мысль они заронили в нём: он мог бы стать таким же вольным зверем, как они, и — добычливым зверем. Но не знал Руслан — и мы, грамотные, не всегда ведь знаем, — что лучше всего хранит нас от погибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособлены и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное — любить, ведь не живёт без любви никто в этом мире: ни те же волки, ни коршун в небе, ни даже болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей — тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика, и вернее, чем самый алкоголь, — и никакое блаженство охоты уже не заменило б ему другого блаженства: повиновения любимому, счастья от самой малой его похвалы. И на свой промысел, на который ведь никто не посылал его и не хвалил за удачу, он и смотрел как на промысел, помогающий выжить и сохранить силы. Бил часовой механизм, спрятанный в его мозгу, — а вернее, по наклону солнечного луча, пробившегося сквозь кроны, необъяснимо чувствовал Руслан, что как раз его подконвойный уже продирает очи, — и возвращался, покорный долгу, прервав охоту на самом интересном.
А только доставив Потёртого до дому и давши ему с тётей Стюрой добраться до бутылки, он уже и минуты не ждал, убегал на станцию. Только он один ещё продолжал сюда являться, его одного видели путейцы сидящим на пустой платформе или обегающим подъездные пути. Мог он дотемна сидеть у дальнего семафора, прислушиваясь к пению рельсов, встречая товарняки и экспрессы, пахнущие дымом и пылью далёких городов. Поезда проносились мимо или причаливали к другим платформам, — он проникался к ним неприязнью и отворачивался, недовольно жмурясь, потом бежал через всю станцию к другому семафору и там опять сидел, встречая другие поезда, привозившие с собою едва уловимый, но такой возбуждающий запах океана.
Иногда, в полудремоте, эти запахи — неведомых городов и никогда не виденного океана — начинали его томить, он мучился искушением отправиться наугад вдоль рельсов, за тот или за другой семафор, и бежать, сколько сил хватит, покуда он не увидит, что же его манило. Но он не знал, сколько придётся бежать — целый день или целое лето, а в это время мог прийти тот единственный поезд, которого он ждёт.
С высокой платформы он видел крыши посёлка, громоздившиеся пёстрой коростой, и колокольню с крестом, на который всякий раз напарывалось закатное солнце. В эти часы, необъяснимо тревожные и печальные, Руслана охватывало беспокойство, он принимался без причины скулить, к чему-то судорожно принюхиваться, а стоило ему закрыть глаза и положить голову на лапы, как его обступали видения. Странные это были видения. Во все его лагерные годы они являлись к нему в тёмную его кабину — и вовсе не были сном, сны не так часто повторяются и не так хорошо помнятся.
Иногда он видел себя посреди широкой горной долины, по брюхо в густой траве, обегающим овечье стадо. Розово-синие горы понемногу уплывают во тьму, от них веет влажным ветром и какой-то напастью, и овцы жмутся друг к другу, а он успокаивает их — низким и хриплым лаем. Обежав огромный круг, он подходит к костру, садится рядом с пастухами, как равный, и подолгу смотрит в огонь, не в силах оторваться от его изменчивой таинственной игры. И пастухи обращаются к нему, как они говорят друг с другом: «А вот и Руслан…», «Отдохни, Руслан, набегался…», «Поешь, Руслан, там осталось на твою долю…». И он принимает их уважение как должное, потому что они ведь не обойдутся без него. Он первым почует волка и встретит его, как подобает овчарке, — не лаем, только бы показать свою старательность, а клыками и грудью, чувствуя за собою тепло костра и людей, которые всегда придут на помощь…
…В знойный полдень он сбегал к реке вместе с босоногими ребятишками; они бросили в воду палку, и он плывёт за нею, разбрызгивая вязкую неподвижную воду, а потом лежит, вытянувшись, как мёртвый, смежив глаза от солнца, и они ложатся рядом с ним мокрыми животами на песок, треплют ему шерсть, вычёсывают клеща, впившегося в горячее набрякшее ухо. Накупавшись до синевы, они поднимаются лениво по косогору, и он идёт поодаль, довольный и гордый тем, что, пока он с ними, их не коснётся никакое зло — ни змея, ни бодливая корова, ни бешеный пёс.
…Синим морозным утром в тайге, утопая в сугробе, он бросался на помощь хозяину, которому пришлось туго, вцеплялся в зад медведю и держал насмерть, а когда ему самому приходилось туго, хозяин выручал его, добивая зверя ножом и прикладом. И первый кусок, сочащийся тёплой кровью, доставался ему, и они возвращались с тяжёлой добычей, кое-где пораненные, кое-как залеченные и полные взаимной любви…
Во всём непременно была любовь — то к пастухам в чёрных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику.
Но где же он видел их, откуда брались эти видения? Во всей его жизни, вот до этой весны, никогда не было ни гор, ни овец, ни реки, затенённой плакучими берёзами, ни зверей крупнее кошки. Всё, что он знал отроду, — ровные ряды бараков, колючая проволока в два кола, пулемёты на вышках, левый сапог хозяина. Может быть, эти видения, невесть откуда взявшиеся в глухих тайниках его памяти, достались ему от предков — степных волкодавов, зверовых лаек, лохматых овчарок горных долин, которые в конце концов породили его и вместе с ростом, силою и отвагой передали и то, что каждому из них пришлось изведать? Но зачем это ему — чтоб мучился он и искушался непрожитыми жизнями? Или он был всего лишь звеном в бесконечной цепи, и эти мучительно сладостные видения вовсе не ему предназначались, а тем щенкам, что родились от него и ещё родятся?
Но в этих видениях и ему была радость, он бережно их покоил в душе, боясь потревожить их течение, среди трудного своего дня предвкушал минуту, когда останется наедине со своими живыми картинками. И порою ему казалось: всё это происходило с ним до лагеря, до питомника, до того, как он стал себя помнить, — и он об этом мечтал как о прошлом, которым стоит гордиться. Но часто и как о будущем мечтал, которое непременно наступит, — и нехитрые эти мечтания озаряли ему жизнь, наполняя её высоким смыслом. Из-за них не сбесился он, не зачах с тоски, не уморил себя голодом и только однажды сунулся под пули хозяев, — а ведь это сто раз могло случиться с ним, внуком овчарки, которому выпало на роду пасти двуногих овец.
Хозяин, который хорошо знал Руслана, знал его нрав и способности, всё же не разгадал его главной загадки, не проник никогда в тайное тайных, которое Руслан ни за что б ему не высказал, если бы и сумел высказать. Инструктор, сказавший, что Служба не всегда права и надо на всё смотреть как на игру, стоял хоть и поближе к истине, но только на полдороге. А вся истина и вся отгадка Руслана была не в том, что Служба для него хоть в чём-нибудь могла быть неправой, а в том, что не считал он своих овец виноватыми, как считали Ефрейтор и другие хозяева.
Да, говорила ему наука, что люди, отделённые от него проволокой, — злые, чужие, нехорошие; а ещё он слышал, что они «суки», «сволочи», «курвы» и «фашисты», — от одного свиста, шипения и рыка этих слов загривок у него дыбился и в горле вскипало рычание. Да, помнил он хорошо, как они ему, подпёску, давали отведать горчицы, и кололи ухо иглой, и палили в морду из большого дурацкого пистолета, и колотили по спине бамбучиной. Детство они ему крепко попортили, он только и ждал, когда вырастет и ужо до них доберётся. Но когда взрос он и мог бы свалить любого из них, он как-то не обнаружил своих обидчиков среди всей оравы, — а хотелось именно тех найти, кого он запомнил. Похожие на них вызывали злобу всё-таки меньшую, да и к тем кретинам она понемногу начала остывать: как ни горячил он себя воспоминаниями, а чувствовал всё больше удивление — до чего же глупыми, жалкими казались теперь их пакости, просто недостойными двуногих. Один тебя дёргает за хвост, а другой из-под носа тащит еду — зачем, спрашивается? Чтоб самому её съесть? Если бы так, он бы их понял… Но он уже начал догадываться, что не всё у них ладно в том месте, которым они думают, даром ли хозяева не считали их за людей. И право, чего же ещё было ждать от них — бедных, помрачённых разумом! И можно ли таких ненавидеть? Скорее он мог презирать их — за вечные их дрязги и друг перед другом страх, за то, что никогда ничем они не были довольны и, однако, стерпливали нестерпимое, за то, что и на краю могилы не впивались они в горло своему палачу. Но хоть жалел он их в такие минуты, когда так покорно давали они себя мучить или убивать? Об этом спросите овчарку, которой случается видеть, как режут столь ею бережно охраняемых овец. Зрелище это, верно, тоскливо для неё, но не перестанет же она из-за этого любить хозяина. Да ведь и овцы против этого не возражают — так мудро-обречённо, так изнеможённо-нежно, со светлой печалью в глазах откидывают они голову, подставляя горло под нож.
И что же — все собаки были тут заодно с Русланом? Этого не знал он; когда вся стая служит ревностно общему делу, особенной откровенности не бывает. Но по крайней мере Джульбарс — он-то, свирепейший, дай только волю, наверняка бы загрыз какого-нибудь лагерника насмерть? И это — как знать. После собачьего бунта его ото всех выделили, стали водить на цепи — и большей славой не могли наградить Джульбарса! Теперь по всякому поводу этот кандальник тряс башкою и устраивал переливчатый звон, напоминая об особой своей участи. Но странно — то ли подобрел он вдруг, достигши наконец неоспоримого отличия, то ли обалдел от зазнайства, а только уж как-то не выказывал своей знаменитой злобы. И верно, к чему выматываться, когда за тебя говорят вериги!
А всё же бывали минуты, когда они яро ненавидели своё стадо и страшились его панически, до обморока. Это когда распахивались по утрам главные ворота, и лагерная вахта передавала колонну в руки конвоя. Собак уже заранее била дрожь, они впадали в истерику, захлёбывались лаем. Ведь крохотная горстка против огромной толпы, которой что стоило разбежаться — в открытом поле, на лесной просеке. «Бежать, бежать!» — так и слышалось в их дробной поступи, разило от их штанов и подмышек, грозовым облаком реяло над головами; и каждая шерстинка на Руслане насыщалась электричеством, готовая растрещаться искрами. Вот сейчас это случится, сейчас они кинутся врассыпную — и он оплошает, сделает что-нибудь не так.
Но понемногу передавалось ему спокойствие хозяев — они-то, высшие существа, хоть и обделённые нюхом, знали всё наперёд: ничего не случится, ничего такого уж страшного. И точно, запах бегства выветривался скоро, а сквозь него уже пробивался другой, всё густеющий, набирающий едкости, чесночный запах страха. Им тянуло откуда-то снизу, от ног, которые уже спотыкались, отказывались бежать, отказывались нести ослабшее, повязанное нерешительностью тело. И у него отлегало от сердца, и вот уже собаки весело переглядывались, развесив длиннющие языки, не скрывая жаркой одышки, — пронесло!.. Просто этим больным опять что-нибудь померещилось, всё та же ими придуманная лучшая жизнь; скоро это пройдёт у них — вот даже вечером, после работы, о бегстве и мысли не будет, только бы до тепла добраться. Но сколько же с ними муки, сколько хлопот они доставляли своим терпеливым санитарам с автоматами и их четверолапым помощникам!
Только редкие выздоравливали, — и Руслану случалось видеть, какими их выпускали из этого санатория: тихими, излучавшими ровный свет. Свою злобу они оставляли у ворот и говорили вахтёру со слабой улыбкой, всегда одинаково, как пароль:
— Дай Бог, не встретимся.
— Бывай! — звучал отзыв, отрывистый и чёткий, как команда. В нём слышалась уверенность, что болезнь не повторится. — Поправляйсь, доходяга!
Но вот, когда уже несколько случаев накопилось исцелений и когда явились надежды, что эти люди забудут и своё буйство, и драки, и свои глупые мечты и станут все сплошь тихими и просветлёнными, они вдруг взяли и убежали разом. Об их вероломстве он думал теперь беззлобно, жалел, что они так неразумно поступили, не поняли, где им по-настоящему хорошо. Сам он о лагере вспоминал только хорошее — и разве не было его там? Пожив на воле, он мог уже кое-что и сравнить. Там не были люди равнодушны друг к другу, там следили за каждым в оба глаза, и считался человек величайшей ценностью, какой и сам себе не казался. И эту его ценность от него же приходилось оберегать, его же самого наказывать, ранить и бить, когда он её пытался растратить в побегах. Всё-таки есть она, есть — жестокость спасения! Ведь рубят же мачты у корабля, когда хотят его спасти. Ведь кромсает наше тело хирург, когда надеется вылечить. Жестокая служба любви — подчас и кровавая — досталась Руслану, и нёс он её долгие годы изо дня в день без отдыха, — но тем слаще она теперь казалась.
А поезда всё обманывали его — и самая сильная вера когда-нибудь же перегорает! Соотнесём наши бледные, размытые годы с кратким собачьим веком, куда плотнее набитым событиями, и выйдет, что не одну зиму и весну прождал Руслан возвращения Службы, а может быть, четыре или пять наших зим и вёсен. И всё больше вживался он в свою охоту — со страстью, с яростью, доходившей до безумия. В сумрачном лесу, с его голосами и запахами, он становился другим, сам себя не узнавал, — и кто знает, догадайся Потёртый однажды взять ружьё и пойди он тропою Руслана, может быть, всё и повернулось бы по-другому меж конвоиром и подконвойным; там, где такой нелепой кажется наша неумелая суета, называемая жизнью, сбросили бы они эти обличья и стали бы просто Человеком и Собакой, в чём-то ведь и равными друг другу. Но Потёртый не догадывался или не имел ружья, он всё строил свой нескончаемый шкап и отношений с конвоиром менять не собирался. В эти же дни тоска по иному, чем он, существу, хоть той же, что и он, крови, охватила Руслана с неожиданной, давно не испытываемой силой, — он разыскал Альму и поманил её на свой промысел. Альма с ним добежала до опушки леса, а там постояла и вернулась — у неё свои были заботы, щенки от белоглазого. А не окажись у неё никаких привязанностей в этом чужом для них посёлке — может быть, поглотили бы их обоих леса и уже бы не выпустили?
Обо всём этом мы можем только гадать. Но, встретив Руслана возвращающимся из лесу, бегущим по середине улицы мерной размашистой рысью, мы б его увидели поистине преображённым, во всём его матёром совершенстве, в зверином великолепии. И чувствовалось по жёлтому мерцанию его глаз, что он сам понимает, как он хорош, сам с гордостью ощущает и налитую тяжесть своих лап, и свой лоснящийся пушистый панцирь, и как плотно теперь сидит на нём ошейник. Вбегая во двор — вкрадчиво-пружинистый, пахнущий лесом, землёю, кровью живой добычи, — он своим жарким дыханием нагонял страх на Трезорку, и тот опрометью кидался под крыльцо, всерьёз опасаясь, что охота будет продолжена во дворе. Он зря опасался: при всех различиях Руслан всё же принимал Трезорку за подобного себе, и от природы было ему запретно заниматься охотою на себе подобных — этим любимейшим занятием двуногих, гордых тем, что покорили природу. Сказать же ещё точнее, так в поле зрения Руслана, в мире его ответственного служения и гордой независимости, просто не было места Трезорке с его никчёмными заботами. Руслан себе и не представлял, что хоть чем-нибудь осложняет Трезоркину жизнь, покуда сам Трезорка об этом не напомнил.
Тётя Стюра задала корм своим курам и ушла в дом, оставив дверцу курятника открытой. Руслан услыхал квохтанье, тёплый, разнеженный ропот и двинулся туда не спеша. Никакие соображения греха его душу не омрачали, а добыча была отменно хороша, уж это он проверил на опыте с глухарями и тетёрками. Неожиданно, неслышно что-то оказалось на его пути, он споткнулся и поглядел с удивлением на странное, нелепое существо, которое ему сказало «Ррр» и оскалило мелкие зубки, — а одновременно виляло ему хвостиком и крупно дрожало, сотрясаясь в смертельном страхе. Трезорка и плакал, и уговаривал его не двигаться дальше, и угрожал — чем же? Что придётся сперва его сожрать на этом пороге? Ну, это, впрочем, было необязательно, Руслан бы его попросту отшвырнул лапой, однако он помедлил, склонив в раздумье тяжёлую голову, и — вернулся на место. Может быть, он задумался о существе долга, ведь он когда-то сам бывал часовым и мог понять другого на таком же посту, хоть был этот другой ничтожен с виду.
Трезорка едва перенёс такое переживание, он пал на брюхо, закрыв глаза, и долго отдышивался, как после изнурительного бега. А Руслан с этой минуты только и пригляделся к нему, и был поражён — каких же трудов стоила Трезорке жизнь, сколько же хитрости, сноровки да и мужества она от него требовала. Трезорка жил в краю, где любовь к сущему выражается иной раз с помощью камня или палки или пинка ногою, и где он имел столько же шансов выжить не сломленным, сколько насчитывал сантиметров роста. А всё же не стал он ничтожеством, торопящимся лизнуть побившую руку, ни разу не встретил брошенный в него предмет вилянием хвоста, но с яростным лаем «прогонял» обидчика до угла, хоть и не смея приблизиться и напасть. А подумать, так по иным статьям он бы не сильно и проиграл прежним товарищам Руслана, а может статься, и превзошёл бы их.
Руслан всё реже с ними встречался, но чтобы знать — и необязательно встречаться, собачья газета пишется в воздухе, она печатается на заборах и столбиках — и сколько же заурядной чепухи, сучьих сплетен он мог из неё вычитать! Дик опять попался на воровстве, бит шкворнем от навозной тачки, ослепшая Аза уже не стыдясь побирается у булочной, Байкал недурно устроился — в гастрономе, при мясном отделе, но попробуй сунься, своего порвёт и т. д. и т. п. Поначалу их дрязги бесили Руслана, повергали в отчаяние, но потом он перестал на них и откликаться. Всё было естественно, всё по-собачьи понятно. Сколько б они ни кичились, сколько бы ни хвастались новыми хозяевами, а ведь служили-то они скверно. Не такие же они дураки, чтоб не понимать этого. Нынешние хозяева держали их за грозный вид, за металл в голосе, за кристальную ясность взгляда и готовность напасть на кого прикажут, — да только на всё-то им нужен был приказ, а хриплоголосый никудышный Трезорка сам разбирался, что к чему. Они, например, признавали одного хозяина — мужчину, чада же его и домочадцы уже не могли к ним приблизиться, Трезорка же за хозяина держал тётю Стюру, но и Потёртому был не прочь послужить, пока тот имел здесь влияние. Имевших влияние прежде, ещё до Потёртого, деликатно не замечал; лучше, чем сама тётя Стюра, различал верных её приятельниц и тайных врагинь — каждой своё полагалось приветствие или не полагалось вовсе; видел разницу между уклончивыми должниками и настырными кредиторами — первых следовало шутливо обтявкать и заманить во двор, вторым — не показываться на глаза. А ведь никто этого не объяснял Трезорке, просто он был на своём месте. Все «казённые» давили цыплят без совести, а после битья уразумели, что это грех, и уж на курятник не глядели. А Трезорка приглядывал и сам не давал цыплёнка в обиду, потому что знал: в первую голову подумают на него. Он понимал, как выгодно быть честным, но и как мало одной твоей честности, — нужно ещё исключить возможность подозрений. Он понимал, что если тебя нежданно пустили в комнаты, так же нежданно и погонят, а потому не залёживайся и не чешись при гостях, а если невтерпёж — залейся лаем и беги на двор, как будто учуял подозрительное. И не нужно делать вид, будто тебе нипочём, если щёлкают по носу, наоборот — рычи и кидайся, безобидных любят, но пуще любят их щёлкать. Трезорку учила жизнь, она его колошматила и ошпаривала, до обмороков пугала консервными банками, привязанными к хвосту, опыт был суров и порою ужасен, но зато — собственный опыт, зато Трезорка ни у кого не занимал ума, не заморочил себя наукой, которую преподают двуногие к своей только выгоде, а потому сохранил и уважение к себе, и здравый смысл, и незлобивый нрав, и неподдельное сочувствие к таким же трезоркам, полканам и кабысдохам. Сплетник он был и хвастун — каких поискать, но не допустил бы никогда — знать, что где-то можно подхарчиться, и никому о том не сообщить. А вот ведь Руслан никого, кроме Альмы, не позвал на свою охоту. Они привыкли, что еды было вдоволь, и никогда не приходилось им есть вдвоём из одной миски — это нервирует, но и приучает к солидарности.
Неисповедимы пути наших братьев, и не исключается, что, поживи здесь Руслан ещё лето, узнал бы он много такого, о чём и не подозревал в своей служебной гордыне, и, проснувшись однажды, почувствовал бы себя вполне своим — и этому двору, и посёлку, и Потёртому с тётей Стюрою. А она, продолжи свои попытки накормить его тёплым супом с костями, могла бы, наверное, добиться успеха. Не вечно же ему было выказывать своё недоверие, и мог бы он заметить, что вот ведь Трезорке её варево нисколько не повреждает.
Да неисповедимы и наши пути. Однажды те две стрекотухи, что говорили Потёртому: «Пишут вам, пишут», вдруг этого не сказали, а выбросили ему на барьер грязно-белый захватанный треугольничек. Потёртый взял его обеими руками осторожно, с опаскою, будто в нём что-то могло взорваться и хорошенько фукнуть в глаза, — о, с этими штуками Руслан имел дела на занятиях по недоверию к несъедобным предметам. На улице треугольничек развернулся в лоскут, страшного в нём не оказалось, но поражающее действие он возымел на Потёртого — тот как-то странно обмяк и опустился на крыльцо.
— Вот эт-то номер! — сказал он Руслану. И Руслан мог увидеть, что глаза ему все же слегка обожгло. — Такой, брат, номер, ты не представляешь…
Пойми-ка их, помрачённых, отчего они вдруг преображаются? Сколько на них ни ори и ни лай — ведь не расшевелятся, но, может быть, надо каждому раздать по бумажке с лилово-серыми закорючками — и они будут смеяться и всхлипывать, кусать губы и ударять себя по коленкам, а потом ощутят прилив невиданной энергии. По всем правилам — а для Руслана всё становилось правилом, что повторилось хоть дважды, — от этого крылечка полагалось бы подконвойному устремиться в буфет и там до икоты налакаться жёлтого, а он пошагал в рабочую зону, да как ещё резво! И какие там показывал чудеса сознательности — планки так и вспархивали под его руками, все перекуры — на ходу, а домой он просто скакал по шпалам с изрядной связкой на плече и пел уже что-то новенькое, бодрое, с выдохом на прыжке:
О таком подконвойном только мечтать было, с таким подконвойным — жить да радоваться! Но, к сожалению, их походам уже наступал конец. Ещё раза два они сходили и принесли немалые охапки, а потом Потёртый накрепко засел в доме и занялся там неизвестно чем, сунуться не стало возможности: такая оттуда потекла вонища — приторно-пьяная, выедающая глаза и горло. Тётя Стюра открыла настежь все окна, и вонь растеклась по двору. Трезорка чихал и плакал, убегал отдышиваться в чужие дворы, а Руслан предпочёл отнести свой пост на другую сторону улицы. Тут были, конечно, непросматриваемые зоны, и под завесою своей вони подконвойный вполне мог уйти через забор, но, к счастью, он себя непрестанно выдавал голосом. С утра, оставшись в доме один, он там блеял, кряхтел и рычал, сам себе задавал грозные вопросы: «Это кто делал? Я спрашиваю — вот это кто грунтовал? Не сознаесси, падло? Руки б тебе пообрывать!» — а то, напротив, очень довольный, пел дребезжащим, на редкость противным тенорком: «У ва-ас, поди, двуно-огая жена-а!..» Когда же возвращалась тётя Стюра — из какой-то своей рабочей зоны, — немедленно у них начинался ор:
— Сколько ты ложишь? Ты уж десятый, не то пятнадцатый слой ложишь! Кончай это дело, ну тя в болото, продыхнуть нечем!..
— Зато ты увидишь, Стюра! — кричал он торжествующе. — Ты увидишь: от нас с тобой следа не останется, сгниём вчистую, но за такую вот политурку — косточкам моим не будет стыдно!
По вечерам же у них наступала необычная тишина, они полюбили подолгу стоять на крыльце рядом, облокотясь на перила, изредка перекидываясь словами, отрывистыми и утопающими в шёпоте, точно у заговорщиков. Эти двое что-то замыслили — и Руслан терялся в догадках.
Но вот явилась возможность подступиться к ним. Великая деятельность подконвойного прошла обвалом, и сам он сидел живым обломком этого обвала — расслабленно-добрый, с бледным осунувшимся лицом, медленно разминая папироску слипающимися пальцами; в растерзанном вороте белой рубахи, заляпанной чем-то красно-коричневым, виднелись потные выпуклые ключицы. Тётя Стюра, утвердив руку на его плече, высилась над ним — величественная, но несколько грустная, с влажным таинственным блеском в глазах. На ней было нарядное голубое платье, которого Руслан ещё не видел, с короткими рукавчиками и кружевом на груди. Платье ей жало, то и дело она его оттягивала книзу и поводила плечом. От тёти Стюры терпко, убойно пахло цветами.
— Руслаша, жив ещё? — спросил Потёртый. Будто Руслан никак не должен был выжить от его едкой гадости. — Расставаться нам с тобой пора, хочешь не хочешь. На поезде завтра — ту-ту!.. А то, может, вместе? Поди-ка, на тебя и билета не спросят. А дорожка — тебе незнакомая, долгая, за трое суток насмотришься, сколько за всю жизнь не повидал. Как ты на это дело?
Но сам-то Потёртый, говоря это, не видел сейчас ни этого поезда, ни дороги, и поэтому не увидел их Руслан, для него речи подконвойного остались пустым набором невнятных звуков.
— Ещё задумал! — сказала тётя Стюра. — Пса с собой везти. Неизвестно какого.
— Почему ж неизвестно? Казённого. Вроде трофея. Другие с войны шмотье везли, аккордеоны, надо ж и зэку[2] трофей какой привезти. Так соглашайся, а?
— Какая-то лукавая мысль вползала в его голову, ещё, впрочем, не отуманенную. — Приедем — народ повеселим. Покажем, как мы с тобой ходили, с чем их, наши срока, лопали. Там этого отродясь не видели, расскажешь в бане — шайками закидают, не поверят. Только ты меня по всей строгости веди: шаг вправо, шаг влево — рычи, не давай поблажки. А то так — за ногу, это мы стерпим.
А вот эту их прогулку Потёртый себе представил ясно, и представил её Руслан, понявший наконец, чем же так тяготится его подконвойный. И тётя Стюра увидела картину, которую и не чаяла когда-нибудь увидеть, — Руслан, склонив голову, качнув хвостом, приблизился к Потёртому и ткнулся лбом в его колено. Он приник к этой истрёпанной штанине, как приникал к шинели хозяина, когда хотел напомнить, что вот он рядом и всегда готов прийти на помощь, но тут ещё были признание и просьба, с которыми как будто и немыслимо караульному псу обратиться к кому бы то ни было, кроме хозяина: «Я тоже устал этого ждать, но — потерпи. Потерпи!»
— Смотри, привыкать начал! — сказала, изумясь, тётя Стюра.
— Что же он — не живой? Ему, думаешь, так просто расставаться? А ведь тоже, поди, чего-то соображает! Башка-то здоровая, что-то ж в ней есть. Ты не гони его, он пёсик с мечтой, ещё перекуётся. А я приеду — увидишь, как он меня встретит.
Рука его легла на прижмуренные глаза Руслана. Приторной гадостью так от неё разило, что голова кружилась. Ну, и была это уже вольность, непозволимая даже примерному лагернику. Высвободясь, Руслан ушёл за ворота и лёг там на тротуар. Всё же он думал о подконвойном растроганно и язвясь упрёком себе — за нелепые свои подозрения. Так долго стерёг он эту отбившуюся овцу, а она-то спала и видела, как бы ей возвратиться в стадо!
И на весь следующий день был снят бессменный караул. Ревностный конвоир дал, наконец, и себе полную свободу. Он вдосталь наохотился, набегался по лесам, всласть належался на солнышке — изредка лениво, с чувством собственника, поглядывая с вершины холма на раскинувшийся посёлок: где-то там, в одном из этих симпатичных домиков, сама себя стерегла его главная добыча, бесценное его сокровище. Но часовой механизм, скрытый в его мозгу, лишь казался выключенным; он отсчитывал время свободы, но с прежней неумолимостью, и в предзакатный тревожный час подал Руслану слабый сигнал, чуть слышный толчок в сердце. Что-то было не так. Слишком всё хорошо. Так хорошо, что этого просто быть не может.
Спускаясь с холма, он пытался вспомнить, что же его могло насторожить. Невиданной голубизны платье тёти Стюры? Грустный прощальный блеск в её глазах? Пожалуй, вот этот блеск, только не прощальный он, а обманный! Всегда отчего-то грустят двуногие накануне своего предательства. Если вспомнить получше — по-особенному печальны глаза лагерника, за которым завтра помчишься по тревоге в погоню. Грустные ласковые предатели, они усыпили его!
Ему не пришлось сворачивать с главной улицы — их следы выходили из переулка и удалялись к станции. И совсем недавно они здесь прошли — ещё не развеялись его приторная дрянь и её цветочная терпкость. Запах своего бегства они заглушили этим букетом — и неплохо придумали, это покрепче махорки! Но одну ошибку они всё же совершили, и она не даст им далеко уйти: тётя Стюра надела новые туфли — и тоже тесные, шла она в них весьма тяжело, а Потёртый как ни нервничал, но приноравливал к ней свой шаг.
Он разыскал их в дальнем конце перрона — и пыл погони слегка поугас. Он ждал застать их в смятении, пугливо озирающимися, они же сидели на скамье согбенные и почти недвижные. Его, примчавшегося с жарким дыханием, они вовсе не заметили. Скрытый фонарным столбом, он прошёл вдоль сетчатой оградки, крашенной в серебрянку, и лёг позади скамьи. Отсюда видны были только их ноги — Потёртый сжимал ими солдатский мешок, туго набитый, тётя Стюра высвободилась из тесных своих туфель и шевелила пальцами. Зато слышал он каждый их вздох и лёгкую хрипотцу в голосе — и вот что уловил скоро: они не собирались бежать вместе.
— На телеграммы не траться, — говорила она. — Ну их в болото, я эти телеграммы на дух не переношу. А напиши поподробней. Ну, уж заставь себя.
— Сразу, как приеду, — напишу.
— Да сразу-то — зачем? Обсмотрись сперва, найди их. Ещё, может, и не найдёшь — всякое ж могло быть. А найдёшь — тем более не до меня будет. Но хоть через месяц вспомни, а то ж я буду думать — под трамвай попал.
— Я напишу, напишу, — повторял он тупо. — Ты не скучай, ладно?
— Да постараюсь. Особо и некогда будет скучать. Я тебе говорила или нет? — уже объявили нам: всю контору туда переводют, где твой лагерь был. Большие дела намечаются. Со следующего месяца обещают автобус пустить. Туда да обратно, да во дворе немножко управиться — смотришь, время и заполнено. Так что, если вернёшься, меня случаем не застанешь — знай, где искать.
Он слушал, чертя по асфальту ботинком, на который, наверно, смотрел.
— Стюра, — перебил он её, — знаешь, я набрехал тогда, что сон видел.
— Ну? Какой сон?
— Будто приснилось мне, что все мои живы и ждут меня. Ничего не сон. А я письмо получил. Она перестала шевелить пальцами.
— Я тебе про соседа, помнишь, рассказывал? С которым в пересылке встретились. Вместе и сюда ехали, в одном вагоне. И тут вместе, почти до звонка, он на шесть месяцев раньше освободился, по инвалидности сактировали. Ну, тут не знаю, кому больше повезло. Специальность у него хреновая — формовщик по фасонному литью. А где его тут возьмёшь, литьё, да ещё тебе фасонное! Так всю дорогу — на общих, из лесу не вылезал, килу оттуда принёс. А я всё же — по хорошему дереву, иногда мебелишку начальнику сообразишь, я же и драпировщиком тоже могу, — ну, так и вытянул, не загнулся. Но настоящей работы никому не делал. Хрена вот вам, паскуды!
— Ты не вспоминай. Тебе жить надо, а не вспоминать. Так что — сосед?
— Так вот, от него я письмо получил.
— Какой ты! — сказала она с обидой. — Разве я враг тебе? Ну, и сказал бы сразу, что письмо. Это же лучше — что письмо. Зато ж ты теперь точно знаешь, что не зря вся поездка.
— Этого не знаю. Я не просил его говорить, что я живой. А просто чтоб намекнул — мол, всякие случаи бывают, иногда и возвращаются. Н-да. Заохали. Забеспокоились.
— Ну, естественно! Обрадовались.
— Нет, этого не пишет, что обрадовались. А пишет — учти, твоя старшая в институте учится.
— Такая уже большая?.. Ну, поздравить можно. Чего ж тут плохого?
— А вот про анкету, чего она там написала, это ему не удалось узнать. Не говорят.
— Да теперь не так их и спрашивают. С нами даже беседу проводили в конторе. Смотрят, но не строго. Ты не волнуйся. Ты скажи — его-то как встретили?
— Про себя-то он больше всего и пишет. Да всё — по-лагерному, при дамах даже не повторишь.
— Сволочи! Ну какие ж сволочи! Он вздохнул протяжно.
— Тоже я их понимаю. Сами неизвестно как с жизнью справляются, а тут он ещё прикатил — с килой своей да с освобождением, не знаешь, чего хуже. Вот я что думаю — не покажусь я им сразу. Издаля, по-тихому присмотрюсь. Опять же, соседа вызову, посовещаемся.
— Много он тебе насоветует! Я же всё-таки умная, я же не зря спросила — его как встретили. Нарочно он тебя стращает, за компанию. А у него — своё, ты к себе не примеряй.
— Не-ет, это раньше так было: у каждого своё. А сейчас у нас с ним одно, а у них у всех — другое.
Из того, что говорилось, Руслан выловил, что Потёртый уже раскаивается в своём бегстве, уже бы и вернулся, пожалуй, когда б она его не подначивала, — и как же он сам был прав, как осмотрителен, что не соблазнился её супами! Но ей что-то плохо удавались её подначки, или она не слишком хотела, чтоб удались, — с каждой минутой Потёртый всё больше чувствовал привычный ослабляющий страх, этот беспокойный ботинок выдавал его всего.
— Если бы раньше, Стюра. Если бы раньше!.. Вот не поверишь: получил — обрадовался, а потом все силы куда-то девались. На шкап этот ушли?
— Да при чём шкап? Да пропади он…
— Да, не то говорю. Ещё бы раньше.
— Раньше — когда освободился? Ну, это уже я виновата. Было б мне, только ты явился: «Хозяюшка, нет ли какой работки?» — сразу тебе и врезать: «Иди отваливай! На тебе на билет, сколько не хватает; пропьёшь — не заявляйся, убью кочергой!»
— Драпануть надо было с полсрока, вот когда «раньше». Неужели же обязательно — чтоб догнали?
— Ты-то бы наверняка попался.
— Да не страшно — попасться, а что — не дойдёшь. Сгинешь напрасно, как тварь лесная, ползучая. Ведь до дому не дошлёпаешь, чтоб где-то не пересидеть, а мне только домой и хотелось, больше никуда. Своих бы только увидеть глазами. Письма посылаю — нет ответа. Вишь ты, тит его мать, улицу переименовали: то была Овражная, теперь она — маршала Чойболсана. И номер другой, там половина домов сгорела в оккупацию. Так я и говорю — своих увидеть, а там — берите, мотайте ваши срока, да хоть вышку! Но знать бы, где пересидеть, кто бы пожрать дал, на дорожку бы ссудил малость, я б ему отработал. Не ко всякому же постучишься — и чтоб живая душа оказалась! Знал бы я, что ты тут рядом, под боком, можно сказать, жила…
— Ты опять не то говоришь, — сказала она с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика. — Теперь уж совсем не то. Хочешь, я скажу? Жила — только с кем? Нет, это ты не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.
— Так бы и побежала?
— А как думаешь? Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.
— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?
— Не спрашивай меня. Я тебе не отвечу. Сказала — и хватит. Сказала — чтоб ты знал — ничего бы у тебя тут раньше не вышло. Успокоила тебя? Ну вот, теперь езжай смело.
Поезд уже показался в вечереющей дали. Немногие отъезжающие потянулись к краю платформы. На станции ударил колокол.
Тётя Стюра поднялась первая и крепко потопала своими туфлями. Потёртый вставал медленно, как бы отклеиваясь от скамьи, с той неохотой в ногах, с какой поднимается от костра угревшийся лагерник на работу в мороз. Да он точно бы и вправду мёрз — в зимней своей шапке и пальто, наглухо замотанный шарфом. Она ему помогла с мешком и торопливо обцеловала лицо. Он её обнял судорожно, уронив мешок с плеча на локоть. И едва он влез на подножку, как вдоль состава загрохотала сцепка и дёрнуло вагон. Потёртый обернулся — испуганный до бледности, до пота на висках, до безумных глаз.
— Стюра!..
— Ничего, ничего. — Она пошла рядом с вагоном. — Я Стюра. Держись давай крепче.
Руслан, вывалив от духоты язык, скосился им вслед. В своей венценосной спеси мы если и зовём их братьями, так только меньшими, младшими, — но любой из нас, из больших, из старших, что бы сделал, окажись он в Руслановой шкуре и на его посту? Он бы кинулся следом? Он бы догнал и стащил подконвойного за полу? Распластал бы его на асфальте, свирепо рыча? Уже та подножка, где стоял Потёртый, поравнялась со станцией, уже тётя Стюра устала идти за поездом и повернула обратно, — чёрная и плоская, как мишень, неся на плече багровый закатный шар, — а Руслан всё лежал и ждал чего-то, не чувствуя Потёртого отъехавшим, потерянным для себя. Когда полетел и шлёпнулся мешок, он уже мог и отвернуться, мог дальше не смотреть, как она подошла к Потёртому и, чертыхаясь, помогла ему подняться на ноги и как они опять обнялись на опустевшем перроне, точно бы встретясь после разлуки.
Она подвела его к скамье и усадила, а сама стояла перед ним, качая головой и досадливо хмурясь. Потом сняла с него шапку и расстегнула пальто.
— Ну, посиди, посиди. Вот бестолковый — сдали бы раньше билет. Ладно, будем считать — съездил, вернулся. Теперь отдохни.
— Нет, — сказал он, дыша прерывисто, как загнанный. — Будем считать — и не собирался. Куда? На кой? Ты ж пойми меня…
— Я понимаю, — сказала она.
Домой они возвращались долго, присаживаясь чуть не на каждой лавочке у чьих-нибудь ворот. Потёртый нёс свою шапку в руках, она несла туфли. Руслан шёл далеко позади, всё ещё не замеченный ими, не так уж и радуясь этому возвращению. Знали б они, сколько прибавили ему заботы! Что-то же надо было делать с Потёртым, он извёлся, устал верить и ждать, вот и уйти пытался — да понял, что это бесполезно. А там, куда Руслан хотел бы его поселить, где только и мог подконвойный обрести покой, там неизвестно что делалось. Ведь с того дня, как он почуял след хозяина в конце главной улицы, он не переступал этой черты, даже и не задумался, что же там делается, в старой зоне. Карауля одного лагерника, он упустил что-то более важное — и таинственными путями, тончайшими нитями это важное почему-то привязывалось к тёте Стюре, к её речам на перроне. Почему-то же он вспомнил о лагере именно тогда, лёжа позади скамьи.
До поздней ночи, слушая, как они шумят около своей бутылки и как Потёртый всё что-то доказывает слёзно и не может успокоиться, он продолжал вспоминать и разбираться. Сколько раз он видел, как закатывались в тупик нагруженные платформы, кран поднимал поддоны с кирпичами, длинные серые балки и панели, огромные ящики с чёрными надписями; всё это грузилось на машины и куда-то везлось по знакомой ему дороге. Он для порядка облаивал эти грузовики, — никто ему не командовал: «Голос!», но ведь он служил сам по себе и, значит, сам себе временно мог командовать, — иногда провожал их до того места, о котором так не хотелось теперь вспоминать, и ни разу не догадался промчаться за ними до самого конца! Если б мог он покраснеть, так сделался бы пунцовым от носа до кончика хвоста. Он задымился бы от стыда!
Утро застало его в дороге. С той поры она сильно изменилась, она расширилась и от самого посёлка была устлана мелким светлым щебнем. И где раньше изгибалась по краю оврага, там теперь этот изгиб был выровнен высоченной насыпью, на склоне которой урчал накренившийся бульдозер. В лесу она текла рекою, широко раздвинувшей зелёные берега, — одно бы удовольствие по ней бежать, если б не так было колко лапам. Но в сторонке, среди деревьев, ветвились чудесные тропинки, временами то убегая в чащу, а то опять сходясь к дороге, так что она ненадолго терялась из виду. Да он бы и не потерял её, от неё так шибко разило извёсткой и машинным угаром.
Но лагерь его совсем ошеломил, заставил тут же сесть и вывалить язык от страшного волнения. Ничего подобного он не предполагал увидеть. По всему полю, выйдя далеко за старую зону, раскинулись одноэтажные серые корпуса — одни уже с застеклёнными высокими окнами, другие ещё с пустыми проёмами, только лишь подведённые под кровлю, третьи — едва поднимавшиеся над землёй неровными зубцами. Он принялся считать — насчитал шесть, а дальше сбился. Руслан только до шести умел считать, потому что в колонну по пять строили — если подзатесывался шестой, говорили: «Много!» — и прогоняли его в следующий ряд. Да, пожалуй, лучше было считать, что корпусов много. Но странно: бараков почти не осталось — ну, разве два или три, и те с выбитыми стёклами. Осталась хозяйская казарма, склады и гараж, а вот собачника он не увидел.
Он кинулся искать — ни следа, ни запаха. Люди, которые здесь похаживали и весело его окликали, так всё испакостили своими кострами, пролитым цементным раствором, кислой окалиной, что и приблизительно не определишь, где была кухня, где прогулочный дворик, а где площадка для занятий. Ему даже показалось, что это вовсе не лагерь, а нечто другое, а лагерь куда-то перенесли. Ведь такое дважды случалось на его веку. Леса постепенно редели, и всё дальше приходилось гонять колонны, а жилая зона переполнялась новыми партиями, прибывающими на лечение, и в конце концов происходило великое переселение. Всё начиналось на новом месте буквально с одного забитого кола, но когда всё утрясалось, приходило в порядок, то получалось, что новый лагерь даже просторнее и, например, собакам в нём гораздо лучше живётся — в чистых кабинах, с хорошей тёплой караульной, даже с грелками в каждой постовой будке, — да и лагерники не могли б пожаловаться на крепкие бетонные карцеры, в которых гораздо больше их помещалось, чем в какой-нибудь бревенчатой загородке без крыши. Но в последнее лето всем опять жилось ужасно тесно. Все из-за этого изнервничались, а у лагерников прорезались громкие злобные голоса; они всё чаще собирались толпами и подолгу не желали расходиться. Да даже собаки понимали: переселение — просто назревшая необходимость, иначе что-то да произойдёт. Вот и произошло — до сих пор никого найти не могут.
Нет, это был всё-таки лагерь, а не что-то другое. Ведь всегда на том месте, откуда уходили, ничего не оставалось, одни погасшие головешки да заровненные смердящие ямы. Признаться, Руслану больше понравилось, что на этот раз решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее. Ему только показалось, что корпуса подступили к лесу опасно близко, а некоторые даже углубились в него, — пулемётчик на вышке, если и заметит беглеца, не успеет прицелиться, как тот уже скрылся в чаще. Да, впрочем, и вышек не было! И не было нигде проволоки — проволоки, с которой и начиналось-то всё, для неё-то и забивался первый же кол!
Он решил, что её потом натянут, когда всё будет закончено, всё разместится как следует. Может быть, ещё много придётся вырубить леса, чтоб был хороший обзор. Но где же она всё-таки пройдёт, двойная колючая изгородь? — у него что-то с нею никак не получалось. Лагерь, в его воображении, пошёл разрастаться во все стороны, и проволоку приходилось отодвигать всё дальше, обносить вокруг леса, и вокруг посёлка и станции, и вокруг всего, что довелось Руслану увидеть. Прямо дух захватывало — ведь тогда и луна проклятая окажется в огнестрельной зоне, и хозяева смогут её сшибить или упрятать в карцер! Это было бы славно, вполне хватит фонарей. От них меньше беспокойства и тёмных углов.
Что же ещё не устраивало его, не укладывалось в мозгу? Он знал, что мир велик, — в какую сторону ни побеги, а он всё будет вставать тебе навстречу. Помнилось, как из питомника вёз его хозяин в кабине грузовика и давал смотреть в окошко — как же долго они ехали и как много было всего! Так если мир такой большой, сколько же это кольев надо забить, сколько размотать тяжеленных бухт? А может быть… может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?
Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдёт, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке. Людей много, а собака всё-таки редкость. Он, конечно, не имел в виду дворняжек — этих-то больше чем достаточно, — а настоящих собак, служебных, которых нужно отобрать, вырастить, обучить всем наукам. Только после этого собака сможет чему-то научить людей, которые растут безо всякого отбора и ничему не учатся. А кроме того, как это ни печально, некоторых собак, переставших понимать, что к чему, и совсем безнадёжных лагерников нужно же куда-то уводить, в жилой зоне стрелять не полагается, а куда же их выведешь, если всюду зона? Так и так выходило — без проволоки не обойдёшься. А где ж она будет? А где надо, там и будет!
И всё отлично устроилось. Он возвращался, довольный всем увиденным, хоть и слишком припозднился — и поохотиться не успел, и где-то на середине пути ждала его луна, которую пока ещё никто не подстрелил. Да, видно, она не пожелала сегодня выползти, а между тем что-то светило ему, он хорошо различал и тропинку, и кусты, и деревья. Задержавшись по небольшому делу, он поднял глаза к небу и увидел звёзды. Вон что, решили они ему сегодня светить — ну, прекрасно, пусть светят. Он побежал дальше — и они побежали вместе с ним. Он остановился — и они остановились тоже, терпеливо ждали его. Этот фокус он и раньше знал, но всегда приходил от него в восторг. Он поглядел на звёзды благодарно, хотел что-то дружеское им пролаять — и вдруг понял отчётливо, что поезд, которого так долго ждут они с Потёртым, скоро уже должен прийти.
Яркая вспышка озарила его мозг и высветила видение — самое сладостное из его видений. Никогда не видел он моря, но соль праматери нашей была же растворена и в его крови, и хорошо помнил он, как грозно ревел океан, накатывая бесконечные валы на серую галечную отмель, и взлетали фонтанами всклокоченные дымящиеся гребни, а в тёмном небе носились белые птицы, накликая беду. Посох и белый плащ хозяина лежали на берегу, лежали его верёвочные сандалии и котомка с хлебом и вином, а сам он плавал за полосой прибоя. Он выбился из сил, не мог одолеть ревущий откат волны, он звал на помощь, и Руслан, пролаяв ему: «Я сейчас, продержись немножко!» — бросался в толщу воды, вставшую перед ним стеною. Он пробивал её мордой, ослепший, полуоглохший, слыша только стеклянный скрежет камней, и когда уже воздух рвался из пасти, выныривал и отфыркивался, — а потом плыл к хозяину, полный счастья и гордости, высоко подлетая на гребнях и скатываясь вниз по склону, всё ближе к хозяину, то теряя его из виду, а то вновь отыскивая его голову среди осатаневшей стихии.
Очнувшись, он побежал дальше. Его жгли, подгоняли новые заботы — надо усилить наблюдение за платформой, надо оповестить всех собак. И грызло сомнение — поверят ли они ему, уже давно вызывающему у них одно раздражение? Сами погрязнув в грехе, они рады и за ним заподозрить греховное: уже поймал он слушок, пущенный ими, будто он служит Потёртому. Гнусней не могли придумать! Но если взглянуть спокойно, так он действительно подраспустился: подконвойному ткнулся в колено лбом — какой позор! И он уже спохватывался в испуге: перед Службой, накануне её возвращения, не может ли и он себя кое в чём уличить? Служил ли кому-нибудь, кроме неё? Нет, нет и нет. Ни от кого подачки не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял. С чужаками — не знался, связей, порочащих служебную собаку, не имел. Минуточку, а что такое было у него с Альмой? Вот именно, с Альмой — без команды, без поводка, без хозяев, которые должны при этом присутствовать. Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой! Был трепетный порыв, безотчётное движение души, она с ним бежала рядом, как пристёгнутая, они касались друг друга плечами, — но в голове-то она всё время держала своих щенков, а щенки — это уже её грех, неизвестно, как она из него выкрутится. Право, он жалел Альму, но сам-то он — чист.
Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жёсткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету, — а раньше, поди, и была такая, но канула, вместе с архивом, в подвалы «вечного хранения», — она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «НЕ».
Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес, великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звёздами, страшась опоздать.
И Служба ещё раз позвала Руслана.
5
Он ждал — и дождался. Кто так неистово ждёт, всегда дождётся. И не какой-то счастливец принёс ему эту весть — он сам оказался в то утро на платформе, когда загорелся красный фонарь и чумазый охрипший паровозик, тендером наперёд, закатил в тупик серо-зелёные пассажирские вагоны.
Ещё стучало на стыках, ещё только засипело внизу, под вагонами, а с подножек уже сыпалось, рушилось нечто невиданное, неслыханное — с криками, гомоном, смехом, топотом сапог и бутсов, шлёпаньем тапочек, стуком чемоданов, баулов, рюкзаков. Его оглушило, ослепило, хлынуло ему в ноздри волною одуряющих запахов; он вскочил и помчался, захлёбываясь лаем, в другой конец состава — чего не случалось с ним никогда. Ну, да никогда и не приходилось ему встречать такую огромную партию, и такую странную, голосистую, безалаберную, да ещё наполовину из женщин, — этих-то зачем столько привезли!
Но Служба пришла — и он был готов к ней; уже через минуту он преобразился, сделался упругим, подобранным, пронзительно-жёлтоглазым; шерсть на загривке вздулась воротником, а уши и живот и кончик хвоста вздрагивали от низкого металлического рыка. И тут же он опять повёл себя неприлично, но уже от радости: схватил и потащил чей-то рюкзак, который у него с весёлым реготом вырвали за лямки, едва не с клыками вместе, а он не обиделся и стал кидаться на грудь парням, лизать их солёные лица, пока ему не сунули в пасть угол колючего солдатского одеяла, — и на это он не обиделся, хотя долго не мог отфыркаться. Ведь они все вернулись! И притом — вернулись добровольно! Они убедились, что нет никакой лучшей жизни там, за лесами, вдали от лагеря, — что и было известно всем хозяевам и собакам, — и сами радовались своему прозрению.
Однако и про свои обязанности он не забывал — проследить, чтоб все вышли из вагонов, остались бы только проводники в фуражках, и чтоб отошли на два шага и ждали, не сходя с платформы, пока не прибудут хозяева.
Ах, как безбожно они запаздывали, а то ведь уже заранее стояли цепочкой — каждый со своей собакой против своей двери. Здесь, на этой бетонной плите, поездной конвой передавал новую партию лагерному; вновь прибывших сажали друг другу в затылок, и руки они держали на затылках, а между рядами ходили хозяева — выкликали, пересчитывали, ощупывали вещи; лишнее — отбиралось и складывалось на грузовик; если кому-нибудь это не нравилось, в дело без команды вмешивались собаки.
Нынче же всё как-то выходило не по правилам: никто не сел, вещи не положил рядышком, а с ними вместе все куда-то повалили гурьбой, — этим они ему рвали сердце. Но он успокоился, когда увидел, что они и не думают разбегаться, с платформы не спрыгивают, а пошли знакомым путём — по ступеням к скверику. Ему только надо было побеспокоиться, чтоб не больно растягивались, а кого и подтолкнуть лапами и мордой. Эта привычка — подталкивать отстающих — откуда у него взялась? Кто первый придумал? Ингус, наверное, в чью бы ещё башку пришла такая несуразица? Потому что тем, кого он подталкивал, это вовсе не нравилось, он-то их толкал — побыстрей в тепло, а они шарахались и вскрикивали в испуге — будто другой радости нет у собаки, как только покусать, ей бы самой поскорей до тепла добраться. Ну, потом это перенял Джульбарс — и, конечно, всё испортил по своему сволочному обыкновению. Но ведь то — Джульбарс!
На площади, у ограды скверика, все опять сгрудились в толпу, вещи положили на землю и повернулись лицом к станции. Там на крыльце стояли уже два невысоких человечка в одинаковых серых костюмах, с чем-то малиновым под горлом, один потолще, другой похудее. Толстенький лишь улыбался, заложив руки за спину, тощий же водрузил очки на нос, развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное, иногда выбрасывая руку в воздух, как будто кидал апорт, и повторял после пауз — разика два или три: «И вот вы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината…» Потом он сложил бумажку, и как раз в это время толстенький достал руки из-за спины и похлопал в ладоши. Тогда и все стали хлопать и кричать «Рра-а!», а самые задние кричали «Вау!» и были этим очень довольны. Потом на крыльцо взошёл один из приезжих, поставил чемодан у ног и тоже развернул бумажку. Своей бумажке он говорил уже чуть покороче и повторял немножко по-другому: «И вот мы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината…» Диковинные слова щекотали слух Руслану — как те, что любил выкрикивать Потёртый, набравшись из своей бутылки: «сандал», «палисандра», «белофинны»… «А кстати, — подумал Руслан, — хорошо бы и его сюда. Может, сбегать?»
Но сбегать-то у него уже не было времени — вот они наговорились, намахались, накурились, подобрали вещи с земли — которых так никто и не проверил! — и начали выстраиваться в колонну. Вот это уже была новость — и из приятных: они сами построились в колонну! Уже сколько правил было нарушено, но самое главное из них — идти не вразброд, а колонною, — они помнили и соблюли. И очень довольный, гордый тем, что один конвоирует такую большую партию и знает, куда вести её, он так же привычно, как они, занял своё место — с правой стороны, ближе к голове строя.
Колонна вышла на главную улицу. Она неторопливо текла по её отверделым колдобинам, топча подорожник, пыля тысячью ног, и светлая глинистая пыль оседала на редких тополях и остроколых заборах палисадников. Где-то в глубине рядов тренькнула гитара, скрежетнули гармошки, и тотчас с готовностью выбежала вперёд девица в мужских штанах, коротко стриженная, как мальчишка, и пошла лицом к строю, мелко-мелко выплясывая в пыли и выпевая крикливым надорванным голосом:
Это было неслыханное нарушение, но его совершила женщина, и Руслан потерялся — как с нею поступить. В его колоннах эти существа были диковинной редкостью, и с ними никаких морок не бывало, разве что они чаще отставали, и приходилось их подталкивать. Но зато о побегах они и не помышляли, и в конце концов он к ним проникся безразличием. Он и эту решил не трогать, тем более что от её выбега строй не разрушился. Гармошки меж тем заскрежетали во всю мочь; девица перевернулась вокруг своей оси и опять пошла спиною вперёд, улыбаясь во всё скуластое, обожжённое загаром лицо. Она ещё что-то пропела, но уже совсем беззвучно, потому что мужские голоса густо заревели своё: «Рупь за сено, два за воз, д'полтора за перевоз, ах, чечевика с викою, д'вика с чечевикою», а в других рядах — про «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону», а ещё подалее — что «на заборе сидит кот, поглощает кислород, оттого-то у народа не хватает кислорода».
А в домах приоткрывались слепенькие окошки, и из них выглядывали — кто обалдело, а кто с приклеившейся удивлённой улыбкой; в палисадниках и на огородах женщины с подоткнутыми юбками разгибали спины и вглядывались, прикрывая глаза ладонью от солнца. Белоголовый старик в солдатской залатанной гимнастёрке подошёл к низкому штакетнику и молча, бесстрастно смотрел голубыми выцветшими глазами. Руки его, сжимавшие черенок лопаты, были в крупных венах и так же темны, как этот черенок, и таким же тёмным, в глубоких морщинах, было его лицо, а локти и открытая шея — тонкие и белые, с голубыми прожилками. Старик долго шевелил губами, потом погладил себя по голове и спросил:
— Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские?
— Всякие, папаша! — отвечали ему. — И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких?
— Видал, — сказал старик. — Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели, однако.
Он улыбнулся щербатым ртом и побрёл к своим грядам.
Так она шла, эта колонна, — горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними, и от этого счастье Руслана было неполно. Ему не нравились эти новые правила, нарушавшие молчаливое торжество Службы. Но он знал, что должен набраться терпения, эти их крикливость, нервозность, дурашливость пройдут очень скоро, и станут они тихими, большелобыми и большеглазыми, как бы изнутри светящимися. И жалел он только, что не может им сообщить, о чём они даже не подозревают, — какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь, какие большие, просто чудесные бараки, где они, пожалуй, все-все поместятся, ну разве что некоторых придётся втолкнуть, а что нет ещё проволоки — то не беда, они же её и натянут. Свою проволоку, которую не перейдут они потом, даже подойти не посмеют, они всегда натягивали сами.
Вдруг он увидел — отовсюду к колонне сбегаются собаки. Они бегут из переулков, из дворов, перемахивают через заборы, все так похожие друг на друга — с чёрными гладкими спинами и жёлтыми пушистыми животами, с одинаковым — бестолково-радостным — оскалом; даже и языки у них, кажется, на одну сторону вывалены; все ему некогда свои — Джульбарс, Енисей, Байкал, неразлучницы Эра и Гильза, Курок и Затвор, Дик и Цезарь, Серый, Смелый, Седой, Альма со своим белоглазым, — ну, этому-то шпаку что тут за интерес? Да, впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени. Последним явился Люкс, которого, впрочем, хозяева иначе как Люксиком не называли, — существо Руслану крайне неприятное, сукоподобное по виду, а душой растленное. В драках этот Люксик сразу валился на спину или жаловался Джульбарсу, который ему покровительствовал. А заслужил Люксик это покровительство тем, что выкусывал у него блох, которых у Джульбарса и не было, но Люксик это так изображал, что все их как будто видели. Вот он чем и держался в стае — подхалимствовал и потешал. Теперь он повалялся в пыли, а потом подпрыгнул и клацнул зубами, как бы ловя улетающую блоху, — для этого-то номера он и припозднился. И собаки его приветствовали за это улыбками и хвостами, тогда как Руслана они как будто и не заметили. Ну, да не он первый сталкивался с этим странным обыкновением толпы, которая обожает шута и тайно ненавидит героя.
Пробегая к своему месту, Джульбарс куснул его дружески в плечо. Руслан отвернулся и заворчал, он не забыл той поленницы и хиляка в безрукавке. Он не был завистлив, но сейчас остро и злобно позавидовал Джульбарсу — всегда эта сволочь ходила первой в колонне, а он, Руслан, только вторым, и теперь ему тоже приходилось попятиться. И вышло ему идти у бедра какого-то малого в новых ботинках на толстой резине — вот ещё и резину эту нюхать! И всё же не мог он не почувствовать влажной теплоты у глаз, не мог не признать, что бывшие его товарищи, несмотря на своё отступничество, явились по первому зову Службы. Приплелась даже ослепшая Аза и безошибочно заняла своё место — она ходила четвёртой слева. Всё было сделано, как надо, без суеты, молча. Лаяли одни дворняжки, но те-то свой лай вели издалека, а как выкатились, то сразу и поостыли — зрелище было им привычное, хотя и слегка позабытое.
Оттого, что всё вышло так просто, спокойно, никто из приезжих не напугался, не стал шарахаться от собак, пристроившихся по обеим сторонам колонны. Кое-кто отважился их погладить — не сказать, чтобы это нравилось собакам, но сносили, чуть только ворча. То ли обленились они, то ли подобрели.
— Мишка, а Мишк! — вдруг заорал этот, на резине, тонкий и с пухлым ещё ртом, совсем мальчишка. — Ты чувствуешь, какой сервис? Какой эскорт!
— От поселкома прислали, — откликался Мишка. — Или непосредственно от дирекции комбината.
— Я и говорю — забота о живом человеке. Интересное кино! Слушай, а может, они и шмотки понесут?
— Это мысль!
Мальчишка и впрямь положил на спину Руслану свой рюкзак. И Руслан, опять потерявшись, тащил этот рюкзак, к общему их веселью, пока мальчишке это не наскучило.
— Мерси, — сказал он, приподняв кепку. — Будем по очереди.
Его соседка потянулась трепать Руслану загривок. Он отворачивался, сдерживая рычание, и думал о том, как мало они поумнели, эти помрачённые, за своё долгое отсутствие. Если так хочется им доставить радость собаке, и непременно руками, лучше бы убрали их за спину.
Те, кто видел колонну со стороны, кто наблюдал это странное шествие людей и собак, стоя на дощатых тротуарах, или из окон, или поверх заборов, те почему-то уже не улыбались, а смотрели молча и хмуро. Понемногу и в колонне перестали смеяться и раздражать собак прикосновениями и кричать без толку, и наступила наконец тишина, в которой слышались только дробная поступь людей и жаркое собачье дыхание. В первый миг тишина показалась Руслану зловещей, пробудила недоброе предчувствие — они о чём-то догадались! Но о чём же, когда и так все знали наперёд? Может быть, пожалели, что вернулись, раздумали идти, куда их ведут, и сейчас кинутся в побег? Он оглянулся, увидел плутоватую морду Дика, с не зажившей ещё после битья ссадиной, за ним, держа интервал, шёл вперевалку спокойный рослый Байкал, дальше, мелко подёргивая лопатками, трусила Эра; все были заняты делом, для которого родились и выучились, никто не терзался предчувствиями, и он тоже успокоился и посмотрел вперёд — где кончалась улица и взбегала на холм пустынная дорога к лагерю. Он понял — они вернулись! Они по-настоящему вернулись! И то была величайшая минута жизни Руслана, звёздная его минута. Ради неё, этой минуты, жил он голодным и бездомным, грелся на кучах шлака и вымокал под весенними дождями, и ничего не принял из чужих рук — ни еды, ни даже крова; ради неё сторожил Потёртого и презрел хозяина, оказавшегося предателем. В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов, — так брат милосердия провожает в палату больного, чей разум пошатнулся от чрезмерной заботы ближних. И эта любовь, и гордость так ясно читались в широкой, от уха до уха, ослепительной улыбке Руслана.
Ещё с этой улыбкой он оборачивался, поражённый мгновенной слабостью, услышав глухое рычание и жуткий, точно предсмертный, человеческий вопль. Ещё он улыбался, когда уже чувствовал себя самым несчастным из псов, всё поняв сразу. Случилось то, чего не могло не случиться, потому что на главной улице посёлка находились все его магазины, торговые палатки и ларьки, и никто не напомнил вернувшимся, что им ни в коем случае нельзя выходить из строя. С самого начала не было хозяев, чтобы прочесть им такую понятную инструкцию — не долдоня в бумажку: «Комбинат… целлюлоза… и вот вы… и вот мы…», а коротко и вразумительно: «Шаг вправо… шаг влево… конвой стреляет без…» А ведь её приходилось читать этим помрачённым каждый день, при каждом построении, потому что к следующему построению они могли и забыть.
Мимо него, прочищая глотку, не спеша протрусил Джульбарс. Он взял с собой Дика. Руслана они оставляли стеречь ещё не потревоженные ряды. А там — уже всё смешалось: злобный лай, вопли укушенных и только ещё от страха, глухие удары — с хрипом, с натужным придыханием, — так бывает, когда бьют под брюхо. В каком-то оцепенении наблюдал он свалку в пыли, мельканье оскаленных пастей, падающих тел, кулаков и ног, вещей, которыми люди старались отбиться от разъярённых собак. На миг он ощутил прилив азарта, радостно-злобного, все окрашивающего в жёлтый цвет, но тут же прилив отхлынул, осталась сосущая тоска — оттого, что всё получилось так нелепо. Он вспомнил по рычанию, кто всё начал: ретивая Гильза, любительница крайних мер; она сразу валит и — к горлу. Ну, и тут же, конечно, кидается Эра. Не предупредят, не затолкают обратно в строй — плечом или лбом, не возьмут хоть за коленку для начала… Ох, да мало ли способов заставить человека подчиниться, не беря его за горло!
Он следил за свалкой почти безучастно, озабоченный лишь тем, чтобы никто не вышел из его рядов. Никто поначалу не выходил, и вдруг с криком выскочила девица — соседка того мальчишки на резиновом ходу. Руслан не успел её задержать — да, впрочем, и не увидел в том опасности. Но она вернулась, схватила за локоть своего спутника, совсем как будто остолбеневшего, потащила из строя. Руслан кинулся между ними и прихватил ей коленку. Она отскочила с визгом, немало его удивившим. Даже и молниеносно, когда церемониться некогда, он умел так сомкнуть челюсти, чтобы и кожи не поцарапать. Зато её спутнику, высунувшемуся на полшага, не понадобилось и такого внушения. Руслан лишь привздёрнул дрожащие губы, и мальчик уже стоял где надо, обиженный донельзя, но и напуганный до той же меры. Руслан к нему проникся чувством, чуть большим, чем доверие, — хороший мальчик, сразу усвоил, что к чему.
Но тут же он увидел нечто поразившее его: Джульбарса, выбегающего из схватки, — с кровавой пастью, с розовостью в кабаньих глазках, но — уходящего, когда там ещё никакого порядка не было. Поодаль прихрамывал всплакивающий Люксик. Пожалуй, он преувеличивал свои страдания, боевых следов на нём не замечалось, зато на Джульбарсе их было не счесть, и он на них не то что не обращал внимания, он хрипел от восторга!
Мотнув башкою, он позвал Руслана за собой. Они все вместе добежали до угла переулка, но здесь Руслан остановился. Остановился и Джульбарс. Теперь стало видно, что не от одного восторга он хрипит, но скорей от усталости, что его тушу едва держат дрожащие лапы и так хочется ему прилечь! Теперь, не при хозяевах, он мог это показать. Руслан его понимал — и всё же требовал вернуться. Он знал: собаки будут биться, пока бьётся Джульбарс; пусть он устал, остарел, обленивел, но пусть хоть слышится его командный рык — никто не посмеет уйти. Джульбарс едва выдерживал его взгляд — не выдержал Люксик: забыв про свою хромоту, подскочил к Руслану и с ярой злостью укусил в шею. Джульбарс, освирепев, двинулся покарать Люксика, а тот уже отскакивал, жалуясь, что и так наказан, прихватил невзначай колечко на ошейнике.
Ещё раз они встретились глазами; Джульбарс — даже с какой-то жалостью. Не любил он этого неистового, но тут уже они перестали и понимать друг друга. Ну, накусались вволю — и по домам, дальше — не наше собачье дело, когда хозяева давно отступились. Да наконец, по праву старейшины он освобождал Руслана с его поста. Всё напрасно — неистовый уже возвращался. Джульбарс глядел ему вслед и горестно тряс башкой. Потом, рыкнув на Люксика, чтоб сгинул, пошёл по переулку. Он уходил в свою старость царственной львиной побежкой, роняя каплями свою и чужую кровь, радуясь и тоскуя, что это — в последний раз.
Руслану же предстояло ещё удивиться: он застал свои ряды такими же, как и покинул. Непостижимо и нам, грамотным, но давняя, древняя наша привычка к строю оставила голову колонны почти не разрушенной. Ведь никто не приказал разойтись! Он побежал вдоль рядов, предупредительно рыча, выравнивая, заглаживая строй.
Всё побоище разыгралось у пивного ларька, но теперь оно перекинулось на другую сторону улицы; там почти всей сворой бились собаки, нападая и увёртываясь, иногда отскакивая на дощатый тротуар дух перевести, а хвост колонны все наползал, топча и давя упавших. Здесь, на его стороне, был как будто порядок. В спокойных позах, спинами опершись на прилавок, стояли трое, держа каждый в одной руке по кружке с жёлтеньким, а в другой по рыбке с завёрнутой шкуркой. Они были из местных и для Руслана интереса не представляли; к тому же они вежливо убрали ноги, давая ему пройти.
Странно, он не увидел ни Эры, ни Гильзы, — хотя где же им ещё надлежало быть? Закон простой — пока одни бьются, другие держат всё остальное стадо. Но он их не слышал и среди бившихся сейчас в смертельной злобе. Зато увидел пролом в штакетнике, куда уходил их след. Когда отсюда выдирали жердинки — побить неразлучниц, так этим лишь облегчили их бегство; какими жердинками их побьёшь — оглобли нужны! Но вот, значит, как — самые ретивые, которые всё и начали, первыми и ушли. А чуть подальше пролома он смог увидеть их работу. Сам ли сюда приполз этот человек, одолев канаву, или притащили его и посадили к штакетнику, но обработан он был на совесть. Обеими руками он держался за горло, сквозь пальцы на белую разодранную рубаху сочилась кровь, глаза были мутны, голубая бледность проступала даже сквозь загар. Это они ещё поспешили, а то бы он не сидел.
Зверь и человек встретились взглядами. Человек сначала силился понять, не в бреду ли он видит клыкастое чудовище, от которого его отделяла лишь канава, потом в глазах появились отчаяние и мольба, по лицу поползли крупные капли пота. Зверь же смотрел с угрюмым укором: ты всё забыл, какой лагерный пёс кинется на лежачего без команды? Он пряднул ушами, что было признаком мира, и отвернулся. И тотчас проскочила женщина — в чём-то цветастом, с белым в руках. Она торопилась к раненому и не заметила Руслана. Но памятью бокового зрения, чуть запоздало, вспомнила его и оглянулась. Появившийся так неслышно и такой спокойный, он испугал её сильнее, чем если бы рычал и кидался. Медленно попятясь, с расширенными ужасом глазами, что-то бормоча, она прислонилась спиной к боковой стенке ларька, а руками машинально сворачивала свою белую тряпку в жгут. Этим-то жгутиком она надеялась отбиться!
Он уже хотел пройти, когда жестокий, дыхание отбивающий удар сшиб его с лап, отбрасывая к той же стенке. Он удержался лишь тем, что привалился боком к коленям цветастой. Дико завизжав, она принялась хлестать его своим жгутиком — от этого он только уверился мгновенно, что её-то ему опасаться нечего.
Кто же из троих, надвигавшихся с искажёнными лицами и увесистыми своими пожитками в руках, ударил его под брюхо? Да, впрочем, это было и неважно. Просто пришло его время вступить. Всех их он оценил одним коротким взглядом. Один был раненый, с прокушенной рукою, только что он лежал, заваленный Байкалом, теперь бредёт, ничего ещё толком не соображая. Другой — невысокий, коренастый, с непроницаемым круглым лицом, на котором почти не видно запухших глазок, — был опасен по-настоящему, таких нелегко завалить, и думают они медленно, поэтому отступать не торопятся. А третий — был его мальчик, его обиженный пухлогубый мальчик с рюкзаком, на резиновых подошвах. Один раз ему простили нарушение, зачем же он снова ввязался? Зачем нападали они втроём, если только один чего-то стоил?
Вот зачем! Они переговаривались со своей цветастой, ободряли её, они шли её выручать. Самое нелепое, что он ей никакого зла не желал, она ему была безразлична. Просто она оказалась между ним и канавой, которую не догадывалась перепрыгнуть или не решалась — ей бы тогда пришлось повернуться к нему спиной. Как же всё глупо сложилось!
Он пошёл на них, оскалясь, слегка припадая на задние лапы. Они отступили — вот уж нападения они не ждали, — но отступили не все. Коренастый остался. Но так ведь Руслан и рассчитывал и для того припадал, чтобы прыгнуть.
Он все же повалил коренастого, но тот успел выставить круглое плечо, твёрдое, как дерево. Было ошибкой терзать это плечо, но Руслан уже начал стервенеть, — если б тот хоть закричал! Коренастый же молча, не торопясь, высвободил обе руки и взял его за шею. Вот отчего мир делается тусклым и всё внутри обжигает холодом. Бессильно царапая грудь коренастого когтями, он рвался, и что было сил напруживал шею, даже не слыша ударов по спине, точно она одеревенела. Услышал лишь, когда обрушилось на голову тяжёлое и плотное и острым рассекло надглазье. Но, верно, тем же добрым станковым рюкзаком досталось по пальцам и коренастому, хватка его ослабла, и Руслан, рванувшись, высвободился, глотнул воздуха, отскочил к стене ларька. Цветастой там уже не было.
Колонна разваливалась, она превращалась в сущее безобразие, в кошмарную горланящую толпу, которая вся собиралась на той стороне улицы. Оттуда ещё слышались голоса трёх или четырёх собак. Да, всего лишь трёх-четырёх, во главе с Байкалом. Он хороший боец, Байкал, спокойный, храбрый и сильный, он не суетится и долго не устаёт, и умеет других заразить своим спокойствием, — но если б то был Джульбарс! Да все бы они легли, но укротили стадо.
Однако ж те трое, с которыми он вовсе не выиграл схватку, опять подступали. Коренастый встал спокойно и молча, даже не держась за своё плечо, — Руслан понял, что дело серьёзно.
Их всех опередил четвёртый, появившийся откуда-то сбоку. Он был в солдатской гимнастёрке и галифе, в солдатских же сапогах, с короткой, соломенного цвета, чёлкой. И по тому, как он подходил, широко расставляя руки, чтобы схватить за ошейник, как говорил, подсвистывая, властно и ласково: «Ко мне, мой хороший, поди ко мне», Руслан догадался, что ему приходилось обращаться с собаками. Прежний Руслан, пожалуй, и послушался бы солдата, но не нынешний, принявший отраву из рук предателя. Солдат из породы хозяев, который был с помрачёнными заодно, был враг ещё хуже, чем они, много хуже!
И вот что видел он краем зрения — Дика, вылезшего из-за чьих-то ног, ковыляющего через всю улицу к подворотне. Переднюю лапу, окровавленную, он держал на весу. А сзади шли двое лагерников и колотили его по спине жердинами. Разъярясь, он оборачивался и кидался, но всякий раз забывая про свою лапу, и с воем валился наземь. Колотили слепую Азу, беспомощно тыкавшуюся в забор, — неужели и она сражалась? И всё это видел солдат — и после этого: «Ко мне, мой хороший»?!
Солдат лишь в последний миг оставил свои попытки, заслонился локтем, и Руслан, впившись в него, вместе с солдатом повалился в пыль. Солдат извивался под ним и стонал, слабо отпихиваясь другой рукой; пожалуй, он сдался, но вокруг собирались его сообщники, они били носками под ребро, хватали за хвост и за уши. Руслан выдержал это и не отпустил локоть. Да всё это было ни к чему, он понял, что не устрашит их, даже если перегрызёт солдату кость, следующего нужно брать за горло. И едва они замешкались, отскочил рывком — отдышаться, оглядеться.
В совершенном отчаянии увидел он Альму, уходившую в пролом, — право, её белоглазый уходил достойнее, сумел даже тяпнуть хорошенько лагерника, наседавшего с палкой; ему бы ещё выучку, белоглазому, кто ж за ногу берет, когда палка в руке! — увидел сквозь проредь толпы Байкала, загнанного уже в переулок, нападавшего оттуда — на две жердины, которые ему с реготом совали в пасть… Это было всё, он, Руслан, оставался один. Один — чтобы согнать в колонну всё разбредшееся, орущее, вышедшее из повиновения стадо! — и хоть не до лагеря довести, на это он уже не надеялся, но удержать здесь до подхода хозяев — должны же они были когда-нибудь появиться!
Сзади его прикрывала стена ларька. Тех троих у прилавка можно было не опасаться — за всё время они, кажется, не переменили поз и смотрели на происходящее с похмельным изумлением, — не опасаться и той женщины, что стоит за забором, опершись на лопату и скорбно сморщив лицо, коричневое от солнца. Опасней всех был солдат, уже севший в пыли, прижав к животу прокушенный локоть, — этот-то кое-что знал о Службе и мог их всех, подлый предатель, подговорить, научить, — но, кажется, он слишком занят своей раной. И ещё оставался низкий забор, через который можно перемахнуть при случае, обхитрить погоню, забежать с другой стороны. Вот вся была его опора. А толпа надвигалась уже на него одного, сходилась полукругом, со злобными лицами, с палками и тяжёлыми своими пожитками в руках.
Он зарычал — грозно, яростно, исступлённо, показывая, что не шутки он с ними будет шутить, но убивать их, и сам готов умереть, — и пошёл на них, оскаливая дрожащие клыки. Они остановились, но не отпрянули. Нет, он не устрашил их. Напрасно он кидался — то на одного, то на другого, — они увёртывались или выставляли вперёд рюкзаки, заходили со стороны и пыряли жердинами в бока, или нарочно открывались, дразня своей досягаемостью, чтоб сунуть ему в пасть брезентовую куртку или плащ. Он понял — они его нарочно выматывают, пока другие, за их спинами, разбегаются кто куда.
Хоть одного из них нужно было взять по-настоящему. Так его учили хозяева, учил инструктор и серые балахоны: лучше взять одного по-настоящему, чем кое-как пятерых. Но он видел мир уже сильно жёлтым — жёлтыми траву и пыль, жёлтым синее небо полудня, жёлтыми их лица и свою же кровь, сочащуюся из рассечённого надглазья, — а в таком состоянии не было ему врага опаснее, чем он сам. Он выбрал мальчика, который отчего-то больше всех его злил, хотя держался поодаль и только смотрел, — но, может быть, потому и выбрал, что это бы всех поразило сильнее и удержало б надольше. И когда двое к нему кинулись, он их обхитрил, проскочил между, кинулся к своей жертве.
Длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами. Но ещё в прыжке он почувствовал, что промахнётся. Он видел теперь одним глазом, другой ему залила кровь, и он не рассчитал расстояния, прыгнул слишком рано. Мальчик вскрикнул дико, совсем по-звериному, и звериный, мгновенно в нем проснувшийся инстинкт согнул его тело почти вдвое. Руслан, проехав по нему животом, перевернулся через голову и покатился в пыли. Тотчас же, не давая встать, упали ему на спину две жердины, и кто-то, невесть откуда взявшийся, с размаху, со всей силой, обрушил на спину тяжёлый, окованный по углам баул.
После такого удара — какая же сила поднимет зверя с земли? Страх перед новым ударом? Но больше они его не били, и он почувствовал: останься он лежать, его уже не тронут. Страх за детёнышей — поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он знал, нами подсунутое, — долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое, — и этот-то долг его понуждал подняться.
В пасть ему набилось пыли — задыхаясь ею, откашливаясь, он неимоверным усилием выпрямил передние лапы и сел. Но большего не смог — и не этим ужаснулся, а что они сейчас догадаются. Они сошлись совсем близко, он мог бы их достать, но не делал этого, а только вертел головой, скалясь и хрипло рыча.
— Хрен с ним, ребята, не надо дразнить, — сказал солдат. Он все сидел в пыли, раздирая рукав и заматывая локоть. — Он служит.
— Никто не дразнит, — сказал мальчик. И возмутился: —Так это он, оказывается, служит? Какая сволочь!
— Да никакая, — сказал солдат. — Учили его, вот он и служит. Дай Бог каждому. Нам бы с тобой так научиться. — Он усмехнулся, кривясь от боли. — А я, между прочим, себе бы такого взял.
— Так он же и вас как будто…
— Вот за это бы и взял. Не суйся! Не хозяин! Солдат стал затягивать зубами узелок на рукаве. Мальчик подошёл к нему.
— Вам помочь? Там уже машину вызвали. Человек двадцать раненых!
— Ну, раз машину, — сказал солдат, — значит, без тебя и помогут. А о потерях, друг мой, всем так громко не сообщают. Просто говорят: «Есть потери».
Руслан сидел, изо всех сил упираясь лапами и опустив голову. Изредка он ещё рычал — напомнить, что он не сдался, — но не понимал, почему они медлят. Или не догадываются, что встать он не может?
Таким его и увидел Потёртый — сидящим в крови, жалким и страшным. Бока его вздымались и опадали, дымясь. А задние лапы были откинуты в сторону так нелепо, с такой странной гибкостью в спине, которая заставляла думать, что в позвоночнике появился сустав. Но то была ошибка Потёртого, роковая для Руслана.
— Хребтину-то зачем было ломать? — спросил Потёртый. — Это ж не обязательно. Эх, молодость! Любите вы драться, ребята. И — насмерть! И — насмерть!
— Да, погорячились, — сказал солдат.
— Вы ещё говорите! — опять возмутился мальчик. — Тут такое было! Вы же не знаете.
— Какое тут было, — сказал Потёртый, — это уж я знаю, тебе не пришлось.
— Оба знаем, — сказал солдат.
Потёртый подошёл к Руслану, хотел его погладить. И страшная эта голова поднялась, привздернулись дрожащие губы, и обнажились клыки. Обычно бывало достаточно такого предупреждения, чтоб человек всё понял и стал на место. Потёртому, впрочем, чуть больше можно было отпустить времени — чтоб свыкнуться с мыслью, что никогда, ни одной минуты, не был он хозяином Руслану.
Потёртому этого времени не понадобилось. Он отшагнул в строй быстро, как только мог, — или на то место, которое прежде было строем.
— А ты её не забыл, — сказал солдат, усмехаясь, — службу-то помнишь! Только ещё — руки назад.
Потёртый ему не ответил.
Должно быть, и мальчик что-то понял, он смотрел грустно и задумчиво.
— Да, но что же с ним делать? — спросил он, глядя на всех растерянно.
— Так же нельзя. Надо к ветеринару…
— Ты смеёшься, — сказал Потёртый, — какой ветеринар ему хребет свинтит!
— А это мы сейчас штангиста попросим, — сказал солдат. — Ты, штангист! — это он окликал коренастого. — У тебя зуб на него ещё не прошёл? Бери лопату и шуруй. Надо, понимаешь? Родина велит.
Коренастый лишь коротко взглянул на Руслана запухшими глазками и пошёл к забору. Женщина сразу послушно отдала ему лопату и отошла. Но ей всё было видно сквозь большие щели в штакетнике.
Коренастый повертел лопату так и этак. Она казалась совсем игрушечной в его могучих вздутых руках. Но, должно быть, ему никогда не приходилось убивать, и он не знал, как это делается, да и не хотел этого.
— Зачем же так? — спросил мальчик. — Неужели тут ружья ни у кого не найдётся?
— Нету, — сказал Потёртый. — Тут ружья никто не держал. Не разрешали.
Все расступились перед коренастым. Руслан перестал рычать и опустил опять голову. Он увидел, как ноги в пыльных сапогах расставились пошире, мелькнула тень от взнесённой лопаты, и внезапно его охватила ярость — уже своя, нами не внушённая. Уже он понял, что никого ему не удержать, они его победили, — но за свою жизнь зверь сражается до конца, зверь не лижет сапоги убийцам, — и он, вскинув голову, рванулся навстречу лопате и схватил клыками железо.
Как ни было это больно, но зато он увидел побледневшее лицо коренастого, растерянность в его запухших глазках.
— Ну, силён! — сказал коренастый, вырвав лопату и усмехаясь виновато, как усмехался, наверное, когда его упражнения не давались ему с первой попытки. — Ну, чего с ним делать?
— А чего делаешь, то и делай, — сказал Потёртый. — Надо ж добить. Не жилец он. Некуда ему жить.
Коренастый, быстро багровея, снова занёс лопату. Он зашёл сбоку, где Руслан не мог его видеть, и опустил её с хриплым, выдохом, наискось. Руслан, обернувшийся на этот выхрип, ещё успел увидеть, как она блеснула — тускло и холодно, как вылизанное донце алюминиевой миски…
Потом они вдвоём, коренастый и мальчик, взяли его за передние лапы и поволокли к канаве, оставляя прерывистую красную дорожку, спекавшуюся пыльными шариками. Но, поскольку владельцы домов активно возражали, чтобы против их окон оставляли падаль, им пришлось тащить его далеко за крайний дом и там сбросить с насыпи, нарытой бульдозером.
Туда же швырнули лопату, испачканную слюной и кровью.
6
Слепая Аза вылизала ему раны на боках и спине и страшную глубокую рану около уха, повыла над ним, судорожно вздымая к солнцу безглазую морду, и ушла — не надеясь, что Руслан вернётся из своего забытья.
Однако он вернулся. Покажется невероятным, что с контуженной спиной, опираясь на передние лапы, а задними лишь едва подгребая, он одолел и щебёночную насыпь, и весь обратный путь до станции. Но так покажется, если не знать, как упорно, устремлённо и безошибочно уползает любая тварь, застигнутая несчастьем, туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Пожалуй, будь Руслан в сознании, он не стал бы этого делать. Но сознание его померкло, и лишь одно в нём держалось — тот закуток у каменной оградки, между уборной и мусорным ящиком, где перемог он тогда отраву.
Послеполуденный зной загнал людей под сень ставень, в прохладу комнат с обрызганными водой полами, на улице ни души не было. Ополоумевшие от жары дворняги дремали в будках и под крылечками и не подавали голоса, когда Руслан проползал мимо их дворов по деревянным мосткам. Но ближе к сумеркам, выдрыхавшись, они проявили к нему интерес. Они-то его и привели в чувство. Ко всему случившемуся, ему предстояло подвергнуться ещё и этому страданию, самому унизительному, — его ещё должны были потрепать эти милки и чернухи, эти бутоны и кабысдохи, которыми некогда он пренебрёг. Не знал он, как уязвил их самолюбие. Не учёл и подлейшего собачьего свойства, — да, впрочем, наверно, и объяснимого для этих маленьких существ, не способных себя защитить и часто унижаемых человеком, — нападать скопом на поверженного, обессиленного, и чем крупнее он, тем с большим азартом и наслаждением.
Но странно, зачастую атаки их кончались ничем или оказывались слабее, чем он страшился, слыша их клокочущие яростью голоса. Что-то не давало им разделаться с ним вполне. Кто-то могучий, шедший рядом с ним со стороны его ослепшего глаза, — может быть Альма или Байкал, он не мог теперь узнать по голосу, — всякий раз отбивал их атаки или же частью принимал на себя, а остальной пар эти шавки стравливали, кусая друг друга. Потом их отогнал сердобольный прохожий. Они удалились охотно и очень довольные: в конце концов им и надо-то было куснуть по разику — потом ведь можно похвастаться, что и не по разику!
Немного позднее, одолевая площадь, он увидел своего защитника — и тогда подумал, что, наверно, лучше б было остаться под насыпью. От оравы разъярённых шавок его защищал Трезорка — тот Трезорка, низкорослый и с раздутым животом, от которого помощь принять считал бы он ещё вчера за унижение.
Трезорка с ним был до конца этого пути. И когда не заворачивались в закуток задние лапы Руслана, Трезорка же оказал ему и эту услугу. Теперь с трех сторон Руслан был ограждён, с четвёртой — надеялся защититься. Трезорка мог уйти. Но он ещё сидел, отдыхая, изредка крупно вздрагивая и всхныкивая — от непрошедших испугов и многих покусов. Что-то ему хотелось узнать напоследок, о чём-то он спрашивал грустными и укоряющими глазами, — пожалуй, вот о чём: «Зачем ты это сделал, брат?»
Руслан попрощался с ним, взмахнув головою — страшной для Трезорки головою, с залитым кровью глазом, — и тот понял, что спрашивать не к чему, нет ответа и самому Руслану. И понял, что надо уйти немедля, — то, что будет сейчас происходить с Русланом, всего страшнее и важнее всего, о чём хотелось бы знать, и этого не должен видеть никто. Он ушёл пятясь, взъерошенный от страха, а завернув за ящик, побежал с воем, которого сдержать не мог.
Иногда видишь, как бежит в надвигающейся темноте по середине улицы собачонка, подвывая судорожно и глухо, будто сквозь сомкнутые челюсти, и будто от кого-то спасаясь, хотя никто за ней не гонится. И покажется, что спасается она от себя самой — за край такой бездны она заглянула неосторожно или по любопытству, куда не надо заглядывать живому, и такой тайны коснулась, от которой зазнобит её в самом тёплом логове. Трезорка унёс с собой лишь начало тайны и уже был приговорён — не согреться, не притронуться к еде, не откликнуться на зов хозяйки, а забиться в самую тёмную и глухую щель, носом уткнувшись в угол и зажмурясь. Но и там не порвётся нить, связавшая его с Русланом, и там не схоронится он и будет коченеть от страха, слыша своё разросшееся, громко стучащее сердце и не зная, что его удары совпадают с ударами другого сердца, — и так будет, покуда то, другое, не остановится; тогда лишь порвётся связь и даст ему, обессилевшему, измученному, забыться сном.
Трезоркин затихающий вопль был не последним звуком, обеспокоившим Руслана. Ещё долго он слышал приближавшиеся шаги и голоса, грохала над самым ухом крышка ящика, шуршало и брякало опоражниваемое ведро, — всякий раз он замирал, затаивал дыхание, но, милостью судьбы, его не замечали. Да и заметив, приняли бы за серую груду тряпья или мусора.
Он ждал ночи, а с нею тишины и безлюдья, — что-то ему необходимо было вспомнить, поймать ускользающее. Обречённый не знать, что с ним произойдёт ещё до утра, он, однако, к чему-то готовился, куда-то ему предстояло вернуться — не туда ли, в чёрное небытие, из которого он явился однажды? И время Руслана потихоньку тронулось вспять.
Замелькали его дни — почти одинаковые, как опорные колья проволоки, как барачные ряды, — его караулы, его колонны, погони и схватки; они так и помнились ему — окрашенные злобной желтизной, и всюду был он узник — на поводке ли, без поводка, — всегда не свободен, не волен. А ему хотелось сейчас вернуться к первой отраде зверя — к воле, которую никогда он не забывает и с потерею никогда не смирится; он спешил дальше, дальше и наконец достиг, пробился к ней, увидел себя в просторной вольере питомника, увидел розовые с коричневыми крапинами сосцы матери, заслуженной суки-медалистки, и пятерых своих братьев и сестёр, борющихся, валяющих друг друга на мягкой подстилке. Сквозь сетку, занимавшую целиком стену, видны были яркая зелень, жёлтый песок и пронзительная синева, — а саму сетку они не замечали, не задумывались, зачем она. Но вот к ней подошли с той стороны, отворили сетчатую же дверь, и вошёл он — хозяин. Он вошёл с другим человеком, уже знакомым, который до этого часто приходил с кормушкой для матери и подметал в вольере своей нестрашной метлой. Это впервые Руслан увидел хозяина — молодого, сильного, статного, в красивой одежде хозяев и с прекрасным, божественным его лицом, с грозно пылающими глазами, налитыми, как плошки, мутной голубой водой, — и впервые почувствовал безотчётный страх, от которого не спасала и близость матери.
— Выбирай, — сказал человек с метлой.
Хозяин, присев на корточки, долго смотрел, а потом протянул руку. И вдруг пятеро братьев и сестёр Руслана поползли к этой простёртой руке, покорные, жалобно скулящие, дрожа от страха и нетерпения. Мать, повеселевшая, гордая за них, подталкивала их носом. И только он, Руслан, взъерошился и зарычал, отползая в тёмный угол вольеры. Это он впервые в жизни зарычал — убоявшись руки хозяина, её коротких пальцев, поросших редкими рыжими волосками. А рука миновала всех, потянулась к нему одному и, взяв за загривок, вынесла к свету. Грозное лицо приблизилось — то лицо, которое будет он обожать, а потом возненавидит, — оно ухмылялось, а он рычал и выворачивался, вздёргивая всеми лапками и хвостиком, полный злобы и страха.
В этом положении ему предстояло узнать своё имя — не то, каким его звала мать, отличая от других своих детей, — для неё он был чем-то вроде «Ырм».
— Как ты его записал? — спросил хозяин.
Человек с метлой подошёл поближе, вгляделся.
— Руслан.
— Чо это — Руслан? Так охотничьих кличут. Я б его Джериком назвал. Хотя есть уже один Джерри. Хрен с ним, пущай Руслан. Слыхал — хто ты есть? Чо крутисси — не доверяешь дяде?
Двумя пальцами раздвинул он щенку пасть и посмотрел нёбо.
— Трусоват вроде, — заметил человек с метлой.
— Много ты понимаешь! — сказал хозяин. — Недоверчивый, падло. Вот кто будет служить. У, злой какой! Аж обоссалси. — И, засмеявшись, щёлкнув больно по голому ещё пузику, положил Руслана в тот же угол, отдельно от всех. — Вот этого пусть покормит ещё маленько. А этих — топи. Лизуны, говно.
И мать, уже не глядя на них, подгребла к себе одного Руслана. Пятерых, отвергнутых ею, положили в ведро и унесли, принесли чужих — оголтело жадных, которые должны были её измучить уже прорезавшимися зубами, — всех она приняла и облизала, преданно глядя в лицо хозяину.
Отчего не кинулась, не загрызла? Увидев себя прежним, беспомощным, он опять не мог понять её ясности, ненаморщенного её чела. Опять, объятый ужасом, рвался спасти своих добрых братьев и сестёр — и падал, придавленный её тяжёлой лапой. Какой же сговор был между нею и хозяином, какую же зловещую тайну она знала, что так покорно отдавала смерти своих детей? — ведь для звериной матери все отнятые у неё детёныши уходят в смерть, и никуда больше!
Та зловещая правда сегодня ему открылась, когда, сбитый ударом, увидел он троих, надвигавшихся с искажёнными лицами, и когда обрушился рюкзак, и когда взлетела лопата, и Потёртый сказал: «Добей». Никогда, никогда в этих помрачённых не смирялась ненависть, они только часа ждут обрушить её на тебя — за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева — в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе — разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакой, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? «Уйдёмте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного — враги!» Так всё, что случилось сегодня, провидела она, мудрая сука, обречённая за свою похлёбку рожать и вскармливать для Службы злобных и недоверчивых? Так потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывавшие от неё в жестяном ведре, удостаивались не худшей участи?
…Всякая тварь, застигнутая несчастьем, уползает туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Но Руслан приполз сюда не за этим, и его не могли бы спасти ни целительная слюна Азы, ни горькие травы и цветы, запах которых он всегда слышал, когда ему случалось приболеть или пораниться. Раненый зверь живёт, пока он хочет жить, — но вот он почувствовал, что там, куда он уже проваливается временами, не будет никакого подвала, не будет ни битья поводком, ни уколов иглою, ни горчицы, ничего не будет, ни звука, ни запаха, никаких тревог, а только покой и тьма, — и впервые он захотел этого. Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился. Лёжа в своём зловонном углу и всхлипывая от боли, он слышал далёкие гудки, стуки приближающихся составов, но больше ничего от них не ждал. И прежние, ещё вспыхивавшие в нём видения — некогда сладостные, озарявшие жизнь, — теперь только мучили его, как дурной, постыдный при пробуждении сон. Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством.
Нам время оставить Руслана, да это теперь и его единственное желание — чтоб все мы, виновные перед ним, оставили его наконец и никогда бы не возвращались. Всё остальное, что мог бы ещё породить его разрубленный и начавший воспаляться мозг, едва ли доступно нашему пониманию — и не нужно нам ждать просвета.
Но — так суждено было Руслану, что и в последний свой час не мог он быть оставлен Службою. Она и отсюда его позвала, уже с переправы к другому берегу, — чтоб он хотя бы откликнулся. В этот час, когда её предавали вернейшие из верных, клявшиеся жизнь ей отдать без остатка, когда отрекались и отшатывались министры и генералы, судьи и палачи, осведомители платные и бескорыстные, и сами знаменосцы швыряли в грязь её оплёванные знамёна, в этот час искала она опоры, взывала хоть к чьей-нибудь неиссякшей верности, — и умирающий солдат услышал призыв боевой трубы.
Ему почудилось, что вернулся хозяин — нет, не прежний его Ефрейтор, кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах, к которым ещё придётся привыкать. Но рука его, лёгшая на лоб Руслану, была твёрдой и властной.
…Звякнул карабин, отпуская ошейник. Хозяин, протягивая руку вдаль, указывал, где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда — длинными прыжками, земли не касаясь, — могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом летело Русланово слово, единственная ему награда — за все муки его и верность:
— Фас, Руслан!.. Фас!
1963–1965, 1974