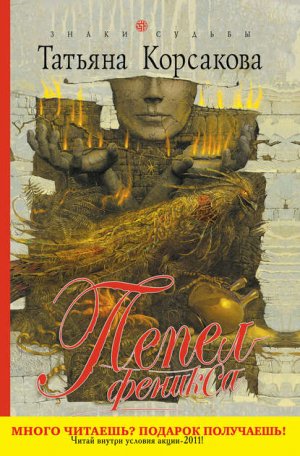
Холодно…
Холод – вот единственный проводник в мире теней и шорохов. Ни боль, ни страх – только холод. Такой пронзительный, такой живой, едва ли не живее ее самой. Открывать глаза страшно, не открывать – еще страшнее. Может, если решиться, стряхнуть с себя наваждение, то окажется, что все это – и холод, и до костей пробирающий ужас – всего лишь сон, игры подсознания. Нужно сделать над собой усилие, потому что в противном случае она так и останется в этом стылом чужом мире, так и не узнает, что же с ней случилось.
Ну же!
Глубокий вдох – легкие полны колючей пыли, в горле дерет и в носу щекотно. Выдох – вместе с облачком пара изо рта вырывается кашель, рассыпается эхом в гулком пространстве, белыми хлопьями оседает на голых, содранных в кровь коленках.
Не страшно. Ей совсем не страшно. Только холодно. Холод окутывает плечи вуалью, тянет остатки тепла из заледеневшего позвоночника, мурлычет что-то ласковое, отвлекает от главного.
Главное. Главное – понять, где она. Остальное потом.
Босые ноги – босые?! – касаются каменных плит, стылых, припорошенных не то пеплом, не то пылью. Это только сначала кажется, что вокруг тьма кромешная, а если присмотреться…
Черные стены щерятся глубокими трещинами. Низкий, нависающий над головой потолок в клочьях паутины. А еще запах, вернее, мешанина запахов: пыль, свечной воск, кровь и тлен…
И то, на чем она лежит – нет, уже сидит, – тоже не из обычной человеческой жизни. Под ладонью камень и пыль, и, кажется, наплывы свечного воска, а еще острые сколы, от которых пальцы тут же начинают кровоточить. Саркофаг, огромный каменный саркофаг, который вслед за остатками тепла каплю за каплей высасывает из нее, нечаянной жертвы, жизнь.
Хочется кричать, орать во весь голос, но вместо крика из горла вырывается лишь судорожный хрип. Щеки касается что-то невесомое, щекотное. Касается, а потом ныряет за ворот блузки.
Паук! Пауки, маленькие мохнатые твари. Их она боится больше, чем саркофагов, замкнутых пространств и холода, это то, что может заставить ее действовать.
От крика, на сей раз пронзительно громкого, по крышке саркофага бежит мелкая дрожь, с потолка планирует тканое облако паутины, а в темноте, там, куда не может пробиться скудный лунный свет, испуганно мечутся черные тени. Крысы?.. Летучие мыши?..
Не время гадать!
Липкие нити паутины хватают за голые лодыжки, мешают двигаться, но если сделать над собой еще одно, самое последнее усилие, то вот она – дверь, остается только руку протянуть…
За спиной кто-то двигается, кто-то большой, гораздо больше крысы или летучей мыши. И затылок немеет от чужого ледяного дыхания. Нет, не дыхания, порыва ветра! Нельзя верить в то, что в склепе есть еще кто-то живой. Или неживой…
Дверь тяжелая. Чтобы открыть ее, приходится навалиться всем телом, прижаться мокрой от слез щекой к шершавой, как наждачная бумага, поверхности.
Пронзительный скрип петель – и в лицо ударяет порыв ветра. Ветер пахнет снегом, сырой землей и отчего-то хризантемами. Он прошит непривычно ярким лунным светом. В свете этом надгробия и покосившиеся кресты кажутся ненастоящими, словно вырезанными из картона. А за спиной, в гулкой тишине старого склепа слышится едва различимый шепот:
– Анна…
День выдался не просто неудачным, а катастрофически неудачным, хотя начинался очень даже многообещающе. С самого утра позвонила Любаша и прокуренным баском гаркнула в трубку:
– Спишь, Алюшина? Не спи, царство небесное проспишь!
Анна, которая проснулась два часа назад и уже успела переделать все домашние дела, лишь пожала плечами, потому что знала, спорить с Любашей – себе дороже.
Так уж повелось, что староста их группы Любовь Зима с самого первого дня знакомства взяла добровольное шефство над Анной Алюшиной, девкой деревенской, неразумной. Любашу нисколько не смущал тот факт, что девка деревенская, неразумная, была коренной горожанкой, а сама она приехала в областной центр из такого далекого далека, что название сразу и не вспомнишь. Любаша зрила в корень и мгновенно вычисляла в людях ту особенную, никак не связанную с пропиской принадлежность к яркому и переменчивому городскому миру. В Анне этой принадлежности не прослеживалось, зато имелась однокомнатная квартира, в которую Любаша на первом же курсе вселилась на правах лучшей подруги.
Сначала, правда, ни о какой особой дружбе речь не шла, и Любашей двигал исключительно шкурный интерес: общежитие иногородним их институт не предоставлял, а снимать квартиру ей было не по карману, а тут Анна, по причине отъезда родителей в длительную заграничную командировку оставшаяся в одиночестве аж на тридцати квадратных метрах жилой площади. Ей же, девке неразумной, деревенской, наверное, страшно одной-то! Да и, что ни говори, вдвоем оно как-то сподручнее и веселее.
Любаша Анне так и заявила, добавив, что нечего жировать, когда лучшей подруге голодно, и холодно, и жить негде. Уже многим позже она созналась, что ни на что особенно не рассчитывала, потому что понимала, что такую дуру, которая согласится пустить к себе в дом чужого человека, еще нужно поискать. Анна же взяла и согласилась. И отнюдь не по доброте душевной, как до сих пор считала Любаша, а тоже из шкурного интереса. Ей, всю жизнь прожившей под опекой родителей, после их отъезда вдруг стало страшно и невыносимо тоскливо. Оказалось, что в свои неполные восемнадцать не умеет она ни вести хозяйство, ни готовить, ни с умом распоряжаться средствами, которые ежемесячно присылали из-за границы родители. А Любаша, несмотря на претенциозность и далеко идущие планы, была отменной хозяйкой: толковой, рачительной, знающей цену деньгам и умеющей найти им правильное применение.
Едва переехав к Анне, Любаша тут же отвадила соседа-алкаша, каждый день заглядывавшего за «копеечкой в долг», добилась не только моральной, но и материальной компенсации от соседки сверху, которая с завидным постоянством забывала закрывать кран в ванной и заливала Анну, отлупила кота Марьивановны, соседки по лестничной площадке, который повадился гадить под их дверь, обматерила саму Марьивановну, за избиение кота грозившуюся вызвать милицию и навести на них, вертихвосток окаянных, порчу, и в довершение завела дружбу с местной шпаной, которая раньше не давала Анне прохода, а теперь с молчаливой многозначительностью уступала дорогу. На все это у деятельной и энергичной Любаши ушло меньше недели. И столько же времени понадобилось Анне, чтобы понять, что сделку они совершили крайне удачную для обеих.
Если нужно было что-то сугубо материальное и практичное, на первый план выступала Любаша с ее просто невероятными пробивными способностями. Если вопрос касался тонких материй, пальма первенства переходила к Анне, потому что, несмотря на наглость, нахрапистость и мертвую хватку, была у Любаши ахиллесова пята: отношения с противоположным полом у нее либо не складывались, либо складывались, но ненадолго. Иногда ее, с виду независимую и разбитную, мог обидеть сущий пустяк, и тогда она надолго погружалась в пучину депрессий и самокопаний, и только Анне удавалось подобрать нужные слова, чтобы вернуть подругу к нормальной жизни. И кофе Анна варила такой, какой у Любаши никогда не получался, а кофе Любаша любила едва ли не больше, чем коварных мужиков…
Вот такой у них получался симбиоз. Девушки быстро приноровились друг к другу и сами не заметили, как взаимная выгода переросла в крепкую дружбу. Вдвоем им удавалось неплохо выживать в бурном море студенческой жизни, и даже когда институтские годы остались позади, симбиоз этот никуда не исчез.
Любаша, со свойственной ей практичностью, плюнула на только что полученный диплом об окончании пединститута и устроилась секретарем-референтом в небольшую строительную компанию. Ей понадобилось меньше месяца, чтобы обаять директора фирмы, дядьку уже не молодого, но еще очень даже активного. Дядька был вдовый, и Любаша, которая, несмотря на свою разухабистость, имела твердые моральные принципы, с головой окунулась в очередное амурное приключение, не забыв при этом о личной выгоде. Не прошло и полгода, как директор фирмы, измученный горячим Любашиным темпераментом, поспешил от любовницы избавиться, а в память о «незабываемых мгновениях» пристроил ее в другую фирму уже на должность начальника отдела кадров. Так в свои неполных двадцать четыре Любаша успела окончательно разочароваться в мужиках, но сделать неплохую карьеру. Теперь, когда собственное будущее виделось ей ясным и незыблемым, а материальные проблемы отступили на второй план, Любаша взялась за Анну.
В отличие от подруги, Анна пошла трудиться по специальности – учителем биологии. Нельзя сказать, что работа совсем не приносила ей морального удовлетворения, но вот с руководством отношения не сложились с первого дня. Чем-то Анна не глянулась директрисе, причем до такой степени, что та даже не считала нужным скрывать свою неприязнь. И с каждым месяцем неприязнь эта все росла и росла, пока однажды Анна не выдержала и прямо в учительской не высказала директрисе все, что о ней думает. Получилось очень убедительно, но убедительность эта стоила девушке работы.
А Любаша ее необдуманный поступок одобрила и еще долго смеялась, когда Анна, краснея и заикаясь, описывала ей точный маршрут, по которому отправила ненавистную директрису. Маршрут был длинный и затейливый, а пункт прибытия циничную Любашу просто восхитил.
– Вот, Алюшина! – Подруга вытерла потекшую от смеха тушь. – Ведь умеешь, если захочешь. Моя школа! – Она заправила за ухо огненно-рыжий локон и выудила из пачки сигарету.
В крупных Любашиных пальцах сигарета казалась игрушечной и какой-то карикатурной. Наверное, сигара смотрелась бы в них выигрышнее, но Любаша любила именно сигареты и именно такие вот тонюсенькие.
– Ага, – Анна кивнула, рассеянно проследила за облачком дыма, которое пыталось превратиться в колечко, – из-за твоей школы я лишилась своей.
– Не велика потеря! – Любаша взмахнула рукой, и почти готовое, почти идеально ровное дымное колечко снова стало унылым и бесформенным облачком. – Я, Алюшина, давно говорила – нечего тебе делать в этой школе. Это ж не работа, это ж каторга, к тому же плохо оплачиваемая.
– А у тебя есть хорошо оплачиваемая каторга? – поинтересовалась Анна. Последствия своих необдуманных действий она уже осознала и сейчас была готова на любое Любашино предложение, даже самое невероятное. – Ты что-то говорила про офис-менеджера.
– Жуть! – Любаша брезгливо поморщилась. – Подай – принеси – пошла вон! Нет, не такой доли я желаю своей лучшей подруге. И к тому же ты ж, Алюшина, типичная училка, ты ж без этих своих деток загнешься.
Вообще-то, после года работы в школе, Анна была уже далеко не так уверена в том, что педагогика – ее единственное призвание, но спорить с подругой не стала, лишь молча кивнула в ответ.
– Репетиторство! – Любаша снова махнула рукой, и пепел с сигареты упал прямо в чашку с недопитым кофе. – Я тут узнавала на днях, репетиторство – это, оказывается, хлеб с маслом, а если повезет, то и с красной икрой.
– Там же, наверное, не все так просто? – Анна отодвинула в сторону чашку с припорошенным пеплом кофе, чтобы Любаша, не дай бог, не хлебнула его в запале. – Рекомендательные письма и все такое.
– И что – все такое? – Подруга приподняла тонко выщипанные брови. – Это ж я троечница-недоучка, а у тебя красный диплом, если ты забыла. А рекомендательных писем я тебе сколько хочешь напишу и даже печати министерские на них поставлю. Веришь?
Анна нисколько не сомневалась, что с Любаши станется найти и рекомендации, и печати, поэтому снова кивнула.
– Значит, решено! – Любаша все ж таки извернулась, с противоположного конца стола достала свой недопитый кофе, сделала большой глоток, ничуть не смутилась его вкусом, удовлетворенно поцокала языком и продолжила: – Хватит тебе, подруга, горбатиться на чужого дядю задарма, будешь горбатиться за хорошие бабки. А клиентов я тебе подгоню, можешь не сомневаться, дай только время.
Времени у безработной Анны теперь было сколько угодно. Главное – в ожидании обещанного бутерброда с красной икрой не протянуть с голодухи ноги, потому что, начитавшись умных книг по психологии, деньги, отложенные на черный день, она потратила на новое пальто. Умные книги по психологии обещали, что при таком подходе к жизни черный день не наступит никогда. Наверное, ошибались, черный день наступил, и встречала его Анна без гроша за душой, зато в новом пальто. Вот и думай, стакан наполовину полон или наполовину пуст?..
Уже стоя на пороге Аниной квартиры, Любаша окинула подругу внимательным взглядом, тяжело вздохнула и сказала:
– Эх, Алюшина, мне б тебе еще мужика хорошего найти.
– Себе сначала найди, – усмехнулась Анна, подавая подруге шарфик.
– У меня мужики не ведутся. – Любашина улыбка была озорной и лишь самую малость грустной. – Хилые нынче мужики. Не могут совладать с моей харизмой. – Она бросила быстрый взгляд на свое отражение в зеркале и удовлетворенно кивнула. – Мне мужчинку нужно не лишь бы какого, – сказала мечтательно, – а такого, чтоб дыхание перехватывало и ноги подкашивались. Нет, Алюшина, я сначала тебя в хорошие руки пристрою, у тебя запросы поскромнее будут, а потом уже начну себе принца искать. А ты сама смотри не зевай, присматривайся там к папашкам своих учеников. Вдруг повезет, и папашка окажется разведенным или вдовым. Тут главное – мыслить позитивно!
Любаша ушла, оставив на память о себе запах сигаретного дыма и до одури сладких духов, а Анна отправилась на кухню, мыть посуду и мыслить позитивно.
Подруга, как и обещала, позвонила ровно через неделю и после вступления про царство небесное перешла к делу:
– Значит, так, Алюшина, нашла я тебе первого клиента. Пацаненок, говорят, дебил дебилом, но родители у него состоятельные, хотят чадо пристроить в медицинский, но найти репетитора никак не могут.
– Это еще почему? – осторожно поинтересовалась Анна.
– Я ж говорю: недоросль – пацаненок дебильноватый, в голове всякая дребедень, не уживается с ним ни один репетитор.
– А я уживусь?
– А ты, Алюшина, у нас образец политкорректности и человеколюбия, ты с любым уживешься. – Любаша на мгновение умолкла, а потом, наверное, вспомнив причину, по которой Анну уволили из школы, добавила: – Ну, или почти с любым. Я вот как себе это представляю: твоя задача – поделиться знаниями, а все остальное тебя не касается. Пришла, отбарабанила программу, похвалила недоросля за внимание, забрала денежки и ушла.
– А институт? Родители же на институт нацелились.
– Какой институт, Алюшина?! – Голос Любаши завибрировал от возмущения. – Не твои это проблемы! У предков твоего будущего подопечного столько бабок, что их кровиночка даже в МГИМО без проблем поступит.
– Тогда я им зачем?
– Так для приличия! Чтобы никто не говорил потом, что кровиночка – дебил и в медицинский по блату попал, чтобы думали, что он за ум взялся, что пахал и готовился. Ай, Алюшина, не те вопросы задаешь. Ты бы лучше поинтересовалась, сколько тебе денежек за недоросля отвалят.
Анна спросила. Причем спросила с большим энтузиазмом, потому что в кошельке уже давно было пусто, и в отсутствие денег даже новое пальто совершенно не грело душу. Пальто не грело, а вот Любашин ответ согрел моментально и даже примирил с недорослем. Как же так может быть, что несколько занятий с одним мальчишкой стоили больше ее месячного оклада? Где же справедливость?
– Фирма веников не вяжет! – ответила на невысказанный вопрос Любаша. – Если честно, я сама чуть было не решилась пойти в репетиторы, уж больно заманчиво. Тебе таких недорослей еще штук пять – и бутерброд с икрой обеспечен. Только есть один нюанс, – подруга на мгновение замолчала, – тут ситуация такая: у нашего недоросля очень плотный график, готовится мальчик к поступлению в престижный вуз, сама понимаешь. Так что придется тебе к нему ездить вечерком. Начало в половине девятого, но район хороший, спокойный и автобусная остановка рядом. Сейчас пока темновато, но весна ведь, темнеет с каждым днем все позже, потерпеть всего ничего осталось. Давай, Алюшина, соглашайся. Первое занятие уже сегодня, клиенты не желают терять время.
Анна согласилась. За что и поплатилась тем же вечером…
Во внешнем мире творилось что-то страшное: ветер швырял в окна горсти ледяной крошки вперемешку с обломанными ветками, выл так пронзительно и заунывно, что Громову самому захотелось завыть – от вынужденного безделья, от выматывающего ожидания, а еще от осознания бессмысленности предстоящего. Он бы и завыл, наверное, если бы не Хельга.
Хельга сидела в кресле для посетителей. В руке, затянутой в лайковую перчатку, был зажат черный мундштук с едва тлеющей сигаретой. Сколько Громов знал Хельгу, она всегда, в любую погоду и в любое время года, носила перчатки. Она вообще являлась образцом постоянства. Перчатки, мундштук из эбонитово-черного дерева, тонкие сигаретки, название которых Громов все никак не мог запомнить, безупречные в своей красоте и простоте украшения, элегантные брючные костюмы. Всегда брючные, Громов ни разу не видел Хельгу в юбке, как ни разу не видел ее без макияжа и прически. Женщина от кончиков волос до кончиков ногтей! Кажется, так отозвался о ней однажды Васька Гальяно, а Гальяно знает в женщинах толк. Или думает, что знает? Громов никогда не пытался изучать тонкости Васькиной души. Ему бы с собственной душой разобраться, или вот – с Хельгой.
– Нервничаешь? – Хельга сделала глубокую затяжку, выдохнула сизое облачко, которое тут же устремилось к некурящему, ведущему исключительно здоровый образ жизни Громову.
– Пустая затея. – Он отмахнулся от облачка и невольно поежился под направленным на него пристальным взглядом таких же черных, как и мундштук, Хельгиных глаз. – Вы посмотрите, что на улице творится! В такую погоду хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Она не придет.
– Придет, Стас. Я тебе обещаю. – Хельга качнула головой, и к удушающему табачному облачку добавилось еще одно – ладанное.
Духами Хельга пользовалась всегда одними и теми же, такими же необычными и интригующими, как и она сама. Торжественный ладан в обрамлении чуть привядших припорошенных не то пылью, не то пеплом лилий. В запахе этом Громову чудилась то свежая могила, усыпанная цветами, то заброшенная, затянутая паутиной церковь. Он не знал ни одной женщины, которая могла бы носить эти странные духи с тем же изяществом и достоинством, что и Хельга. Он даже думал, что духи эти безымянные, эксклюзивные, сделанные на заказ для нее одной, но Хельга его разочаровала.
У запаха, который верным псом крутился вокруг ее тонких запястий, было имя – «Passage d'Enfer»[1]. Удивительное название, очень даже подходящее Хельге с ее любовью к ночным прогулкам, тайнам и старым кладбищам. Однажды, повинуясь какому-то неясному порыву, Громов даже зашел в парфюмерный бутик, чтобы удостовериться, что «Passage d'Enfer» – не сказка, а самая настоящая реальность. Захотелось увидеть флакон этого пыльно-ладанного чуда, почувствовать запах вне его хозяйки.
Реальность Громова разочаровала. Окруженный стайкой девочек-консультанток, снисходительно-вежливых, удивленно поглядывающих на его потертую «косуху», он взял в руки заветный многогранный флакончик и даже позволил одной из девочек брызнуть его содержимое себе на запястье. Увы, чуда не случилось. Без Хельги запах оставался всего лишь запахом – странным, но неживым. Никаких могил и заброшенных церквей. Просто запах…
Из бутика Громов ушел раздосадованный, в полной уверенности, что Хельга его провела, но духи все-таки купил, даже не пожалел за них тех неоправданно больших денег, что были указаны на ценнике, и иногда особо темными бессонными ночами вдыхал пыльно-ладанный аромат, стараясь представить себе тот храм, где может пахнуть вот так… обреченно. И это он – закоренелый безбожник, за свои двадцать семь лет ни разу в жизни не переступивший порог церкви…
– Уже скоро, мой мальчик. – Хельга бросила взгляд на настенные часы, которые показывали без пяти минут полночь, аккуратно положила мундштук с недокуренной сигаретой на край пепельницы. – Надеюсь, ты готов?
– Я? – Громов в раздражении пожал плечами.
Обращение «мой мальчик» его нервировало. Даже странно, потому что Хельге он мог позволить и не такое, потому что, несмотря на породистое, очень красивое, лишенное признаков возраста лицо и безупречную фигуру, она была явно немолода и годилась Громову в матери, а иногда ему казалось, что и в бабушки, но эту крамольную мысль он от себя тут же прогонял, потому что представить такую необычную женщину, как Хельга, бабушкой казалось кощунством. Вот уже десять лет Хельга оставалась для него идолом, женщиной, лишенной возраста и недостатков, и его это вполне устраивало.
– А что тут готовиться? – Он обвел взглядом рабочий стол и кушетку, задумчиво посмотрел на свои руки. – Я всегда готов, осталось дождаться клиента.
– Клиентку, – поправила Хельга с мягкой улыбкой. – Стас, мы ждем гостью.
Гостью… Громов никогда не рискнул бы сказать это вслух, но затея Хельги казалась ему полнейшим бредом, как и то, что ему, возможно, предстояло совершить. Ох, пусть бы Хельга хоть раз в жизни оказалась неправа, и эта чертова гостья вообще не пришла. Потому что одно дело сопровождать неугомонную Хельгу во всяких там рискованных предприятиях, и совсем другое – стать участником ее забав. Оно, конечно, интересно и весьма ответственно. Такое задание – это большой шаг вверх по иерархической лестнице, это явное доказательство доверия со стороны Хельги, но уж больно все странно…
Размышления прервало мелодичное треньканье – это ожили, наверное, от сквозняка, висящие над дверью китайские колокольчики. Колокольчики недели две назад притащил Гальяно. Безо всякого разрешения повесил. Мол, что салону нужен хороший фэн-шуй, и колокольчики, которые Гальяно с придыханием называл музыкой ветра, этот самый фэн-шуй непременно обеспечат. Он еще порывался было переставить стол Громова к окну, «под хорошие водные звезды», но Громов воспротивился, сказал, что ему и под плохими звездами нормально работается. Наверное, в отместку неугомонный Гальяно пришпандорил над кушеткой красную тряпицу с намалеванным на ней золотым иероглифом, символизирующим богатство и процветание. И теперь это безобразие своей цыганской яркостью и китайской непонятностью портило Громову настроение. Он несколько раз собирался избавиться от ненужного подарка, но в последний момент останавливался, понимая, что Гальяно может смертельно обидеться. А смертельно обиженный Гальяно – это стихийное бедствие, пострашнее того, что сейчас творилось за окном.
Колокольчики тренькнули еще раз, уже намного громче, и бронзовая дверная ручка бесшумно повернулась. Начинается! Громов вопросительно посмотрел на Хельгу. В ответ та лишь улыбнулась и пожала плечами. Для нее в предстоящем не было ничего необычного.
Дверь медленно отворилась, являя миру и вмиг подобравшемуся Громову ту самую гостью…
– Барин! Барин! Да что ж вы спите все?! Извольте вставать, сами ж велели… – Скрипучий голос ворвался в сладчайший, полный приключений и блистательных интриг сон Андрея Васильевича Сотникова, оборвав тончайшую нить затеянного во сне расследования. – И Марья Тихоновна уже гневается, велела передать…
– Не нужно, – Андрей Васильевич приоткрыл один глаз, с невольной неприязнью посмотрел на топчущегося у порога Степку, – наперед знаю все, что Марья Тихоновна желает мне передать, за пятнадцать лет, чай, изучил супругу свою дражайшую.
– Одежу подавать? – гаркнул Степка, и Андрей Васильевич болезненно поморщился.
– Да не ори ты так! – замахал он руками на слугу. – Голова после вчерашнего раскалывается. Лучше б рассолу капустного принес, ирод.
– Так я вас вчера предупреждал, барин, что сегодня голова будет болеть, – неодобрительно покачал головой Степка. – Я ж потребности вашего организму получше вас самих знаю, нельзя вам столько-то шампанского пить, вы от шампанского делаетесь совсем негодящим. То ли дело наливочка вишневая…
– Каким, каким я делаюсь, Степан? Ну-ка повтори, песий потрох!
Андрей Васильевич хотел, чтобы вышло грозно, а получилось отчего-то жалобно. Да и Степка не испугался нисколечко, наоборот, подбоченился, глянул хитрым цыганским глазом и заявил:
– А и повторю! Кто ж окромя меня да Марьи Тихоновны вам правду скажет? Нельзя вам, барин, отраву эту заграничную пить, вы ж исконно русский человек, а туда же. Даже совестно как-то было перед слугами барона, когда я вас беспамятного на закорках к экипажу тащил. Одно спасение, что у барона слуги по-русски ни бельмеса не понимают и виршей ваших непотребных они не разобрали.
– Каких это виршей непотребных?..
От накатившего стыда даже голова болеть перестала. Сам-то Андрей Васильевич прекрасно понимал, о каких виршах речь, баловался на досуге стихосложением, даже две оды хвалебные написал: одну в честь губернатора, а вторую в честь губернаторской дочки Олимпиады Павловны. Первую-то оду не от сердца писал, а чтобы выделиться, зато вторую… Уж больно Олимпиада Павловна – барышня завлекательная, куда до нее Марье Тихоновне… Да не о том, видать, речь. От од хвалебных покраснеть мог разве что сам Андрей Васильевич, потому как тонкой своей душой чувствовал, что сфальшивил, не дотянул. А вот коли он по пьяной лавочке на приеме у барона удумал свои скабрезные стишки декламировать – то это точно позор… Ну, не то чтобы стишки совсем уж скабрезные, в сугубо мужской компании, может, даже и уместные некоторой своей пикантностью, но при дамах… Ох ты, Господи…
– Да тех виршей, в коих вы перси и ланиты некой прекрасной нимфы воспевать изволили, – сказал Степка и торопливо перекрестился.
– И кто слышал? – с замиранием сердца спросил Андрей Васильевич.
– Так только я и слышал. Вы как в позу свою поэтическую встали и глаза к потолку закатили, я так сразу и понял, что сейчас вирши начнете читать. Это еще хорошо, если про природу, но уж больно настрой у вас был игривый, да и Марья Тихоновна серчать начала. Одним словом, вывел я вас из салону. Да вы не извольте гневаться, барин, – Степка хитро сощурился, – я предлог выдумал весьма благородный.
– Какой, позволь поинтересоваться? – От сердца отлегло. Хоть Степка тот еще жук, но о реноме хозяйском очень даже печется.
– Сказал, что к вам курьер с письмом государственной важности и что дело не терпит отлагательств.
– Так уж и государственной важности? – усмехнулся Андрей Васильевич и со стоном уселся в кровати. – Это ж какое такое неотложное дело могло у меня приключиться?
Хоть Андрей Васильевич и почитал свою профессию передовой и благородной, но на жизненные реалии смотрел трезво. Журналистская карьера его не сложилась, не такой доли он себе желал, еще будучи безусым юнцом, грезил не о том, что станет слагать оды губернаторской дочке да строчить бессмысленные статейки в губернскую газетенку. Видел он себя корреспондентом уважаемого столичного издания, и никоим разом не разленившимся светским хроникером, а деятельным и отважным борцом с преступностью, ведущим собственные расследования и на страницах газеты разоблачающим самых опасных преступников. Да, видать, не судьба…
Может, и сбылись бы мечты, может, и покатилась бы его жизнь по другой дорожке, если бы пятнадцать лет назад он не встретил в салоне одной весьма известной московской дамы свою будущую супругу. Только тогда, пятнадцать лет назад, была она не круглолицей, раздавшейся вширь после четырех родов унылой матроной, а прелестнейшим цветком, у которого и перси, и ланиты – все, как грезилось молодому Андрею Васильевичу. Видать, на ту пору в людях он еще разбирался не слишком хорошо, потому как не разглядел в юной и безо всякого повода краснеющей Мари диктаторских замашек, каких нынче с избытком у Марьи Тихоновны. Зато разглядел золотые швейцарские часы у ее папеньки, и сюртук его из английской шерсти тоже разглядел, да и доходами у знающих людей поинтересовался. Что уж теперь самому себе-то врать?! Может, швейцарские часы, английский сюртук да немалое приданое его пленили посильнее персей и ланит. И не стыдно ему в том признаваться, потому как, кто нищеты в малолетстве хлебнул полной мерой, всеми силами будет рваться из этой мутной трясины безнадежности.
Андрей Васильевич вырвался, да вот беда – прямиком угодил в другую трясину. Та, другая трясина, именовалась скукой, она неспешно обтекала Андрея Васильевича мутными своими водами, время от времени взрывалась едкими болотными газами и засасывала, засасывала… Он и пить-то начал исключительно из скуки. Так душа его нежная и тонко чувствующая протестовала против той спокойной и унылой жизни, на которую он себя совершенно добровольно обрек. И работа, которую и работой-то назвать никак нельзя, не приносила никакого морального удовлетворения. Теперь Андрей Васильевич все чаще задавался вопросом, а не напрасно ли он променял голодную, но полную приключений жизнь в столице на сытую, но такую беспросветную жизнь в глуши…
– Так есть неотложное дело! – Степка снова дернул себя за ус. – Да еще какое дело, барин. Криминальное, как вы любите. В березовой роще, ну той, что за рекой, лиходеи человека убили. Да что там убили… – Степка перекрестился, – мужики говорят, живьем сожгли…
– Что ж ты молчал?! Сам ты, Степка, лиходей! – Окончательно позабыв о похмелье и головной боли, Андрей Васильевич вскочил на ноги. – Как живьем?! Откуда такие сведения?
– Вестимо откуда, от Мишки, Вадим Сергеевича слуги. Его, Вадима Сергеевича, как раз на освидетельствование тела вызвали.
В груди что-то екнуло звонко и радостно. Нет, не тому Андрей Васильевич радовался, что безвинного человека какой-то тать убил, а тому, что теперь непременно начнется расследование и не придется писать обо всяких не заслуживающих внимания светских глупостях, а можно будет целиком и полностью сосредоточиться на распутывании преступления. Андрей Васильевич посмотрел на Степку, велел:
– Иди, распорядись насчет экипажа, а я сейчас же! Нет, стой! Воды горячей принеси, побреюсь. А то как с небритой физией да на такое дело!
– Но Марья Тихоновна велела…
Договорить Степке Андрей Васильевич не позволил:
– Не твоя забота! С Марьей Тихоновной я как-нибудь сам разберусь.
Эх, до чего ж удачно все складывается! Вот, глядишь, и неприятного разговора с Мари удастся избежать, потому как у него – работа, задание! А задание – это то единственное, на что Мари пока еще не смеет посягать.
– Сюртук выходной подай! – крикнул Андрей Васильевич вслед Степке.
– Так не готов выходной-то! – Степка просунул косматую голову в дверь. – Вы ж его давеча шампанским залили, а рукав так и вовсе сигарой прожгли.
– Как прожег? – спросил Андрей Васильевич, в нетерпении прохаживаясь по комнате.
– Так барон угощал, – Степка пожал широкими плечами. – Я потом у вас в карманах непочатые сигары нашел, – добавил он с укоризной, – аж шесть штук.
– А не твое собачье дело! – огрызнулся Андрей Васильевич.
Вот ведь странные ужимки судьбы: про то, как вирши пикантные собирался декламировать, напрочь забыл, а про то, как из шкатулки красного дерева сигары горстью греб да по карманам рассовывал, помнит. Барон, кажется, этого конфуза не заметил, а если бы даже и заметил, так что ему, барону Максимилиану фон Виду, потомку старинного австрийского рода, какие-то сигары! Барон мало того, что богат, как Крез, так еще и затейник, каких поискать. Всю округу взбаламутил своими чудачествами. Крестьян на Масленицу фейерверками до смерти перепугал, думали, конец света наступил. Да что крестьян! Автомобилем, из Германии выписанным, барон любил и почтенную публику поэпатировать! Или вот, к слову, слуги… Прав Степка, в услужении у него почитай одни мавры. Молчат, глазюками своими черными зыркают, зубами белыми сверкают. Молчат-молчат, а те еще, видать, прохвосты, вон уже не первая девка родила мавритенка-то.
Но Андрей Васильевич ни барона, ни его мавров не осуждал нисколечко. Как у старого поместья графа Изотова появился новый хозяин, так и сделалась жизнь в округе ярче и интереснее, а у самого Андрея Васильевича появилась пища для ума и прелюбопытнейшие материалы для статей. Он даже пить меньше стал, потому как боялся в алкогольном дурмане пропустить настоящее СОБЫТИЕ. А сердце, которое еще не зачерствело до конца от этого провинциального существования, нашептывало – случится СОБЫТИЕ, непременно случится! И тогда, даст Бог, имя Андрея Сотникова прогремит на всю Россию-матушку!
Неужто случилось?..
Любаша не обманула: недоросль и в самом деле жил в очень хорошем районе, и от остановки его дом отделяло всего пять минут ходьбы. Анна поздоровалась с бабушкой-консьержкой, выдержала допрос с пристрастием и, взбежав по широкой лестнице на третий этаж, оказалась перед массивной железной дверью.
На звонок ответили не сразу, Анна уже почти решила, что никого нет дома, когда дверь бесшумно распахнулась.
– Добрый вечер, а мы уже вас заждались! – В утопающем в полумраке коридоре смутно виднелась фигура, судя по голосу, женская. – Это ведь вы Димочкин новый репетитор?
Не успела Анна ответить, как вспыхнул яркий свет, выхватив из темноты сухонькую, элегантно одетую пожилую женщину. Она смотрела на Анну поверх старомодных очков, и во взгляде ее читалось любопытство. – Ах, простите мою невежливость! – Женщина отступила на шаг, пропуская Анну в квартиру. – Я Ираида Павловна, домработница.
Домработница? Она не была похожа на домработницу. Чувствовалось в ее строгом и элегантном облике что-то неуловимо благородное, никак не вяжущееся с представлением Анны о прислуге.
– Ну, может, домработница – это не слишком верная формулировка, – усмехнулась женщина, забирая у Анны пальто. – Наверное, точнее будет – друг семьи. Очень старый друг. – В уголках ее рта появились и тут же исчезли горькие складочки. – Мы были дружны с Лидией, бабушкой Димочки. К несчастью, Лидия очень рано покинула этот мир, и я помогала ее супругу присматривать за детьми. Дети давно выросли, да и Дмитрий Васильевич, Димочкин дедушка, уже десять лет как покоится с миром, а я вот прикипела. Только в статусе все время путаюсь. – Она снова улыбнулась, на сей раз безо всякой грусти, и добавила: – Хороша же я! Вместо того, чтобы угостить вас чаем с дороги, прямо с порога принялась излагать подробности своей биографии. Вы уж простите, Аннушка, старикам всегда не хватает общения. Так как насчет чая? Некрасиво себя хвалить, но я испекла просто замечательные эклеры.
Анна колебалась лишь мгновение. На дворе было совсем не по-весеннему холодно и промозгло, даже руки озябли без перчаток.
– Димочки все равно еще нет, – продолжала уговаривать Ираида Павловна. – У него сегодня занятия по математике, звонил, что придет минут через пятнадцать. Так что мы с вами как раз успеем выпить по чашечке чаю. Вы же мне о себе еще совсем ничего не рассказали, Аннушка. – Женщина посмотрела на Анну поверх очков, во взгляде ее читалось вежливое любопытство. – Вы ведь недавно репетиторствовать начали?
– Недавно, – отрицать очевидное не было смысла. – До этого преподавала в школе, но обстоятельства…
– Обстоятельства. – Ираида Павловна кивнула, легонько тронула Анну за руку. – У всех у нас обстоятельства, Аннушка. Вам ведь о нашем Димочке еще не рассказывали толком ничего?
Еще как рассказывали! Недоросль, недоучка и сын богатых родителей – случай хоть и сложный, но очень хорошо оплачиваемый.
– Или рассказывали? – В голосе Ираиды Павловны прозвучала тревога.
– Кое-что. – Анна предпочла уйти от прямого ответа.
– А вы не верьте! Димочка – хороший мальчик, хороший и светлый. А странности… так у кого из нас в молодости не было странностей?
У Анны не было, но разубеждать Ираиду Павловну она не стала, послушно переобулась в предложенные нелепые розовые тапки, позволила увлечь себя в кухню.
– Вы уж извините, что я так по-свойски, не в гостиной, а тут. – Ираида Павловна накрывала на стол, на Анну старалась не смотреть. – Не люблю, когда официоз, да и уютнее тут.
На кухне, просторной, если не сказать огромной, и в самом деле было очень уютно, вкусно пахло специями и выпечкой. Анна сжала в ладонях толстостенную глиняную чашку, сделала осторожный глоток. Чай был щедро приправлен мятой и еще какими-то травками. Вкус у него оказался терпкий и тягучий, идеально подходящий к нежнейшим эклерам.
Она выпила полную чашку чая и, поддавшись уговорам гостеприимной хозяйки, съела целых три эклера, когда из прихожей послышался звук открывающейся двери.
– Димочка! – Ираида Павловна встрепенулась, торопливо встала из-за стола. – Сейчас, Аннушка, я вас познакомлю.
– С кем это ты собираешься меня знакомить, баба Ира? – На пороге кухни появился… надо думать, тот самый недоросль. Выглядел он так необычно, что Анне сразу стало понятно, почему Ираида Павловна пыталась убедить ее, что Димочка – добрый и светлый мальчик.
В недоросле Димочке доброты и света не чувствовалось ни на грамм, да и мальчиком его можно было назвать с большой натяжкой. Перед Анной стоял высокий, болезненно худой парень, с головы до ног одетый во все черное. Черный кожаный плащ, черные джинсы, черная водолазка, ботинки с высокой шнуровкой, массивные цепи на шее, кожаные браслеты на тонких запястьях, железный перстень в виде черепа, пирсинг на нижней губе. И даже его длинные волосы были иссиня-черными, наверняка крашенными.
Светлый мальчик Димочка смотрел на Анну сверху вниз, и на его выразительном и картинно красивом лице читалась такая очевидная скука, что Анне вдруг стало обидно. Она взрослая и умная. Она учительница, в конце концов! А он стоит тут и пялится. Недоросль!
– Димочка, – Ираида Павловна, которую грубое и пошлое «баба Ира» должно было оскорбить, но, кажется, совсем не оскорбило, с нежностью поцеловала недоросля в бледную щеку. – Димочка, а это Анна Владимировна, твой репетитор по биологии. Тебе же нужно готовиться к институту, – добавила она заискивающе.
– Ясно, баба Ира. – Недоросль стащил плащ, швырнул его на пустующий стул, сам уселся напротив Анны, закинув ногу на ногу. На подошвы его ботинок налипли жирные комья грязи, а от порога до стола шла черная цепочка следов. – Что-то я не пойму, у маман закончились деньги? С чего бы это ей нанимать для меня такую… – он помолчал, подбирая правильное слово.
– Молодую? – закончила за него Анна.
– Я бы выразился более категорично. – Недоросль растянул губы в саркастической улыбке, обнажая белоснежные зубы. Теперь, когда он сидел всего в полуметре от Анны, стало очевидно, что глаза у него подведены, а кожа отнюдь не природного оттенка. Пудра и подводка… какой ужас. – Но, если вам будет так угодно… – Он отвернулся, потеряв к Анне всякий интерес, попросил Ираиду Павловну: – Баба Ира, ты бы мне тоже чаю налила, а то на улице настоящая буря. Да и на кладбище холодина, замерз, как собака.
На кладбище? Вот оно что – ей достался в ученики не просто недоросль, а недоросль с готическим уклоном. Какая прелесть!
– Димочка, так ведь Анна Владимировна…
– Не Димочка, а Демос, – недоросль в раздражении дернул плечом, – баба Ира, ну сколько можно повторять?!
– Хорошо, Димочка. – Ираида Павловна покладисто кивнула. – Только, может, вы с Анной Владимировной сначала позанимаетесь? Время-то уже позднее.
– Анна Владимировна подождет. – Парень нагло ухмыльнулся и сцапал с подноса эклер. – Вы ведь подождете? – спросил с набитым ртом.
– Нет. – Анна тряхнула головой. – Занятия назначены на половину девятого, так что будьте любезны, – она бросила взгляд на часы и добавила не без злого умысла: – Дмитрий.
– Демос! – парень перестал улыбаться и побледнел очень даже натурально. – Меня зовут Демос!
– Да хоть Фобос. – Анна решительно встала из-за стола. – Моя задача – подготовить вас к поступлению в институт, а называть себя вы можете каким угодно именем. Ираида Павловна, не покажете, где нам лучше расположиться?
– Ты дура, да? – вдруг спросил недоросль. – Тебе ж бабки по-любому заплатят, так чего ты рыпаешься? Сиди, жри эклеры!
Анна была воспитанной девушкой, Любаша считала, что даже слишком хорошо воспитанной, но выпадали моменты, когда воспитание уходило на задний план, а на сцену, точно чертик из табакерки, выскакивала жгучая, необузданная ярость. И тогда воспитанная девочка Анна Алюшина переставала существовать, уступая место какой-то другой, совершенно незнакомой ей сущности. Случалось такое очень редко, но уж если случалось…
…Рука сама, помимо воли, потянулась к цепям на шее Димочки-Демоса, запуталась в холодных звеньях, с силой дернула вниз, вышибая из кадыкастого горла не то крик, не то шипение. Подведенные светло-голубые глаза теперь были совсем рядом, и в глазах этих читалось изумление пополам с чем-то непередаваемым.
– Жрать и рыпаться – это не те слова, которыми стоит изъясняться в присутствии женщин. – Собственный голос казался глухим и незнакомым, а кожа на ладони саднила от впившихся в нее цепей. – Вы меня понимаете, Дмитрий?
Вместо того чтобы ответить, парень дернулся с такой силой, что одна из цепей порвалась, оставляя на ладони Анны кровавую дорожку. Девушка разжала кулак, сложила руки на столе. Возбуждение, а вместе с ним и неконтролируемая ярость исчезли, голова сделалась пустой и звонкой. Первый трудовой день грозил оказаться последним.
– Господи, да что же это такое? – словно издалека донесся до нее голос Ираиды Павловны.
– Прошу прощения, плохой из меня репетитор. – Анна присела за стол, попыталась улыбнуться, но губы не слушались. – Я, наверное, пойду.
– Нормально все. – Димочка-Демос уселся рядом и, потирая шею, с интересом посмотрел на Анну. – Чай я могу и потом попить, пойдем… – он запнулся, – пойдемте заниматься.
– У вас кровь. – Ираида Павловна протянула Анне полотенце. – Вот, вытрите. Или, может, нужно рану обработать?
– Нет никакой раны, – Анна мотнула головой, – спасибо за чай. Эклеры были просто замечательными.
– Я рада. – Губ женщины коснулась легкая, чуть недоуменная улыбка. – Давайте, я провожу вас в кабинет.
– Я сам провожу, баба Ира. – Демос перехватил запястье Анны, внимательно посмотрел на кровоточащую царапину, ноздри его при этом жадно затрепетали.
Глупый мальчишка, начитался всякой дребедени про вампиров, насмотрелся фильмов про нечисть и теперь ведет себя как городской сумасшедший.
– У нас мало времени. – Анна высвободила руку из холодных пальцев Демоса, сказала официальным тоном: – Давайте, наконец, приступим к занятиям.
Она была странной, эта его репетиторша. С виду типичная училка – белый верх, черный низ, пуговки на блузке застегнуты все до единой, никакого простора для фантазии, а на ногах дежурные плюшевые тапки с помпонами, которые баба Ира выдает всем приходящим училкам. Маман никогда не ходила по квартире в тапках, только в туфлях и только на каблуке. Маман считала домашнюю одежду дурновкусием, и баба Ира, кажется, ее в этом поддерживала, тапки в их доме предназначались только для гостей. Ну и еще для отца, который уже лет десять вел незримый бой с маман за право ходить дома в старых, почти до дыр протертых кожаных шлепанцах. А Демосу было все равно: полы ведь с подогревом, можно и босиком.
Он сразу, с первого взгляда, понял, что с этой новой репетиторшей можно не церемониться. Он хорошо разбирался в людях, что бы там ни говорили предки и баба Ира. Овца, что сидела на его кухне в дебильных розовых тапках, не заслуживала не то что уважения, даже внимания. Впрочем, как и все ее предшественницы.
Дура! Набитая дура, по дурости своей считающая, что может научить его хоть чему-нибудь. Его, у которого за плечами три года жизни в Лондоне, идеальное произношение и широкий, не ограниченный железными шорами кругозор. Вырядилась в убогие свои шмотки, волосенки прилизала, завязала на макушке унылый и такой предсказуемый пучок и думает, что теперь ей, правильной и шаблонной до одури, все по зубам. Для завершения картины не хватает лишь очочков в тонюсенькой позолоченной оправе. И челка эта девчоночья до самых глаз совсем не в дугу. Челку могла бы тоже прилизать, чтобы не выбиваться из образа.
Баба Ира смотрела настороженно и просительно. Баба Ира, так же как и предки, искренне желала ему лучшей доли. И плевать им всем было на то, что для него, Демоса, лучшая доля – это отнюдь не медицинский институт, что есть в его жизни вещи куда интереснее и притягательнее, что плевать ему на всю эту людскую суету. И на бабенок, возомнивших себя училками, тоже плевать.
Как же он их всех ненавидел! Вот таких, правильных – черный низ, белый верх, самодовольных, ничего не смыслящих в смерти дур. Они появлялись в его жизни с удручающей регулярностью, и приходилось отвлекаться от главного, тратить силы и время на то, чтобы от них избавиться. Ничего, с этой будет легко. Эту можно сломать прямо сейчас, достаточно правильно подобранного слова.
Демос не любил хамство, но опыт подсказывал, что иногда именно хамство – самое надежное, самое безотказное средство, но на сей раз он ошибся. За внешностью безобидной овечки, за черно-белой униформой притаилась волчица. Мало того, что притаилась, она даже осмелилась напасть.
Ему не было больно. Ну, лишь самую малость. Он смотрел на капельки крови, собирающиеся в тонкий ручеек в ложбинке ее ладони, и чувствовал себя так, словно кто-то, тот, кто не имел на это никакого права, вторгся в его владения. Да не кто-то, черт побери, а простая училка, девчонка, которая понятия не имеет, что он за существо, которая смеет брезгливо морщиться при виде его одежды, смеет издеваться, проливать собственную ничтожную кровь на его территории.
Испуганный вскрик бабы Иры привел Демоса в чувство, приглушил бушующую в сердце ярость. Она ведь не нарочно, эта репетиторша. У нее просто так вышло, получилось задеть его за живое, на мгновение, всего на долю секунды взять над ним, Демосом, верх. Ничего, он может повременить. Он проявит терпение и дождется своего часа.
А училка оказалась не такой уж и глупой. Несмотря на молодость, она знала свое дело и ни разу не попала в интеллектуальные капканы, расставленные для нее хитроумным Демосом. Так даже лучше. Интересно, когда противник – не безропотная жертва, когда он умеет показывать зубы и даже может пустить их в дело. Шею саднило в том месте, где по вине училки в кожу впилось серебро цепи. Демосу приходилось делать над собой усилие, чтобы не касаться раны рукой, не показывать свою слабость.
Он слушал училку и украдкой, когда точно знал, что она не смотрит, изучал, пытался найти в ней ту необычность, которую чувствовал нутром, но которая так ловко пряталась за унылым черно-белым фасадом. Была у Демоса такая особенность: он мог держать под контролем сразу несколько дел. Отец в шутку называл его Юлием Цезарем, а сам Демос считал, что способен на гораздо большее, чем какой-то там Цезарь.
Демос с раннего детства жил с ярким и колючим, как иголка, чувством собственной исключительности. Его попеременно считали то вундеркиндом, то олигофреном. В три года Демос умел читать, в четыре выучил таблицу умножения, и его сразу записали в гении, а в пять он решил, что жизнь – скучная штука, и замолчал на год. Это был забавный год: врачи, детские психологи, консультации, слезы маман, невыплаканное горе бабы Иры и хмурая озадаченность отца. А еще Демоса, как ставшего вдруг бесперспективным и умственно отсталым, выгнали из элитного детского сада, предложив родителям взамен направление в спецсад для детей с особенностями психики. О, это был не только забавный, но и едва ли не лучший год в его жизни! На целый год единственными воспитателями Демоса стали книги и баба Ира.
В их доме не водились детские книжки, так его ли вина, что к шести он знал наизусть всего Шекспира, цитировал библию и разбирался в сотнях вещей, в которых смог бы разобраться далеко не всякий взрослый?! Да, в шесть Демос снова заговорил, цитатой из Ветхого Завета до икоты напугав маман, доведя бабу Иру до слез умиления, а отца заставив надолго задуматься.
В школу Демоса отдали в неполных семь лет, в очень престижную, очень специальную и дорогую школу. Он с блеском прошел вступительные экзамены, со снисходительной улыбкой выслушал восторженные ахи и охи от учителей и снова ушел в себя.
Причина была до боли банальна: со сверстниками, глупыми и суетливыми, Демосу оказалось невыносимо скучно, его непохожесть на других вдруг стала бросаться в глаза. Его оскорбляли, обзывали глупыми словами, отвлекали от спасительной самопогруженности тычками и затрещинами. Здесь, в школе, его способности и одаренность никого не волновали. Здесь обращали внимание не на содержимое, а на обертку. И Демос сменил обертку.
Маман была несказанно рада, когда единственный сын вдруг начал проявлять интерес к тому миру, который был ей дорог и близок, к миру вещей. Импортные шмотки, крутые примочки и навороченные дивайсы – теперь Демос научился разбираться и в таких глупых, ненужных на первый взгляд вещах. Конечно, можно было пойти другим путем. Можно было, как однажды робко, с оглядкой на маман предложил отец, заняться спортом и показать обидчикам, чего он стоит. Но спорт – это слишком грубо, слишком утомительно и неизящно. Манипулировать человеческими страстями и слабостями гораздо интереснее, чем калечить физические оболочки.
Демос очень быстро стал непревзойденным манипулятором, всего за пару месяцев из лузера превратился в лидера. Теперь к его голосу прислушивались, в его глаза заглядывали, его мнением дорожили. А он, добившись своего, снова заскучал.
Когда Демосу исполнилось тринадцать, отцу, к тому времени снискавшему славу ученого с мировым именем, предложили работу в Лондоне, и Демос снова оказался в новой для себя среде.
Англию он полюбил всем сердцем: за туманы, за веками копившуюся в старых стенах мрачную унылость, за необычное соседство прогресса и анахронизма. А еще за то, что Англия подарила ему знакомство с Пилатом…
Пилат был русским, но не из тех русских, которые праздными туристами шатаются по улицам Лондона, и не из тех, которые прикупили себе в городе особняки, квартиры, студии, успешно ассимилировали и со сдержанной, истинно английской снисходительностью посматривали на своих менее удачливых соотечественников. Пилат не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он был особенный. Демос, который особенность и необычность чувствовал нутром, определил это сразу, с одного взгляда. И дело здесь было не во внешних проявлениях, на улицах Лондона Демос видал и не таких фриков. Пилат, казалось, жил вне жизни. Он был сам по себе, а жизнь обтекала его мутным потоком, не рискуя коснуться даже рукава его черного-черного кожаного плаща, испуганно шарахаясь в сторону под взглядом его пронзительных, тоже черных-черных глаз.
А Демос не шарахнулся, не попытался отвести взгляд, уступить дорогу или торопливо перейти на другую сторону улицы. Он замер прямо на пути этого высокого, грозного, одетого во все черное человека, давая понять, что тоже особенный, только еще не нашедший своего места в мире. И Пилат это понял. Ему хватило одного взгляда, одного вскользь брошенного слова, чтобы над стенами неприступной крепости, в которую Демос упрятал свой хрупкий внутренний мир, зареял белый флаг.
Пилат был не просто особенным, не просто гением, не просто королем готов. Пилат стал для Демоса Учителем. Они общались урывками, но достаточно регулярно. У Пилата в Лондоне был какой-то личный интерес. Настолько сильный, что заставлял его прилетать из России едва ли не еженедельно. Однажды Демос попытался проследить за ним, но тут же оказался пойман с поличным. Пилат не ругался и не упрекал, он просто рассказал о доверии, о том, как важно человеку иметь внутреннее пространство, и как ему может быть больно, когда в это пространство грубо вторгаются посторонние, и Демос вдруг все понял. Наверное, потому, что свое собственное внутреннее пространство он охранял с такой же точно тщательностью.
Следующий вечер Пилат посвятил исключительно Демосу. Прогулки по сонным лондонским пригородам, звенящая тишина заброшенных склепов и старых кладбищ, запах ладана и прелых осенних листьев, ветер в лицо и полные неизъяснимой тоски стихи. Пилат умел ценить и воспевать не только смерть, но и жизнь. Он учил Демоса гармонии и балансу, хотя по горькому выражению его собственного лица было очевидно, что гармония недостижима, а баланс уже давно сместился в сторону смерти. Демос чувствовал этот надлом и считал его единственно верным. Ему не нравилось слово «гармония», ему хотелось скользить по самому краю вместе с Пилатом. Он даже одеваться стал так же – во все черное, и темно-русые от рождения волосы перекрасил в черный цвет. У маман случилась истерика и нервный срыв, а Пилат не оценил, Пилат снова завел разговор о гармонии.
Он исчез из жизни Демоса внезапно, и исчезновением своим еще раз доказал, что смерть куда как привлекательнее жизни. Тело Пилата выловили из Темзы, мертвое тело, оболочку освободившейся от серости души. Об этом много писали в газетах: Пилат не был обычным готом, он был особенным и очень влиятельным, настолько влиятельным, что его уход не остался незамеченным. Вокруг его смерти ходило много слухов, полиция рассматривала все возможные варианты, начиная с предумышленного убийства и заканчивая несчастным случаем, и только Демос точно знал, что Пилат всех обманул, из двух зол, жизни и смерти, выбрал самое красивое и гармоничное.
Демос рвался в Россию, чтобы проститься с Пилатом, проводить единственного друга до незримой черты, за которой начинается та самая гармония, но родители не отпустили. Он вернулся на родину только спустя несколько лет, целый месяц потратил на поиски могилы Пилата и нашел-таки.
Кладбище старое, заброшенное, с разграбленной часовней и с кряжистыми липами над позабытыми могилами. Могила Пилата тоже была позабыта. Почти. На влажном от осеннего дождя надгробии лежали белые лилии, пожухшие, но все еще цепляющиеся за жизнь, дисгармоничные. Демос не знал, что им двигало, но из мстительного мальчишеского чувства он смахнул лилии с надгробия.
С тех пор Демос стал частым гостем на старом кладбище, теперь он приходил сюда на правах званого гостя, изучал надписи на надгробиях, бродил между древних, с землей сровнявшихся могил, прислушивался к тревожному шелесту вековых лип, искал и никак не находил свою собственную гармонию.
А родители желали ему другой доли и не хотели даже выслушать. Демос попробовал уйти из дома, но его нашли на следующий же день. Мама рыдала, называла его бесчувственным подонком, отец по старой своей привычке отмалчивался, но хмурился все чаще, а у бабы Иры стало совсем плохо с сердцем. Тогда Демос поклялся, что больше никогда не сбежит, но вечерами стал пропадать на кладбище. Учебу он тоже забросил, и маман тут же наняла свору репетиторов. И вот сейчас одна из этой своры, нервно барабаня тонкими пальцами по столешнице, спрашивала, доходчиво ли она объясняет. Демосу пришлось вынырнуть из воспоминаний и повторить слово в слово все, сказанное училкой. Александр Македонский…
Время, отведенное на занятия, пролетело быстро. Демос проводил училку до двери, помог надеть пальто и даже поинтересовался, не нужен ли ей провожатый. От сопровождения училка отказалась с вежливой и совсем не искренней улыбкой, из чего Демос сделал вывод, что его самого она боится куда больше, чем абстрактных хулиганов. Факт этот оказался для него неожиданно приятным, и в жизни его, в последнее время унылой и беспросветной, снова забрезжил огонек интереса. Неправ был Пилат – миром движет не гармония, а страх…
…И ровно в двенадцать карета превратится в тыкву, а бальное платье в лохмотья…
Громов смотрел на ночную гостью во все глаза и глазам своим не верил. Девчонка выглядела даже не странно, а из ряда вон. Без верхней одежды – и это в такое-то ненастье! – босиком, в порванных на коленках колготках, в разорванной по боковому шву юбке и заляпанной чем-то подозрительно похожим на кровь блузке. Рассмотреть лицо Громову никак не удавалось, потому что оно было занавешено длинными каштановыми волосами. Девчонка стояла, не решаясь переступить порог, и в распахнутую настежь дверь врывались порывы ветра.
– Ну что же вы, деточка, там стоите?! – Хельгу, казалось, внешний вид гостьи ничуть не смутил, она неспешно встала из кресла, сделала шаг навстречу незнакомке. – Входите, входите! И, будьте любезны, прикройте за собой дверь.
Может, гостья была не совсем невменяемой, а может, это голос Хельги подействовал на нее так успокаивающе, только она послушно переступила порог, не без усилий захлопнула дверь и присела на верхней из шести ведущих вниз ступенек. Громов некстати подумал, что, если верить Гальяно, расположение комнаты ниже уровня земли – это очень плохой фэн-шуй, не сулящий ее обитателям ничего хорошего. Может, и прав был Гальяно со своим фэн-шуем? Назвать гостью вестницей счастья не поворачивался язык. Зато кожа между лопатками вдруг зачесалась невыносимо сильно – верный признак грядущих неприятностей.
– Что-то стряслось, дорогая? – Хельга с легкостью преодолела ступеньки, присела рядом с девчонкой. – На вас напали?
– Напали? – Девчонка смахнула с лица влажные волосы, и в это самое мгновение Громов понял, что никакая она не незнакомка. Он даже имя ее мог вспомнить. Анюта, вот как ее зовут. И живет она в том самом доме, в котором когда-то в детстве жил Громов, работает не то училкой, не то секретаршей, существует себе тихо и незаметно. Это как же ее угораздило-то?
– Вы выглядите несколько странно. – Хельга провела затянутой в перчатку ладонью по волосам гостьи, довольно улыбнулась каким-то своим, недоступным простому смертному мыслям. – Согласитесь, ночью, в такую жуткую погоду, без пальто…
– Я плохо помню. – Несчастная девочка Анюта подтянула к подбородку расцарапанные коленки и, затравленно оглянувшись по сторонам, торопливо одернула юбку.
Громова она, похоже, не узнала. От двери стол, за которым он сидел, просматривался очень плохо, но Громову вдруг захотелось с головой нырнуть под этот самый стол. Не готов он был к тому, что происходило, не готов. Одно дело – какая-нибудь абстрактная тетка. Абстрактную тетку не так жалко. И совсем другое – вот эта, с детства знакомая девчонка.
– Я вышла из автобуса, уже хотела идти домой, и на меня… кажется, на меня действительно напали. Что-то прижали к лицу, и я отключилась… – Девочка Анюта всхлипнула и положила ладони на коленки, пытаясь прикрыть ими дыры на колготках.
Напали! Ясное дело – напали! На Громова вдруг накатила волна злости. А что она хотела?! Думала, можно шастать по такому вот полубандитскому району посреди ночи, и чтобы не напали?!
– А дальше что? Почему вы без пальто и без обуви? – Хельга всматривалась в лицо гостьи едва ли не внимательнее самого Громова. Наверное, решала, не ошиблось ли провидение с выбором жертвы. Если бы спросили Громова, он бы не задумываясь заявил, что очень даже ошиблось. Ну какая из этой дурехи приманка?! То есть приманка как раз очень даже неплохая, великолепная, можно сказать, приманка, но до чего же жалко…
– Тут кладбище недалеко. – Девчонка говорила, а зубы ее выстукивали барабанную дробь.
Громов окинул взглядом свои владения в поисках чего-нибудь, что можно было бы на нее набросить. Выходило, что нечего. Ну разве что старую куртку. Только вот жалко куртку, черт возьми, едва ли не больше жалко, чем эту несчастную дуру.
– Стас, – Хельга сделала знак рукой, – ну что же ты сидишь? Не видишь, девочке холодно?! Предложи ей что-нибудь теплое и кофе свари. У тебя же еще остался кофе?
– Только растворимый, – буркнул Громов, вставая из-за стола и в раздражении сдергивая с вешалки куртку. – Растворимый пойдет? – Он старался оставаться в тени, до последнего надеялся, что Хельга передумает и девчонка так и не узнает, к кому ее занесло.
– Вы же пьете растворимый кофе, милая? – Хельга приобняла девчонку за плечи и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Не нужно вам тут сидеть на сквозняке, давайте-ка спускайтесь в салон. Вон видите кушетку? Присядьте пока там.
Девчонка послушно исполнила все инструкции, не глядя в сторону Громова, уселась на кушетку. Ступни ее были разбиты в кровь и оставляли на полу грязно-бурые следы. Громов мысленно чертыхнулся, а потом бочком, так, чтобы гостья не смогла рассмотреть его лица, протиснулся в крошечную подсобку, где у них с Гальяно хранились запасы кофе, коньяка и шоколада. Теперь, находясь вне поля зрения Хельги и девчонки, он позволил себе расслабиться.
– Дорогая, у вас в волосах паутина. – Голос Хельги был успокаивающий, едва ли не усыпляющий. – Вас где-то заперли?
– На кладбище. – А вот в голосе девчонки явно слышались истеричные нотки.
На кладбище?! Громов едва не выронил банку с кофе. Интересное кино!
– Я пришла в себя на кладбище, в каком-то склепе, – девчонка всхлипнула и на пару секунд замолчала. – Одна. Никого рядом не было. Никого живого, – добавила она вдруг шепотом.
– А кто был? – спросила Хельга, и голос ее завибрировал от нетерпения.
– Не знаю, мне показалось, что кто-то там все-таки был, что кто-то звал меня по имени.
– Я ведь так и не спросила, как вас зовут.
– Анна. Меня зовут Анна Алюшина, я возвращалась домой от ученика и вот…
– То есть кто-то, кого вы не смогли разглядеть, звал вас по имени? – По приглушенному цоканью каблуков стало ясно, что Хельга в нетерпении прохаживается по салону.
– Мне так показалось. И потом мне все время мерещилось, что за мной кто-то гонится. Я не стала оглядываться.
Кстати, разумное решение, потому что вполне вероятно, что ей бы очень не понравился преследователь. Громов насыпал в большую чашку кофе, немного подумал и добавил сахара. И уже после того, как плеснул кипятка, достал из кармана джинсов пузырек. Жидкость в пузырьке была чуть мутноватой и слегка опалесцировала в скудном свете подсобки. Хельга сказала – тридцати капель должно хватить, у Громова не было причин сомневаться в ее словах, просто рука дрогнула и теперь он не рискнул бы сказать наверняка, сколько именно капель попало в кофе. Можно было бы подстраховаться и добавить еще, только кто его знает, что это за капли и что случится от их передозировки. Пусть уж лучше так.
– Вы простите, что я к вам так поздно. До моего дома еще очень далеко, и только в ваших окнах горел свет. Я сейчас уйду…
– Ай, какие глупости, моя девочка! – Громов не мог видеть Хельгу, но по голосу слышал, что она улыбается. – Куда же вы пойдете в таком виде? Кстати, где ваша одежда? С вами не случилось ничего… ничего плохого?
Ага, правильный вопрос! Что делал с этой дурехой тот урод, который притащил ее на старое кладбище? Колготки хоть и порваны, но все же на месте, и пуговицы на блузке целы. Громов специально посмотрел, просто так, для развития наблюдательности. А что кровь… ну так она могла и сопротивляться или напороться в темноте на что-нибудь острое.
– Не знаю. – Девчонка всхлипнула, а потом добавила, впрочем, не очень уверенно: – Кажется, со мной все в порядке.
Кажется ей! А что, точно определить никак нельзя? Громов все тянул, не решался выйти из подсобки. Вот не хотелось ему, чтобы девчонка его узнала. Потому что если узнает, то проблемы у него появятся наверняка.
Наверное, Хельга прочла его мысли или, руководствуясь своей просто нечеловеческой проницательностью, догадалась, что по каким-то причинам Громов не хочет светиться, потому что всего через мгновение он услышал ее голос:
– Аннушка, вы тут посидите пока, а я схожу за кофе. И набросьте куртку, а то вы ведь совсем окоченели.
Громов вздохнул с облегчением, поставил чашку с кофе на пластмассовый поднос, подумал немного и положил рядом не доеденную Гальяно плитку шоколада. Женщины в стрессе любят сладкое. А эта непутевая точно в стрессе…
– Стас, что-то не так? – послышался за спиной шепот Хельги. Умела она приближаться неслышно. – Ты думаешь, эта девочка может тебя запомнить? Не волнуйся, после моих капель она не вспомнит ничего из того, что с ней случится.
У него не было повода сомневаться в словах Хельги, она не ошибалась в прогнозах еще ни разу, но тут ведь такое дело… Громов решился:
– Эта ваша гостья – она моя соседка. В одном дворе жили, понимаете? И отношения у нас с ней…
– Между вами что-то было? – Голос Хельги пошел трещинами, как раскаленная на солнце глина.
– Между нами? Да вы что?! Пересекались пару раз, и все. Вы же сами говорили, что она должна быть девственницей.
Кстати, сколько ей? Года двадцать два? Непростительно долгий срок для непорочности.
– Так и есть. – Голос Хельги стал прежним, спокойным, уверенным. – Стас, ты еще многого не понимаешь, но эта девочка особенная. Теперь вся надежда только на нее одну.
– А нельзя найти какую-нибудь другую особенную девочку? – спросил Громов без особой надежды. – Эта какая-то уж больно ненадежная.
– Не нам с тобой решать. Он уже здесь, ты ведь слышал. Мы просто не можем оставаться в стороне. Давай я сама отнесу кофе. Ты сделал все, как мы договорились?
Громов молча кивнул.
– Значит, через десять минут она будет в твоем распоряжении. Ты успеешь до рассвета?
– Можно подумать, у меня есть выбор, – буркнул Громов себе под нос.
Хельга ласково потрепала его по щеке, сказала с грустной улыбкой:
– Мальчик мой, увы, не мы выбираем себе предназначение. Я позову тебя, когда капли подействуют.
Капли подействовали ровно через десять минут, Громов специально засек время. Хельга не стала заходить в подсобку, сказала, не повышая голоса:
– Стас, можешь приступать.
Он вернулся в салон, осмотрелся. Девчонка сидела на кушетке, притулившись спиной к стене. Лицо ее снова занавешивали распущенные волосы. Хельга была права – в волосах запуталась паутина, очень много паутины. Да, похоже, про кладбище и склеп – абсолютная правда. Хотя лучше бы врала…
По салону поплыл сигаретный дым: Хельга закурила. Не говоря ни слова, Громов стащил с Анны свою куртку, осторожно уложил девчонку на кушетку, под голову сунул шерстяной валик, который за каким-то чертом притащил в салон Гальяно, принялся расстегивать пуговицы на шелковой блузке.
Кто только не лежал на этой вот кушетке: и матерые мужики, и разбитные девахи, и даже пару раз степенные с виду матроны, но все они, в отличие от полуночной гостьи, оказывались во власти Громова по собственной воле. Работать с ними бывало не всегда легко, иногда Громов даже жалел, что не может использовать наркоз, а сейчас вот, когда в руки ему попалась практически идеальная клиентка, безропотная и неподвижная, растерялся. Нельзя сказать, что его смутило полуголое девичье тело, видал он тела и поинтереснее, и пообнаженнее, просто вдруг стало страшно, что одно неловкое движение может испортить такой неплохой в принципе материал.
Чтобы собраться с мыслями и немного прийти в себя, Громов вернулся к рабочему столу, к стоящим на нем в ряд баночкам и склянкам с пигментом. Времени было в обрез, а ему еще предстояло определиться с цветом. Решение пришло само собой, как это обычно с Громовым и случалось. Черный и красный, черного больше, красного меньше. Этого достаточно. Пестроцветие здесь ни к чему. К тому же это позволит сэкономить время, которого и так в обрез. Громов закатал рукава рубашки, натянул на руки стерильные перчатки, потянулся за банкой с черным пигментом.
– Стас, не забудь вот это. – Хельга по старой своей привычке подошла бесшумно и теперь стояла прямо у Громова за спиной, в руке она держала хрустальный флакон, на дне которого было что-то серое. Громов знал, что это такое, и от знания этого желудок сводило злой судорогой, а руки совершенно независимо от него начинали подрагивать. – Осторожно, мой мальчик, – голос Хельги упал до едва различимого шепота, а рука в черной перчатке, кажется, тоже дрогнула, – это последний.
Громов тяжело вздохнул, решительно забрал у Хельги флакон, высыпал его содержимое в баночку с пигментом, аккуратно взболтал.
– Я готов, – сказал, не оборачиваясь.
– Приступай. – Ноздри пощекотал аромат Хельгиных духов. – Я очень на тебя рассчитываю. Мы все на тебя рассчитываем…
Ей опять было холодно…
Холодно, а еще жестко и неудобно.
– …Эх, такая молодая, а до чего себя довела! – Злой голос прорвался в ее холодный и жесткий мир, а затем последовал весьма ощутимый тычок в бок. – Вставай! Разлеглась тута, понимаешь, голяком! Ни стыда, ни совести! А ну, вставай, а то милицию вызову!
Голос жужжал и жужжал, и тычки сыпались один за другим. Анна застонала и открыла глаза. Над головой ярким оранжевым шаром висел фонарь, с голых ветвей каштана ветер прямо ей в лицо стряхивал холодные капли дождя. Вокруг было темно, стыло и бесприютно.
– Очухалась? – Фонарь и ветви заслонило широкое и круглое, как масленичный блин, лицо: ноздреватая кожа, бородавка на мясистом носу, узкие глазки, обветренные губы. – Я кого спрашиваю, очухалась? – У ее мучителя был замызганный, некогда ярко-оранжевый, а сейчас грязно-бурый жилет поверх фуфайки, шапка-ушанка и плешивая метла. Дворник.
– Очухалась, спасибо.
Анна села, осмотрелась по сторонам. Место она узнала сразу – сквер в трех минутах ходьбы от ее дома.
– Ты ж приличная с виду девка, – дворник плюхнулся рядом, посмотрел на Анну с брезгливостью, – а до чего себя довела?! А ну как не я бы тебя сейчас нашел? А ну как удальцы какие? Думаешь, они бы посмотрели на то, что ты никакенная? Да им такая дуреха за радость! Или уже? – Глаза дворника, и без того узкие, превратились в щелочки.
– Что уже? – переспросила Анна, прислушиваясь к размеренному уханью в голове.
– А то уже! Лежишь тут полуголая, кологоты вон драные. Эх, молодежь, совсем вы себя не бережете… – Дворник тяжело вздохнул, сплюнул себе под ноги.
Полуголая, и колготы драные, а на ногах вместо сапог стоптанные домашние тапки на пять размеров больше. И в голове туман – никаких воспоминаний, точно стер их кто. Ой, мамочки… Анна торопливо одернула юбку, разбитые коленки попыталась прикрыть краем одеяла.
– Ойкает она теперь, – зудел над ухом дворник. – Ночью небось не ойкала. Ну, чего расселась? Иди отсюдова, бесстыдница. Времени вон уже половина шестого утра, сейчас приличные люди будут на работу собираться, нечего на вверенной мне территории безобразия творить!
Анна встала, поясницу тут же кольнуло болью, наверное, от долгого лежания на твердой парковой скамейке, левый тапок угодил прямиком в лужу, и ногу тут же обожгло холодом. Чтобы не взвыть, Анна со свистом втянула в себя студеный рассветный воздух.
– И рванье свое забирай! – распорядился дворник. – Нечего мне тут антисанитарию разводить. – Черенком метлы он брезгливо подтолкнул к Анне куртку.
Куртка была сырой и тяжелой, но Анна послушно натянула ее на себя. Хоть какая-то защита от холода. Настолько быстро, насколько позволяли безразмерные тапки, она направилась к выходу из сквера. Она шла, чисто механически обходя глубокие лужи, ежась под порывами злого ветра, на ходу придерживая расползающуюся по шву юбку, и молилась только лишь об одном, чтобы на пути ей не встретился никто из знакомых.
Ей повезло – удалось проскользнуть в подъезд незамеченной, но испытания на этом не закончились. Ключи, телефон и деньги остались в сумочке, а где осталась сумочка, Анна забыла напрочь. Пришлось будить соседку Леночку, у которой на всякий пожарный случай хранилась запасная связка ключей. И тут ей снова повезло, свет на лестничной площадке не горел, а соседка Леночка, похоже, еще до конца не проснулась. Не открывая глаза, она пошарила где-то позади себя, протянула Анне связку и, буркнув что-то неразборчивое, захлопнула дверь.
Оказавшись в своей квартире, в тепле и безопасности, Анна отшвырнула куртку, сбросила насквозь промокшие тапки и без сил опустилась на коврик у двери. Ей хотелось плакать, как будто слезами можно вытравить поселившийся в душе страх, но слез не было. Анна посидела в полной неподвижности еще пару минут, а потом встала и, на ходу стаскивая с себя испорченную одежду, направилась в ванную. Если слезы не в силах ей помочь, то, может быть, поможет вода? Теплая, нет, даже горячая! Такая, от которой блаженно немеет кожа, а зеркало тут же затягивает сизой пеленой пара.
Анна до упора повернула вентиль, вылила в ванну полфлакона пены, осторожно опустилась в воду. Разбитые коленки и ступни тут же защипало, но это была обыкновенная, совершенно нестрашная боль, корни которой уходили не в непроглядную ночь, которую Анна напрочь забыла, а в раннее детство с его велосипедами, прыгалками и вечными ссадинами. Не больно, не страшно. И, слава богу, не так уж их много – этих ран. Разбитые ноги, царапины, содранная кожа на ладони – последствие усмирения недоросля Демоса.
Так, Демоса она помнит. Уже хорошо. Может, если ухватиться за это яркое, еще свежее воспоминание, то получится распутать весь клубок? Анна ощупала голову. Ничего, никаких шишек и ссадин, – значит, по голове ее не били, и память она потеряла не из-за травмы. Из-за чего же тогда?
Светло-голубые с наглым прищуром глаза Демоса… Проводить вас до остановки, Анна Владимировна?.. Кажется, она отказалась. Нет, точно отказалась, потому что вот он, салон старого автобуса, привычный гул человеческих голосов и такая же привычная толчея. Вот металлический голос объявляет ее остановку. Вот ветер, такой сильный, что сбивает с ног, и скудно освещенная аллейка, теряющаяся в непроглядной тьме. А дальше все – провал, полное беспамятство, укравшее из ее, Анны, жизни целую ночь.
Анна, снова провела руками по волосам, на ладони осталось что-то липкое, белесое. Паутина? Откуда в ее волосах паутина? Быстрее смыть эту мерзость! Не жалея, она налила на ладонь шампуня, принялась тереть голову с таким остервенением, точно в ее волосах запуталась не только паутина, но еще и парочка пауков. И ничто, даже здравый смысл не мог убедить ее, что нет и не может быть никаких пауков, что не нужно паниковать и дергаться по такому ничтожному поводу, что для паники у нее есть куда более серьезные причины. Анна не могла ничего с собой поделать, пауков она боялась с детства…
Она стояла под горячими струями душа, когда почувствовала настоящую, по живому режущую боль. Огнем зашлась левая рука, от локтя до самой шеи. Анна зашипела от боли, выключила воду и выбралась из ванны.
Большое, в полчеловеческого роста зеркало было затянуто непроглядной парной пеленой. Анна провела ладонью по прохладной зеркальной глади, посмотрела на свое отражение. Лицо помятое, перекошенное, волосы мокрыми сосульками падают на плечи. Плечи… Она тихо всхлипнула, отказываясь верить своим глазам, повернулась боком к зеркалу.
…Сначала Анна подумала, что это птица, черная птица с красными всполохами, обхватившая крыльями руку, уложившая остроклювую голову прямо на ключицу, свесившая хвост едва ли не до самой кисти. И лишь потом, когда первый шок прошел, поняла, что это не просто птица. На ее распаренной, красной от татуировочной иглы коже жил своей собственной, не подвластной человеческому пониманию жизнью мифический феникс. Анна почти слышала тихое шуршание огненных крыльев, чувствовала их обжигающее прикосновение. Вот так: кто-то не просто украл из ее жизни целую ночь, но еще и вытатуировал у нее на коже это странное существо…
Июнь в этом году выдался невероятно жарким. Пока добирались до места, Андрей Васильевич взмок весь, но расстегивать сюртук не спешил: после вчерашних непотребств особенно хотелось выглядеть солидно и достойно. Хоть бы даже и перед самим собой. Да вот беда – ненадолго получилось сохранить реноме…
Андрей Васильевич считал себя человеком психически устойчивым и ко всякого рода жизненным мерзостям привычным, но тут не выдержал, едва успел добежать до ближайших кустов. Это еще хорошо, что от завтрака, предложенного Мари, отказался, можно сказать, легко отделался. Вон Степке куда как хуже – стоит зеленый, нос рукавом зажимает.
Андрей Васильевич его понимал, он бы и сам с превеликим удовольствием приложил к лицу платок, да вот беда – не оказалось в сюртуке свежего, а рукавом, как простолюдин, неловко.
– А я ведь вас, любезнейший Андрей Васильевич, предупреждал, что зрелище это не для тонких натур, – послышался над ухом скрипучий голос доктора.
Вадим Сергеевич Проскурин, единственный на всю округу врач, выглядел растерянным, но не более того. Ни запах, от которого к горлу то и дело подкатывала тошнота, ни вид скукоженного, в головешку превратившегося тела, казалось, не производили на него особого впечатления. Да оно и понятно, врачи – люди циничные и бывалые, а Вадим Сергеевич за свои семьдесят и не такого навидался.
– Справлюсь как-нибудь. – Андрей Васильевич все ж таки не удержался, по примеру Степки прижал к лицу рукав. Дышать сразу стало тяжело, но тошнота отступила.
– Ну, глядите, любезный друг, если понадобится, у меня есть средство…
– Не понадобится! – не особо вежливо оборвал эскулапа Андрей Васильевич и тут же, уже другим, извиняющимся, тоном спросил: – А отчего решили, что это… – он мотнул головой в сторону кострища, – что эта несчастная не кто иная, как дочка Трофима Малютина? Я бы даже не рискнул предположить, что это женщина…
– Так кто ж еще?! – За их спинами затрещали кусты, и на лесную полянку, ставшую местом преступления, пыхтя и пофыркивая, выбрался сам начальник городской полиции Федот Антипович Косоруков.
Андрей Васильевич едва заметно поморщился, потому как считал Косорукова деревенщиной и необразованным выскочкой. Несколько раз по роду своей работы, а большей частью по зову сердца ему приходилось беседовать с Косоруковым, но назвать это общение приятным у него не повернулся бы язык. Федот Антипович работал грубо, нахраписто, не признавал дедуктивный метод и в поимке злоумышленников полагался исключительно на свой профессиональный нюх. Надо признать, нюх его почти никогда не подводил, но Андрей Васильевич продолжал списывать профессиональные победы своего оппонента на его невероятное везение.
– Ну, мало ли кто?! – Он в раздражении развел руками. В ноздри снова шибанул запах горелой плоти, а в голове зашумело. Пришлось сделать над собой неимоверное усилие, чтобы под насмешливым взглядом толстокожего и совершенно ни к чему не чувствительного Косорукова сохранить невозмутимость и, главное, снова не прижать рукав к лицу. – Может, залетный какой…
– Матрена, дочка малютинская, еще с вечера из дому пропала. – Косоруков с нежностью пригладил топорщащиеся рыжие усы, смахнул со штанин прилипшие к ним былинки.
– Дело молодое, – не желал сдаваться Андрей Васильевич, – может, у барышни какая амурная история приключилась? Говорят, она красавицей была? – он вопросительно посмотрел на Степана, который в округе знал всех красавиц, от мала до велика.
– Так и есть, барин. – Степка старался на кострище не смотреть, нервно теребил в руках картуз. – Еще пойди сыщи такую красавицу, как Матрена… была. На нее многие хлопцы заглядывались. – Слуга горестно вздохнул, отчего наблюдательный Андрей Васильевич сделал вывод, что Степка тоже питал к несчастной жертве симпатии. – Да только Трофим после смерти жены дочку в строгости держал, а за женихами, бывало дело, с дрыном по всей деревне гонялся, особливо как выпьет лишку…
– Вот видите, господин Косоруков?! – Андрей Васильевич поднял вверх указательный палец. – Девица молода и хороша собой, а папенька – сущий деспот. Случись на горизонте лихой да не лишенный привлекательности жених, она запросто могла решиться на побег. Нравы же нынче не те, как раньше, молодежи уже родительское благословение не требуется. Я бы на вашем месте поискал Матрену Трофимовну в городе, а не в кустах.
– Так-то оно так, – Косоруков ухмылялся вроде как и вежливой, но какой-то особенно пакостной улыбкой, отчего на сердце у Андрея Васильевича сделалось неспокойно, – и в доводах ваших, господин Сотников, есть своя рация, но отчего вы считаете, что я нуждаюсь в ваших советах? Вот, к примеру, я же не учу вас, как нужно писать стишки, губернатора восхваляющие, потому как разумею, что в стишках этих ваших ничего не разумею. Вы уж извините за каламбур. А еще разумею, что нет нужды учить того, кто и без моей науки ученый. – Косоруков хитро сощурился, и под его взглядом Андрей Васильевич неожиданно растерялся, не нашелся, что ответить.
Наверное, причиной этого конфузливого молчания было вчерашнее шампанское, которое еще не выветрилось окончательно из его головы и изрядно мешало остроте ума. А может, все из-за дичайшего преступления, совершенного с такой невероятной жестокостью, что страшно даже представить…
– Нежизнеспособная у вас версия, господин Сотников. – Косоруков снова пригладил воинственно топорщащиеся усы. – Уж поверьте, мне было бы предпочтительнее, чтобы девчонка сбежала с женихом, но она не сбежала. – Он сделал драматическую паузу, а потом медленно подошел к кострищу и, совершенно не меняясь в лице, склонился над телом. – Вот она – наша красавица Матрена Малютина, и жених ей больше никакой не нужен.
– Да с чего вы взяли? – только и смог спросить Андрей Васильевич.
– С чего? – Косоруков выпрямился, стремительным шагом подошел к собеседникам. – А вот хоть бы и с этого! – На его протянутой ладони лежал образок. – Святая Матрена – надо думать, покровительница нашей несчастной жертвы, – сказал он задумчиво. – Я образок в кустах нашел. По всему видать, веревка оборвалась, когда злоумышленник девицу на поляну волок. Или сопротивлялась наша Матрена Трофимовна…
– Может, господин Косоруков, у вас и подозреваемый имеется? – поинтересовался Андрей Васильевич.
– Подозреваемый сыщется. Вы об том не переживайте. – Косоруков сжал ладонь, на которой лежал образок, в кулак. Кулачище у него получился здоровенный, просто боксерский кулачище. Не зря, видать, народ шепчется, что в молодые годы этот полицейский выскочка не брезговал кулачными боями. А что, запросто! Вон и нос у него сломан… – Или вы не о жертве печетесь, господин Сотников, а об том, что напишете на страницах своей газеты?
– А тут уж вы, любезный Федот Антипович, не извольте переживать, – как можно язвительнее сказал Андрей Васильевич. – Вы в своем деле считаетесь профессионалом, а я – в своем. Уж разберусь как-нибудь, что сообщить своим читателям.
– Да я в этом нисколько не сомневаюсь, – хмыкнул Косоруков. – Вы-то сообщите! Главное, чтобы ничего лишнего не написали ради красного словца.
Андрей Васильевич считал себя человеком легким и не злым, но сейчас, стоя над обугленным телом несчастной Матрены Малютиной, вдруг почувствовал, что единственное его желание – вцепиться в кадыкастое горло Косорукова и сжимать его, сжимать… Да только пустые фантазии, уж больно неравные силы. Такого нужно брать не наскоком, а умом. Уж чего-чего, а ума ему, Андрею Сотникову, не занимать! И убийцу он непременно найдет быстрее полиции, и статью напишет, да такую, после которой всякому в городе станет ясно, кто тут колосс на глиняных ногах!
– Господа, прошу вас, господа! – вмешался в назревающий конфликт Вадим Сергеевич и тут же совершенно по-стариковски проворчал: – Ох, молодо-зелено. – Он обернулся к Косорукову, спросил уже другим, официальным тоном: – Тело можно забирать, Федот Антипович? Я бы попробовал провести кое-какие изыскания у себя в лаборатории…
Вместо ответа Косоруков махнул рукой – понимай как хочешь, принялся раздавать команды наводнившим поляну полицейским. Одно слово – хам…
Домой Андрей Васильевич возвращался в задумчивости и полнейшей растерянности, мысли в голове крутились злые и бестолковые, никаким образом не касающиеся убийства Матрены Малютиной.
– Барин, эй, барин! – обернулся сидящий на козлах Степка.
– Чего тебе?
– Это он из-за губернаторской дочки ярится. – Степка поправил сползший на затылок картуз. – Я ж не слепой, вижу, как он на Олимпиаду Павловну смотрит. А Олимпиада Павловна вам знаки внимания оказывает…
– Пустое, Степка, я женатый человек, – отмахнулся Андрей Васильевич, но на душе потеплело. Оказывается, есть и у него преимущество перед этим Косоруковым…
– Алюшина, прекращай истерику! – Любаша плеснула в граненую стопку принесенного с собой коньяка, придвинула Анюте, для себя поставила на огонь турку с кофе, уселась за стол рядом с подругой, велела: – Коньяк чтобы выпила до дна! Это наипервейшее средство. Хотя нет, наипервейшее – это хорошая самогонка, но где ж сейчас найдешь хорошую самогонку!
Анюта спорить не стала, залпом выпила коньяк и даже не поморщилась. Видать, и в самом деле стряслось что-то из ряда вон. Секунду-другую она сидела, уставившись на расписной заварочник, который Любаша подарила ей на Восьмое марта, а потом, не говоря ни слова, хапнула из Любашиной пачки сигарету. Вот уж точно, беда дело, коль правильная Алюшина и пьет безропотно, и курит добровольно! Любаша, которая еще полчаса назад на все лады костерила разбудившую ее ни свет ни заря подругу, мгновенно подобралась, приготовилась оказывать первую психологическую, а если понадобится, то и медицинскую помощь. Уж больно странно выглядела этим ненастным утром Анюта.
– Я тебе сейчас кофе сварю. – Анюта встала из-за стола, вылила в раковину содержимое турки. Любаша лишь одобрительно кивнула – пить кофе собственного приготовления она не то чтоб совсем не могла, но не любила. – Дай мне пять минут, я все тебе расскажу, честное слово. – Анна поежилась, поплотнее запахнула полы махрового халата.
– Алюшина, он что, совсем необучаемый? – Сердце растроенно екнуло. Ситуация получалась из разряда «поспешишь – людей насмешишь» или в данном конкретном случае не насмешишь, а расстроишь. А она ведь и в самом деле спешила, так хотела поскорее пристроить лучшую подругу на хорошую работу, что даже не особо интересовалась той семьей, в которую спровадила вчера Анюту. – Или они тебя там обидели чем-то?
– Кто? – Анюта стояла лицом к плите и расстроенное выражение Любашиного лица не видела.
– Да недоросль этот с семейкой!
– С недорослем все в порядке, кажется.
– Кажется или все-таки в порядке? – уточнила Любаша, переводя дух.
– Он, конечно, сложный парень, но не более того. Тут другое…
Анюта поставила перед Любашей чашку кофе, сама так и осталась стоять с зажатой в побелевших губах сигаретой. Кажется, она даже не затянулась ни разу, курильщица…
– Люб, у меня амнезия, – сказала она шепотом.
– Это в каком смысле амнезия?
– Во всех смыслах. – Сигарета догорела до середины, и тонкий столбик пепла упал прямо на пол. Для чистюли Алюшиной это было просто немыслимое событие, едва ли не более немыслимое, чем какая-то там амнезия. – Я совсем не помню, где провела прошлую ночь.
– То есть ты ее не дома провела? – Любаша присвистнула, посмотрела на подругу одобрительно. – Давно тебе, Алюшина, пора было начать жить нормальной человеческой жизнью. А то, что с алкоголем перебрала, это ничего, это от нехватки опыта. Следующий раз будешь осторожнее.
– Люб, я не пила. – Анюта мотнула головой и тут же болезненно поморщилась. А еще говорит, что не пила! – Любаша, я очнулась утром на скамейке в сквере. – Голос подруги звучал тихо и очень решительно. – В половине шестого утра, без пальто и обуви, в разорванной юбке и испачканной кровью блузке, в чужой мужской куртке, в чужих тапках…
– Подожди, подожди! – Любаша встала из-за стола, подошла к подруге, всмотрелась в ее подозрительно спокойное лицо, спросила шепотом: – А тебя это? Тебя никто не…
– Не насиловал, – закончила за нее Анюта и глубоко затянулась, с сигареты на пол снова упал пепел. – Тут другое что-то. Любаша, мне страшно, – добавила она совершенно спокойным голосом. Хорошо, если спокойствие это из-за коньяка, а вдруг из-за стресса?!
– Чего ты боишься, Алюшина? – спросила Любаша тоном как можно более беззаботным. – Самое страшное с тобой ведь не случилось, осталась в целости и сохранности.
– В относительной сохранности. – Анюта загасила в раковине недокуренную сигарету, принялась стаскивать с себя халат. – Люб, ты посмотри, что это такое? – А вот сейчас в ее голосе послышались панические нотки. – Люб, я это сегодня обнаружила, когда душ принимала, ты взгляни…
Она посмотрела и потеряла дар речи: на левой Анютиной руке красовалась татуировка. Любаша повидала много татуировок, начиная от профиля Владимира Ильича, накорябанного кривой тюремной иглой на груди трижды судимого соседа дяди Васи, и заканчивая кокетливыми кельтскими завитушками на пояснице секретарши Жанки, той еще гламурной дуры. Но чтобы такая красота! Такого многоопытная Любаша не видела никогда. Птица была какой-то необычной, скорее, из породы хищников, но точно не орел и не сокол. Других хищных птиц Любаша припомнить не могла. Птица не то вырывалась из объятий пламени, не то сама являлась порождением огня.
– Что это за хрень? – спросила Любаша, осторожно касаясь изящного хвостового пера, обвивающего Анютино запястье.
– Это не хрень, это феникс – мифическая птица, восстающая из пепла, – сказала Анюта и отдернула руку.
– Больно? – всполошилась Любаша. По виду кожа на Анютиной руке была вполне нормальной, даже не верилось, что татуировку ей сделали всего пару часов назад.
– Уже нет. – Подруга вытянула перед собой татуированную руку, посмотрела на нее со смесью страха и отвращения. – Даже странно, когда мылась, болела, и краснота была, а сейчас ничего.
– Ну и хорошо, что ничего, – Любаша вздохнула с облегчением. – Вот что я тебе скажу, Алюшина, татуировочка очень даже симпатичная, изящная, а главное необычная. Если бы мне такую красоту забацали на халяву, я бы не убивалась, а сказала бы спасибо. Конечно, летом тебе непривычно будет, ты ж у нас не любишь привлекать внимание, но теперь уж что? Теперь ничего не поделаешь.
– А если попробовать свести?
– А зачем? Красивая ж птичка! И потом, я читала, что до конца татуировку вывести нельзя. Тебе очень хочется ходить в разноцветных разводах?
– Мне уже вообще ничего не хочется. – Анюта натянула на плечо халат, потуже завязала пояс. – Нет, хочется! – добавила неожиданно зло. – Хочется узнать, кто и зачем это со мной сделал!
– Хорошо, что только это, – проворчала Любаша. – Ты вообще новости смотришь? Слышала, что творится?
– Что творится? – эхом повторила Анюта.
– Неужели не знаешь?! Ну ты, Алюшина, прямо как на облаке живешь! Маньяк в городе завелся, вот что! Уже четыре убийства. И убийства-то какие жуткие. Все жертвы – молодые девушки, всех нашли привязанными к столбам-деревьям, облитыми бензином и заживо сожженными.
– Заживо? – ахнула подруга.
– Ну, так народ говорит.
– А милиция что говорит?
– А милиция, как всегда, молчит. У нее тайна следствия и все такое… Так что радуйся, Алюшина, что попалась ты в руки к татуировщику, а не к этому чокнутому пироманьяку.
– Я радуюсь, – сказала Анна и отхлебнула из Любашиной чашки остывший кофе. – Я только вот теперь думаю, что мне придется паспорт восстанавливать и дубликаты ключей делать.
– С ума сошла! – спохватилась Любаша. – Какие дубликаты?! Замок нужно срочно поменять. Вдруг этот… ну, художник-извращенец решит тебя навестить? Не, замок менять однозначно, а лучше и дверь заодно, она у тебя какая-то хлипкая совсем. А еще, может, давай в милицию заявим? Ну так, на всякий случай.
– Не надо в милицию. – Анюта покачала головой. – Сама ж говорила…
– Тут другой случай. Там костры, а тут птичка…
– Огненная птичка…
– Ой, мамочки! – Любаша потянулась за рюмкой, до самых краев налила в нее коньяку, залпом выпила. – Анют, ты думаешь, что это он тебя? Ну, пироманьяк этот?
– Не знаю. – Анна устало потерла глаза. – Любаша, я вообще ничего не понимаю.
– Тогда, знаешь, нам точно нужно в милицию! А то мало ли что! Не могу я рисковать жизнью лучшей подруги. Давай собирайся, пойдем заявление на маньяка писать!
Заявление у нее хоть и приняли, но Анна была уверена, что дежурный офицер их с Любашей всерьез не воспринимает. Пару минут он с интересом рассматривал татуировку феникса на плече Анны, на этом его интерес иссяк. А к утверждению Любаши, что это дело может быть связано с делом пироманьяка, милиционер отнесся и вовсе скептически.
– Дамочка, да с чего вы вообще взяли, что вашей подруге был нанесен физический ущерб? – Он с неодобрением покосился на Анну.
– Так ведь татуировка же! – задохнулась от возмущения Любаша.
– А что татуировка? Татуировка могла быть сделана гражданке Алюшиной с ее личного на то согласия. Вы же только что рассказывали мне, что не помните события прошлой ночи? – Его взгляд делался с каждой секундой все раздраженнее. – Говорили?
Анна молча кивнула.
– Ну вот, это значит, что вы могли запросто дать свое согласие. И потом, вы уж меня простите, но от вас обеих пахнет алкоголем! – закончил милиционер и многозначительно покачал головой.
– Это ты типа намекаешь, что мы типа алкоголички? – Любаша уперлась кулаками в рабочий стол служителя порядка, посмотрела на него сверху вниз таким взглядом, от которого неподготовленный мужик мог запросто превратиться в пепел, но милиционер оказался подготовленным, Любашин взгляд проигнорировал и сказал официальным тоном:
– Все, гражданка Алюшина Анна Владимировна, заявление ваше я принял. Можете быть свободны.
– А розыскные мероприятия? – не собиралась сдаваться без боя Любаша.
– Я сказал – свободны! – рыкнул милиционер.
– А я сказала, что буду на вас жаловаться! – Любаша стукнула кулаком по столу с такой силой, что милиционер испуганно вздрогнул. – И начальству вашему, и еще куда следует…
– Люб, пошли уже. – Анна потянула разбушевавшуюся подругу за рукав пальто. – Люб, ну он же принял заявление.
– Принял! Да я ему такую жизнь устрою, что он к тебе каждый день с докладом будет приходить! – Любаша все еще бушевала, но к выходу все-таки пятилась.
– Да жалуйтесь вы! – Милиционер зло смахнул со лба выступившую испарину. – Сколько вас тут таких ходит жалобщиков! Вас много, а я один!
При этих словах Любаша уже хотела было снова ринуться в бой, но Анна ее удержала, почти силой вытолкала из кабинета и, когда подруги оказались в гулком полутемном коридоре, сказала успокаивающе:
– Люб, да ну его! Люб, нам еще замок менять. Пойдем, а?
– Да что ж ты добрая такая, Алюшина? – Любаша покачала головой. – Один урод тебя как матрешку расписывает, второй к чертовой матери посылает, а ты со всеми соглашаешься. Что бы ты без меня делала, Алюшина?
– Пропала бы, – буркнула Анна, торопливыми шагами направляясь к выходу.
Хоть Любаша и настаивала, на замену двери Анна не согласилась. Нет у нее денег на дверь! Сказать по правде, у нее и на замок-то нет, придется снова занимать у подруги. А еще документы восстанавливать…
Слесарь управился быстро, но, пока работал, тоже бубнил, что дверь хлипкая и никакой замок ее не спасет, тут нормальному мужику разок плечом приложиться – и все дела. Анна слесаря не слушала, пила кофе с коньяком, пыталась вспомнить хоть что-нибудь из событий минувшей ночи.
Не получалось, точно воспоминания стерли или запаролили. Скорее, запаролили, потому что мутные, совершенно обрывочные картинки перед внутренним взором нет-нет да и всплывали. Вернее, не картинки даже, а ощущения: холод, страх, прикосновения чего-то липкого, мерзкого, точно паучьих лапок. И паутина опять же. Где может быть столько паутины? На чердаке? В подвале? Да где угодно, хоть в подъезде! Здравый смысл нашептывал Анне, что случившееся нужно просто поскорее забыть, но феникс, вцепившийся острыми когтями в ее руку, заставлял измученный мозг снова и снова подбирать пароль к воспоминаниям.
Любаша говорила, что феникс красивый и стильный, но Аня кожей чувствовала исходящую от него опасность. Казалось бы, обычная татуировка, очень профессиональная, возможно, и в самом деле красивая, но было в ней что-то такое, от чего холодели кончики пальцев, а волосы на затылке начинали шевелиться. И наваждение это не могли развеять ни коньяк, ни тонкие Любашины сигаретки, ни сама Любаша.
– Алюшина, хочешь, я у тебя сегодня переночую? – спросила подруга, уже стоя на пороге. – Или лучше переселяйся на время ко мне, пока этого пироманьяка не поймают.
Анна отрицательно мотнула головой. Любаша добрая и надежная, но иногда ее бывает слишком много. Не хочется в который уже раз объяснять, что Аня так до сих пор ничего и не вспомнила и понятия не имеет, кто мог на нее напасть прошлой ночью. Деятельная Любаша уже начала разрабатывать версию, что это кто-то из бывших учеников, недовольный оценками, или какой-нибудь придурочный родитель, считающий, что его чадо незаслуженно притесняли. Мало ли сейчас ненормальных?! Анна с предположениями подруги не соглашалась. Любаша ей мешала, не давала сосредоточиться, ухватить за хвост какую-то очень важную, но все время ускользающую мысль.
– Люб, я сама. – Она поцеловала подругу в румяную щеку. – Ты и так уже много для меня сделала.
– А что дверь хлипкая, это ничего? – спросила Любаша с тревогой. – Слышала, что слесарь сказал? Плечом приналечь или ногой врезать – и все дела!
– Я ж не одна живу, кругом соседи, – Анна вымученно улыбнулась. – Если вдруг что, сразу позвоню.
– Позвонишь! – всплеснула руками подруга. – Так откуда ж ты позвонишь, если у тебя теперь мобильника нет?! – Не договорив, она принялась рыться в сумочке, через пару секунд выудила телефон, протянула Анне. – Вот, Алюшина, возьми пока мой и не спорь! У меня дома есть стационарный аппарат, если, не дай бог, – она торопливо перекрестилась и тут же поплевала через левое плечо, – если вдруг этот упырь к тебе попробует прорваться, сразу же звони в милицию! Или лучше сначала мне, а потом в милицию, я быстрей прилечу.
– А как же?..
Анна не успела договорить, как Любаша махнула рукой:
– Если мне звонить будут, ты не отвечай. Если кто особо настырный окажется, можешь просто сбросить, я с ним потом сама разберусь, но чтобы мобильник не выключала! Слышишь меня?
– Слышу. – Анна положила телефон на полочку.
– И мне раз в час отзванивайся, чтобы я не волновалась.
– Любаша, не буду я тебе звонить, я сейчас ванну приму и спать лягу. И не волнуйся ты за меня, я уже большая девочка.
– Ага, большая девочка, а сама не помнишь, где ночку коротала, – хмыкнула подруга и, на прощание махнув рукой, с грохотом захлопнула за собой дверь. Уже из-за двери послышался ее басок: – Алюшина, я тебе сама позвоню, как до дому доберусь. Ты потерпи часок. Понятно?
– Понятно! – крикнула в ответ Анна и защелкнула замок.
Любаша отзвонилась ровно через час, как и обещала, а до этого на ее номер позвонили пять раз: один раз какой-то Вася и четырежды – абонент, обозначенный в Любашином мобильнике, как «котик». Судя по настойчивости «котика», он был последним Любашиным сердечным увлечением. Анна честно доложила подруге и о Васе, и о «котике», но оказалось, что сердечное увлечение уже на излете, «котик» был замечен в порочащих его связях и отправлен в отставку.
– Алюшина, забыла тебя предупредить, – гудела в трубку Любаша, – ты, главное, котику не отвечай, пусть помучается, скотина. Сильнее любить станет.
– Так ты его простишь? – на всякий случай уточнила Анна.
– Еще не знаю. – В Любашином голосе послышались мечтательные нотки. – Может, и прощу. Уж больно симпатичный котяра. Не отвечай на звонки, – еще раз напомнила она, и в трубке послышались гудки отбоя.
Не отвечай на звонки… Легко сказать! Уже через два часа Анна возненавидела и настырного «котика» – двадцать пять входящих! – и Любашу – не отвечай, пусть помучается, скотина! – и сам мобильный. На третьем часу, когда за окном была уже глубокая ночь, а «котик» с маниакальной настойчивостью продолжал названивать, Анна не выдержала и отключила телефон. В квартире наконец воцарилась благословенная тишина, а она вдруг подумала, что по сравнению с неведомым ей «котиком» ее недавний обидчик, возможно, еще не самый плохой парень. Несмотря на суматошный день и приближающуюся полночь, спать не хотелось совершенно. Анна прошла на кухню, поставила на огонь турку с кофе, достала из холодильника принесенную Любашей коробку шоколадных конфет.
С дымящейся чашкой в одной руке и конфетой в другой она подошла к окну, поставила кофе на подоконник, всмотрелась в темноту за стеклом. Единственный на весь двор фонарь тускло мерцал и раскачивался из стороны в сторону под порывами ветра. Вместе с ним раскачивалась старая береза, а длинные тени от ее ветвей заполошно метались по забитой машинами автомобильной стоянке. Если бы погода была не такой мерзостной, то в старой беседке напротив подъезда обязательно сидела бы компания местных гопников, распивала бы пиво и на весь двор орала бы блатные песни, а так – никого. Или все-таки…
Анна прижалась лбом к холодному оконному стеклу, пытаясь рассмотреть одинокую фигуру. В беседке определенно кто-то был, но вот кто именно, разглядеть не получалось. А почему-то очень хотелось. В этот самый момент Анна отчетливо поняла, что в ярко освещенном проеме окна сама она видна как на ладони. Испуганно ойкнув и едва не опрокинув чашку с кофе, девушка метнулась к выключателю и погасила на кухне свет. Сначала выключила, а уже потом подумала, как это глупо и по-детски, ведь вполне возможно, что тот человек внизу даже и не смотрел в ее сторону. Самым разумным в сложившейся ситуации было бы допить кофе и отправиться, наконец, спать, но ведомая каким-то другим, совершенно отличным от здравомыслия чувством Анна снова подошла к окну.
Незнакомец никуда не делся, он по-прежнему сидел в беседке, словно кого-то ждал. А собственно говоря, почему словно? Может быть, это влюбленный парень, еще один покинутый «котик», а она навыдумывала себе бог весть чего. Когда Анна уже почти успокоилась, незнакомец вдруг помахал ей рукой. Она точно знала, что этот приветственный жест адресован именно ей. В руке человека зажегся маленький голубой огонек, описал в темноте дугу, и в это самое мгновение в квартире зазвонил телефон… Отключенный Любашин мобильник наигрывал что-то оптимистичное и нетерпеливо вибрировал на полке в прихожей.
Все-таки Анна уронила чашку, кофе растекся по полу, забрызгал босые, ставшие вдруг ватными ноги. На этих ватных, совершенно негнущихся ногах девушка вышла в прихожую, с замирающим сердцем потянулась за мобильником. На светло-голубом экране высветилось «Алюшина». На выключенный Любашин телефон Анне звонила она сама. Или тот, у кого оказался ее мобильный…
Левое плечо вдруг обожгло острой болью, точно кто-то припечатал Анну каленым железом. Почти теряя сознание от боли и ужаса, с живущим какой-то своей собственной жизнью мобильником в руке, она вернулась к окну.
Незнакомец по-прежнему сидел в беседке. Было в его позе что-то странное – расслабленное, точно он вдруг напрочь забыл об Анне и задремал, голубого огонька девушка тоже больше не видела, а тем временем телефон в ее взмокшей ладони продолжал звонить. Не сводя взгляда с незнакомца, Анна медленно-медленно поднесла мобильник к уху.
В трубке была такая абсолютная, ничем не нарушаемая тишина, что на мгновение Ане подумалось, что никто ей не звонит, что это лишь происки ее расшалившегося воображения и побочное действие коньяка.
– …Анна! – сквозь тишину в ее мир ворвался мужской голос. – Анна, девочка моя…
– Кто вы?
Незнакомец внизу сидел недвижимо, и сквозь парализующий страх Анне вдруг подумалось – как же он говорит, если не прижимает трубку к уху? И тут же озарением пришла мысль, что он использует громкую связь или блютуз.
– Кто вы? – повторила она шепотом. – Что вам от меня нужно?
– Анна… – голос в трубке с каждой секундой терял силу, размывался, отдалялся, а феникс на плече снова полыхнул огнем. – Я приду к тебе…
– Хватит! – она отшвырнула мобильник, совершенно безотчетным движением вытерла вспотевшие ладони о халат. – Я вызову милицию, – сказала шепотом.
Экран Любашиного телефона моргнул и погас, и окружающая темнота сделалась совсем уж непроглядной. Анна обернулась к окну – незнакомца в беседке не было, лишь ветер с остервенением гонял по двору обрывки упаковочного картона. Ушел… Слава богу, ушел! Или?..
Оскальзываясь на мокром от пролитого кофе полу, Анна бросилась в прихожую, прижалась ухом к двери – ничего! Тишина – ни шороха, ни звука. Ужас, все это время ледяными пальцами державший ее за горло, ослабил хватку. Ушел, он действительно ушел…
Любашин телефон по-прежнему лежал на полу в кухне. Отключенный, неработающий телефон, на который всего минуту назад ей кто-то сумел дозвониться… Анна сунула мобильник в карман халата, потерла ноющее плечо и поморщилась. А Любаша еще утверждала, что кожа подозрительно быстро зажила. Ничего она не зажила, если так больно…
Тут же, посреди темной кухни, Анна стащила с плеча халат и тихо всхлипнула: феникс светился пульсирующим красным светом, но с каждым мгновением пульсация эта становилась все слабее и слабее, пока, наконец, не сошла на нет. Вместе с пульсацией исчезла и боль, исчезла совершенно, точно ее и не было. Торопливо, натыкаясь в темноте на мебель, Анна прошла в ванную, нашарила выключатель и зажмурилась от яркого света. Когда глаза привыкли к свету, в зеркале она увидела испуганное существо, с расширившимися от ужаса зрачками, бледной до синевы кожей, всклокоченными волосами, в заляпанном кофе халате. А татуировка была самой обычной. Если, конечно, ее вообще можно назвать обычной. Феникс больше не светился и не пульсировал – и на том спасибо…
Анна плеснула в лицо холодной воды, провела влажными ладонями по волосам, натянула халат, пару секунд бездумно посмотрела на свое отражение и вышла из ванной. Шорох за дверью она услышала сразу, как только оказалась в прихожей. Не шорох даже, а едва слышный звук шагов и, кажется, дыхание. Кто-то стоял за ее дверью…
Вот сейчас Анна пожалела о многом: о том, что отказалась провести эту ночь у Любаши, о том, что пожалела денег на нормальную железную дверь, о том, что своими собственными руками отключила мобильник и теперь до самого утра оказалась отрезанной от мира. Даже соседей не позвать, потому что, чтобы позвать соседей, нужно, как минимум, выйти из квартиры. А как ей выйти, если там, на лестничной площадке, притаился чужак!
Зажмурившись так сильно, что из глаз брызнули слезы, Анна шагнула к двери, прижалась щекой к ее чуть шершавой поверхности, срывающимся шепотом спросила:
– Кто там?
Ответом ей стал звук удаляющихся шагов. Она отчетливо слышала, что незнакомец уходит, и с каждым шорохом ноги ее становились все непослушнее и непослушнее, пока Анна вдруг с ясной отчетливостью не осознала себя сидящей на полу перед дверью.
Ничего… Ей бы только до рассвета продержаться. Сколько той ночи? Вон уже без пяти минут четыре, еще пара часов – и наступит утро, а утром уже не страшно, утром она придумает, как жить дальше, может быть, даже снова сходит в милицию, расскажет, что кто-то пытался проникнуть в ее квартиру.
Анна решила расположиться за столом на кухне. Чтобы не уснуть, сварила себе еще кофе, достала коробку шоколадных конфет. Конфеты были вкусными, именно такими, какие она любила больше всего. Раз конфетка, два конфетка…
…Солома под босыми ногами занялась в одно мгновение. Огоньки пламени юркими ящерками метнулись вверх. Следом загорелся подол платья, вспыхнул синим, обхватил огненными колодками лодыжки. Анна запрокинула залитое слезами лицо к ночному небу и закричала от боли и безысходности…
…Она проснулась от собственного крика, дернулась и едва не свалилась на пол с табуретки. Босые ноги горели огнем, а на левой руке шипел и бил красными крыльями феникс. Сон! Это всего лишь сон, навеянный событиями прошлого дня кошмар. Но до чего же больно!
Анна обхватила руками босые ступни, точно и в самом деле рассчитывала увидеть на них следы ожогов. Никаких следов не было, но кожа казалась горячей, а в воздухе отчетливо слышался запах гари…
Громкий стук в дверь отвлек ее от рассматривания собственных ног, заставил вскочить с табурета и бегом броситься к двери. Часы в прихожей показывали половину девятого утра, а дверь содрогалась под мощными ударами.
– Алюшина! – гремел на весь дом встревоженный голос Любаши. – Алюшина, открывай, а то я вышибу эту чертову дверь! Вот посмотришь – вышибу! Аню-ю-ю-та!
Еще плохо соображая со сна, но уже понимая, что подруга явно чем-то встревожена, Анна повернула ключ в замке и в ту же секунду попала в крепкие Любашины объятия.
– Аню-ю-ю-та! – продолжая реветь во весь голос, Любаша протиснулась в ее маленькую прихожую, ногой захлопнула дверь. – Анюта, зараза, ты зачем мобильник выключила? Я звоню тебе, звоню, – сказала она уже спокойнее.
– Твой котик… – Анна осторожно высвободилась из объятий подруги, еще раз посмотрела на свои босые ноги. – Твой котик звонил мне, не переставая, а ты же сама велела не отвечать, вот я… – Она вдруг с неотвратимой ясностью вспомнила события прошедшей ночи, и приснившийся кошмар в ту же секунду отошел на задний план.
– Да послала бы этого котика, если он такой козел! – в сердцах махнула рукой Любаша. – У меня ж чуть инфаркт не приключился. – Не разуваясь, она прошла на кухню и уже оттуда спросила: – А что это горелым пахнет?
Вот и Любаша ощущает этот запах. Странный, однако, сон…
– Я форточку открою, – сказала подруга и тут же поинтересовалась: – Только котик звонил?
– Не только. – От воспоминаний на лбу вдруг выступила испарина.
– А кто еще? Анюта, свари мне кофе, а то я спать хочу – умираю!
– Люб, я, наверное, схожу с ума. – Анна прошла на кухню, присела на край табуретки, положила на стол Любашин мобильник. – Когда твой котик меня достал, я телефон отключила, а он все равно зазвонил.
– То есть как – все равно зазвонил? – Любаша повертела телефон в руках. – Ты его снова включила?
– Нет, не включила, я же не знаю твоего пин-кода. Он просто взял и сам включился.
– И кто звонил? – Любаша деловито пробежалась по кнопкам и мобильник ожил. – Вася, котик, котик, котик… Анюта, котик, что ли, снова позвонил?
– Не котик, – она тряхнула головой. – Люб, на твой отключенный телефон звонили с моего потерянного мобильного. Понимаешь?
– Не понимаю. Входящие регистрируются, а записи нет. И кто звонил? – Она подняла на Анну недоуменный взгляд.
– Я пила кофе у окна, ночью, часов около трех. А там внизу в беседке кто-то сидел. Он увидел меня и помахал.
– Кто – он?
– Не знаю. Мужчина. Он помахал, и твой мобильник вдруг включился…
– И что? – Любаша испуганно отодвинула телефон в сторону. – Кто звонил-то? Этот твой похититель?
– Не знаю. – Анна зажмурилась, прогоняя накатившую вдруг волну тошноты. – Он назвал меня по имени и сказал, что пришел за мной…
– Твою ж мать! – Любаша громыхнула кулаком по столу. – Вот ведь извращенец проклятый! Анюта, сегодня же пойдем в ментовку, пусть приставят к тебе охрану.
– Какую охрану, Люб? У меня же нет никаких доказательств, и вообще, странно все это…
– Что странно? Что мой мобильник включился? Ну так мало ли что, может, его можно как-то дистанционно активировать? Может, к нему хакер какой подключился, чтобы тебя напугать? А что, очень даже логично, сначала подключился, а потом стер сообщение. Эх, плохо, что ты того гада не рассмотрела…
– Люб, это не все. Я вот сейчас подумала: когда он говорил, то не держал телефон у уха. Я тогда решила, что это блютуз-гарнитура какая-нибудь или громкая связь, но в трубке была такая тишина… Тишина и в этой тишине голос.
– Так, а что тебя смущает? Ночь кругом, оттого и тишина.
– Ты помнишь, какой вчера поднялся ветер? Он же выл так, что даже дома слышно было, а в мобильнике совсем-совсем тихо. И это тоже еще не все, он потом к моей двери подходил, этот человек. Я отчетливо слышала шаги. Постоял, постоял и ушел.
– Анюта, тишина в трубке и оживший мобильник – это не такая уж странность, скорее всего просто какая-то техническая фишка, а вот то, что этот ненормальный тебя преследует, очень серьезно. Нет, я настаиваю на походе к ментам. Все объяснимо.
– Не все. – Анна встала из-за стола, принялась готовить кофе. – Не все, Люб. Когда этот человек мне позвонил, я почувствовала очень сильную боль в руке, точно меня кто-то каленым железом заклеймил, посмотрела на плечо – а он светится!
– Кто светится? – Любаша, которая только что закурила, поперхнулась дымом.
– Феникс! Он сиял красным светом и не просто светился, а еще и пульсировал.
– Может, краска какая флуоресцентная? – пробормотала Любаша, решительно встала и скомандовала: – Пойдем-ка в ванную, проведем следственный эксперимент.
Следственный эксперимент провалился: в темноте татуировка не светилась, зато в Любашиных глазах снова зажегся огонек недоверия.
– Слышь, Алюшина, – сказала она, возвращаясь на кухню, – а может, это все из-за нервов? Или из-за той дури, из-за которой тебе память отшибло?
– Галлюцинации?
– Ага, глюки!
Анна прислушалась к себе. Ей очень хотелось согласиться с Любашей, но каким-то шестым чувством она понимала, что причина не в галлюциногене. Что-то происходило вокруг, что-то неправильное и страшное.
– Нет, – сказала она решительно. – Любаша, это не глюки, я все очень четко помню. И еще мне приснился сон, точно я горю заживо. Очень реалистичный сон, и очень жуткий. И ты же сама сказала, что горелым пахнет. А у меня тут ничего не горело. – Анна снова, в который уже раз посмотрела на свои босые ноги.
– Сон, говоришь? – Любаша, уже почти расслабившаяся, снова подобралась, как собака, взявшая след. К чему, к чему, а ко снам подруга относилась очень серьезно, имела дома несколько сонников и сверялась с ними едва ли не каждое утро. – Ты знаешь, Алюшина, а ведь в этом что-то есть! – сказала она уверенно. – Это не простой сон, это – знак, послание.
– От кого послание?
– Ну, откуда ж мне знать?! – она развела руками. – Сны – это такая тонкая материя, тут без ста граммов не разберешься.
– Коньяку налить? – очень серьезно спросила Анна.
– Лучше кофе, – отмахнулась Любаша. – И помолчи пока. Я думать буду. Есть у меня одна идея…
А заметку он написал! По совести все сделал, так, чтобы и внимание читателей привлечь к этому из ряда вон выбивающемуся делу, и не опорочить свое имя излишним смакованием страшных подробностей. И при том не забыл упомянуть, что по долгу службы присутствовал на месте преступления и является непосредственным участником расследования. А про стервеца Косорукова даже словом не обмолвился. Получилось обойтись без фамилий и чинов, на то ему и талант дан!
Сказать по правде, сдержанным Андрей Васильевич был лишь на страницах газеты, а уж дома дал себе волю. Мари слушала его рассказ с закрытыми глазами, то и дело ахала, прикладывала к носу пузырек с солью. Вот такая чувствительная у него супруга! Даже совестно как-то пугать, да что ж делать, если сама велела рассказать все, как есть? А ему непременно слушатель нужен, потому как сегодня барон фон Вид собирает соседей на дружеский вечер, и его, Андрея Васильевича, непременно станут расспрашивать о подробностях следствия, и нужно подготовиться, чтобы на любой, даже самый каверзный, вопрос иметь достойный ответ. Может ведь так статься, что это расследование – его звездный час!
На ужин к барону Андрей Васильевич собирался особенно тщательно, замучил бедного Степку придирками и указаниями. Но Степка, молодец, все причуды сносил безропотно. Может, понимал, сколь значимым может оказаться для хозяина этот вечер, а может, горевал из-за несчастной Матрены. Андрею Васильевичу правду выпытывать было недосуг, в своих мыслях он уже был в доме барона, сдержанно и с достоинством отвечал на вопросы гостей, ловил на себе заинтересованные взгляды дам. Вдруг и Олимпиада Павловна почтит ужин своим присутствием. Эх, до чего ж удачно, что Мари слегла с приступом мигрени…
По заведенному бароном обычаю гостей встречал мрачный, огромного роста мавр в дорогой, на восточный манер расшитой золотом одежде. Впрочем, Максимилиан фон Вид мог себе позволить любую вольность. В том, что деньгами барон сорит направо и налево, Андрей Васильевич убеждался не единожды. Один только его дом чего стоил!
За домом, некогда принадлежавшем графу Изотову, водилась дурная слава. Раньше, давным-давно, жилось в нем легко и радостно всем, и хозяевам, и челяди. Граф Александр Дмитриевич Изотов был персоной известной и уважаемой, но имелась у него одна страстишка – любил играть в карты. И фартило, надо сказать, ему очень долго. Так фартило, что другие только диву давались, но не осуждали, потому как человеком Александр Дмитриевич был добрейшим и щедрейшим, занимался меценатством, а балы устраивал такие, какие и в столице нечасто увидишь. Вот только однажды фортуна, эта капризная девица, от графа Изотова отвернулась, и вот прямо тут же его персоной заинтересовались кредиторы. Как уж там все было в подробностях, Андрей Васильевич не интересовался, знал только, что закончилась сия история трагично: у супруги графа случился удар, после которого она очень скоро преставилась, сам Александр Дмитриевич застрелился, а его единственный сын в день похорон отца исчез. Говорили разное, но отделить истину от домыслов Андрей Васильевич не решился бы. Сам он предполагал, что молодой граф поступил единственно разумным образом: уехал подальше от тяжкого наследства, дурной славы и кредиторов отца.