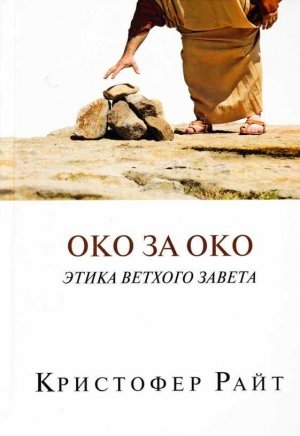
Предисловие к книге «Образ жизни народа Божьего»
Некоторые авторы начинают свои произведения с извинений за то, что читателю придется иметь дело еще с одной книгой на ту или иную тему, и приводят причины, почему она нужна. Я считаю, что избавлен от этой необходимости, поскольку по предмету ветхозаветной этики написано мало. Несомненно, как это видно из библиографии, есть немало научных статей и узких исследований, проливающих свет на значимость Ветхого Завета. Но я не знаком с новейшими попытками представить целостный обзор данной темы. Поэтому, не претендуя на глубокое или подробное изложение предмета, я попытался дать общую схему, в рамках которой следует организовывать или осмысливать ветхозаветную этику. Для тех, кто желает сделать изучение этой темы более глубоким и расширенным, в библиографии содержится достаточное количество источников.
Учитывая интересы простого читателя, я избегал, насколько это было возможно, использования специальной терминологии и непомерных подстрочных примечаний. Единственный специальный термин, который я осознанно позволил себе употребить, — это «парадигма» и его производное «парадигматический». Я не смог найти более простого слова для обсуждения методов понимания и применения Ветхого Завета. Этому понятию дается определение и пояснение, как только оно дает о себе знать во второй главе. Подобным образом поясняются еще два–три богословских термина, по мере того как они встречаются в тексте.
Следует отметить еще два нюанса. Во–первых, бегло просматривая оглавление, мы видим, что большая часть материала касается социальных аспектов этики Ветхого Завета. И только в последней главе мы рассматриваем личную, или индивидуальную этику. Возможно, что объемы частей не совсем сбалансированы, и о личных этических требованиях, встречающихся в Ветхом Завете, могло быть сказано намного больше. Тем не менее, решение автора осознанно, оно основано ни убеждении, что главное этическое ударение Ветхого Завета все–таки социальное. Ветхий Завет — это рассказ о народе, Божьем народе; и все яркие истории о нравственном выборе отдельных людей — это часть большей истории. Бог призвал все сообщество стать «Его уделом», жить пред Ним среди народов земли. Таким образом, Ветхий Завет пронизывает мысль: что означает быть живым народом живого Бога.
Второй нюанс связан с выбором тем во второй части. Я убежден, что Ветхий Завет, если его верно понимать как часть всего канона Писания, непосредственно применим к целому спектру наших этических проблем. Задача данной книги — указать на общие принципы практического применения Ветхого Завета, не разбирая конкретные примеры из различных областей. Я не экономист, не политик, не юрист и не социолог и поэтому не претендую на серьезную осведомленность в данных областях. Но я надеюсь, что изложенный здесь материал подтолкнет христиан, которые трудятся в этих и других сферах, к более эффективному применению библейского богословия и этики в конкретных ситуациях.
Многие идеи данной книги были впервые озвучены и проверены на прочность в конструктивной атмосфере проекта Шефстбери (ShaftesburyProject). Я очень признателен членам различных групп этого проекта за их сотрудничество на протяжении последних лет, а также дирекции проекта за разрешение изменить и пересмотреть материал, который изначально был опубликован как рабочие доклады.
Я также хочу отметить свою признательность милым леди из Торн–бриджа, перепечатавшим рукопись: Шейле Армстронг, Сью Блейдон, Кэти Портлок и Френсис Уэллер. Также благодарю Брайана и Меган Адаме, Кеннета и Маргарет Габбинз, Лоуренса и Маргарет Поуп и Дэвида и Клер Уэнхем за оказанное мне гостеприимство во время написания книги. Я высоко ценю внимательность достопочтенного Дэвида Филда и доктора Гордона Уэнхема, которые прочли первоначальную машинописную версию и внесли немало весьма полезных комментариев. Их предложения помогли мне в целом ряде случаев уточнить или улучшить ход мысли. Указатели книги — плод трудов моих студентов из Колледжа Олл–Нейшнз (AllNationsCollege).
Семья автора всегда несет бремя написания книги, но моя семья намного превзошла все образцы долготерпения и превратила некоторые из надежных принципов ветхозаветной этики в переживание величайшей радости. Поэтому, с признательностью и любовью, эта книга посвящается всем им.
Кристофер Райт
Предисловие
Когда «Образ жизни народа Божьего» вышел из печати в 1983 году, уровень интереса (академического и популярного) к ветхозаветной этике был настолько низок, что только немногие (тем более автор) могли бы предположить, что книга переживет два десятилетия и вновь появится в пересмотренном издании. Долгое время ощущался недостаток анализа этики Ветхого Завета. Сирил Родд (CyrilRodd) говорит, что в 1956 году его отговорили заниматься ветхозаветной этикой на том основании, что у нее нет будущего.[1] В 1970 году я написал своему будущему научному руководителю в Кембридже, Джону Стерди (JohnSturdy), чтобы узнать, не может ли предмет ветхозаветной этики стать хорошей темой для докторской диссертации. Он ответил, что тема вполне подходящая, поскольку за последние пятьдесят лет никто ничего не писал об этом на английском языке. В 1973 году, когда я отчаянно пытался найти пути для написания диссертации по этой теме, один известный немецкий профессор сказал, что мои трудности его не удивляют, поскольку «не существует предмета обсуждения», — его замечание мало помогло мне в решении проблемы.
Впрочем, для дисциплины, у которой не было будущего в 1956 году, прошлого в 1970–м и которой все еще не существовало в 1973–м, ветхозаветная этика удивляет своей популярностью сегодня. Замечание из предисловия к моей первой работе[2] о том, что «по предмету ветхозаветной этики почти ничего не написано», хотя и прекрасно отражает состояние науки на тот момент (1983), чудесным образом устарело в 2003 году. За последние два десятилетия вышло из печати множество монографий, сборников научных статей и даже диссертаций в данной области. Я сделал обзор избранной литературы 1980–х годов (наряду с публикациями по новозаветной этике) в статье, опубликованной в 1993 году.[3] В тринадцатой главе я добавил к нему обзор еще большего количества соответствующих публикаций 1990–х годов и первых лет текущего столетия. Интерес к области настолько возрос, что из около четырехсот наименований в библиографии этого издания, 75% было издано не ранее 1983 года.
После издания «Образа жизни» я продолжал исследовать и писать о предмете. Меня постоянно побуждали предложения выступить с докладом или написать о конкретной теме с точки зрения Ветхого Завета. И я увидел, что схема «этического треугольника» и метод, предложенный мною — отчасти интуитивно — в 1983 году, прошел проверку временем и был усовершенствован по мере того, как я размышлял о нем. Это привело к публикации продолжения «Следовать по Божьему пути» (1995) — собрания эссе, ранее опубликованных в других изданиях. Поскольку упомянутая книга сейчас главным образом распродана, я благодарен христианскому издательству Ай–Ви–Пи (в лице Филиппа Дьюса, который терпеливо ждал исправленного издания) за согласие включить большую часть ее содержания (также полностью пересмотренного) в настоящую книгу. Это одна из причин, почему пересмотренное издание намного больше первого. Другая причина — я расширил некоторые главы и добавил главы по темам, которые практически не были рассмотрены в «Образе жизни» (например, экологическая этика).
Хотя изначально книга была (и остается) рассчитана на широкий круг читателей,, ее все же использовали как учебник по курсам богословия и этики Ветхого Завета в богословских колледжах различных частей мира. Я учел этот факт, готовя новое издание. Во–первых, хотя я по–прежнему убежден, что основной текст остается доступным для читателей без богословского образования, было включено больше примечаний с библиографическими ссылками, указывающих на научные дискуссии, которые активно ведутся по представленным темам. Ссылки в примечаниях даны в сокращенном виде. Подробную информацию можно найти в библиографии в конце. Во–вторых, в конце каждой из глав (кроме тринадцатой) я добавил раздел с дополнительным чтением, чтобы помочь студентам самостоятельно изучить тему глубже. И, в–третьих, я добавил еще один раздел, касающийся более академических аспектов ветхозаветной этики, для тех кому необходима базовая ориентация в предмете.
Таким образом, часть третья, посвященная историческому обзору дисциплины, для некоторых читателей станет первой, а для других — и вовсе ненужным довеском. Тем не менее, последняя глава — это моя попытка разрешить центральную проблему ветхозаветной этики: какие методы и предпосылки приемлемы для написания ветхозаветной этики и в каком смысле и на каком основании можно говорить об этическом авторитете Ветхого Завета для христиан?
Приложение об истреблении хананеев включено потому, что мне очень часто задавали об этом вопрос. Почти всегда, когда люди слышат или читают фразу «ветхозаветная этика», они тут же вспоминают некоторые неэтичные аспекты того или иного текста. И все же эта книга никогда не задумывалась как книга об «этических проблемах Ветхого Завета» (как мы их воспринимаем). Это серьезный вопрос, который требует еще одной книги, если его рассматривать не поверхностно. Но чтобы избежать обвинений, что я вовсе проигнорировал трудный вопрос, я предлагаю (с острым осознанием его сложности) краткий обзор некоторых взглядов на данную проблему, которые показались мне полезными, наряду с соответствующей дополнительной литературой.
К большому сожалению, приведенные ниже книги попали в поле моего зрения слишком поздно, чтобы обсудить их на страницах настоящей работы:
Brown, William P. (ed.), Character and Scripture: Moral Formation, Community, and Interpretation of Scripture (Grand Rapids: Eerdmans, 2002).
Goldingay, John, Old Testament Theology: Israel's Gospel (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003).
Lalleman, Hetty, Celebrating the Law? Rethinking Old Testament Ethics (Carlisle: Paternoster, 2004).
Parry, Robin, Old Testament Story and Christian Ethics: The Rape of Dinah as a Case Study (Carlisle: Paternoster, 2004).
С благодарностью я вновь посвящаю книгу своей семье, чья любовь и ободрение обогащают меня без меры. Книга «Образ жизни народа Божьего» была посвящена им со словами:
Моей супруге Элизабет
(в духе Притч. 31, 28–31)
Катарине, Тимоти, Джонатану и Сюзанне,
чьи первые дни совпали с выходом этой книги.
За истекшие годы наша семья увеличилась на три новые семьи и одну внучку (Хелена). А Сюзи, как и ее сверстница–книга, теперь достигла зрелости и отметила свой двадцать первый год. Правда, в отличие от книги, она не нуждается в каком–либо пересмотре и обновлении.
Кристофер Райт
Введение. Этический треугольник
Понимать и применять Ветхий Завет в этическом ключе — не означает просто читать его и выхватывать все, что кажется нам подходящим. Хотя именно так чаще всего и поступают — цитируют подтверждающие тексты почти наобум, а это, как правило, означает, что тексты изъяты из своего исторического, литературного и культурного контекста. Это часто приводит к спорам, поскольку кто–то еще легко может обратиться к иному тексту, в равной степени не учитывая тесную связь всего канона Ветхого Завета. Лучший способ применить ветхозаветную этику — это попытаться поставить себя на место Израиля и понять, как он воспринимал и переживал свои отношения с Богом, и как этот опыт повлиял на нравственные идеалы и жизнь сообщества.
Богословие и этика в Библии неотделимы. Образ жизни израильтян или христиан нельзя понять до тех пор, пока не поймешь их веру. Таким образом, моя задача в этой части — очертить общие контуры мировоззрения, стоявшего за богатством законов и увещеваний в Ветхом Завете, а также нравственные ценности, скрытые или явные в повествованиях, поэзии и пророчестве. Ветхозаветная этика зиждется на мировоззрении Израиля.
Мировоззрение — это всеобъемлющая группа предпосылок, которые человек или культура дает в ответ на фундаментальные вопросы, которые повсеместно ставят люди.[4] Вот основные из них:
1. Где мы ? (Каков характер вселенной, в которой мы живем? Откуда она появилась, и есть ли у нее будущее?)
2. Кто мы? (Что значит быть человеком, и чем мы отличаемся от прочих сотворенных существ, окружающих нас?)
3. Что не так ? (Почему все происходит не так, как нам хотелось бы? Почему мы в такой неразберихе?)
4. Каково решение? (Что можно сделать, если вообще возможно, чтобы все исправить? Есть ли надежда на будущее? И, если таковая есть, то на что, или на кого, надеяться, и когда эта надежда осуществится?)
Мировоззрение Израиля в ветхозаветные времена отвечало на эти вопросы так:
1. Мир — это часть благого творения единого живого Бога, которого мы знаем как Господа.[5] Богу принадлежит все (никакая часть не принадлежит иному богу), и Господь владычествует на всем, что существует «в небесах вверху, на земле внизу и под землей».
2. Мы, люди — существа, сотворенные по образу Бога Творца, созданы для взаимоотношений с ним и друг с другом.
3. Причиной того, что что–то не так, стало восстание людей против Бога Творца в нравственном и духовном непослушании, и это принесло губительные последствия во все сферы человеческой жизни, включая отдельную личность, наши отношения друг с другом, с окружающей средой и с Богом.
4. Решение можно найти у того же Бога Творца, который обратился к проблемам народов мира с историческим проектом искупления, начав с избрания Авраама, праотца народа израильского. Со временем благословение этого проекта распространится на все народы и все творение.
Итак, мы (как сказал бы ветхозаветный израильтянин) — это избранный народ, связанный уникальными взаимоотношениями с Господом, который одновременно наш Бог и Бог всех народов. Благодаря великому историческому событию национального освобождения (исход), заключенному на Синае завету и дарованию земли, в которой мы живем, Господь создал свой собственный народ. Однако завет с Авраамом напоминает нам, что мы были избраны ради призвания служить орудием благословения для всех народов. В своей повседневной жизни мы соблюдаем ритуалы очищения, отличаем чистое от нечистого, что отражает отделение от народов, что как мы верим, требуется от народа, призванного быть святым, потому что Господь свят. В своем поведении мы руководствуемся сводом традиций, законов и наставлений, которые, как наше «Руководство» (tora), формируют отклик Господу завета.
В своем поклонении мы признаем Господа, и только его, царем над Израилем и, в конечном счете, Господом всей земли, всех народов и всего творения.
Это краткое изложение богословия Ветхого Завета — мировоззрение Израиля, выраженное в его верованиях, рассказах и поклонении. Только в рамках этих предпосылок ветхозаветная этика имеет смысл. И только связав это мировоззрение с его развитием в Новом Завете, когда последователи Иисуса восприняли его в свете своих Писаний (которые мы называем Ветхим Заветом), мы сможем правомерно включить этику Ветхого Завета в христианскую этику.
Теперь же в этих общих рамках самопонимания мы обозначим три главных особенности:
• Господь — Бог Израиля;
• Израиль — избранный народ, связанный особыми отношениями с Господом;
• земля — как верил Израиль, обетованная и дарованная им Господом.
Бог, Израиль и земля — вот три столпа мировоззрения Израиля, главные составляющие их богословия и этики. Мы можем представить их как отношения в треугольнике, где каждая вершина связана с двумя другими. Таким образом, мы можем взять каждый угол этого треугольника по очереди и исследовать ветхозаветное этическое учение в богословском ракурсе (Бог), социальном ракурсе (Израиль) и экономическом ракурсе (земля). Так будет построена часть первая:
Конечно, схема эта несовершенна, но она полезна для понимания сложностей Ветхого Завета, описывая их в форме, вполне соответствующей канону Ветхого Завета и его богословию, основанному на понимании завета.[6]
Часть I. Структура ветхозаветной этики
1. Богословский ракурс
Одного историка, специалиста по сравнительному изучению правовых систем Европы, однажды попросили обобщить замеченные им главные отличия в разных культурах по вопросу закона и этики. «Это просто, — ответил он. — В Германии запрещено все, кроме того, что разрешено. Во Франции разрешено все, кроме того, что запрещено. В России запрещено все, включая то, что разрешено. А в Италии разрешено все, включая то, что запрещено».
Этические системы демонстрируют такое же разнообразие в истории и культуре. Это разнообразие можно заметить в основных аксиомах или предпосылках, взятых отправной точкой в любой этической системе. Аристотель, например, говорил о «золотой середине», что следует понимать как «чувство меры во всем». Утилитаризм отстаивает принцип «наибольшего блага для большего числа людей». Ситуационная этика считает руководящим принципом любовь, которой достаточно, чтобы направлять наши решения и поведение в любой возможной ситуации. У постмодернистов все сводится к критерию «не навреди»: позволительно все, лишь бы от этого не пострадал другой.
Однако в Ветхом Завете (как и во всей Библии) этика в основе своей богословская, то есть этические вопросы в каждом аспекте связаны с Богом — его личностью, волей, действиями и целями. Таким образом, первый ракурс, который нам необходимо исследовать в процессе поиска метода изучения этики Ветхого Завета, — это богословский ракурс. Как изображение Бога в Ветхом Завете влияет на его этическое учение?
Личность Бога
Сказать, что библейская этика начинается с Бога, — не сказать почти ничего. Многие этические системы, построенные на религиозных основаниях, утверждают то же самое. Поэтому прежде всего необходимо определить, что означает слово Бог. Какой бог? И как можно познать этого бога? Мы настолько привыкли употреблять это односложное слово, придавать ему библейское значение, что не отдаем себе отчета, как много мы в него вкладываем, решая изменить первую букву слова на заглавную — Бог. Или, напротив, мы можем не осознавать, что люди, чуждые библейскому повествованию и мировоззрению, не вкладывают в него то значение, которое вкладываем мы. Ведь слово бог — это не что иное, как общее понятие, которое в своих лингвистических истоках обычно было множественного числа (боги), а не единственного. Изначально оно относилось к множеству богов, которым поклонялись племена северной Европы. Поэтому, например, вопрос: «Веришь ли ты в Бога?» мало что означает (как и любой ответ, данный на этот вопрос), если только не уточнить понимание слова Бог. Многие, ответившие утвердительно, были бы очень удивлены, встреться они с Богом Библии. А многие из тех, кто говорит: «Нет, я не верю в бога», удивились бы, узнай они, что верующие люди тоже не признают такого бога, который отвергают атеисты.
В своем откровении Израилю Бог так не рисковал. Иногда говорят, что монотеизм — это важнейшая отличительная черта израильской религии, завещанная всему миру. Но и это понятие далеко не конкретное. Что должны были узнать израильтяне из великих деяний Бога в своей истории? Неужели Моисей сказал им после исхода и Синая: «Вы видели все это, чтобы узнать, что есть только один Бог»? Если бы это был единственный вывод, к которому они должны были прийти, то они бы не пошли дальше того, что уже знают бесы, как утверждает Иаков (Иак. 2,19). История же израильтян привела их к чему–то гораздо более конкретному: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь (Яхве) есть Бог, и нет еще кроме Его…[7] знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его» (Втор. 4, 35.39, курсив автора).
Дела этого Бога, Яхве, открыли его для человека, и он сильно отличался от богов египтян или хананеев. Яхве един, и здесь подчеркивается не количественное выражение божества (один бог или много), а единство Яхве, что настойчиво утверждается во многих отрывках (например, Втор. 6, 4–5). Личность и характер Бога, совершившего эти удивительные дела в истории, — вот что важно на самом деле, вот с чего мы начинаем изучение этики Ветхого Завета, ведь это и есть ее настоящее основание. Когда Израиль пошел вслед иных богов (воспользуемся фразой, чаще всего используемой в книге Второзакония и исторических книгах), последствия касались не только области религии, но и морали, потому что идолопоклонство всегда ведет к социальной и нравственной катастрофе, и об этом четко говорили пророки. Как тогда, так и сейчас наши дела и поступки отражают личность того, кому мы поклоняемся. Поэтому для Израиля нравственное поведение всегда определялось их представлением о Боге — их Боге, Яхве, Господе Боге нашем, Святом Израиля.
Дела Бога
Бог действует первым и призывает народ откликнуться. Это — отправная точка этического учения Ветхого Завета. По благодати своей Бог начинает дело спасения и уже в свете этого выдвигает те или иные требования. Следовательно, нравственность — это благодарный отклик в рамках личных отношений, а не слепое послушание правилам или преданность вневременным принципам. Об этом часто забывают, и ветхозаветные законы читаются вне повествовательного контекста. Просмотрите любую главу книги Левит или Второзакония, и может показаться, что послушание закону — основной их смысл. Но беглое прочтение, как указывалось во введении, не может быть адекватным методом работы с библейским текстом. Очень важно не терять из виду повествовательный контекст, в котором описаны ветхозаветные наставления.
Все чаще признается, что чрезмерное увлечение законами Ветхого Завета привело к искажению христианского понимания нравственных ценностей этого раздела Писания в целом. Очень жаль, что в английском языке для перевода слова tora — еврейского обозначения Пятикнижия — была использована фраза «The Law» (Закон). Без сомнения, tora служит основой всего канона Ветхого Завета (да и всей Библии), но ведь Тора — не просто закон, и наставления, содержащиеся в ней, — не просто законодательство в современном юридическом значении. Тора начинается как повествование, и первый свод законов встречается только в середине второй книги. Повествовательная структура сохраняется на протяжении всего Пятикнижия. Закон дан в контексте истории. В этой истории мы встречаемся с Богом Творцом и Спасителем, читаем о чудесном творении, о трагедии грехопадения, о призвании Авраама и об израильском народе; мы узнаем о Божьих намерениях по отношению к этому народу и ко всему человечеству; затаив дыхание, читаем об опасностях, ожидающих израильтян на их историческом пути, восторгаемся состраданием и терпением Бога и его гневом и судами.
При описании предмета ветхозаветной этики важно не забывать не только о непосредственном повествовательном контексте закона (что мы и делаем сейчас), но и о том, что около половины всего Ветхого Завета также написано в жанре повествования. Мы читаем истории, через которые израильтяне понимали Бога и самих себя. Истории, на которых они учились сами и в которых передавали своим потомкам собранную сокровищницу откровения и традиции, описания великих побед и таких же великих поражений, — все, что вместе образует этическое полотно Ветхого Завета. Израиль — народ воспоминаний и надежды. Вспоминая и пересказывая свое прошлое, Израиль обретал надежду на будущее, таким образом углубляя понимание как своего предназначения в мире, так и этических норм. Община Израиля была сформирована его историей. «Вера в свидетельство повествования о реальности, историчности встречи с Богом создает общину… Характер Израиля главным образом формируется воспоминанием и новым истолкованием прошлых деяний, совершенных Богом ради них».[8]
Поэтому давайте рассмотрим основной рассказ о происхождении ветхозаветного закона, а именно исход и откровение у горы Синай в книге Исхода 1—24. Израильтяне, угнетаемые своими поработителями в Египте, взывают к Богу. Бог слышит их вопль (Исх. 2, 23–25) и спешит им на помощь, чудесным образом выводит их из Египта (Исх. 3—15), приводит к Синаю (Исх. 16—19), дает закон (Исх. 20–23) и заключает с ними завет (Исх. 24). Все это Бог делает из–за верности своему характеру и обетованиям, данным праотцам народа (Исх. 2, 24; 3,6–8):
И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой. Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из–под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими; и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из–под ига Египетского; и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь (Исх. 6, 5–8)[9].
Последовательность событий в библейском рассказе очень важна. Бог не открывает закон Моисею во время их первой встречи у неопалимой купины на горе Синай. Он не отправляет Моисея в Египет со словами: «Вот Божий закон, и если вы отныне будете полностью его исполнять, Бог освободит вас из этого рабства». Израилю не было сказано, что он может заслужить или ускорить свое освобождение соблюдением закона. Нет, Бог действовал первым. Бог сначала избавил их из плена, а уже затем заключил с ними завет — завет, согласно которому ответственность народа перед Богом состояла в соблюдении данного им закона, — благодарный ответ Спасителю.
Именно об этом идет речь в начале девятнадцатой главы книги Исхода, когда Израиль стоит у Синая. В первых восемнадцати главах описано спасение Богом своего народа. Закон будет дан в двадцатой главе. Здесь же Бог обращается к народу со словами, которые служат стержнем всей книги, звеном, соединяющим историю избавления и дарование закона. «Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов…» (Исх. 19, 4–5).
Бог говорит о предшествующих событиях: тремя месяцами ранее израильтяне были рабами в Египте, ныне же они свободны. И все это благодаря Божьему участию, его верности обетованиям, его суду над фараоном. Израильтянам не требовалось соблюдать закон для того, чтобы Бог спас их и чтобы стать его народом. Бог уже спас их, сделал своим народом, и только затем призвал соблюдать закон. Послушание Израиля — ответ на Божью благодать, а не средство ее обретения.
Да и сам Декалог предваряется важным предисловием: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20, 2). Бог говорит о себе («Я Яхве), о своих деяниях («Я вывел тебя»), и только потом продолжает: «Да не будет у тебя иных богов предо Мною» (Исх. 20, 3). Заповедь следует после утверждения, и между ними подразумевается связующее слово поэтому.
Связь заповеди Бога с его предшествующими подвигами ради Израиля еще яснее показана в книге Второзакония, где исторический пролог (Втор. 1—4) предшествует Декалогу (Втор. 5). Считается, что правовой раздел книги (Втор. 12—26) намеренно отражает богословие первых одиннадцати глав. Так и ответ Израиля Господу должен основываться на действиях Господа в отношении Израиля.[10] Когда сын спрашивал отца, зачем они соблюдают закон (Втор. 6, 20–25),[11] ответ не был лаконичным: «Потому что Бог заповедует это». Вместо этого отец рассказывал историю — древнюю историю о Господе и его любви, историю исхода. Смысл закона следовало искать в «евангелии» — исторических событиях избавления.
Таким образом, с самого начала соблюдение Израилем Божьего закона должно было стать ответом на совершенное Богом. Это не только основа ветхозаветной этики, это основание нравственного учения всей Библии. Тот же порядок наблюдается и в Новом Завете: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15, 12, курсив автора); «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4, 19; курсив автора; ср. Рим. 12, 1). Между Ветхим и Новым Заветом в этом вопросе существует фундаментальное единство. Неверно говорить, будто отличие Ветхого Завета от Нового состоит в том, что Ветхий Завет учит о спасении, которое достигается через соблюдение закона, тогда как в Новом Завете оно дается по благодати. Это и есть то искажение Писания, с которым боролся Павел. Он писал, что благодать — основа нашего спасения и нашей этики во всей Библии. Действиям человека предшествует Божья благодать.
Продвигаясь дальше в повествовании книги Исхода, мы видим, что отношения Бога с Израилем основывались не только на его спасительной благодати, они поддерживались благодаря его прощающей благодати. В этом заключается смысл поразительной истории в Исх. 32—34. В то время как Моисей находится на горе, Израиль восстает против Бога и делает себе идола в виде золотого тельца. Бог обещает полностью уничтожить народ, но тут вмешивается Моисей и умоляет Бога отменить гибель народа. Он взывает к славе Бога, которая будет утрачена, если, избавив народ единожды, он позволит впоследствии ему погибнуть. Что подумают о Боге другие народы: «Чтобы Египтяне не говорили…» (Исх. 32, 12)? Затем Моисей напоминает Богу о его обещании Аврааму (Исх. 32, 13). Гнев Бога начинает отступать, и он говорит, что исполнит это конкретное обетование: Израиль может пойти и овладеть землей, но только сам Бог с ними не пойдет (Исх. 33, 3). Однако это не устраивает Моисея, и он продолжает настаивать, напоминая Богу о Синайском завете, когда Господь обещал, что будет Богом Израиля и сделает его своим народом: «Помысли, что сии люди Твой народ» (Исх. 33, 13; курсив автора). Но кто узнает об этом, если Бог не пойдет с ними (Исх. 33, 16)? Бог слышит эту молитву и по милости своей прощает народ, возобновляя завет с ним (Исх. 34).
Этот общий очерк не может коснуться всех нюансов данного текста (Исх. 32—34), но он, без сомнения, поможет понять главное: благодаря такому началу Израиль знал, что сохранение его отношений с Господом полностью зависит от Божьей верности и преданности своему характеру и обетованиям, а не от их успешного соблюдения закона. В этом тексте мы находим одно из наиболее ясных библейских определений Бога как Господа. Это определение (Исх. 34, 6–7), содержащее в себе слова о характере Господа, повторяется во многих других контекстах, которые мы рассмотрим позже:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
Слова Бога
Послушание Израиля было ответом не только на подвиги их Господа Бога, но и на слово его откровения. Текст Втор. 4, 32–40 — отрывок, к которому мы уже обращались в самом начале, — показывает важность того и другого в отношениях Бога со своим народом. Не лишним будет рассмотреть этот текст более подробно. Риторические вопросы первых строк напоминают Израилю, что его встреча с Богом не имела прецедентов в истории. Бог совершил для них то, что он не делал больше нигде и никогда:
Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что–нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты ? или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?
(Втор. 4, 32–34).
Последняя часть отрывка («…взять себе народ из среды другого народа») определенно указывает на исход. Слова: «Глас Бога, говорящего из среды огня» явно напоминают о великом событии у горы Синай (Исх. 19—24; Втор. 5), где Израиль встретился с живым Богом и услышал его слова. Синайские события были не только видны, но и слышны. Прозвучавшие в это время слова имеют наиболее важное значение: «Ты слышал слова Его из среды огня» (Втор. 4, 36). В этой же главе подчеркивается, что Израиль не видел никакого образа Бога у Синая (и поэтому не должен впадать в искушение сделать идола); напротив, они слышали глас Бога. «Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас» (Втор. 4, 12). Даже того они не могли вынести, поэтому послали Моисея, чтобы пошел и слушал Бога вместо них, обещая (довольно поспешно) исполнить все, что он им передаст (Втор. 5, 23–29).
Моисей же передал народу слова или, если быть точным, Десять Слов, или Декалог, ибо таково значение еврейской фразы, обозначающей Десять заповедей. Евреи верили, что наряду с остальными заповедями эти десять были Божьим откровением, и поэтому их следовало внимательно записывать, беречь, читать и соблюдать. Во Второзаконии постоянно делается акцент на том, что послушание Израиля было ответом на слова Бога — на «всю его заповедь» (здесь единственное число собирательно). К ней нельзя прибавлять, от нее нельзя убавлять (Втор. 4, 2). Она должна стать путеводителем и самим путем, от которого нельзя уклоняться ни направо, ни налево (Втор. 5, 32–33). С нею в сердце человек должен жить всегда и везде: от рассвета до заката, наедине с собой, в семье или в обществе (Втор. 6, 6–9). Ведь из всех народов один только Израиль удостоился высочайшей чести стать обладателем откровения Божьего закона, его слова как руководства к жизни (Пс. 147, 8–9).
Как одно из следствий этого, нравственное учение было доступным для любого человека. Во Второзаконии не допускается и мысли, что заповедь Божья недосягаема, что она находится где–то высоко в небесах или далеко за морем, доступная только для нескольких избранных пророков или паломников. «Но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30, 11–14). Откровение Божье — это не мистическая тайна для посвященных, а свет, направляющий каждого члена Божьего сообщества. Закон существовал не только для семейного повседневного руководства, его читали на великий праздник седьмого года, где должны были присутствовать все члены общины — мужчины и женщины, молодые и старые, израильтяне и пришельцы (Втор. 31, 10–13), так как каждый был призван к послушанию, и каждый мог его проявить.
Одни нравственные откровения на страницах Ветхого Завета вызывают радость, другие выглядят как упрек. Псалмопевцы испытывают радость, размышляя о законе Бога. В Пс. 18 закон ставится на один уровень с самим творением — великое возвещение о Боге; подобно тому, как небеса проповедуют славу Бога, закон возвещает о его воле. Тот, кто изучает Божий закон и повинуется ему, обретает жизнь и мудрость (Пс. 18, 8), находит радость и свет (Пс. 18, 9), обогащается и насыщается (Пс. 18, 11), получает защиту и вознаграждение (Пс. 18, 12). В том же ключе, но более многообразно, говорится о Божьем слове в Пс. 118. Более семи еврейских слов передают значение этого выражения: закон, установления, заповеди, истины, свидетельство, слова, обетования и пр. В этом же псалме мы находим глубокий этический образ Божьего слова: «Светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105). Значение же и авторитет Божьего слова проистекают из трансцендентного характера Бога:
Вот поэтому оно и истинно, достойно доверия, справедливо; поэтому оно и дает жизнь — и это только несколько качеств Божьего слова, описанных в Пс. 118.
Обличая народ Иудеи в непослушании, Михей говорил, что образ жизни его непростителен, ведь незнание законов не освобождает от ответственности, а социальные и личные нормы поведения были придуманы не ими. Кроме того, усердие в религиозных ритуалах и жертвоприношениях также не снимает с них вину, если они не могут соблюсти главного, такого явного в Божьем откровении:
О, человек! сказано тебе, что — добро
и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
(Mux. 6, 8)
Таким образом, хотя ветхозаветная этика и не состоит исключительно из повиновения словам Божьего откровения, тем не менее, без послушания обойтись нельзя. Слова и дела Бога говорили сами за себя, и ответ Израиля должен был явиться своевременно.
Понятие откровения, безусловно, проблематично для некоторых ученых и богословов, которым не нравится идея о трансцендентных истинах и законах, открытых Богом, истинах и законах, направляющих веру и поступки. Это не соответствует их мировоззрению, их предположениям об отношениях Бога с людьми на протяжении истории. Некоторые и вовсе отрицают любую идею об откровении и, соответственно, его авторитете в вопросах этики и говорят, что это, мол, посягает на нравственную автономию человека или, по меньшей мере, расходится с понятием зрелости человека (напр. Rodd, Glimpses). Другие не могут принять откровение как основание лишь для ветхозаветной этики из–за сложных в нравственном плане текстов, с которыми мы сталкиваемся при любом серьезном изучении Ветхого Завета.
Если же Бог открыл все это, что это говорит о нем? Что это означает для нас, живущих совершенно в иное время? Что дает нам Новый Завет, который, будучи также откровением Божьим, в некоторых местах явно упраздняет Ветхий? Более подробно эти вопросы я рассматриваю в четырнадцатой главе. На данный момент важно одно: в ветхозаветные времена израильтяне верили, что их моральные права и обязанности зависели не только от действий Господа, но и от его слов.
Намерения Бога
Мы видели, что развитие ветхозаветной этики происходит главным образом благодаря историчности рождения, укоренения и поддержания веры израильтян. Они верили, что их Бог, Яхве, действовал и продолжает действовать в истории. Поэтому и сами события, и их последовательность приобретали этическое значение. В связи с этим в Израиле получил развитие жанр литературы, известный как пророческое историческое повествование. Обычно к этому жанру относят следующие книги: Иисуса Навина, Судей и книги Царств. Эту часть
Писания иногда также называют второзаконнической историей из–за того, как в ней отражены богословие и этика Второзакония.
Историков, написавших книги Ветхого Завета, иногда нелестно называют моралистами. Но все же значение их труда для этики огромно. Они собирали, отбирали, редактировали и комментировали многолетнюю историю Израиля, исходя из последовательных богословских и этических критериев. Они смело давали нравственную оценку событиям и поведению людей. Они сохранили последовательное описание истории нескольких столетий, отмечая события, их развитие и направление, чтобы потом дать им объяснение. Некоторые ученые полагают, что заслуга в изобретении исторического жанра в литературе по праву принадлежит не грекам, а евреям.
Еврейский канон называет вышеупомянутые произведения книгами ранних пророков (поздними пророками были Исайя, Иеремия, Иезекииль и книга Двенадцати), а это свидетельствует о том, что их слова воспринимали как слова Бога. Нравственные комментарии описываемых в них событий давались от его лица. Это не значит, что они вечно поучали, отнюдь нет. На самом деле еврейские историки часто представляли историю, уклоняясь от комментариев, позволяя читателям сделать собственные выводы (которые не всегда лежат на поверхности). Но их нравственное влияние остается именно потому, что Бог продолжает действовать в истории, — явно или за кулисами — инициируя, реагируя, направляя и участвуя в событиях.
В своей уверенности в том, что все события находятся во власти Господа, израильские историки смогли избежать двух крайностей. С одной стороны, божественное полновластие они представляли так, что при этом не отвергались нравственная свобода и ответственность человека. Здесь показательна история об Иосифе. Несомненно, рассказчик хотел обратить внимание читателя на связь всевластия Бога и нравственного выбора человека. С точки зрения последнего, это повествование показывает решения человека, одни из которых хороши, другие не очень; в каждом случае в своих поступках люди руководствуются собственным выбором. Это применимо ко всем персонажам: к Иакову, Иосифу и его братьям, Потифару и его жене, фараону, а также товарищам Иосифа по темнице. Однако в конце рассказа Иосиф признает полновластие Бога, спасительные намерения которого направляли весь рассказ: «Вы (братья Иосифа) умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50, 20). Это — замечательное высказывание о взаимосвязи между божественным всевластием и человеческой свободой. Действия братьев Иосифа были вольными, но морально ущербными. То, что Бог обратил эти поступки в добро, ни в коей мере не делает их добрыми. Стремление Бога к достижению своей цели на протяжении этих событий также не снимает с братьев вину. В то же время ни злые умыслы братьев, ни неудачи, постигшие Иосифа в Египте, не могли помешать намерениям Бога, действовавшего невидимо. Более того, заключительные слова Иосифа о том, что Бог все время действовал во благо, не означают, что все действия Иосифа в прошлом безупречны. Мы восхищаемся его силой воли в истории с женой Потифара. Но что сказать о спасении Египта ценой порабощения всего населения этой страны? Спасение человеческой жизни — это, конечно, хорошо. Но разве средства, которыми он этого достиг, не были по сути жестокими? Повествование представляет одни только факты, а нравственной оценки не дает.
С другой стороны, уверенность израильских историков в том, что человек несет ответственность за свои поступки, не привела их к этическому релятивизму, где нравственность каждого поступка определяется ситуацией, в которой он был совершен, без каких–либо объективных критериев оценки. Они передавали истории, в которых ситуация подталкивала героя к поступкам, идущим вразрез с моральными принципами. Рассказ о встрече Давида с Саулом в пещере хорошо это показывает (1 Цар. 24). Обстоятельства сложились так, что Давиду представилась идеальная возможность покончить с Саулом. Давид уже знал, что помазан на царство, а его люди предлагали ему расценивать такую удачу как дар Божий для низложения Саула (1 Цар. 24, 4). Их доводы, с первого взгляда основанные на вполне благочестивом богословии, были очень заманчивы. Тем не менее, Давид отказался погубить Саула, веруя в неприкосновенность помазанника Господня независимо от того, друг он или враг (1 Цар. 24, 6–7). Одних сложившихся обстоятельств было недостаточно, чтобы указать на верный путь, хотя некоторые и полагали, что все устроено Господом (1 Цар. 24, 10.18). Сама по себе ситуация не определяла действия Давида, не делала правильный выбор столь очевидным, как считали его соратники. В своем решении Давид руководствовался важным моральным принципом, который он извлек из действий Бога в прошлом.
А прошлое и будущее были важными нравственными измерениями израильского восприятия истории. Израиль, как упоминалось выше, был сообществом воспоминания и надежды. На богословском языке мы могли бы назвать это искупительным и эсхатологическим измерениями истории Израиля.
Искупительная сторона основывалась на убеждении, что Бог избавлял свой народ могущественными делами и судами над его врагами. Мы уже рассмотрели эту черту Ветхого Завета, особо подчеркивая нравственную ее сторону, приносящую плод благодарности и послушания народа.
Эсхатологическая сторона истории — это вера в то, что искупительные дела Бога вершились ради далекого будущего. Израиль возник не просто так. Он был «вызван к существованию» на основании Божьего обетования Аврааму, определяющим фактором которого было намерение Бога благословить все народы земли. Это также можно назвать миссионерским измерением религии Израиля[12] или, в рамках ветхозаветной этики, телеологическим измерением. Телеология — это изучение целей, планов, замыслов. Израиль верил в Бога, преследующего определенную цель в истории. Именно так себя показывает Господь. Одно его только откровение своей личности Моисею дает начало великому плану искупления, о котором предвещалось ранее. Это измерение этической миссии Израиля (миссии быть светом для народов) будет рассмотрено во второй главе, в разделе, где речь пойдет об отличительности Израиля и о том, как это отражалось на жизни израильского народа. Сейчас же достаточно только отметить, что в своих поступках и нравственных оценках Израиль руководствовался убеждением в существовании прошлого, которое не могло не отражаться в жизни нации (Божье избавление Израиля из Египта), и будущего, ради которого они были призваны как народ (благословение Божье для всех народов), — и все это в рамках полновластной воли Господа Бога. Более поздние видения некоторых пророков говорят о таком будущем, где навсегда будет покончено со всяким злом, о будущем времени, которое ознаменует начало эпохи мира, справедливости и гармонии между Богом и всем его творением. Примечательно, что ветхозаветное представление о будущем (эсхатология) имеет сильную этическую составную. А ветхозаветная этика, основанная на истории и направленная на обновление творения, удобно расположилась между благодатью и славой.
Сочетание этих двух векторов ветхозаветной этики — векторов прошлого и будущего — наделяет огромным значением настоящее. Израильтяне должны были рассуждать примерно так: «Все, что я делаю здесь и сейчас, имеет большое значение именно потому, что Господь совершил нечто в прошлом и совершит немало и в будущем. Я принадлежу избранному народу, избавленному и безмерно благословленному Господом, поэтому дела мои должны отражать мою благодарность (Втор. 26). Кроме того, я принадлежу народу, призванному быть благословением другим народам, живя так, чтобы это заставляло их остановиться и замереть в восхищении (Втор. 4, 6–8). Справедливость и праведность — не просто требования сегодняшнего дня, а средства благословения народов согласно Божьему обетованию Аврааму (Быт. 18, 19–20). Наша святость не ограничивается обязанностями по отношению к Богу, а делает нас Господним священством среди народов (Исх. 19, 4–6). И я ожидаю Дня окончательного вмешательства Господа, не только сам желая быть среди праведных, но и предвосхищая хвалу народов за Божье спасение (Пс. 66)».
Пути Бога
Итак, будем говорить об Израиле. Что было отличительным в этике этого народа? Ответ на этот вопрос — богословский: не что иное, как отражение характера самого Бога. Характер Бога познается в его делах, — именно так понимали израильтяне самооткровение Бога. Все, что он делал, было выражением его сути. Именно поэтому познание Бога — столь важная тема Ветхого Завета. Познание же означает не только осведомленность в том, что Бог совершил (история) или сказал (учение), но, главным образом, это знакомство с самим Господом, с живым Богом, знание его ценностей, мыслей и забот, того, что радует или гневит его. Такое познание не сможет не изменить жизнь человека.
У Иеремии есть два очень поучительных отрывка на эту тему. В Иер. 9, 23–24 автор сравнивает лучшие дары Божьи — мудрость, силу и богатство — с истинным познанием Господа. Даже самыми лучшими дарами не стоит хвалиться, пишет Иеремия, но:
Хвалящийся хвались тем,
что разумеет и знает Меня,
что Я — Господь, творящий милость,
суд и правду на земле;
ибо только это благоугодно Мне,
говорит Господь.
Как же тогда должен вести себя человек, знающий Господа, знающий, что ему угодны милость, суд и правда? В тексте не говорится об этом явно, но ответ все же очевиден: тот, кто хвалится, что знает Бога, должен сознательно подражать ему.
В следующем отрывке о том же самом говорится уже явно. Иеремия сравнивает нечестивого и грешного царя Иоакима с его отцом Иосией, от которого он сильно отличался. О последнем он пишет:
Отец твой ел и пил, но производил суд и правду,
и потому ему было хорошо.
Он разбирал дело бедного и нищего,
и потому ему хорошо было.
Не это ли значит знать Меня?говорит Господь.
(Иер. 22, 15–16; выделение автора)
Теперь объединим оба текста: знать Бога означает творить правду и справедливость, а также понимать, что ему угодны именно эти дела. Таким образом, следовать моральным нормам — это прямо отражать характер самого Господа.
Фраза «подражание Богу», или imitatio Dei, все чаще встречается в ветхозаветной этике. Однако ее применение требует некоторых уточнений. Кое–кто даже считает, что эта фраза вовсе неприменима к этике Ветхого Завета.[13] Вне всякого сомнения, смысл этого выражения нельзя свести к имитированию, или попытке повторить все действия Бога, так как большинство поступков Бога человеку повторить невозможно. Также подражание Богу не следует представлять как аналогию подражания Христу, — ведь воплощение означает, что Иисус стал человеком, и мы можем буквально следовать его примеру во многом. И все же это сравнение не лишено смысла — ведь когда мы говорим о следовании за Христом как об уподоблении ему, мы не имеем в виду, что должны копировать совершенно все из жизни Иисуса, включая быт Галилеи первого века. Зачастую мы выносим из рассказов об Иисусе общее понимание его характера и ценностей, по которым он жил; того, к чему он стремился. А уже тогда мы пытаемся «уподобиться Христу», отображая в своей жизни увиденное в решениях и поступках Иисуса. Павел остро ставит этот вопрос во второй главе Послания к Филиппийцам, говоря о смирении и заботе о ближних: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). Культура WWJD (What would Jesus do ? — «А как поступил бы Иисус?») по сути своей правильна, хоть и примитивна; ведь для того, чтобы знать, как поступил бы Иисус, требуется приложить немало творческих усилий, на что большинство людей просто не готовы пойти.
Если мы решим все же не отбрасывать фразу «подражание Господу», понимать ее следуют так: руководствуясь познаниями о характере Бога, израильтяне должны были выработать нравственную позицию в каждой конкретной ситуации. В некотором смысле их собственная история была воплощением Господа, потому что в ней он ясно раскрыл свою сущность и характер. Поэтому лучше говорить не о подражании Богу, а об отражении Божьего характера, дабы избежать путаницы с имитацией поступков Бога.[14]
Рассмотрим пример: Бог только что освободил Израиль из рабства, засвидетельствовав свою любовь, сострадательность и верность. Тогда справедливость и милосердие Бога должны отражаться и в отношении израильтян к рабам и другим незащищенным членам общества: «Пришельца не обижай и не притесняй его: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх. 23, 9; ср. Исх. 21, 2–11.20–21.26–27; Втор. 15, 15). Это не было просто имитацией конкретного действия Господа. Скорее, его подвиг (освобождение израильтян из плена) показал одну из черт характера Бога, «любящего пришельца» (Втор. 10, 18). Можно сказать, что освобождение Израиля из Египта было проявлением его характера. Втор. 7,7–8 именно об этом и говорит. Господь совершил это ради любви, потому что он — Бог любви, и Израиль должен узнать это (Втор. 7,9–отрывок, который больше других ветхозаветных текстов напоминает новозаветное выражение «Бог есть любовь»).
Наиболее лаконичное выражение призыва к подражанию Богу, или отражению его характера, можно найти в книге Левит: «Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 2). Опять же, это не столько наставление копировать Бога, сколько заповедь уподобиться ему, стать похожим на него характером. Итак, что для Израиля означает отражение святости? Что означает отражать святость Господа в историческом и культурном контекстах? Мы часто под святостью подразумеваем личное благочестие или ветхозаветную обрядовую чистоту, необходимые жертвоприношения, чистую и нечистую пищу и т. п. Конечно, в девятнадцатой главе книги Левит говорится о некоторых из этих составных израильской религии. Но большая часть главы показывает практическое выражение святости, отображающей личную святость Бога. Она включает в себя щедрость к бедным во время жатвы, справедливость к наемным работникам, честность в судебных процессах, внимательное отношение к другим, непредвзятость к пришельцам из чужих стран, честную торговлю и прочие общественные, достаточно приземленные вопросы. И красной нитью по всей книге Левит проходят слова: «Я Господь, Я Господь», и читатель слышит: «Качество вашей жизни должно отображать саму суть моего характера. Вот что я требую от вас, потому что это отображает меня. Вот как поступил бы я сам». Святость — это библейское выражение Божьего естества. Святость иногда называют божественным естеством Бога, в свете чего слова заповеди Лев. 19, 2 просто поразительны. Конечно, не меньше впечатляет отголосок этого стиха в обращении Иисуса к ученикам: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).
Излюбленная метафора Ветхого Завета, описывающая эту особенность этики Израиля — следование по пути Господа, следование путем, отличным от путей иных богов или народов, от собственного пути или пути грешников. Это достаточно распространенное выражение, особенно в книге Второзакония, в исторических книгах от Иисуса Навина до книг Царств и в некоторых псалмах. Его можно представить по–разному.
В одном случае — это как следование за кем–то по узкой тропе, ступая след в след.
Этот образ говорит нам, что Израилю предназначено странствовать, идя за своим проводником — Богом, что моральные установления Бога построены на примере его собственного поведения по отношению к своему народу. Отображая божественные поступки, народ станет для других народов видимым примером сущности и характера Бога, которому он поклоняется.
(Втор. 4, 5–8)[15]
В своей образности следование по пути очень близко к подражанию: человек наблюдает за делами Господа и пытается последовать его примеру. Как поется в одном из известных гимнов: «По твоим следам, Спаситель, всюду следовать готов».
Другая картина — это следование по пути, руководствуясь картой (если это не слишком анахронично для древнего Израиля) или описанием, которые помогают вам не сойти с пути, не свернуть на дорогу, которая может увести совсем в другую сторону. По мнению Родца (Rodd), именно этот образ более всего соответствует значению ветхозаветной метафоры, потому что фраза «следовать по пути (или путями) Господа», как правило, связана с послушанием заповедям Бога, а не подражанием самому Богу. Фраза «путь Господень» равнозначна выражению «Божий закон (или заповеди)», что является неким «набором инструкций для жизненного странствия». Родд, несомненно, прав,[16] но он слишком категорично исключает идею о подражании Богу. Заповеди Бога — не отдельные произвольные правила, они напрямую связаны с его характером. Поэтому повиноваться Божьим заповедям — значит отображать Бога в жизни человека. Послушание закону и подражание Богу — не взаимоисключающие категории: одно является выражением другого.
Один из наиболее ярких отрывков, демонстрирующих это — Втор. 10, 12–19. Начало отрывка напоминает текст Мих. 6, 8, проигрывая весь закон одним «аккордом из пяти нот»: бояться, ходить, любить, служить и соблюдать:[17] «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо» (курсив автора).
Что же это за пути Господа, которыми Израиль должен ходить? Сначала ответ дается в общих понятиях. Бог снисходит в своей любви и избирает Авраама и его потомков стать «проводниками» его благословений. «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них…» (Втор. 10,14–15). В свою очередь, это требовало ответной любви и смирения: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны» (Втор. 10, 16). Но все же, что конкретно означает ходить путями Господа? «(Он) не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской» (Втор. 10, 17–19, курсив автора). Последняя строка стиха ясно выражает этику подражания.
Отражение Божьего характера как особенность ветхозаветной этики мы можем найти не только в законе. Характер и пути Господа постоянно воспеваются в Псалмах, и не только для того, чтобы научить правильному поклонению, но также чтобы научить правильной этике, поведению, которое отражало бы в себе объект поклонения. На самом деле, прийти поклоняться могут только подражатели честности, сострадания и чистоты Бога (Пс. 14 и 23). Иногда псалмопевец просит научить его путям Божьим, чтобы он мог ходить ими (Пс. 24). Иногда молитва касается третьей стороны, как в молитве о царе, в которой звучит просьба, чтобы ему были дарованы «суд Твой» и «Твоя правда», чтобы правление царя отражало управление Господа (Пс. 71,1.4.12–14). Но самый лучший пример этики подражания — Пс. 110 и 111. Оба псалма написаны в форме акростиха (начало строф соответствуют порядку еврейского алфавита). Псалом 110 описывает различные действия и качества Господа. Пс. 111 представляет эти качества, описывая «человека, боящегося Господа». Такой человек, подобно Богу, праведен, благ и милосерден (Пс. 111,4), щедр (Пс. 111,5). Замысел автора очень прост — оба псалма должны прочитываться вместе, отражая друг друга.
Также и в литературе премудрости: если девиз Притчей — «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Притч. 9,10; ср. 1, 7 и т. п.), то к нему можно было бы добавить: «Подражание Господу — применение мудрости». Поведение, которое в Книге Притчей ставится в пример, отражает характер самого Бога. Особое внимание уделяется таким добродетелям, как верность, благость, трудолюбие, сострадание, социальная справедливость (особенно в отношении бедных и угнетенных), щедрость, беспристрастность, правдивость и честность. Все они отражают характер Господа.
Наконец, то же самое можно увидеть и в ветхозаветных повествованиях. Настоящие герои — это те, чья близость к Богу заставляет их проявлять его характер в своих действиях и отношениях (хотя иногда те же персонажи ведут себя не так примерно). Можно вспомнить, например, Авраама и Моисея, подражающих сострадательной любви Бога, не «желая смерти грешника» и ходатайствуя за нечестивый Содом (Быт. 18, 20–33) и мятежный Израиль (Исх. 32, 11–14). Вспомним непоколебимую праведность Самуила (от которой, к сожалению, отошли его сыновья), «милость Божью» Давида (2 Цар. 9, 3), верность Руфи (Руфь 2, 11–12; 3, 10) или мудрость Авигеи (1 Цар. 25, 32–34).
Доброта Бога
Божьи дела и слова, его намерения, его характер — все это, как мы видели, описывает этическое мировоззрение Ветхого Завета. Однако не все еще сказано, есть нечто более личное. Что могло побудить израильтянина к праведной жизни сильнее, чем личное познание доброты Бога, свидетельство его благословений? Это не просто: «Вот что Яхве совершил в истории народа, поэтому поступайте соответственно» или: «Вот каков Яхве, поэтому следуйте его примеру». В некоторых отрывках ударение ставится в другом месте: «Вот, что Яхве сделал для вас. Поэтому ваша благодарность должна выражаться в отношении к другим людям». Или как в некоторых псалмах: «Вот, что Яхве сделал для меня, или исполнил по благости и милосердию то, о чем я просил Его в молитве; поэтому я решил жить в послушании Его воле и слову» (напр., Пс. 118). Благодарной любовью и праведностью в жизни человека откликается личное познание божьей доброты.
Выше мы уже видели, что, к примеру, закон о рабах в книге Исхода был обусловлен историческим опытом освобождения Израиля из рабства. Но в похожих законах книг Левит и Второзакония личностный характер вынесен на первый план: Бог говорит уже каждому: «Это тебя я освободил из рабства». В Лев. 25, 35–55 речь идет о состоятельном еврее и его обнищавшем единоплеменнике. В надежде, что богач будет поступать с бедняком справедливо, ему трижды напоминается об исходе (Лев. 25, 38.42.55; ср. Лев. 26, 13). Так же и Втор. 15 побуждает израильского землевладельца быть щедрым к рабу, освобожденному в юбилейный год. Почему? Ему напоминается хорошо известное время в истории его народа: «Помни, что и ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие» (Втор. 15, 15). Но еще более личная нота звучит в словах, как будто сошедших с уст самого Иисуса: «Снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 15, 14). Если бы израильтянин мог знать известную детскую песню: «Бог милостив, Бог милостив, Бог милостив, милостив ко мне», он бы пел ее, размышляя: «Значит, Бог ожидает, чтобы и я был милостив к другим». Будь то песня или повествование, израильтяне мыслили именно так. Например, во Втор. 26 человек приходил пред лицо Божье, чтобы поблагодарить не только за историю своего народа от дней Иакова, но также за жатву «земли, которую Ты, Господи, дал мне» (Втор. 26, 1–11). А сразу после благодарения за доброту Бога верующие провозглашали свою верность Божьим законам, выделяя особо закон о десятине, которая в третий год становилась фондом помощи служителям, нищим и обездоленным — «левиту, пришельцу, сироте и вдове» (Втор. 26,12–13). За словами благодарения Богу всегда должны следовать дела помощи нуждающимся. Если Бог добр к нам, мы должны проявить доброту по отношению к другим. В обратном случае слова благодарения окажутся пустыми.
Такие личные призывы к послушанию Божьему закону — характерная черта Второзакония, книги, которая в целом направлена на увещевание и убеждение Израиля слушать Господа и соблюдать условия завета с ним. Как отметили некоторые богословы, наличие «побудительных» статей в законодательстве можно было встретить только в Израиле.[18] Казалось бы, для тех, кто считает Господа великим царем и господином Израиля, одного этого должно быть достаточно для послушания. Но, тем не менее, многие законы действительно содержат в себе дополнительные статьи, объясняющие требования заповеди. Причины для послушания приводятся разные: иногда, как мы уже видели, это было ради подражания Богу, в ином случае — для упреждения преступления, а когда–то — чтобы другие народы брали с них пример. Однако главной причиной для послушания все же остается личная благодарность Богу за его доброту.
Вдохновляющая сила благодарности видна в предостережениях против вычеркивания из памяти великих деяний Бога. В рамках личных отношений пренебрежение всегда оскорбительно, это признак неблагодарности. Вычеркнуть из памяти — это не просто забыть, как можно забыть чье–то имя или не узнать кого–то при встрече. Если кто–то говорит: «Ты забыл меня», это означает: «Я больше для тебя ничего не значу. Между нами больше нет ни любви, ни признательности. То, что было между нами, больше не имеет для тебя никакого значения». Если бы Израиль забыл Яхве в этом смысле, вычеркнув из памяти все, что он совершил для него, это неизбежно привело бы к нарушению закона. Они утратили бы и пример для подражания (познание характера Господа), и причины для послушания (благодарность за доброту Господа). Потому большая часть (около трети) книги Второзакония пересказывает историю и повторяет призыв не забывать:
И помни весь путь, которым вел тебя Господь…
(Втор. 8, 2)
Берегись, чтобы ты не забыл…
(Втор. 8, 11)
Когда будешь есть и насыщаться… чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
(Втор. 8, 12–14)
Нравственный упадок Израиля спустя многие годы и откровенное неповиновение закону пророки–современники описывали как плод предания Господа забвению, — история перестала оказывать влияние на поведение народа. Неблагодарности и непостоянству восставшего Израиля пророки не прекращали ужасаться. Мы видим, как Бог напоминает народу о том, что он совершил для него, и насколько чудовищно непослушание израильтян:
Вас же Я вывел из земли Египетской
и водил вас в пустыне сорок лет,
чтобы вам наследовать землю Аморрейскую.
(Ам. 2, 10)
Но Я — Господь Бог твой
от земли Египетской…
Я признал тебя в пустыне…
Имея пажити, они были сыты;
а когда насыщались,
то превозносилось сердце их,
и потому они забывали Меня.
(Ос. 13, 4–6)
Народ Мой! что сделал Я тебе
и чем отягощал тебя? отвечай Мне.
Я вывел тебя из земли Египетской
и искупил тебя из дома рабства…
вспомни… что происходило от Ситтима до Галгала,[19]
чтобы познать тебе
праведные действия Господни
(Mux. 6, 3–5)
Тема неблагодарного непослушания повторяется в Ис. 1,2–4; 5,1–7; Иер. 2, 1–13; 7, 21–26; Иез. 16; 20.
Однако нам следует закончить на положительной ноте. Если главный ракурс ветхозаветной этики — богословский, или богоцентричный, то в заключение лучше всего сказать о поклонении Израиля, потому что вера народа утверждается не в догматике и не в этических формулировках, а в славословии и поклонении.
Рассмотрим последнее утверждение подробнее. Во–первых, поклонение Израиля имеет то же основание, что и этика Израиля, а именно действия Бога в истории. Он благословил народ, и тому теперь должно радоваться, пребывая в поклонении и прославлении. Мы настолько привыкли к этой мысли, что перестали замечать ее необыкновенность. Во Второзаконии народ Божий неоднократно призывается явиться перед лицом Господа, отметить с радостью и торжеством великие праздники. Зачем? Потому что «Господь Бог твой уже благословил тебя». Поклонение — это ответ на благословение, а не попытка его заработать. Израиль поклонялся не для того, чтобы умилостивить или задобрить Бога, не для того чтобы заслужить его благословение. Поклонение — это благодарный ответ на уже совершенное им. Это было
резким контрастом по сравнению с поклонением иных народов, которое совершалось с целью заслужить расположение божества, чтобы оно благословило верующих. В случае с Израилем поклонение не было причиной божественных благословений. Возможно, оно помогало сохранить их, воспитывая сознание постоянной зависимости от Яхве.[20]
Во–вторых, как отмечалось выше, поклонение Израиля также должно было выливаться в дела милосердия (забота о нищих, одиноких и пришельцах, Втор. 16, 11.14) и благотворительности. Ответ на благословения Бога — не только радость и торжество, он «распространяется на повседневную жизнь верующих… А точнее, они должны "праздновать" свое благословение, подражая заботе Яхве о них, сами при этом заботясь о ближних своих».[21]
В–третьих, поклонение Господу этично по определению, что часто подчеркивается в Псалтыри. Пс. 14 и 23 ясно показывают, что это поклонение (пребывание в святилище, обитание на святой горе[22] или на святой земле) позволительно только для тех, кто в повседневной жизни отображает нравственность того Бога, которому они имеют смелость поклоняться. Это люди с чистыми руками и сердцами. На основании Пс. 14 израильтяне «отождествляют себя с послушным народом, поклоняющимся Господу Богу, и заявляют о своей общности, добровольно принимая нормы поведения, включающие социальную ответственность… В этом ответственном торжественном заявлении община верных евреев заявляет о своей безраздельной преданности Торе Господа Бога».[23] К сожалению, многие израильтяне не соответствовали этому идеалу, и пророки часто осуждали тех, кто полагал, будто религиозные обряды могут загладить несправедливость по отношению к ближним (Ис. 1, 10–17; Иер. 7, 1–11; Ам. 5,22–24).
Итак, обобщая все, что было сказано в этой главе, скажем, что нравственное учение Ветхого Завета прежде всего богоцентрично. Оно основано на правильном понимании Господа как живого Бога библейского откровения. Оно предполагает Божью милость и спасение. Содержание этики заключается в словах Бога, раскрытых в рамках культурного контекста Израиля; его следует искать в намерениях всевластного Бога, изменяющего историю; оно сформировано Божьими путями и его характером и основывается на личном познании Божьей доброты к своему народу. Из этого можно сделать два вывода.
Во–первых, для нас это подчеркивает важность первой заповеди: «Да не будет у тебя иных богов предо мной». Потому что любой иной бог приведет к иной морали. Израиль убедился в этом, когда последовал за Ваалом. Неужели они хотели жить в обществе, основанном на нравственности Иезавели? Если же их слова пророку Илии на горе Кармил — «Господь есть Бог» — были искренними, то они должны были отражать его праведность.
Во–вторых, это подчеркивает, что нравственное учение должно выводиться из всего Ветхого Завета. Законы не всегда могут быть правильно поняты в отрыве от повествования, в которое были изначально помещены, из них могут быть «выужены» совсем не те нормы поведения. Также нельзя забывать и более поздние повествования пророков, псалмы и литературу премудрости, где можно увидеть применение законов в жизни народа. Бог «многократно и многообразно» говорил во всех Писаниях, и нам следует обратиться к ним, чтобы хорошо понимать его характер, действия и намерения, и на основании этого составлять для себя нравственную картину.
Дополнительная литература
Bailey Wells, Jo, God's Holy People: A Theme in Biblical Theology, JSOT Supplement Series, vol. 305 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000).
Barton, John, The Basis of Ethics in the Hebrew Bible', Semeia 66 (1994), pp. 11–22.
_, Ethics and the Old Testament (London: SCM, 1998).
Birch, Bruce C, 'Divine Character and the Formation of Moral Community in the Book of Exodus', in Rogerson, Davies and Carroll, Bible in Ethics, pp. 119–135.
_, 'Moral Agency, Community, and the Character of God in the Hebrew Bible', Semeia 66 (1994), pp. 23–41.
Chirichigno, Greg, ў Theological Investigation of Motivation in Old Testament Law', Journal of the Evangelical Theological Society 24 (1981), pp. 303–313.
Clements, R. E., 'Worship and Ethics: A Re–examination of Psalm 15', in Graham, Marrs and McKenzie, Worship and the Hebrew Bible, pp. 78–94.
Davies, Eryl W., 'Walking in God's Ways: The Concept of Imitatio Dei in the Old Testament', in Ball, True Wisdom, pp. 99–115.
Gemser, В., 'The Importance of the Motive Clause in Old Testament Law', in Congress Volume in Memoriam Aage Bentzen, Supplements to Vetus Testamentum, vol. 1, Leiden: Brill, 1953, pp. 50–66.
Lindars, Barnabas, 'Imitation of God and Imitation of Christ', Theology 76 (1973), pp. 394–402.
Mills, Mary E., Images of God in the Old Testament (Collegeville: Liturgical Press, Cassells, 1998).
Muilenburg, J., The Way of Israel: Biblical Faith and Ethics (New York: Harper, 1961).
Nasuti, Harry P., 'Identity, Identification, and Imitation: The Narrative Hermeneutics of Biblical Law', Journal of Law and Religion 4 (1986), pp. 9–23.
Patrick, Dale, The Rendering of God in the Old Testament, Overtures to Biblical Theology, vol. 10 (Philadelphia: Fortress, 1981).
Willis, Timothy M., '"Eat and Rejoice before the Lord": The Optimism of Worship in the Deuteronomic Code', in Graham, Marrs and McKenzie, pp. 276–294.
2. Социальный ракурс
Мы видели, что библейская этика неразрывно связана с существованием Бога. Однако нравственные принципы не закладываются непосредственно в сознание человека и не собраны в одну книгу общих правил. Бог избрал другой путь — участвовать в истории, которая непредсказуема и в которой достаточно людей, склонных ошибаться. Это весьма рискованный путь. Бог создал народ и вступил с ним в отношения завета, и потому ветхозаветная этика не может быть собранием вневременных и универсальных абстрактных принципов, так как она связана с историческими и культурными особенностями этого народа, общины, дома Израиля. И потому сейчас мы обратимся ко второму, социальному ракурсу.
Социальное измерение искупления
Первые главы книги Бытия повествуют о трагическом решении человечества стать на путь мятежа, непослушания и греха. Предвидя катастрофические последствия, Бог, если можно так выразиться, стоял перед выбором. Он мог уничтожить человечество и вообще отказаться от плана творения. Текст намекает, что Бог подумывал о такой возможности (Быт. 6, 6–7). Но он не уничтожил и не отказался — вместо этого он решил искупить и восстановить.
Можно было бы предположить, что Бог будет спасать людей поодиночке, одну душу здесь, другую там, отправляя их на небеса. Однако нет, Бог воплотил в жизнь такой план спасения, который охватил бы всю последующую историю человечества, включая избрание, создание и формирование одного народа. Несомненно, Бог осознавал, насколько рискованным был такой долгосрочный и масштабный проект. Представьте себе восторг и изумление небесных существ, когда им был раскрыт этот план!
Обратим внимание на последовательность событий в ветхозаветной истории. История о Вавилонской башне (Быт. 11) подводит нас к кульминации рассказа о человечестве после грехопадения. Бог разделил и рассеял народы, чтобы предупредить всеобщее восстание против него. Масштабы греха увеличились — он распространился по всей земле. Что мог сделать Бог в такой ситуации? Именно с этого начинается история искупления в Быт. 12. Бог призывает Авраама, обещает дать ему землю и сделать его потомков народом, через который все остальные народы земли получат благословение. Сравнивая рассказ о построении Вавилонской башни и историю обетования Аврааму, мы видим контраст:
И сказали они: построим себе город и башню… сделаем себе имя… Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
(Быт. 11, 4.9)
Пойди в землю, которую Я укажу тебе;
и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя,
и возвеличу имя твое,
и будешь ты в благословение…
и благословятся в тебе
все племена земные
(Быт. 12, 1–3)
Из земли Вавилонской проклятие смешения и рассеяния распространилось на все народы по всему лицу земли. Но из земли, которая будет дана Аврааму, и через народ, который произойдет от него, распространится благословение на весь мир. Ответом Бога на всеобщую болезнь греха было новое благословенное сообщество, народ, который будет образцом и моделью искупления, а также инструментом, благодаря которому благословение искупления со временем охватит все человечество.
Таким образом, с точки зрения социального ракурса ветхозаветной этики, народ, происшедший от Авраама, должен не только быть благословлен, но также стать благословением для остальных народов. Выполнение этой миссии было возможно благодаря качеству нравственной жизни избранного народа. Сочетание нравственности и миссии Израиля хорошо представлено в Быт. 18, 19, где Бог, обращаясь к Аврааму, говорит: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем».
Эти слова прозвучали в контексте надвигающегося суда над Содомом и Гоморрой и являются частью разговора Авраама с Богом, который в сопровождении двух ангелов шел удостовериться в греховности этих городов. Поэтому нравственность выходит на первый план в этом стихе. В мире, где нечестие рождает вопль (еврейское словоse'aqa — слово, обозначающее страдальцев, взывающих из–за угнетения и жестокости; Быт. 18, 20–21), Бог хочет видеть народ, разделяющий его намерения и ценности: праведность (sedaqa: возможно, игра слов, схожих по звучанию, что не вызывает сомнений в Ис. 5, 7), справедливость и суд. Наличие в повествовании о патриархах двух выражений: «путь Господень» и «творить правду и суд», которые входят в пятерку чаще всего используемых обобщений ветхозаветных этических ценностей, показывает, что идентичность Израиля как нравственного сообщества возникает задолго до Синайского завета и закона Моисеева. Требование нравственно отличаться от других нечестивых народов было, можно сказать, частью генетического кода израильтян, когда они находились еще в чреслах Авраама. По сути, такое нравственное отличие определено самим Богом в качестве главной причины избрания Авраама: «Я избрал его для того, чтобы…». Этот стих явно подчеркивает цель Господа. Избрание — это призыв к качеству нравственной жизни среди развращенного мира содомов.
Но этот призыв — только часть более масштабного плана. Мы переходим к третьему придаточному цели: «и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». В свете предыдущего стиха мы видим ясное указание на высшее Божье намерение благословить все народы через потомков Авраама. Такая вселенская программа — и есть Божья миссия. Это же было причиной избрания Авраама. В структуре, а также богословии этого стиха этика находится между избранием и миссией. Нравственное качество жизни народа Божьего («ходить путем Господним», «творить правду и суд») является, с одной стороны, целью избрания, с другой стороны — средством осуществления миссии среди других народов. Этика — основание и сердце данного стиха.
Мы видим, что прежде, чем появляется Израиль, уже декларируется его нравственная и искупительная значимость. Ветхозаветная этика должна была стать общественным делом. Это не просто справочник нравственных принципов, которым руководствуется человек для личной праведной жизни пред Богом. Но, вместе с тем, это не значит, что Ветхий Завет игнорирует нравственный выбор и поведение отдельно взятого человека, как будет показано в одиннадцатой главе. Многие ветхозаветные законы, включая Десять заповедей, облечены в форму второго лица единственного числа, обращаясь к отдельно взятому человеку. Но они обращены к нему как к части сообщества, и их цель — не просто индивидуальная праведность, но нравственное и духовное здоровье всего сообщества. Бог не ставил перед собой задачу создать конвейер по производству праведников, но решил основать новое сообщество людей, которые в своей общественной жизни воплотят праведность, мир, справедливость и любовь, таким образом отражая характер самого Бога. Это и было его изначальной целью для всего человечества.
Именно социальный ракурс не позволяет нам при истолковании ветхозаветного отрывка довольствоваться ответом на вопрос: «Что этот текст означает для меня?» На самом деле, даже не следует начинать с этого вопроса. Необходимо изучить отрывок в его непосредственном социальном контексте, задаваясь вопросом: «Как этот текст помогает нам понять социальную и нравственную жизнь Израиля? Каково его место в общей картине того общества?» Только после этого мы можем спросить, что он может сказать современному сообществу народа Божьего; и, наконец, какое значение этого текста для человечества в целом. Уолтер Брюггеман часто пишет о социальном ракурсе библейской веры и его актуальности для церкви и мира:
Мы можем по–новому сформулировать нашу надежду для мира. Пока модель завета оберегается Богом и церковью, мы в полной безопасности. Нам ничего не угрожает и ничто не застанет нас врасплох, пока мы понимаем, что завет имеет отношение к миру, находящемуся за пределами верующей общины. Модель завета утверждает: мир, которому мы служим и о котором заботимся — этот мир еще должен быть искуплен. Богословие завета ничего не стоит, если оно не вдохновляет и не побуждает к миссии… Важно единство трех составляющих: Бог, инициирующий и заключающий завет (Ос. 2, 14.18–20); община, которая соблюдает завет через новые формы Торы, познания и прощения (Иер. 31, 31–34); и мир, который еще необходимо преобразовать для исполнения завета, ниспровергая начальства и власти
(Ис. 42, 6–7; 49, 6)[24]
Достаточно ли у нас сил, чтобы ответить на брошенный вызов: «Если моя жизнь должна быть сформирована, чтобы соответствовать такому видению Божьей цели, то каким должен быть я и какое поведение ожидается от меня!»
Неординарность Израиля
История, которую мы продолжаем читать в книге Бытия, полна осложнений: были и сомнения Авраама и Сарры по поводу рождения наследника (не говоря уже о рождении народа), а также угроза голода в продолжение нескольких поколений. В итоге небольшое сообщество беженцев выживает в Египте и впоследствии становится большой нацией. (Исх. 1,6). После знаменательных событий исхода (к которым мы обратимся позже), Господь заключает завет с народом у горы Синай, после чего израильтяне направляются в Ханаан, где начнется новый этап их истории.
Уникальный опыт Израиля
Несмотря на то, что израильтяне были одним из многих народов того времени, они хорошо понимали свое отличие от остальных. Эту разницу отмечали и другие, что видно из пророческих слов Валаама, хоть и высказанных им не по собственному желанию: «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится» (Чис. 23, 9).
Ощущение уникальности отражено также в риторических вопросах Моисея, перед тем как израильтяне вошли в Ханаан (Втор. 4, 32–40). Эти слова являются своеобразным вызовом и напоминают об ответственности в свете их уникальной истории:
Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что–нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?
(Втор. 4, 32–34)
Ответ очевиден — «Нет!» Бог сделал для Израиля то, чего никогда и нигде не делал. Описанные события — это, конечно же, события исхода и заключение завета у Синая. Согласно отрывку, эти события беспрецедентны (не происходили ранее), и не имеют аналогов (больше нигде не случались). Исторический опыт встречи Израиля с Господом был уникален. Он получил особое откровение, которого не было ни у одного народа,[25] и были спасены, как никакой другой народ.[26] Однако это не говорит о том, что Господь не интересовался другими народами или не участвовал в их делах. Об этом ясно говорит Второзаконие (Втор. 2, 9–12.16–23). Суть в том, что только в Израиле и для него Бог действовал с явной искупительной целью, которая привела к отношениям между Господом и народом Израиля.
Однако этот уникальный исторический опыт не был всего лишь красивой частью божественного промысла. Он имел явную обучающую цель. Это было небесное образование, и Израиль должен был познать две жизненно важные истины: кто на самом деле является Богом (Яхве, Господь) и как теперь следовало жить избранному народу (в послушании). Иными словами, Израиль должен был сделать богословские и нравственные выводы из своей истории. Далее мы читаем:
Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его… Итак знай (на иврите просто «знай», «познай») ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его; и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне…
(Втор. 4, 35. 39–40; выделено автором,)
О богословском выводе мы подробно говорили в первой главе. Для Израиля было жизненно важно знать подлинный характер того Бога, с которым он теперь должен был жить. Отчасти это было целью исхода: «И вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из–под ига Египетского» (Исх. 6, 7). Именно благодаря познанию истинного и живого Бога они понимали, как им теперь жить и что делать для того, чтобы привлечь внимание окружающих народов (Втор. 4, 5–8).
Сейчас нам более интересен нравственный вывод. Обратите внимание на четкую взаимосвязь частей стиха Втор. 4, 40: если вы со всей серьезностью отнесетесь к познанию Бога, то вам откроется путь жизни — путь благодарного послушания его воле.
Таким образом, логика этого отрывка (Втор. 4, 32–40) такова: во–первых, Израиль получил уникальный опыт Божьего откровения и искупления. Во–вторых, в результате израильтяне получили уникальное познание личности Господа как Бога. В–третьих, это означает, что отныне у них уникальная ответственность: жить среди народов так, чтобы отражать нравственный характер Господа, представленный в заповедях, которые даны для их же блага. Таким образом, суть ветхозаветной этики не в некоей высшей философии или в возвышенном состоянии ума. Она заключается в характерном нравственном отклике всего сообщества на уникальные исторические события, в которых они увидели руку своего Бога. Именно эти события делали особенным свидетельство Израиля среди других народов.
Социальное отличие Израиля
Но чем же Израиль в действительности отличался от окружающих народов и культур? Это слишком общий вопрос, который требует уточнений: в какой период ветхозаветной истории и по отношению к каким народам? Тут нам понадобилось бы подробно описать многовековую историю Израиля ветхозаветной эпохи, но это не входит в наши планы.[27] В определенном смысле Израиль особо не отличался от остальных народов. Сравнительное изучение культуры Израиля, Ханаана и других народов древнего Ближнего Востока демонстрирует поразительное сходство, что вообще–то характерно для такого широкого культурного пространства, — мы еще поговорим об этом в десятой главе. Но вместе с тем было нечто, что явно отличало Израиль от остальных народов и делало его культуру доминирующей в Палестине.
Главное отличие, конечно, было религиозным. Израиль поклонялся исключительно Яхве (или должен был поклоняться),[28] не используя для этого идолов и статуи. Но если мы думаем, что монотеизм — это всего лишь вопрос своеобразного религиозного предпочтения (просто так случилось, что мы предпочитаем одного бога, а не многих) среди множества относительных идей и верований (рамки, в которых часто проходят современные дискуссии о религиозных отличиях), то мы, несомненно, заблуждаемся. Для Израиля исключительная преданность Яхве как единственному божеству была частью их жизни в завете, и накладывала отпечаток на все сферы их жизнедеятельности: социальную, экономическую, правовую и политическую. И в этом Израиль действительно сильно отличался от других народов. На раннем этапе исторического формирования Израиль обладал ярко выраженным ощущением национальной идентичности, что отражалось не только в религии, но и во всех областях общественной жизни. Религия была интегрирована в их общественную жизнь и способствовала решению основных социальных задач.[29]
Например, ханаанское общество до прихода израильтян было феодальным, вся власть была сконцентрирована на самой верхушке классовой лестницы небольших городов–государств. В отличие от них Израиль был племенным сообществом, где прежде всего сохранялись узы кровного родства, которое, в свою очередь, разделялось на три составляющие: племена, кланы и семейства (см. десятую главу). Третий уровень состоял из множества расширенных землевладельческих семейств. Такие семьи, живущие в деревнях, будучи вполне самостоятельными в экономическом плане, сами решали большую часть важных социальных задач: юридических, экономических, культовых и военных. Таким образом, сначала израильское общество, состоящее из взаимозависимых, но в то же время автономных семейств, не имело социальной централизации и иерархии. Это способствовало социальному здоровью и экономической жизнеспособности низших групп, а не обогащению или власти высших.
Похожий контраст можно наблюдать в экономике различных форм землевладения. В ханаанских городах–государствах вся земля принадлежала царю, который заключал феодальные договора с крестьянами–арендаторами. В Израиле вся земля распределялась среди семейств и являлась их собственностью. Разделение земли, описанное в книге Иисуса Навина, ясно показывает, что ее распределение, обладание и использование должно включать все уровни родства. Родовые территории отводились «по племенам их» (Нав. 15, 1 и др.). Чтобы сохранить такую систему, земля не могла просто приобретаться или продаваться на коммерческой основе, но должна была передаваться по наследству (Лев. 25). Более того, многие ветхозаветные законы и установления по использованию земли (см. пятую главу) направлены на сохранение относительного равенства семей. Таким образом, экономическая система Израиля была ориентирована на независимость и равенство семей, а также на защиту слабых и бедных, а не на интересы богатого землевладельческого меньшинства. Эта характерная черта израильского закона является конкретным социологическим показателем практического содержания израильской веры. Говоря об этой особенности израильского закона, Готвальд утверждает:
Практическое содержание закона имеет неизмеримую ценность для построения социологии религии Израиля, потому что оно дает безошибочную общую структуру религии Яхве как религии уравнительной социальной системы. Поклоняться Яхве и быть израильтянином значит, прежде всего, вести определенный образ жизни в отделении и в явной оппозиции к давно почитаемым и устоявшимся обычаям, которые по всему Ближнему Востоку считались неизбежными и единственно приемлемыми.[30]
Постепенное разрушение такой социально–экономической системы после перехода к монархии, с ее непосильной системой налогообложения, вызвало наиболее сильный пророческий протест в последующей истории Израиля.
Глядя на политическую жизнь Израиля (которую рассмотрим подробнее в седьмой главе), мы находим, что она следовала моделям кровного родства. Евреи были рассеяны и децентрализованы. Авторитет в принятии решений в сообществе, особенно в вопросах юридических, принадлежал группе старейшин. Старейшины, в самом широком смысле, были оплотом израильской общественно–политической жизни на протяжении всего ветхозаветного периода.[31] В домонархический период такое коллективное руководство во время нависшей военной угрозы иногда усиливалось харизматическими лидерами — судьями. Их считали поставленными Богом и принимали как проводников Божьего правления. Однако истории Гедеона и Авимелеха (Суд. 8, 22—9, 57) говорят о трудностях, встававших на пути любого судьи, которому предлагали или который сам стремился к более постоянному, династическому правлению. Похоже, что централизованная власть сталкивалась с серьезным сопротивлением до тех пор, пока она не стала неизбежной ввиду внешней угрозы со стороны филистимлян. Такая модель власти вождя воспринималась как прямая противоположность традиционной модели, основанной на локализации власти в структуре местных семейств. Даже после того, как была учреждена монархия, система местных старейшин выжила на сельском уровне и оказывала сопротивление иерархическому и централизованному правительству. В результате юридических реформ Иосафата были поставлены судьи, которых назначал царь. Но эти реформы касались только укрепленных городов (2 Пар. 19, 4–11) и, по–видимому, не распространялись на небольшие поселения и деревни, где порядок и справедливость зависели от старейшин. В последующие столетия Давид, а также Соломон и его преемники добились еще большей централизации власти. Исторические и пророческие книги говорят о постоянном сопротивлении таким изменениям из–за несоответствия традиционному пониманию израильской социальной структуры. Находясь в оппозиции к централизованной власти и критикуя ее, пророки подчас платили за это слишком высокую цену. Таким образом, установленная Богом децентрализованная форма власти выделялась на фоне иерархических и классовых форм правления в древних ближневосточных государствах.
Мы сделали очень краткий очерк особенностей общественного устройства израильского общества и пришли к следующему выводу: отличие Израиля от окружающих народов, в особенности хананеев, было осознанным, и это касалось не только религии, но и устройства общественной жизни. Притязание Израиля на религиозную «инаковость» (святость) в своем посвящении Господу неизбежно было связано с устремлениями и успехами в политической, социальной и экономической сферах. Социальный ракурс неразрывно связан с богословским ракурсом. Народ Израиля должен образовывать иное общество, потому что Яхве был иным Богом.
Значение истории Израиля в древности
Сейчас нам важно понять, каким образом общественное устройство в Израиле было связано с религией, и была ли такая связь? Какое значение она имела? Был ли этот особенный социальный уклад важной частью того, что означало быть Израилем — народом, избранным и призванным Богом, чтобы быть инструментом благословения и избавления народов? Разве не мог он быть обыкновенным сообществом древнего мира, несущим знамя поклонения Яхве и его обетовании человечеству? Очевидно — нет.
Невозможно поклоняться Яхве и при этом быть как все — вот о чем говорит неудачная попытка Израиля испытать эту истину. Приговор историков и пророков был таков: с одной стороны, если вы забыли Господа и пошли вслед иных богов, общество немедленно скатится к несправедливости и угнетению. И, с другой, если общество уже встало на путь социального зла и угнетения, это ясно свидетельствовало о том, что люди забыли Господа, даже если при этом они утверждали, что продолжают с воодушевлением поклоняться Ему. Другими словами, существовала неразрывная связь между тем, каким сообществом был Израиль (или должен быть) и характером Бога, которому они поклонялись.
Самой радикальной переменой, которая произошла в израильском обществе со времени прихода в Ханаан, стал переход от свободного союза племен к монархическому государству. В ветхозаветных повествованиях Первой книги Царств этот процесс описан весьма неоднозначно. Рассказ требует внимательного прочтения. В самом начале, в 1 Цар. 8, с грустью отмечается неспособность сыновей Самуила подражать нравственной чистоте их отца. Они извращали справедливость, которую были призваны сохранять (1 Цар. 8, 3). Просьба старейшин о царе сначала выглядит как похвальное желание иметь сильную личность, чтобы исполнить одну из главных функций общественного руководства в древнем мире — восстановление справедливости. Однако их мотив становится понятен к концу их прошения: «поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1 Цар. 8, 5; курсив автора). Самуила могло огорчить такое пренебрежение его руководством, однако Бог раскрыл ему подлинную суть вопроса. Желание Израиля иметь царя было отвержением самого Господа в качестве правителя. Поэтому Бог дает наставления Самуилу, чтобы тот объяснил народу последствия такого шага. Важно отметить, что Самуил, обращаясь к народу, не рассматривает их решение в религиозном ключе как отвержение Господа. Он обращает внимание на социальные и экономические последствия, которые повлечет за собой это отступление. Они хотят быть, как другие народы? Неужели они забыли, что должны отличаться от других народов?[32] Разве они не знают, чем характеризовалась монархия в предшествующих и окружающих культурах, и что она повлечет за собой в Израиле? Самуил далее показывает, что их желание иметь царя, как у прочих народов, неизбежно приведет к социальным бременам, которые разделяют другие народы, а именно — они будут нести на себе все расходы дорогостоящей монархии: воинскую повинность, принудительный труд, конфискацию земли, налогообложение с целью содержания царского аппарата, алчное правительство:
И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.
(1 Цар. 8, 10–18)
Самуил подробно описывает, что представляет собой монархия и ее последствия, которые через время действительно стали бичом для народа, особенно в дни царя Соломона и позже. «Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы» (1 Цар. 8, 19–20). Таким образом они потеряли одну из граней социального отличия, отвергая форму теократического правления.
Несколько веков спустя в северном царстве Израиля, во время правления Ахава и Иезавели, произошло серьезное противостояние между Илией и Ваалом. Кризис в Израиле одновременно был и религиозным (кому следовало поклоняться как Богу, Ваалу или Яхве?), и социальным (был ли Израиль страной, безопасной для проживания в ней таких людей, как Навуфей, или страной, где цари и царицы чинили произвол, поступая преступно и вероломно?) Илия обращается к обеим проблемам в 3 Цар. 18—19. Ведь вопрос состоял не только в том, какому богу поклоняться. Это был конфликт двух противоположных систем землевладения — израильской (установленной Яхве как хозяином, дарителем земли и гарантом прав израильских семей на свою вотчину; см. третью главу) в противовес ханаанской (установленной Ваалом и дающей царскому роду неограниченное право на все, что может быть продано). Выберите недостойного бога — и получите недостойное общество. Израиль продолжал доказывать этот тезис на протяжении нескольких последующих столетий.
Конечно же, это не означает, что израильтяне перестали поклоняться Господу, по крайней мере, им так казалось. Во времена великого отступничества и религиозного синкретизма многие простые люди продолжали верить, что их поклонение угодно Господу. Однако пророки указывали, что если Израиль позволил, чтобы их общество было пронизано несправедливостью, угнетением, жадностью, сексуальным и физическим насилием, отсутствием справедливости и сострадания, то кому или чему бы они не поклонялись, это не был Господь. С другой стороны, Господь и не принял бы поклонения такого народа, каким бы оно ни было ортодоксальным или восторженным.[33] Священные обряды не могут компенсировать социальное зло.
Эти две стороны одной медали (характер Яхве как Бога, с одной стороны, и качество общества, которое Он требует, с другой) и являются сердцевиной ветхозаветной веры. Это видно также в повествовании об освобождении Израиля, которое привело к заключению завета. Размышляя над Исх. 1 — 15, Уолтер Брюггеман говорит:
Яхве — ключевая личность в повествовании. Нет сомнений, что это богословский отчет, в котором Яхве создает и узаконивает альтернативное сообщество справедливости… Каждое новое поколение в Израиле учили прочитывать социальную реальность так, что вопросы справедливости, проблемы общественной власти, общественного блага и общественного доступа являются предметом основной заботы сообщества и Бога Израиля. Таким образом, Израиль делает проблемы справедливости центральными в своем повествовании о Боге.[34]
Подобным образом Пол Хэнсон связывает откровение природы Господа с революционным характером нового сообщества, созданного после исхода:
По сути, в этом событии уже была раскрыта природа Бога Яхве и природа верующего сообщества, которое сформировано природой Яхве… В освобождении из египетского рабства Израиль встретился с Богом, природа которого и соответствующий план новой реальности были диаметрально противоположными богам фараона… Таким образом, новое понимание общины родилось в исходе. Оставляя или отвергая ее, что постоянно делал Израиль, он оставлял или отвергал свою сущность народа, призванного Богом, сообщества освобожденных рабов, в котором навечно была запрещена иерархическая лестница, обрекающая одни классы на беззаботную жизнь, а другие — к страданию и лишениям.[35]
Норберт Лофинк, комментируя значимость исхода и размышляя о таких текстах, как Исх. 19, 3–6 и Втор. 4, 6–8 приходит к похожему выводу об Израиле как о задуманном Господом сообществе–контрасте:
Замысел Яхве состоял в том, что Израиль будет народом братьев и сестер, в котором не будет нищих (см. Втор. 15, 4). Это позволяет понять, что, согласно Библии, нищие Египта должны были, благодаря исходу, стать своего рода завещанным Богом сообществом–контрастом… По сути, новое сообщество, создаваемое Яхве из нищих евреев, благодаря исходу контрастирует не только с египетским обществом, но и со всеми народами того времени. Таким образом, эта задача ориентирована не только на благо Израиля, но также на благо всего человечества. [36]
Другими словами, характер Израиля определялся характером Яхве.[37] Именно об этом говорится во Втор. 10, 12–22. «Ходить его путями» означает подражать Господу как Богу, который «не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте…». Тип общества, которого желает и о котором повелевает Господь, основан исключительно на том, каким является Бог. Это находит широкую поддержку в законе, пророческой литературе и книгах мудрости, а также подкрепляется подробным социологическим исследованием.
Значение истории Израиля сегодня
Итак, мы можем сделать вывод, что общественная жизнь Израиля отнюдь не была случайной или оторванной об богословия; на самом деле, благодаря исследованию и наблюдению за общественной жизнью израильтян, видна сама суть Божьего характера. Это делает чрезвычайно важным изучение общественного устройства в Израиле. Чем лучше мы понимаем Израиль, тем полнее будет наше понимание Бога Библии. Готвальд пишет: «Поскольку главное проявление Яхве — сам Израиль, то неверное понимание Израиля влечет за собой ошибочное представление о Яхве».[38]
На этом этапе может возникнуть вопрос: «Хорошо, но какое отношение это имеет к поставленной перед нами задаче изучения ветхозаветной этики?» Возможно, в исторических целях и интересно определить социальное отличие Израиля от прочих народов, но какое это имеет отношение к обнаружению и применению вести самого Ветхого Завета в нашем контексте? Ведь для нас авторитетом является то, что говорит Писание, а не то, каким был Израиль? В действительности, как мы только что видели, Писания Ветхого Завета демонстрируют крайнюю заинтересованность в том, каким был Израиль, исходя из названных выше причин. Очевидно, это немаловажно. Социальный образ Израиля не был случайным капризом в древней истории. Он также не был временным, практическим побочным продуктом их духовной вести. Мы не можем отбросить социальное измерение Ветхого Завета, как некую скорлупу, из которой мы намерены извлечь ядро вечных духовных истин. Социальная реальность Израиля была неотъемлемой частью того, ради чего Бог вызвал этот народ к бытию. В богословском смысле Израиль существовал, чтобы быть инструментом Божьего откровения, с одной стороны, и благословения человечества, с другой. Они не только были носителями искупления, но также должны были стать моделью того, каким быть искупленному человечеству, живя в послушании воле Божьей. Их социальная структура, принципы и установления, столь органически связанные с верой и заветом Господа, также были частью содержания этого откровения, частью модели искупления. Божья весть искупления через Израиль была выражена не только в словах, она была видимой и осязаемой. Будучи посредниками, они сами были частью вести. Просто живя в завете и повинуясь закону Господа, они вызвали бы у окружающих народов вопросы о характере их Бога и восхищение социальной справедливостью их сообщества.
Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня ?
(Втор. 4, 6–8)
Израиль — Божья парадигма
Но это было прежде, а мы живем сейчас. Как связать прошлое и настоящее? Как нам преодолеть пропасть между Израилем с его верой, отражающейся в общественном устройстве, и нашим собственным миром? Прежде я должен сказать о двух подходах, которые мне кажутся тупиковыми. Первый — попытаться скопировать устройство общественной жизни в Израиле, буквального следуя ветхозаветным законам. Но это не только невозможно практически, ведь мы не живем в древнем ближневосточном мире с его аграрной экономикой и племенной культурой; это невозможно и в богословском смысле, потому что ни церковь, ни какое–либо современное государство не находятся в таких же отношениях с Богом, как Израиль в Ветхом Завете. Такое подражание не только не учитывает различий в обстоятельствах, но и не отдает должного тому, насколько серьезно Бог относится к истории и культуре, воплощая свои весьма конкретные нравственные требования к Израилю в их непосредственном контексте.[39] В той или иной мере такой подход ошибочно уравнивает ветхозаветную этику со сводами законов, заповедями и наказаниями, тогда как на самом деле это абсолютно неправомерно. Для правильного понимания ветхозаветной этики нам необходимо все Писание, включающее как законы, так и повествования. Поэтому мы не можем просто поступать так, как поступал Израиль, или же обязать себя соблюдать эти законы буквально, как они записаны.
Другой подход вовсе не интересуется тем, как поступал Израиль; то есть полностью списывает Ветхий Завет как нравственно устаревший. Некоторые обесценивают Ветхий Завет на том основании, что он весь исполнился во Христе, был заменен благодатью, или является продуктом давно минувшей диспенсации. Одни предвзято относятся к ветхозаветной этике, потому что считают ее весьма примитивной (так они воспринимают ее), и думают, что ей лучше оставаться на страницах древней истории. Другие относятся так, потому что не могут предложить ничего другого. Я не могу примирить такое пренебрежение Ветхим Заветом с авторитетным заверением Иисуса о неизменной действенности закона и пророков (Мф. 5, 17–20), или утверждением Павла о том, что все Писание (то есть Ветхий Завет) не только богодухновенно, но и полезно для нравственного руководства и записано для нашего наставления (2 Тим. 3, 16–17; 1 Кор. 10, 1–13). Если Израиль должен был стать «светом для народов», тогда этот свет должен сиять. Мы обязаны найти способ, чтобы позволить свету ветхозаветного Израиля проникнуть в наш мир и озарить его.
Путь, который, как мне кажется, дает наибольшие результаты, — это парадигматический подход, в котором общество и законы Израиля являются парадигмой. Парадигма — это модель или образец, который дает вам возможность объяснить или критически оценить разнообразные ситуации при помощи одной концепции или группы руководящих принципов. Такой подход позволяет использовать по принципу аналогии конкретную известную реальность (парадигму) в том или ином контексте, где существуют требующие разрешения проблемы, вопросы, на которые нужны ответы, или необходимо принять некоторые решения. Парадигма также может задать критерии, посредством которых вы оцениваете и критически анализируете обстоятельства или предложения в положительном или отрицательном ключе. Таким образом, парадигма может функционировать как описательно, так и предписательно, то есть позволяя критически оценивать. Прежде чем подробнее объяснить, что я понимаю под таким парадигматическим подходом к Ветхому Завету для этики, обратимся вновь к ключевому тексту, который, как я думаю, указывает в этом направлении — Исх. 19, 4–6.
Священники Бога среди народов
Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым.
(Исх. 19, 4–6)
Это торжественное заявление Бога было сделано после описания событий исхода (Исх. 1—18) и перед тем, как был дарован закон и заключен завет (Исх. 20—24). Эти программные и торжественные слова Бога обращены как в прошлое, так и в будущее. Во–первых, они указывают на божественную инициативу в спасении («вы видели, что Я сделал…») как на важнейшую причину для повиновения закону (то же делает и Декалог). Во–вторых, в них Израиль обретает понимание своей роли как священника и святого народа, принадлежащего Господу среди народов всей земли. Послушание закону в завете делало их святыми; то есть другими, отличными от народов. Но в то же время они, как священники, должны быть учителями, примером и посредником для народов. Таким образом, соблюдение закона не было для Израиля самоцелью, но относилось к причине их существования — Божьей заботе о народах. Второзаконие 4, 5–8, как мы только что видели, помещает социальную справедливость Израиля в тот же контекст — публичное свидетельство для окружающих народов.
Следовательно, мы задаемся вопросом: обращен ли закон только к Израилю, учитывая их уникальные отношения завета с Господом, или же он имеет отношение и к остальным народам (включая, в конце концов, нас самих)? Ответ следующий: «И то, и другое». Но здесь нужно оговориться. Закон не имеет прямого отношения и не адресован напрямую к народам (как утверждает Пс. 147, 8–9, Бог не дал его прочим народам, как дал Израилю). Но это не означает, что закон Израиля не относился к ним. Скорее, закон был дан Израилю, чтобы тот стал примером, светом для народов. Ожидалось, что в будущем, как его представляли пророки, закон будет дан всем народам, или же они придут, чтобы научиться ему. Народы должны были увидеть справедливость Божьего закона, который прежде будет воплощен в его народе (Ис. 42, 4). Израиль должен был стать светом для язычников.
Таким образом, учитывая роль Израиля в Божьем плане для народов и функцию закона в связи с их миссией, мы можем заметить: закон был задуман (наряду с прочими аспектами общественной жизни Израиля, как мы уже видели), чтобы сформировать Израиль в конкретных, четко определенных рамках их исторического и культурного контекста. Их общественная жизнь, со всеми ее правовыми структурами и институтами, нравственными нормами и богословским фундаментом, становится моделью, или парадигмой народа, который должен стать священником для всех народов. Кроме того, значение и применение этой парадигмы выходит за географические, исторические и культурные границы Израиля. Р. Клементе обращает внимание на актуальность и широкую применимость ветхозаветного закона, напоминая тем самым выдвигаемый мною тезис, хотя и не использует понятие «парадигматический»:
Удивительно, что Ветхий Завет содержитТору — наставления, которые могут быть применимы к широкому спектру общественных и политических систем. Общества, резко отличающиеся экономически, политически и культурно, обрели в Ветхом Завете богатый и действенный источник социального и нравственного учения.[40]
Следовательно, отличительность Израиля не препятствует универсальному применению, а служит ему. Парадигма, по своей сути, уникальный способ, дающий возможность более широкого применения, выходящего за собственные рамки.
Я полагаю, что парадигматический характер Израиля — не просто герменевтический инструмент, изобретенный нами и навязанный для обзора прошедших событий, и потому являющийся анахронизмом. Скорее, выражаясь богословским языком, такая парадигматическая функция была прежде всего частью Божьего замысла в создании и формировании Израиля. Когда мы задаемся вопросом о нравственной значимости древнего народа для современного мира, то пытаемся увидеть наш собственный мир в свете писаний Израиля, и таким образом исполняем Божественный замысел. Именно для этого нам даны писания. В одной культуре и в одном срезе истории они дают нам парадигму тех социальных ценностей, которые Бог ожидает от человечества в целом.
Будет полезным рассмотреть еще несколько примеров того, как работают парадигмы.
Парадигмы в грамматике
Когда мы изучаем новый язык, то часто заучиваем парадигмы слов. Например, словоparler часто используется в качестве парадигмы при изучении французского языка. Если мы выучим все формы окончаний этого глагола, у нас будет парадигма для других глаголов такого типа во французском — всех правильных глаголов с окончанием –er. Как только мы выучили форму и образец этой парадигмы, этого конкретного примера, то сможем применять парадигму ко многим другим глаголам или даже изобретать новые глаголы с этими окончаниями, так как они будут соответствовать парадигме. Напротив, если мы напишем предложение, начинающееся сNous arrivez, нам укажут на ошибку — это не согласуется с парадигмой. Знание парадигмы помогает нам видеть нарушения грамматики, а также говорить и писать правильно. Таким образом, выучив парадигмы слов (глаголов, существительных и пр.) мы можем использовать широкий словарный запас в новых ситуациях.
Использование Израиля в качестве парадигмы дает нам способность перейти от одного определенного случая к множественным контекстам, где ситуации могут сильно отличаться. Мы можем найти и применить принципы, согласующиеся с парадигмой, которой мы научились из Ветхого Завета (и, конечно же, как библейские христиане, из более широкой парадигмы всей Библии). Парадигматический подход помогает нам критически оценивать ситуации или предложения на предмет их соответствия парадигме, созданной Богом в Израиле. Таким образом, парадигма может формировать как положительное, так и отрицательное нравственное суждение.
Парадигмы в науке
В 1970 году Томас Кун написал книгу о научных революциях, в которой была предложена свежая идея понимания научного прогресса.[41] Согласно Куну, наука развивалась не в соответствии с классическим мифом эволюции о накоплении теорий, основанных на все более глубоком исследовании данных. Скорее, наука время от времени совершала громадные скачки, когда одна парадигма, которая существовала уже на протяжении веков, оказывалась несостоятельной и отвергалась, чтобы на ее место пришла другая. После этого вся экспериментальная деятельность совершалась в новой парадигме понимания до тех пор, пока и она не становилась несостоятельной и не заменялась. Такие сдвиги парадигм происходят не часто, потому что их последствия, как правило, разрушительны и сеют разногласия.
Исследование любой проблемы всегда совершалось на фоне предпосылок и убеждений, сформированных существовавшей прежде наукой. В современной науке этот фон обрел форму «парадигм», группы убеждений, теорий, ценностей, стандартов исследования и их результатов, дающих направление для прогресса во всей области.[42]
Кун использует слово «парадигма» в двух значениях. С одной стороны, оно означает «совокупность убеждений, ценностей, приемов, общих для членов данного сообщества». С другой стороны, оно означает «конкретные решения задач» — реальные результаты экспериментов, которые предоставляют рабочие модели для дальнейшего исследования и указывают пути решений для большего числа нерешенных проблем. Берн Пойтресс (Vern Poythress), размышляя над тем, что сказал Кун, показывает разницу этих двух значений, используя понятия «дисциплинарная матрица» для первого и «образец» для второго. Мне представляется, что оба значения слова «парадигма» (и как матрица убеждений, и как конкретные примеры) могут быть полезны для понимания того, как Ветхий Завет может функционировать в качестве нравственной парадигмы для нас.
Прежде всего, появление Израиля ввело в древний ближневосточный мир новую парадигму убеждений и ценностей — здесь парадигма используется в широком значении, как всеобъемлющая матрица убеждений. Это не означает, что Израиль был совершенно непохож на свое окружение, то есть не имел религиозных или культурных связей. Огромное количество сравнительных исследований показали, до какой степени Израиль взаимодействовал с современным ему миром. Тем не менее, выше мы показали, что в некоторых сферах Израиль отличался сознательно и намеренно. И это отличие включало все их мировоззрение — матрицу убеждений и предположений, направлявших их социальное и религиозное самопонимание и организацию. Среди множества отличительных особенностей этого революционного мировоззрения (парадигмы) можно выделить следующие:
• монотеизм Израиля, который, по всей видимости, сначала был моно–Яхвизмом, но со временем развился в зрелое посвящение Яхве как единственному божеству;
• описанные выше характеристики Яхве как Бога (т. е. того, кто является Господом творения и действует в истории);
• ценности, выраженные через дела Яхве в истории, явленные благодаря исходу, а позже сведенные в законы Израиля: забота о слабых и угнетенных, восстановление справедливости, отвержение идолопоклонства и связанного с ним социального зла;
• концепция социальной структуры с позитивными последствиями в политической сфере, особенно представление Израиля о Яхве как о царе, что способствовало отказу от монархии на протяжении нескольких столетий и впоследствии ограничивало власть царя;
• вера в то, что земля принадлежит Богу, что, в свою очередь, устанавливало экономическую справедливость и опрокинуло господствующую модель землевладения;
• вера в Яхве как творца и опору естественного порядка, что лишило обожествления таких сфер жизни, как сексуальность, плодородие (земли, стад и жен) и даже смерть.
Это всего лишь некоторые контуры парадигмы, той всеобъемлющей матрицы убеждений и ценностей, сформировавших исторический Израиль.
Во–вторых, сам Израиль был парадигмой, во втором, более узком значении Куна. То есть он был конкретной моделью, практическим, культурно обусловленным, экспериментальным образцом уже воплощенных убеждений и ценностей. Теперь никто не станет отрицать то, что ясно показали сами еврейские писания: израильтяне все же не смогли воплотить те законы и социальные установления, к которым они были призваны в завете. Тем не менее, существует исторический факт: при переходе от Бронзового века к Железному в древней Палестине возникло удивительное сообщество с радикально отличающимися формами социальной, экономической и политической жизни, каждая из которых неразрывно связана с особенной формой их верования. Они называли себя «Израилем» и «народом Яхве», и им на протяжении нескольких столетий удавалось показать, например, что теократия может существовать; что землей можно владеть и пользоваться, не считая ее исключительно коммерческим продуктом, который можно приобретать, продавать или использовать по праву личной собственности; что можно сохранять равенство семей, благодаря присущим системе механизмам предотвращения нищеты, долга или рабства; что духовные потребности народа можно удовлетворить и при отсутствии потребительской землевладельческой священнической элиты. Их конкретное существование в истории парадигматично. Конечно, с течением времени этот исторический эксперимент сам претерпевал многие изменения. Народ Божий от Авраама до возвращения из вавилонского плена перенес несколько основательных метаморфоз, тем не менее, в каждой эпохе существовали константы, базовые фундаментальные идеалы того, что значило быть Израилем.[43] Другими словами, сам Израиль был призван к постоянной самопроверке в свете парадигмы собственной конституции.
Второе значение научной парадигмы также полезно для нашего применения к ветхозаветной этике. В научном исследовании «конкретный образец», полученный в результате научного эксперимента, функционирует как модель для решения других задач. То есть работающие в некой «дисциплинарной матрице» ученые (парадигме в первом значении) полагают, что модель, успешно решающая одну проблему (парадигма во втором значении), по всей видимости, даст результаты, если ее применить к другим проблемам в той же сфере. Это другой способ, помогающий увидеть, что означает рассматривать ветхозаветный Израиль в качестве парадигмы. Видя, как они в их культурном и историческом контексте решали проблемы и вопросы, общие, в принципе, для всего человечества, мы можем ответить (хоть и не всегда решить) на нравственные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в своих специфических обстоятельствах. Парадигма заключает в себе силу для решения проблем. Исторический Израиль давал всесторонний ответ на широкий спектр экономических, социальных и политических вопросов своего времени. Мы не можем винить их за то, что они не решили все проблемы человечества. Это не является целью парадигмы. Основная задача Израиля состояла в особенной, уникальной природе. Джон Голдингей подчеркивает важность специфики ветхозаветных законов и институтов. Они не позволяют нам удовлетвориться абстрактными обобщениями:
Следовательно, утверждения Библии либо говорят нам, как жить, либо (когда они не делают этого) являются моделью и мерилом наших попыток понять, как мы должны жить. Это означает, что мы не игнорируем специфичность библейских заповедей (и применяем их к нашему времени, как если бы они были вневременными универсальными истинами). Нас также не пугает их специфичность (тем самым делая нас вовсе неспособными применить их к нашему времени). Мы ценим их специфичность, потому что она демонстрирует нам, как воля Бога выражалась в то время, и мы воспринимаем их как парадигму для своих этических построений.[44]
События и истории как парадигмы
Другой подход к Ветхому Завету при помощи концепции парадигмы предложил в 1986 году Пол Хэнсон (Paul Hanson).[45] Он обратил внимание на то, что в самом Ветхом Завете некоторые события и повествования обладали такой силой откровения, что становились парадигмой тех действий, которых можно было ожидать от Бога в будущем, и того, как следовало поступать Израилю в ответ. Очевидный пример — исход. В исторических, поэтических и пророческих книгах исход предстает парадигмой верности, справедливости и сострадания Господа, а также парадигмой общественной жизни Израиля во многих проявлениях. Продолжая, Хэнсон приходит к выводу — то, что было парадигматическим для Израиля в Ветхом Завете, также было парадигматическим для церкви, сообщества того же Бога в Новом Завете, и для нас сегодня.
Вальдемар Янцен (Waldemar Janzen), говоря о парадигматическом характере ветхозаветного повествования, идет дальше.[46] Не только великий национальный эпос исхода, но также множество других, менее значимых, повествований хранились в сознании Израиля как парадигмы поведения в определенных контекстах. Парадигма, в этом смысле, больше похожа на умственную конструкцию, созданную в результате постоянного пересказа историй о том, что значит быть хорошим израильтянином в различных общественных ситуациях. Похожим образом большая часть нашего собственного нравственного поведения подсознательно направляется умственными парадигмами того, что значит быть хорошим отцом, хорошим водителем или хорошим другом. Они выстраиваются из множества историй, рассказанных нам в детстве, а также из богатого жизненного опыта. Таким образом, для Израиля парадигмами были внутренне усвоенные нравственные модели, изложенные в повествовательной форме. Янцен описывает несколько таких главных парадигм в Ветхом Завете: священническая, царская, пророческая и парадигма премудрости. Но самое высокое положение он отдает семейной парадигме с ее главными компонентами жизни, земли и гостеприимства. Каждая модель поведения, каждый список добродетелей, ожиданий, отношений и ценностей строился, исходя из широкого слоя ветхозаветных традиций.
Следовательно, существует множество способов использования парадигмы. Я не думаю, что какой–либо важнее другого. Мне представляется, что каждый добавляет свой нюанс в рассмотрение ветхозаветного Израиля в качестве парадигмы, или к использованию парадигматической методологии для ясного изложения ветхозаветной этики.
Парадигма или принципы?
Существует ли разница между предложенным мною здесь парадигматическим методом и известным подходом, предлагающим изъять принципы тех ветхозаветных законов, которые мы не можем сегодня применить во всех деталях, учитывая их специфичность и обусловленность? В некотором смысле не существует большой разницы. Чтобы использовать парадигму, мы должны найти и подчеркнуть принципы, которые она воплощает, и затем увидеть, как эти принципы могут быть вновь конкретизированы в иных контекстах. Однако, проблема с самим подходом «найти принцип» в следующем: он может привести в конечном итоге к отбрасыванию специфических реалий ветхозаветного текста, конкретной, земной истории Израиля. Как только вы заполучили принцип, то зачем вам обертка? Печально, но именно так многие люди обращались с Ветхим Заветом.
Однако совершенно ясно: Бог дал нам Библию, а не упорядоченный сборник принципов. Он дал удивительно специфичное изображение жизни народа на протяжении многих поколений. Это изображение передано нам благодаря их историям, законам, мудрости, культу и видениям, их памяти и надежде, достижениям и неудачам. Оно приходит к нам как достаточно беспорядочный и запутанный набор очень сложных взаимоотношений между людьми, в череде многих поколений, в разных народах. Отношение к этому великому собранию текстов просто как к одноразовому контейнеру для независимых универсальных принципов, которые мы сейчас можем передать гораздо проще и аккуратнее, отрицает характер дарованной нам Богом Библии и даже может означать, что чтение Библии — напрасная трата времени. Отношение к библейским текстам об Израиле как к парадигме сохраняет их историческую специфичность и заставляет нас обращать внимание на все грани и странности присутствующей в них земной реальности.
В том случае, если нам удалось охватить всю парадигму и мы учли все тонкости рассматриваемых текстов, мы можем четко сформулировать включенные в нее принципы. Следовательно, принимая парадигму в широком значении матрицы, мы, естественно, говорим о содержащихся в ней принципах, однако важно увидеть то, как все эти принципы вписываются в связное мировоззрение, содержащееся в вере Израиля и каноне Ветхого Завета. Принимая парадигму в узком значении рабочей модели, мы можем четко сформулировать принципы или задачи, которые, как мы полагаем, должны быть воплощены в определенном законе или установлении. Однако, это необходимо делать, не забывая о том, что означает быть Израилем в социальном, экономическом, политическом, международном и религиозном смысле. Следовательно, парадигма помогает связать принципы между собой, понять их значимость, направление и ударение.
Таким образом, хоть понятие парадигмы и включает в себя определение, или озвучивание отдельных принципов, оно не сводится исключительно к этому. Отношение к Израилю или Ветхому Завету как к нравственной парадигме побуждает нас постоянно оборачиваться к строго заданной реальности текста Библии и мысленно жить с Израилем в его мире («обитая в тексте»), прежде чем посмотреть на такую же строго заданную реальность нашего мира или вообразить, как парадигма бросает вызов нашему нравственному решению.
В заключение: предложенный парадигматический метод не может претендовать на какую–либо новизну. Мне представляется, что он вполне соответствует тому, что мы находим в Библии. В Ветхом Завете мы многократно наблюдали, что израильский опыт освобождения — исход — работает как парадигма для различных социальных и нравственных обязательств, возложенных на них. Даже в древнем Израиле это не было вопросом буквального подражания или копирования: Израиль не мог воссоздать исход, разделение моря и прочее для каждого нового социального контекста. Но исход, который отражал характер Господа, несомненно, был парадигмой, призывающей отреагировать на угнетение определенным образом.
Возьмем, к примеру, притчу, рассказанную Нафаном Давиду (2 Цар. 12, 1–10). Сила риторики Нафана состоит в том, что он заставляет Давида поверить, будто он судит реальный случай воровства. Давид принимает решение на основании известного закона: вор (даже если отвратительность поступка заставляет Давида воскликнуть, что он заслуживает смерти) должен возместить за свою кражу вчетверо (Исх. 22, 1). Но затем Нафан использует эту историю как парадигму: «Если таково твое решение на основании этого закона, то сколь большего осуждения заслуживает твое поведение? Если ты, царь, считаешь, что укравший овцу достоин смерти, как думаешь, какой участи заслуживает укравший жену?»
Или возьмем одну из самых известных когда–либо созданных повествовательных парадигм — притчу Иисуса о добром самаритянине (Лк. 10, 30–39). Она вошла в нравственное сознание не только христиан, но и целой культуры, которая выросла на евангельских повествованиях. Здесь интересно отметить две вещи. Во–первых, Иисус рассказал историю как ответ на вопрос о значимости и применении определенного закона — «возлюби ближнего как самого себя» (Лк. 10, 27). Таким образом, повествование, хоть и выдуманное, воплощает закон в парадигматическом аспекте. Во–вторых, Иисус заканчивает беседу многозначительной фразой: «и ты поступай так же». Мне кажется, что это суть того, что я подразумеваю под парадигматическим подходом. Очевидно, Иисус не имел в виду, что молодой законник, задавший ему вопрос, должен нанять осла, купить масло, вино, и все, что необходимо для оказания первой помощи, позаботиться о деньгах для дружелюбных хозяев гостиницы, и немедленно отправиться на дорогу к Иерихону искать жертв разбоя. Слова Иисуса не означали «иди и делай все то же самое». Они говорили о следующем: «Иди и живи так, чтобы твоя жизнь отражала такую же жертвенную и преодолевающую преграды любовь к ближнему, которую иллюстрирует мой рассказ. Это и означает повиноваться закону».
И для нас, христиан, евангельские повествования о жизни Иисуса также предстают в виде парадигм. Евангелия настаивают, что Иисус был человеком, который жил, строил отношения, путешествовал и обучал так, как представлено в рассказах о его служении. Он призывал своих учеников следовать за ним, и Новый Завет различными способами повелевает нам равняться на него (напр., Еф. 5, 2; Флп. 2, 5; 1 Пет. 2, 21 и далее). Но в истории христианства эти призывы редко воспринимались как приглашение к буквальному подражанию всем деталям (как, например, подробности жизни Мухаммеда становятся обязательными для его последователей). Мы не считаем необходимым быть плотниками, носить цельнотканую одежду, жить жизнью странника, не имеющего дома, или проповедовать с лодок. Новый Завет подразумевает нечто более важное в призывах быть подобными Христу.
Однако, с другой стороны, не следует рассматривать евангельские повествования о жизни Иисуса как неуместные для формирования этики, обращая внимание исключительно на его учение (или, что еще хуже, расценивать это учение как вневременные нравственные принципы, которые, как утверждают, Иисус оставил в наследие человечеству). Потому что именно жизнь Иисуса подтверждала его учение, и тем самым приводила в замешательство его врагов, вынося приговор пародии на справедливость, существовавшей в том обществе. Скорее мы склонны подсознательно использовать в своих нравственных решениях пример Иисуса как парадигму, стремясь перейти от того, что Иисус действительно делал, к тому, как Он, по нашим представлениям, поступал бы в нашей, совершенно иной, ситуации. Его образ и характер его жизни, включающий его дела, взаимоотношения, ответы, притчи и другие поучения — становится для нас образцом, или парадигмой, благодаря которой мы испытываем наше уподобление Христу. Один ученый описал этот нравственный отклик на жизнь Иисуса как «определенную универсалию».[47] Он предлагает метод аналогии, очень близкий к тому подходу, который предлагаю я:
Особенное построение элементов в религиозном оригинале служит парадигмой, примером, прототипом и прецедентом, направляющим действия и мотивы христиан в новых ситуациях. Поскольку библейские образцы составляют прочное ядро с неопределенным, неоконченным измерением, нравственный отклик может быть одновременно творческим и точным. Мы используем образец по аналогии, потому что переходим от узнаваемого облика в первом случае к новым ситуациям с определенными ограничениями… Аналогическое воображение требует творческого перехода, потому что, подобно исходу и вавилонскому пленению, евангельские события и поучения — это исторические прототипы, а не мифические архетипы. Парадигма — это нормативный пример важной структуры, который всегда имеет неопределенное, неоконченное измерение.[48]
И, наконец, в посланиях есть примеры парадигматического употребления ветхозаветных текстов. Павел, например, может использовать историю манны в пустыне, чтобы побудить к равенству и справедливому распределению материальных благ среди христиан (2 Кор. 8, 13–15). Или же он может использовать закон, заботящийся о благополучии трудящегося вола, чтобы утвердить право трудящихся пасторов и миссионеров на финансовую поддержку (1 Кор. 9, 8–12).
Обобщим то, что мы узнали из этой главы о важности социального ракурса ветхозаветной этики. Когда человечество решило восстать против Бога и впало в непослушание, высокомерие, соперничество и жестокость, ответом Бога было не просто спасение отдельно взятых людей для некоего бестелесного существования на безопасном расстоянии от проклятой планеты. Бог решил вызвать к существованию на земле и в истории сообщество, которое бы отличалось от окружения, и через которое он в итоге принес бы благословение искупления человечеству в целом. Уже в истории происхождения этого сообщества в книге Бытия мы видим нравственную задачу. В мире, который идет путем Содома, избранный народ должен был следовать путем Господним, творя правду и справедливость. Путь Господень был им ясно показан посредством великих деяний в их истории, в частности, исхода. В дальнейшем сообщество было сформировано законом, данным у Синая, и прочими традициями их веры: пророками, учителями мудрости, псалмопевцами, историками и так далее. Все это было задумано не только для Израиля или для того, чтобы Бог был доволен. Напротив, Израиль — избранное общество — с самого начала был задуман как парадигма или модель для народов, демонстрация того, каким Бог хочет видеть все человеческое сообщество. Так надо расценивать и наше спасение: ожидается, что мы будем использовать социальные модели и законы ветхозаветного Израиля для принятия решений в области социальной этики в своем мире.
Дополнительная литература
Brueggemann, Walter, The Prophetic Imagination (Philadelphia: Fortress, 1978).
_, A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life, ed. Patrick D. Miller (Minneapolis: Fortress, 1994).
Clements, R. E. (ed.), The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
Davidson, Robert, 'Some Aspects of the Old Testament Contribution to the Pattern of Christian Ethics', Scottish Journal of Theology 12 (1959), pp. 373–387.
Freedman, D. N., 'Divine Commitment and Human Obligation: The Covenant Theme', Interpretation 18(1964), pp. 419–431.
Gnuse, Robert Karl, No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel, JSOT Supplement Series, vol. 241 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997).
Gottwald, Norman K., The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel 1250–1050 ВСЕ (Maryknoll: Orbis; London: SCM, 1979).
Hanson, Paul D., The People Called: The Growth of Community in the Bible (San Francisco: Harper & Row, 1986).
Hauerwas, Stanley, A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981).
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1994).
McKenzie, J. L., The Elders in the Old Testament', Biblica 40 (1959), pp. 522–540.
Meeks, Wayne, The Moral World of the First Christians (Philadelphia: Westminster; London: SPCK, 1986).
Pleins, J. David, The Social Visions of the Hebrew Bible: A Theological Introduction (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2001).
Reviv, Hanoch, The Elders in Ancient Israel: A Study of a Biblical Institution (Jerusalem: Magnes, 1989).
Waldow, З. E. von, Social Responsibility and Social Structure in Early Israel', Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), pp. 182–204.
Weinfeld, W, 'The Origin of Humanism in Deuteronomy', Journal of Biblical Literature 80 (i96i), pp. 241–249.
Wilson, Robert R., 'Ethics in Conflict: Sociological Aspects of Ancient Israelite Ethics', in Susan Niditch (ed.), Text and Tradition: The Hebrew Bible and Folklore (Atlanta: Scholars Press, 1990), pp. 193–205.
3. Экономический ракурс
До настоящего времени мы рассмотрели два ракурса ветхозаветной этики. Сначала мы показали богословский ракурс и увидели, насколько важно иметь ясное представление о личности, характере и «биографии» Яхве, Бога Израиля. Затем мы перешли к социальному ракурсу и рассмотрели самосознание Израиля как общины, находящейся в завете с Яхве, народа, живущего среди прочих народов. Теперь мы переходим к третьему ракурсу — экономическому.
Земля, в которой Израиль жил в ветхозаветные времена, имела первостепенное значение в их отношениях с Богом. Она была не просто местом, в котором им выпало жить, или материальной ценностью, важной для ведения сельского хозяйства. Кроме того, она не считалась просто недвижимостью, собственностью, которую можно было продать или купить. Для Израиля земля имела центральное богословское и нравственное значение, и любое описание ветхозаветной этики должно это учитывать. В первую очередь это относится к нам, христианским толкователям, потому что средоточие нашей веры — личность, а не место, Иисус Христос, а не святая земля или святой град. Мы считаем себя интернациональным сообществом, рассеянным по всей земле, и не привязанным к какой–либо территории, которая необходима для нашего спасения и отношений с Богом через Христа. В результате большинство христианских подходов к Ветхому Завету упустили центральную богословскую роль земли. Ее значение мы низвели до фоновых декораций в виде красочных карт в конце наших Библий или иллюстрированных статей в библейских энциклопедиях.[49]
Прежде всего, я предлагаю краткий обзор того, какова была роль земли в ветхозаветных повествованиях, где земля, похоже, становится одним из персонажей сюжета. Затем я рассмотрю две дополнительные темы в израильском богословии земли: божественный дар и принадлежность Богу. С одной стороны, земля принадлежала им по обетованию, как дар от Яхве, с другой стороны, земля все еще принадлежала Яхве, и он отстаивал нравственные принципы ее использования. В заключении я покажу, что земля являлась лакмусовой бумажкой для отношений Израиля с Богом. Таким образом, земля в экономическом аспекте служила мерилом состояния дел в двух других аспектах: жизни Израиля как сообщества и отношениях с Богом.
Земля обетованная. Исторический экскурс
Библейская история спасения начинается с Божьего обетования Аврааму, хотя следует заметить, что пророчество о Божьем искупительном намерении появляется раньше. Так называемое протоевангелие (первое провозглашение евангелия) в Быт. 3, 15 уверяет, что, в конечном итоге, человечество (семя жены) одолеет пришедшее в историю зло (семя змея). Традиционно христиане считают, что это обетование исполнилось в Иисусе, который, будучи человеком (семя жены), одержал победу над властью сатаны (семя змея). Повествование о потопе демонстрирует одновременно и Божий суд над человеческой порочностью и Божью искупительную благодать посредством спасения Ноя в ковчеге. С точки зрения богословия потоп является прототипом обеих сторон Божьей деятельности в отношении проклятой земли: разрушение и обновление. Старый порочный мир погиб, начался новый мир, когда семья Ноя и все животные ступили на гору Арарат. В Быт. 8,15–17 можно услышать отчетливое эхо истории творения. И все же это был тот же старый мир, все еще не омытый от греха, о чем свидетельствует последующее повествование. Тем не менее, вся история становится не только знаком того, что Бог будет верен жизни на земле в продолжение ее существования (засвидетельствованной радугой в завете с Ноем), но и свидетельством грядущего суда и обновления — нового творения (2 Пет. 3, 3–13).
Поэтому не удивительно, что обетование Аврааму, фактически положившее начало делу искупления в истории, включало в себя землю как фундаментальную составляющую обетования (Быт. 12, 7; 15, 7.18–21; 17, 8 и пр.). Если подсчитать количество упоминаний земли в обетованиях патриархам, то она явно занимает главенствующее место. Из сорока шести обетовании в текстах от Бытия до Судей только семь не упоминают о земле, тогда как двадцать девять говорят исключительно о ней (в Быт. 28, 4, например, «благословение Авраама» просто означает обладание землей).[50] Таким образом, земля становится неизменным участником всей последующей ветхозаветной истории.
Как всегда, важно позволить Ветхому Завету говорить к нам не через случайно выбранные отрывки или разделы, но через все повествование. Сделав так, мы сразу обнаружим, что главная тема великой истории, начинающейся в Пятикнижии, продолжающейся в книгах Иисуса Навина и Судей и далее до установления территориальных границ царства Давида, — это исполнение обетования и обладание землей. И напротив, повествовательные и пророческие тексты, описывающие тяжелые столетия монархии, подводят нас к трагической утрате земли и Вавилонскому плену. А в поздних текстах ветхозаветного канона главными темами в пророческом и историческом описании являются возвращение в землю и ее повторное заселение после Вавилонского пленения.
Обетование и ожидание
Пятикнижие создает атмосферу напряженного ожидания земли. Дэвид Клайнс (David Clines) считает обетование земли одной из трех составляющих обетования Аврааму: семени (или потомков), благословения и земли. Предлагая очерк тем всего Пятикнижия, Клайнс показывает, что первая из них (семя — потомство, которое станет великим народом) исполняется в начале книги Исхода: потомки Авраама становятся, как обещано, великим народом. Вторая тема (благословение через отношения завета с Господом) провозглашается исходом и утверждается у Синая. Однако третья тема (обещание земли и обладание ею) остается открытой в Пятикнижии. Таким образом, говорит Клайнс, главная тема Пятикнижия — частичное исполнение обетования Аврааму. Исполнение обетования для народа уже в прошлом — и все еще в будущем. В таком же состоянии народ Божий оказывается к концу Вавилонского пленения, и, можно сказать, на каждом этапе своего странствия с Богом.[51]
Книга Бытия описывает патриархов как странников, не имеющих своей земли, кроме приобретенного с трудом места для погребения (Быт. 23), и завершается описанием поселения всей семьи в Египте. Однако земля не выпала из поля зрения, потому что в конце книги мы слышим исполненные уверенности слова Иосифа о том, что Бог не забыл свое обетование и обязательно исполнит его.
Книга Исхода начинается напоминанием о Божьем намерении исполнить это обетование (Исх. 2, 24; 3, 8.17; 6, 2–8). После того как в ходе знаменательных событий, описанных в первых девятнадцати главах, Израиль был освобожден, организован и связан заветом у Синая, читатель думает, что до завоевания земли (третья составляющая обетования Аврааму) остался последний шаг. Однако прежде необходимо подробно описать все сложные детали убранства скинии, и не один раз, а дважды! Урок понятен в свете молитвы Моисея: присутствие Господа среди Своего народа было более важным, чем дар земли (Исх. 33, 15–16). Без этого присутствия бессмысленно было двигаться дальше. Поэтому книга Исхода заканчивается славой присутствия Бога, сошедшей на скинию собрания и сопровождавшей израильтян во всех их будущих странствиях (Исх. 40, 34–38). Но Израиль все еще не в земле обетованной.
Книга Левит также задерживает повествование, представляя подробное описание законов. Однако в заключительной части книги, которую часто называют Кодексом святости, земля снова возвращается в поле зрения. Многие законы в этой книге написаны для жизни в земле после завоевания. Здесь земля персонифицирована как посредник Божьего благословения или проклятия. Она представлена «извергающей» нынешних обитателей за их беззаконные пути, и повторит это с израильтянами, если те будут подражать им (Лев. 18, 24–28; 20, 22–24). Такое изгнание упоминается в Лев. 26, но вместе с уверением о неизменности обетования, данного патриархам (Лев. 26, 42–45). В этом заключительном обетовании мы снова слышим упоминание о земле, начиная с Божьего воспоминания завета с Авраамом и заканчивая заветом с поколением исхода.
Ожидание земли в книге Чисел подходит к кульминации в истории о соглядатаях, трусости народа, первой неудачной попытке вторжения и печальных десятилетиях, проведенных целым поколением в пустыне (Чис. 13—14). Смогут ли эти люди когда–нибудь захватить Ханаан? Сможет ли когда–нибудь исполниться обетование, данное Аврааму? Однако, в конце концов, тягостные странствия по враждебным территориям подходят к завершению, когда все колена разбили стан в долинах Моава, и осталось только перейти Иордан. Пророчества Валаама уверяют читателя, что Бог благоволит к Израилю. (Чис. 23—24). Но затем предложение представителей колена Рувима и Гада создает напряженный момент в нашем ожидании (Чис. 32). Неужели они совратят весь народ к жизни не на той стороне Иордана? Эта угроза дипломатично решена, и книга Чисел заканчивается на оптимистичной ноте, представляя карту Ханаана, который перекроен так, чтобы дать пристанище победоносным израильтянам, — хотя фактически они еще не овладели землей обетованной.
Читатель ожидает, что в заключительной части Пятикнижия мы наверняка окажемся в земле обетованной. Но нет! Второзаконие начинается и заканчивается в Моаве. Можно сказать, что Второзаконие начинается и заканчивается неудачей — прошлой и будущей. Сначала нам представлено подробное обобщение истории с общим призывом к послушному повиновению в завете (Втор. 1—11). Затем начинается главная часть книги, посвященная закону, — некоторые старые законы изменены, введены новые (Втор. 12—26), но все они говорят о жизни в земле, которую им еще предстоит занять. В конце книги Второзакония сама земля одновременно станет ареной Божьего благословения или проклятия, в зависимости от послушания или непослушания народа (Втор. 28–30). Наконец, после песни и благословения Моисея, Второзаконие завершает всю величественную структуру Пятикнижия трогательным описанием его смерти. Моисей привел свой народ к месту, которое находилось в одном дне пути от земли обетованной, но сам не ступил на нее (Втор. 34). Таким образом, история народа Божьего заканчивается, как и начиналась, с обетования земли Аврааму (Втор. 34, 4)) но это обетование все еще не исполнилось. Гарри Орлински так обобщает центральное место земли в Пятикнижии:
Начиная с Исхода и далее, включая описание богоявления у горы Синай (независимо от даты его написания и редактирования), все законы, связанные с землей, делают ударение на приход и вхождение в землю обетованную, а также на качество жизни сообщества, которое должно жить там. Законы, описанные в Исх. 21 и далее, изготовление скинии и ее принадлежностей (Исх. 25 и далее), ритуальные законы священнодействия (большая часть книги Левит и Чисел) — все это, благодаря их авторам, составителям и редакторам, относилось к созданию и качеству сообщества Израиля после того, как Бог исполнил свою клятву поселить народ в земле, в которой их предки жили как странники.[52]
Расселение и борьба
Книга Иисуса Навина начинается словами, которые читатель уже и не надеялся услышать: «Встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю…» (Нав. 1, 2). Таким образом, главной темой всей книги является земля — вторжение в нее, завоевание и раздел. Заканчивается она так же, как и Второзаконие — обновлением завета (Нав. 23—24), однако теперь обетование земли уже свершившийся факт, а не надежда на будущее. Теперь Израиль обладает землей.
Однако книга Судей говорит, что земля не была захвачена полностью. Земля обетованная становится полем брани, на котором длительные периоды поражений сменяются трудными и кратковременными победами. Мы в ожидании, но уже не того, войдет ли народ в землю, а останется ли он жить в ней.
Первая и Вторая книги Царств говорят о нападении филистимлян, которые поставили под угрозу безопасное владение землей. Последний и величайший из судей, Самуил, одерживает победу и сдерживает натиск филистимлян до тех пор, пока правит Израилем (1 Цар. 7). Однако первый царь Израиля, избранный, чтобы повести Израиль против филистимлян (1 Цар. 8, 20), перед своей смертью становится свидетелем того, как враги народа Божьего проникли в Ханаан, практически разделив землю обетованную пополам (1 Цар. 31). Что же случилось с обещанными безопасными границами земли (Быт. 15, 18–19; Исх. 23, 31; Чис. 34, 1–12)? Только благодаря постоянным победам и долгому правлению Давида Израиль, наконец, зажил мирно в безопасных границах, охватывающих обещанную территорию (2 Цар. 8; 10). Наконец обетование было исполнено.
Злоупотребление и утрата
Однако после этого обетование земли не исчезает из продолжающейся истории Ветхого Завета. Накопившееся в народе бремя угнетения и несправедливости, которое предвидел и о котором предупреждал Самуил (1 Цар. 8, 10–18), проявилось во время правления Соломона и стало государственной политикой при его сыне Ровоаме, когда царство разделилось на две части (3 Цар. 12).
В продолжение столетий после правления Соломона земля становится центром постоянной борьбы между силами угнетения, жадности, эксплуатации, с одной стороны, и протеста пророков, с другой. ВIX веке до P. X. Илия выступил против Ахава и Иезавели после смерти Навуфея (3 Цар. 21). А в VIII столетии Амос поверг в шок Северное царство
Израиля угрозой, которая не встречалась у ранних пророков: Господь изгонит свой народ из земли, отправив их вместе с царями в изгнание (Ам.5,1–6; 6,7; 7,10–17). Пророчество Амоса для Северного царства исполнилось приблизительно через четверть столетия: в 721 году до P. X. ассирийцы разрушили царство. Десять северных племен отправились в рассеяние, из которого они так и не возвратились. В последующие полтора столетия пророки Иудеи — Михей, Исайя, Иеремия — продолжали предупреждать народ о грядущем суде над Иерусалимом. Иеремия мужественно провозгласил эту весть в храме (Иер. 7, 1–15), напоминая о разрушении святилища в Силоаме в доказательство своих слов. Если рассматривать подобные угрозы в свете ортодоксальных догматов веры Израиля в Божье обетование и Божий дар земли, то они выглядели как заговор (и в самом деле некоторые представители иерусалимских правящих кругов отнеслись к Иеремии как к предателю). Тем не менее, подобные предупреждения возвещали все пророки перед рассеянием и до кульминационного события, подтвердившего их слова, — разрушения Иерусалима и изгнания иудеев в Вавилон в 587 г. до P. X.
В этом событии исполнились предостережения закона (Лев. 26; Втор. 28) и угрозы пророков. Поколение израильтян, родившихся после изгнания, осознало, что означает нести приговор Господа и жить без собственной земли. Боль изгнания можно прочувствовать в таких отрывках, как Пс. 136 и Книге Плач Иеремии. Жизнь без земли вряд ли вообще можно назвать жизнью Божьего народа. Иезекииль, живший в Вавилоне с первым поколением изгнанных евреев, записал их слова: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня» (Иез. 37, 11). Они чувствовали себя так, словно находятся в могиле; как поле брани, усыпанное костями после сражения — мертвых, не захороненных, испытывающих на себе Божий гнев. Именно так описывает их Иезекииль в видении о долине сухих костей, которое столь же точно отражало тогдашнее состояние изгнанного народа, сколь захватывающе и оптимистично представляло будущее (Иез. 37, 1–14).
Надежда и восстановление
Несмотря на это, Израиль все еще оставался народом Божьим, хотя и испытывал всю тяжесть проклятия, записанного в завете. Бог не отверг их. Те же тексты, что говорят о суде и утрате земли, говорят о будущем восстановлении народа Божьего в своей земле. Господь не забыл свое обещание Аврааму и не отказался от своего права на землю.
Многие пророки, особенно Иеремия и Иезекииль, в этот тяжелый период укрепляли надежду на возвращение в обетованную землю. Иеремия засвидетельствовал веру в собственную весть смелым приобретением земли у своего родственника Анамеила (осуществляя свое право родственника на выкуп) тогда, когда Иерусалим был уже почти захвачен врагами, а сам пророк находился в темнице (Иер. 32). Сам Иеремия так и не воспользовался купленным участком, а поскольку он не был женат, то не было наследника, которому он мог бы передать ее. Приобретение им надела земли было символическим актом, видимым проявлением его веры в Божье обетование, что после суда и рассеяния «будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: ?это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям'… ибо возвращу плен их, говорит Господь» (Иер. 32, 43–44). Восстановление отношений между Господом и его народом было ознаменовано возвращением народа Божьего в свою землю и описано языком нового исхода (Ис. 43, 16–21; Иер. 23, 7–8). Колесо очертило полный круг.
Суть подобного очерка ветхозаветной истории заключается в том, чтобы показать, что земля — одна из ее главных тем. Она не просто нейтральная сцена, на которой разворачивается драма. Земля в любом из вышеупомянутых контекстов — обетования, завоевания, совместного обладания, использования и злоупотребления, утраты и восстановления — была фундаментом богословия Израиля. История народа Божьего — это история спасения, и мы видели, что социальное устройство Израиля отражало цель и образ искупления. То же самое теперь можно сказать об экономической роли земли в ветхозаветной истории Израиля.[53] Земля также отражала образ искупления, потому что социальное устройство Израиля было тесно связано с экономическими вопросами раздела, владения и использования земли. Следовательно, если земля имела такое большое значение для богословия Израиля, значит, это должно быть важным для ветхозаветной этики. Это я и намерен сейчас показать.
Еще в 1943 году[54] Герхард фон Рад (Gerhard von Rad) выделил две главные концепции земли в религиозных документах Израиля. Он назвал их «исторической» и «культовой» концепцией. Первая была основным исторически сложившимся мнением, встречающимся в Торе и повествованиях, что земля была обещана Господом Израилю и затем в свое время отдана ему. Такое понимание, как мы уже видели, восходит еще к патриархам. Суть второй концепции, которую фон Рад назвал культовой,[55] состояла в том, что земля принадлежала Господу, и он был ее законным хозяином. Таким образом, он подчеркивает различие между «землей Яхве» и «землей обетованной», на что указывает название его статьи. Наиболее ясное утверждение права собственности Господа на землю встречается в Лев. 25, 23: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». Это заявление сделано в контексте установления субботнего и юбилейного года, в которые провозглашается исключительное право собственности Господа на землю. Фон Рад включил в культовую концепцию земли законы, касающиеся первых плодов жатвы, десятин, остатков на полях для нищих и прочее. Все это, говорит он, «несомненно должно истолковываться в свете убеждения, что Яхве — законный хозяин земли и, следовательно, требует признания своего права собственности на ее обитателей».[56]
Эти два аспекта богословия земли в Израиле (божественный дар и божественная собственность) помогают классифицировать некоторые базовые принципы, относящиеся к ветхозаветной этике.[57] В двух последующих главах мы подробнее рассмотрим их практическое значение. Здесь нас интересует общий богословский взгляд на землю, который мы находим в Ветхом Завете. С социологической и идеологической точек зрения в сообществе Израиля в продолжение столетий было не все так просто и однозначно. Норман Хабель находит не менее шести различных идеологических представлений о земле в текстах Ветхого Завета, и отмечает отсутствие между ними какого–либо единства. Он считает, что различные богословские представления обусловлены наличием разных групп в израильском обществе, которые и составляли идеологические «права», оправдывавшие их притязания на обладание землей. Тем не менее, такие отличия вполне могут быть преувеличены.[58] С точки зрения богословия и этики, говоря о земле, мы можем выделить две основные темы: божественный дар и божественная собственность. Их влияние ощутимо во всех книгах ветхозаветного канона в продолжение всей истории народа Божьего. Поэтому к этим двум темам мы теперь и обратимся.
Земля – дар Бога
Как показывает исторический экскурс, обетование земли предкам Израиля и его историческое исполнение в даровании земли их потомкам составляют главную тему Пятикнижия и ранних исторических книг. Израиль получил землю для жительства именно потому, что Господь дал ее. Такое представление о даровании земли оказывало сильное влияние на мышление и жизнь в Ветхом Завете.
Зависимость Израиля от Бога
Во–первых, это было провозглашением зависимости Израиля. С самого начала Аврам был призван оставить свою родину и отправиться в землю, о которой он ничего не знал, пока не добрался туда. Повествования о патриархах рассказывают, что предки Израиля были странниками и пришельцами. Израильтянин, вероятно, подразумевая Иакова, говорил: «Отец мой был странствующий Арамеянин» (Втор. 26, 5). И в самом деле, неизменной чертой израильского самосознания было то, что они начали и продолжали свой путь в истории как «странники и пришельцы».[59] Таким образом, Израиль не мог предъявить исконных прав на свою землю. Они не были «сынами земли». Они обладали землей исключительно благодаря тому, что Бог избрал Авраама и дал ему обетование. Да и само их существование как нации было обязано этому историческому прецеденту. Все это ярко запечатлелось в сознании израильтян во время подготовки к вторжению, как показывает книга Второзаконие.[60] Они не должны были возомнить, что Бог выполняет перед ними какое–то обязательство. Наоборот, они были на Божьем попечении, полностью зависели от его любви и верности. Если они получили в дар землю исключительно по Божьему милосердию, то все остальное тем более зависело от него. Поэтому у них не было причин для превозношения и хвастовства.
Они не могли хвалиться численным превосходством: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы малочисленнее всех народов, — но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою он клялся отцам вашим…» (Втор. 7, 7–8). Кроме того, они не могли хвалиться собственноручно заработанным богатством и тем самым заявить об экономической независимости: «Чтобы ты не сказал в сердце твоем: 'моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие', но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим…» (Втор. 8, 17–18). Менее всего они могли претендовать на какое–либо нравственное превосходство: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим…» (Втор. 9, 5).
Убеждение, что земля подарена, помогало Израилю сохранить правильные отношения с их Богом. К Господу нельзя было относиться так же, как к богам прочих народов: как к номинальному главе их нации или просто защитнику их территории. Без Бога израильтяне вообще не были бы народом и не имели бы никакой земли. Их пребывание на земле полностью зависело от их Господа. Впоследствии они убедились, что непослушание могло бы стать причиной изгнания их с земли, если бы не масштабный Божий план для всего человечества, который должен быть доведен до конца. Зависимость израильтян была абсолютно обоснованной, поскольку покоилась на надежном Боге.
Надежность Бога
Во–вторых, дар земли был провозглашением надежности Бога. Каждая жатва напоминала Израилю об этом. Земля, урожай с которой они собирали, не всегда принадлежала им. Было время, когда они и вовсе отказывались от нее, о чем с горечью напоминали рассказы о ропоте в пустыне. Но Господь исполнил свое обетование праотцам, даже несмотря на их упрямство. Надежность Господа не знала пределов: «Ибо вовек милость его» (Пс. 135).
Сила веры в надежность Господа ощутима не только в поклонении, но и во многих вероисповедных утверждениях, которые произносил израильтянин, принося первые плоды своего урожая в святилище. Стоит ощутить этот символ веры в его полноте. После указаний принести корзину с плодами к алтарю, ему сказано следующее:
Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный; но Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы; и возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше; и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед; итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне.
(Втор. 26, 5–10)
Хотя поводом для такого заявления была благость Бога, выраженная через плодоносность природы, но ударение стоит на верности и силе Бога, контролирующего историю. Кульминация этого публичного возвещения — дар земли, потому что земля была главным, осязаемым доказательством надежности Господа. В нескольких лаконичных фразах израильтянин напоминал себе историю, которая охватывала несколько столетий и все же стала полностью современной благодаря урожаю, который он только что собрал. И он мог объединить всю эту историю и урожай в единой теме исполнения Божьего обетования в даровании земли. Это было величайшим видимым доказательством надежности Бога Израиля. (Если бы наши христианские праздники жатвы содержали такое же ощущение истории и верности Божьей искупительной цели!) Именно поэтому Господь был Богом, достойным послушания.
Реакция Господа на поведение людей была последовательной и предсказуемой, а не произвольной прихотью. Ему можно было угодить, но не ублажить. Сама земля своим существованием, как контекст истории Израиля, ежедневно провозглашала, что Господь был Богом, исполняющим свои обетования. Господь был надежным и верным.
Подтверждение заветных отношений
В третьих, объединяя оба упомянутые выше пункты, дарование земли служило подтверждением отношений Бога с Израилем. Израильтяне знали, что являются народом Яхве потому, что он даровал им свою землю. И этот дар утверждал отношения, скрепленные заветом с Авраамом и заветом, заключенным у Синая со всем народом. Как отмечает Гарри Орлински, земля была «краеугольным камнем завета Бога с Израилем».[61]
Еще одним способом, с помощью которого выражались данные отношения, было использование понятия наследие для описания земли. Еврейское словоnahala от корня глаголаnhl, говорит обо всем, что является законной частью; чем–то, что принадлежит человеку по праву. В Ветхом Завете слово используется в контексте взаимоотношений Господа, Израиля и земли. Чаще всего упоминается, что земля принадлежит Израилю (Пс. 104, 11). Но иногда можно прочесть, что земля принадлежит Господу (Исх. 15, 17; 1 Цар. 26, 19; Иер. 3, 19). Израиль также принадлежит Господу (Втор. 32,8–9; Пс. 32,12). И иногда — поразительная перестановка — Господь принадлежит Израилю (Иер. 10, 16; ПлачЗ, 24).[62]
В контексте семейных отношений это понятие говорит о наследии, которое передается от отца к сыну или сыновьям. Таким образом, если говорить о земле как о наследстве Израиля метафорически, это подразумевает сыновние отношения Израиля и Бога. Интересно, что в повествовании об исходе Бог говорит об Израиле как о «своем первородном сыне» (Исх. 4, 22), которого он требует освободить из плена, намереваясь привести его в землю обетованную. Ситуация в Египте была невыносимой. Зачем первородному сыну Господа изнывать в чужой стране, когда его ожидало собственное наследие? Язык наследования не часто встречается в книге Исхода (ср. 15, 17; 32, 13), но он выходит на передний план в книге Второзакония. Слово, которое часто переводится как «давать в удел», «отдать во владение», часто употребляется в связи с наследием. В некоторых отрывках земля прямо называется наследием (Втор. 4, 21.38; 12, 9; 15,4; 19, 10; 26, 1), а в других Израиль назван сыном Божьим или потомком (Втор. 14, 1; 32, 5–6.18–19; и метафорически Втор. 8,5). Язык межличностных отношений звучит достаточно сильно.
Подобно тому как дар земли был Божьим делом и никак не был связан с заслугами народа, так же обстоит дело и с его усыновлением. Израиль принадлежал Богу не потому, что народ избрал его, а потому, что Господь родил их (Втор. 32, 6.18).
Совершенно ясно, что Израиль стал сыном Яхве не в результате своего выбора или поступка. Их статус и все, что с ним связано, ни в коем случае не зависели от действия или заслуг Израиля. Израиль — первородный сын Яхве только потому, что он вызвал их к существованию как нацию, точно так же они народ Божий только по той причине, что Яхве 'излил свою любовь' на них и избрал их для себя
(Втор. 7, 6–7).[63]
Здесь мы видим близкую взаимосвязь между богословием земли Израиля (экономический ракурс) и их уникальными отношениями с Богом (богословский ракурс). Одно является видимым проявлением другого.
Имущественное право
В–четвертых, именно историческая традиция дара земли дала начало понятию имущественного права в Израиле. Мы уже отчасти видели это в приведенном выше отрывке о празднике жатвы. Израильский крестьянин говорит о «начатках плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне». Не «нам», а «мне». Израильтянин понимал, что земля не только достояние народа (хотя то же, например, говорится во Втор. 19, 3; Иез. 35, 15 о национальной территории). Концепция национальной территории включала землю, которой владел от имени народа царь — их представитель (в ханаанской системе цари владели землей небольших городов–государств, которыми управляли). Но израильтяне противились такой концепции. Идея дарования земли просочилась, если можно так выразиться, до самого низшего социального слоя, так что каждое отдельное семейство могло утверждать, что их право на землю гарантировал сам Господь. Таким образом, как в отношении небольших наделов земли, принадлежавших каждому семейству, так и в отношении территории целых племен или всей нации использовалась терминология наследия или собственности. Эти небольшие семейные участки также считались даром Божьим.
Такой принцип лежит в основе текстов Чис. 26 и 34, а также Нав. 13—19, которые описывают раздел земли. Об этом неоднократно упоминается как о разделе «по племенам их», то есть по подгруппам семейств в составе колена. Для нас эти подробные списки распределения земли могут показаться скучными, но для Израиля они имели важное значение: земля должна быть разделена беспристрастно, чтобы каждое семейство имело свою часть в общенациональном наследии. Господним даром земли своему народу должны были воспользоваться все люди, владея гарантированными наделами земли, принадлежащими семействам Израиля. Следовательно, права собственности зиждились не на естественном праве, коммерческих сделках или грубой силе. Они основывались на богословии дара земли. Земельные участки были наделами божественного дарителя, и, таким образом, управлялись по доверенности от Бога.
Именно это убеждение лежит в основе реакции Навуфея на предложение царя Ахава, которое кажется нам достаточно безобидным. Ахав предложил Навуфею продать свой виноградник или обменять на другой участок земли. Но реакция Навуфея была резкой: «Сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!» (3 Цар. 21,3). Восклицание дословно вторило словам Бога. Господь действительно запретил это.[64] Этот участок земли на самом деле не принадлежал Навуфею, чтобы он мог подарить, продать или обменять его. Он получил его в пользование от Господа ради блага своей семьи. Это не было просто вопросом прав человека или естественной справедливости. Это было непреклонное соблюдение права члена народа Господня отстаивать ту часть национального наследия, которую Господь выделил для его собственного семейства. Знаменательно, что единственным способом, благодаря которому Ахав мог заполучить виноградник, было ложное обвинение Навуфея в богохульстве — преступлении, из–за которого тот лишался права принадлежать Божьему народу. Его побили камнями, а землю конфисковали (3 Цар. 21, 11–16). Весь инцидент показывает, насколько тесно обладание наделом земли связано с личной принадлежностью к завету.
Гнев пророков
В–пятых, убежденность в том, что земля была даром Господа, является причиной выступлений пророков против экономической эксплуатации. Продолжение упомянутого выше случая с Навуфеем хорошо иллюстрирует это. Едва улеглась пыль после побития Навуфея камнями, как Илия обрушился на Ахава, когда тот уже осматривал свое несправедливо добытое владение. Весть Илии была резкой и простой: Бог гневается на твое коварное преступление и накажет тебя подобным же образом (3 Цар. 21, 17–22). Яхве дал Израилю землю, чтобы она была местом, где крестьяне, подобные Навуфею, могли бы жить в безопасности. Ахав и Иезавель, уничтожив Навуфея, попрали этот принцип и заменили его ханаанским обычаем, согласно которому монарх мог взять все, что ему захотелось. К сожалению, судьба Навуфея стала одной из многих, как показывает последующая история. Как и предсказывал Самуил (1 Цар. 8, 10–18), цари отнимали землю и отдавали ее своим слугам. Появилась богатая царственная элита, которая все больше попирала традиционную израильскую систему неотчуждаемого семейного владения землей. Все большее количество людей лишалось своих потомственных земель и ввергалось из–за бремени долгов в состояние рабства на земле, которая когда–то принадлежала им, а теперь находилась в руках богатого и властного меньшинства. Выступив в защиту обездоленных, пророки беспощадно обличали коррупцию и рабскую эксплуатацию. Вот что пророки говорили от имени Господа, Бога, который даровал землю:
Горе замышляющим беззаконие
и на ложах своих придумывающим злодеяния…
Пожелают полей и берут их силою,
домов, — и отнимают их;
обирают человека и его дом,
мужа и его наследие.
(Mux. 2, 1–2)
'
Горе вам, прибавляющие дом к дому,
присоединяющие поле к полю,
так что другим не остается места,
как будто вы одни поселены на земле.
(Ис. 5, 8)
В каком бы месте вы ни открыли книги пророков, такое возмущение экономической несправедливостью упоминается либо прямо, либо косвенно. В свете представленных выше принципов мы можем видеть, что такая пророческая весть исходила не только из общей обеспокоенности правами человека, хотя для всех абсолютно очевидно, что происходившее было явно несправедливым и чудовищным. Это даже не столько экономическая проблема, сколько глубоко духовная. Все, что угрожало экономической жизнеспособности семьи или лишало их части Господней земли, было угрозой принадлежности этой семьи к народу завета. Утрата земли была не просто экономической катастрофой, она касалась самих отношений людей с Богом.[65]
Однако наибольшее возмущение пророков вызывало то, что сами израильтяне столь немилосердно угнетали своих же собратьев. Самым ужасным было то, что для этого они использовали землю, величайший знак всеобщего Божьего благословения. Одна часть народа Господня отнимала у другой то, что было даром Господа и правом каждого израильтянина: свободу и землю. Такая внутренняя эксплуатация была запрещена законом на основании равенства всех израильтян как освобожденных Богом рабов (Лев. 25, 42–43.53–55). Но теперь беззащитных и слабых враг уничтожал изнутри.
Народ же, который был прежде моим,
восстал как враг…
Жен народа моего вы изгоняете
из приятных домов их;
у детей их вы навсегда
отнимаете украшение мое.
(Mux. 2, 8–9)
Экономическая эксплуатация — это нравственное зло, которое можно осудить на том основании, что все люди одинаково созданы Богом (о чем говорится в Притч. 14, 31; 17, 5). Но когда эксплуататор и его жертва — члены одного народа Божьего, и когда средства эксплуатации — высший дар Бога своему народу, тогда зло проявляется «во всей своей красе», и верность пророческих обвинений становится очевидной.
Земля — собственность Бога
Циник может испытывать соблазн сбросить со счетов пророческое осуждение, говоря, что если земля подарена Израилю, то народ волен делать с ней все, что захочет, и даже злоупотреблять этим. На это можно дать два ответа.
Дарственная завета
Во–первых, недостаточно просто сказать, что Господь даровал землю Израилю, не учитывая контекст дарования, то есть — завет и взаимные обязательства. Земля была основным свидетельством не только верности Господа своему народу, но также обязанностей Израиля перед Господом согласно завету. Гарри Орлински подчеркивает этот тезис (хотя использование им понятия «контракт» в отношении завета вносит некоторые ненужные оттенки).
В соответствии с заветом, который Господь заключил с патриархами, а также с Израилем, каждая из сторон контракта поклялась его исполнять. Бог даровал народу землю Ханаанскую. Однако, это не «нечто, подаренное безвозвратно, что–то, чем можно распорядиться по собственному усмотрению»… Еврейская Библия представляет завет как… вполне правовой и обязательный обмен обязательствами и вознаграждениями для каждой из двух договаривающихся сторон. Если Бог становился божеством исключительно Израиля, если он даровал землю Ханаанскую только ему, то народ, в свою очередь, должен был признавать только Бога и поклоняться только ему, и никакому другому популярному божеству, каким бы могущественным и притягательным оно ни казалось. Это торжественное соглашение Бога и Израиля не было подарком без каких–либо условий как со стороны Бога, так и патриархов или Израиля; наоборот, это был нормальный и обоснованный пример взаимных уступок, принятых для любого контракта, заключаемого сторонами по доброй воле.[66]
Более того, Орлински доказывает, что глаголnatan, который обычно переводится «давать», часто имеет более узкое значение «передавать, передавать по договору, передавать права», когда используется со словом земля. Бог передал землю Ханаанскую Израилю как часть псевдоюридического соглашения, заключенного посредством завета с Авраамом и затем с Израилем у Синая. Это был не просто произвольный и безусловный дар, но правомочный акт дарения, составлявший, отныне и впредь, часть всего комплекса их отношений. Следовательно, от Израиля, обладавшего в рамках завета даром, требовалось исполнение обязательств перед дарителем.
Земля Яхве
Во–вторых, акт дарения земли Израиль не мог расценивать как право на ее произвольное использование, потому что земля все еще принадлежала Яхве. Он сохранил высшее право владения и, следовательно, право нравственной власти над тем, как ее использовать. Намек на это божественное обладание землей встречается в одном из самых ранних произведений израильской поэзии — песни Моисея в Исх. 15. В ней восхваляется чудо исхода и предвосхищается приход в землю, которая описана как (в обращении к Богу) «жилище святыни твоей» (Исх. 15, 13), «гора достояния твоего» (Исх. 15, 17) и «место, которое ты сделал жилищем себе, Господи» (Исх. 15, 17). Другими словами, земля Ханаанская, в которую Господь собирался ввести Израиль, уже принадлежала Господу (а не богам живших там народов). Еще одна ранняя поэма упоминает «землю свою и народ свой» (Втор. 32, 43), вновь говоря о Господе как о хозяине земли.
Однако наиболее ясное утверждение о божественном обладании землей встречается в Лев. 25, 23. Там Господь заявляет: «Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у меня». В этом стихе интересно описание отношений израильтян с Господом в связи с землей. Понятие «пришельцы и поселенцы»(gerim wetosabim) обычно относилось к классу людей израильского общества, которые не имели собственной земли, и были либо потомками прежнего ханаанского населения, либо рабочими–эмигрантами. Подобные безземельные люди были полностью зависимы от израильского семейства, которое владело землей и давало им возможность там жить. До тех пор, пока семейство было экономически жизнеспособным, положение таких зависимых людей было безопасным. Но без подобной защиты они становились очень уязвимыми. Именно поэтому в законе часто говорится о добром и справедливом отношении к пришельцам.
В Лев. 25, 23 Господь представляет себя в качестве землевладельца, а израильтян как зависимых от него поселенцев. До тех пор, пока поддерживались их отношения, и предоставлялась его защита, они были в безопасности. Но если они восставали против его власти, он отнимал защиту, и израильтяне должны были быть готовы пожинать последствия: они вновь могли стать безземельными странниками. Вывод был ясен: «Будьте осторожны с тем, что вы делаете на моей земле и как вы с нею обращаетесь». Таким образом, социально–экономический феномен (зависимые работники в израильских семействах) был использован для образного описания богословских отношений (между Израилем как поселенцами и Господом как землевладельцем). Израильтяне обладают землей (они занимают и используют ее); однако земля принадлежит Господу. Следовательно, подобно всем поселенцам, израильтяне были подотчетны своему божественному хозяину, пользуясь его собственностью.
Еще одним способом рассмотреть притязания Бога на землю является сравнительный анализ с другими системами землевладения в некоторых существующих в то время культурах. В доизраильском Ханаане, например, всей землей владел царь, и его подданные жили и возделывали ее в качестве зависимых поселенцев, обычно обложенных тяжелым бременем налогов (ср. описание Самуила в 1 Цар. 8, 11–17). В израильском сообществе человеческая власть, которая могла привести к неравенству и угнетению, была недоступна отдельному человеку или группе людей, и только Бог мог претендовать на нее. Вся земля принадлежит Господу и поэтому только Господь имеет право требовать зависимости своего народа. Под господством человеческого царя–землевладельца народ был угнетаем. Под господством Бога–землевладельца израильтяне жили в свободе и равенстве.[67]
Ответственность израильтян
Равенство искупленных братьев, ныне рабов Божьих, неоднократно подчеркивается в Лев. 25. Если Господь — единственный хозяин земли, тогда ни один израильтянин не может относиться к земле так, будто она принадлежит ему, в том смысле, что он может делать с ней, что заблагорассудится. Он также не мог претендовать на землю другого израильтянина, кроме как по закону наследования и родства. Даже царь — всего лишь поселенец в земле Господа! Царь Ахав всего лишь поселенец, такой же, как крестьянин Навуфей.
Таким образом, выясняется, что концепция земли как божественного дара, с одной стороны, породила список прав народа и каждого человека в отдельности, а с другой — как божественной собственности — породила широкий спектр обязательств. Эти обязательства можно разделить на три категории: обязательства непосредственно перед Богом, обязательства перед своей семьей, обязательства перед ближним. Обязательства пред Богом за землю включали десятину, начатки плодов, прочие законы об урожае и закон о субботе, в той части, что относилась к земле: субботний год, возвращение долговых залогов и юбилейный год. Обязательства перед семьей включали фундаментальный закон неотчуждаемости, то есть землю нельзя было продавать и покупать на коммерческой основе, она оставалась в пределах рода. Этот принцип затем усилился прочими обязательствами перед родством, прямо или косвенно связанными с землей: процедуры выкупа, правила наследования и левиратного брака. Обязательства перед ближним включали массу гражданских законов, касающихся нанесения ущерба или небрежности в отношении собственности, мер предосторожности, уважения к целостности границ, щедрых остатках от жатвы, честном обхождении с наемными рабочими и даже рабочим скотом. Мы рассмотрим некоторые из этих законов и их применение в христианской этике более подробно в пятнадцатой главе.[68]
Тот факт, что такое большое количество подробных предписаний закона, связанных прямо или косвенно с землей, подпадают под эту категорию, говорит, что это самый всеобъемлющий из нравственных и богословских принципов. Убеждение, что земля принадлежит Господу и он требует от поселенцев отчета о ее использовании, делает землю центральным мотивом ветхозаветной этики. Все, что вы можете сделать в земле, на земле или с землей, подпадает под Божью нравственную оценку. Включена каждая сфера жизни, от главных вопросов защиты национальной территории до того, как вы обрезаете плодовые деревья. Основанная на таком принципе, выраженном столь просто (земля принадлежит Господу), ветхозаветная этика может быть одновременно всеобъемлющей и при этом глубоко практичной и конкретной. Это, в свою очередь, придает огромную парадигматическую силу данному измерению ветхозаветных текстов.
Земля — эталон завета
Теперь, после того как я очертил главные особенности богословия земли в Ветхом Завете, мне необходимо определить функцию, которую она осуществляла в рамках схемы нашего базового треугольника. Какова роль экономического ракурса в нашем целостном понимании ветхозаветной этики? Его функцию можно описать как мерило, или измерительный стандарт жизнеспособности двух других ракурсов. То есть экономическая область подобна лакмусовой бумажке, которая показывает, какие отношения у Бога с Израилем (ракурс А), а также то, насколько социальное устройство в Израиле соответствует статусу искупленного народа Божьего (ракурс В).
Земля и Бог
С точки зрения богословского ракурса показано, что в раннем Израиле осуществлялась продолжительная борьба с целью помочь израильтянам осознать, что Яхве, победоносный Бог их истории спасения, дал им землю, и от него зависит плодородие и урожайность. Склонность считать Ваалов, прежних божеств земли, ответственными за блага в экономической сфере, оказалась неизжитой со времени вторжения и до рассеяния.
Об этой проблеме напрямую говорил Осия, хотя она встречается уже во время Илии и длится до времени Иеремии. Говоря о прелюбодеянии Израиля с Ваалами как с «любовниками» и осуждая израильтян за приписывание богам Ханаана того, что на самом деле они получали от Господа, Осия заявляет:
Ибо говорила: «Пойду за любовниками моими,
которые дают мне хлеб и воду,
шерсть и лен, елей и напитки»…
А не знала она, что я,
я давал ей хлеб и вино и елей…
(Ос. 2, 5.8)
Ирония была в том, что Израиль явно не воспринимал это как вероломство по отношению к Господу. Разве они не поклонялись
Господу, соблюдая все установленные им праздники, субботы и тому подобное (Ос. 2, 11)? Однако такое поклонение было пустым, формальным. На самом деле оно мерзко для Бога, потому что исключало его из экономических реалий повседневной жизни. Господь не довольствовался ролью Бога истории и праздников. Господь был Богом земли и всего, что связано с ней. Поэтому то, насколько искренно и честно народ принимал Божью власть над ними, измерялось признанием всевластия Бога в экономической, а также религиозной сфере. Если представить это в виде треугольника, богословский ракурс не завершен до тех пор, пока стороны АС и АВ не соединятся под исключительной властью Господа. Отсутствие почитания Бога в материальной сфере не может быть компенсировано за счет религиозности в сфере духовной. Верность завету требовала подчинения во всех сферах человеческой жизни, как на земле, так и у алтаря.
Не следует полагать, что в Ветхом Завете были иллюзии относительно того, что такое экономическое повиновение Богу было простым. Праздновать победы Бога в прошедшей истории — это одно. Доверять его могуществу произвести будущий урожай — другое. А вот совсем иное — верить, что он способен позаботиться о вас и вашей семье, обеспечивая всем необходимым на протяжении года (если вы повинуетесь закону о субботнем годе и не засеваете поле) или двух лет, если выпадает два свободных от посева года на юбилейный год (Лев. 25, 18–22). Сможете ли вы позволить себе отпустить своего раба, сельскохозяйственную рабочую силу, по истечении шести лет, да еще щедро одарив его от своего имущества, скота и овощей (Втор 15, 12–18)? Разве вы не имеете права максимально взять от своих полей и виноградников, не оставляя ценных остатков другим (Втор. 24, 19–22)? Сможете ли вы простить долг по истечении шести лет (Втор. 15, 1–11)? Разве ваша семья не пострадает, если вы выкупите землю и будете заботиться о работниках одного из своих разорившихся родственников (Лев. 25, 35–43)?
Весь спектр экономических требований в Ветхом Завете строился на доверии владычеству Бога над природой и готовности повиноваться ему, несмотря на вопросы, которые упомянуты выше (Лев. 25, 20; Втор. 15, 9).
Земля и народ
Что касается второго ракурса — социального устройства Израиля — то его наибольшие отличия можно рассматривать с экономической точки зрения. В последней главе мы видели, что учреждение монархии скомпрометировало это отличие. Но монархия сама по себе не была абсолютно порочной, поскольку царь мог продолжать жить по закону Божьему и руководить народом в соответствии с Божьими принципами. Иеремия призывал к такому руководству престол Давида даже во времена поздней монархии (Иер. 22, 1–5). С точки зрения богословия, монархия, человеческое происхождение которой хоть и запятнано грехом и отступлением, стала инструментом новых идей и ожиданий в царственных отношениях Господа со своим народом и его будущей мессианской цели для них (см. седьмую главу). Именно в экономической сфере пагубные последствия монархии исказили особенное социальное устройство Израиля, что и предвидел Самуил (1 Цар. 8,11–17) и что столь разрушительно сказалось на народе в последующие столетия.
Мы уже видели некоторые из этих экономических последствий и реакцию пророков на них. Рассматривая ситуацию с точки зрения Бога, пророки осознавали трагедию, происходившую с народом Божьим. Народ, который позволил подвергнуться такому же экономическому злу, которое характерно для окружающих народов, не мог быть «светом для народов». Если социальный образ израильского народа стал таким же, как у народов, которые не имели Божьего завета и закона, то Израиль уже не мог быть парадигмой искупленного народа. Хуже — он терял всякую нравственную надежность, если опускался ниже уровня парадигм нечестия — Содома и Гоморры. К этому сравнению обращался не один пророк. Иезекииль относит Иудею и Содом к одной семье, называя сестрами, и заявляет: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала» (Иез. 16, 49) - исчерпывающий социально–экономический анализ. Далее он повергает в шок тем, что говорит об Иудее: «Ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя…» (Иез. 16, 51). Не забывайте, что среди сестер — Содом\
Мы видим, что экономический ракурс служил мерилом соответствия Израиля социальной парадигме искупления, которая была целью Бога. Пророки просто не позволили бы Израилю остаться безнаказанными и рассчитывать на благословение и защиту в рамках заветных отношений для своего сообщества, в то же самое время попирая социально–экономические требования этих отношений (ср. Иер. 7, 1–11).
Итак, я обобщу сказанное в этой главе. История спасения в Ветхом Завете не является духовной, мистической или абстрактной. Подобно тому, как Бог изначально создал людей для жизни на земле, он планировал, что его народ — Израиль, инструмент обетования в благословении человечества, будет иметь землю для жительства. Таким образом, земля играла значимую роль во всей истории ветхозаветного Израиля.
В самом деле, история народа Божьего в Ветхом Завете — это история земли, обетования, дарования, злоупотребления, потери и восстановления. Мы видели, что у Израиля было два фундаментальных убеждения в отношении своей земли: божественный дар и божественная собственность. С одной стороны, она была дарована им Господом; поэтому они безопасно владели ею при условии, что оставались в рамках завета с ним. Но, с другой стороны, она оставалась в руках Господа, поэтому они были нравственно подотчетны ему в использовании земли. Таким образом, вся сфера экономической жизни Израиля функционировала как мерило, или измерительный стандарт их верности (или неверности) требованиям завета Божьего. Поэтому нам следует учитывать экономический ракурс в нашем подходе к этике Ветхого Завета.
Дополнительная литература
Brueggemann, Walter, The Land (Philadelphia: Fortress, 1977).
Habel, Norman C, The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies (Philadelphia: Fortress, 1995).
Janzen, Waldemar, 'Land', in Freedman, Anchor Bible Dictionary, vol. 4, pp. 144–154.
Johnston, P., and Walker, P. (eds.), The Land of Promise: Biblical, Theological and Contemporary Perspectives (Leicester: IVP; Downers Grove: InterVarsity Press, 2000).
Miller Jr, Patrick D., 'The Gift of God: The Deuteronomic Theology of the Land', Interpretation 23 (1969), pp. 454–465.
Orlinsky, Harry M., 'The Biblical Concept of the Land of Israel: Cornerstone of the Covenant between God and Israel', in L. A. Huffman (ed.), The Land of Israel: Jewish Perspectives (Notre Dame: Notre Dame University Press, 1986), pp. 27–64.
Rad, G. von, 'Promised Land and Yahweh's Land', in The Problem of the Hexateuch and Other Essays (New York: McGraw Hill; London: SCM, 1966), pp. 79–93.
Weinfeld, Moshe, The Promise of the Land: The Inheritance of the Land of Canaan by the Israelites (Berkeley: University of California Press, 1993).
Wright, Christopher J. H., God's People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1990; Carlisle: Paternoster, rev. ed., 1996).
_, "eres', in VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 1, pp. 518–524.
_, 'nhl', in VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 3, pp. 77–81.
Часть II. Темы ветхозаветной этики
4. Экология и вопросы земли
В третьей главе мы видели, что израильтяне не должны были распоряжаться землей, как им заблагорассудится. Хотя она и была подарена им, все же продолжала оставаться собственностью Яхве. Он был землевладельцем, а они — его поселенцами. Такие взаимные отношения предполагали наличие прав и обязанностей в экономической сфере жизни Израиля на земле. Божественное право собственности и божественный дар — вот два фундаментальных богословских положения, которыми руководствовался Израиль в отношении жизни на земле.
Подход к этике Ветхого Завета, предлагаемый в данной книге, побуждает нас посмотреть на эту тему шире. Он приглашает нас выйти за рамки народа Божьего и его земли и рассмотреть этот вопрос в контексте всего человечества, населяющего планету Земля. Таким образом, искупительный треугольник — Бог, Израиль и земля — следует рассмотреть в более широком контексте треугольника творения: Бог, человечество и земля. В результате мы сделаем удивительное открытие — те же два положения, что касались земли Израиля, относятся и к земле в целом: божественная собственность (земля принадлежит Богу, Пс. 23, 1) и божественный дар (земля дарована человечеству, Пс. 114, 16). Это двойное заявление должно стать основанием для обсуждения экологического измерения ветхозаветной этики в этой главе.
Но есть ли на самом деле такое измерение? Экологические вопросы, без сомнения, занимают ведущее место среди прочих современных проблем. Нам приходится иметь дело с ужасными последствиями массового загрязнения, уменьшением озонового слоя, выбросами углекислого газа и глобальным потеплением, уничтожением среды обитания и исчезновением видов, вырубкой лесов и эрозией почв, а также прочими жуткими последствиями эгоистичного отношения людей к окружающей среде. Масштабы наносимого вреда не были известны миру, в котором жил древний Израиль. Поэтому может ли Ветхий Завет сказать что–либо об экологии как о нравственной проблеме? Библейски настроенные христиане с готовностью заявили бы, что может. Однако Сирил Родд (Cyril Rodd) полагает, что это еще один пример того, с какой легкостью мы приписываем Ветхому Завету свою богословскую программу, что абсолютно неправомочно и приводит к искажениям.
Родд предлагает отличный обзор работ разных авторов, размышлявших об экологическом кризисе в свете библейского и, в особенности, ветхозаветного учения.[69] Он восторгается их страстным посвящением заботе об окружающей среде, и заявляет, что присоединяется в этом к ним. Однако он не считает, что они правомерно используют Ветхий Завет. Согласно Роду, такая обеспокоенность окружающей средой просто не была присуща древним израильтянам:
Практически все эти исследования… пытаются превратить ветхозаветных авторов в защитников окружающей среды конца XX столетия. Но дело в том, что они ими не были. Необходимо заявить, и как можно убедительней, что вопрос охраны окружающей среды не приходил им на ум. Утверждать это не означает отвергать глубокое ощущение красоты и загадочности природного мира в Ветхом Завете, либо того, что он считался миром Божьим. Плодородие земли обетованной зависело от благости Божьей, каким бы это ни было идеалистичным. Я заявляю, что не существует явного повеления заботиться об окружающей среде, потому что никому в древнем Израиле не приходило в голову сделать такой призыв. Такое требование может косвенно присутствовать в повествованиях о сотворении и «вселенском завете», но вряд ли когда–либо (если вообще) в Ветхом Завете человека побуждают предпринять активные меры по охране природы.[70]
Однако это требование содержится в повествованиях о сотворении, особенно в призыве обладать землей (Быт. 1) и хранить ее (Быт. 2). Считается, что ударение делается на первом (обладании землей) ввиду того, что сельскохозяйственные трудности по обрабатыванию земли, проведение ирригации и защита от диких зверей, конечно же, больше беспокоили израильских крестьян. Однако количество отрывков, восхваляющих творение и роль человека в нем, ясно демонстрирует излишнюю категоричность позиции Родда. Здесь встает также герменевтическая проблема: следует ли нам, обращаясь к Ветхому Завету, ограничиваться исключительно теми проблемами, которые были актуальными для древних израильтян, или же лучше рассматривать вопросы, ставшие важными для нас сегодня, в свете нравственных норм и ценностей, направлявших израильтян в решении их проблем. Мне представляется, что именно последний путь нам следует избрать, если мы убеждены в непреходящей нравственной ценности и авторитете Ветхого Завета.[71] Посмотрим, чем могут помочь нам два общих принципа в обсуждении экологической проблемы. Какое нравственное значение имеет вера в то, что земля принадлежит Господу, Богу Израиля? Какова ответственность человечества по отношению к творению в свете того, что Бог Творец, в определенном смысле, передал землю в руки людей? Нам необходимо оценить последствия грехопадения для природы, его влияние на треугольник отношений: Бога, человечества и земли. И, наконец, мы должны увидеть, что Ветхий Завет говорит о будущем, об эсхатологической судьбе творения. Где и когда все это закончится?
Земля и Бог
Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней.
(Втор. 10, 14)
Утверждение о том, что Господь, Бог Израиля, владеет всей вселенной, звучит эхом в знакомом утверждении Пс. 23, 1: «Яхве принадлежит земля и полнота ее» (перевод автора), и в менее известном заявлении самого Бога, с которым он обращается к Иову в контексте перечисления величественных дел творения: «под всем небом все Мое» (Иов 41, 3). Следовательно, земля принадлежит Богу, потому что он сотворил ее. Следует упомянуть несколько измерений такой веры в творение, поскольку они имеют важное нравственное значение.
Благость творения
Благое творение — одна из наиболее ярких и часто повторяющихся тем Быт. 1 и Быт. 2.[72] Шесть раз в повествовании Бог объявляет свое дело «хорошим». Подобно главному шеф–повару, предлагающему гостям роскошное застолье из множества блюд, Бог смакует каждый деликатес из своей творческой мастерской, пока после главного блюда, во время седьмого и завершающего вердикта, Бог не объявляет, что «все хорошо весьма». Вся восхитительная еда была торжеством навыков и искусства шеф–повара.[73] Это простое повторяющееся утверждение может иметь ряд значений.
Во–первых, благое творение может быть делом только благого Бога. Уже это отличает еврейское повествование о сотворении от древних ближневосточных повествований, в которых начальства и боги естественного мира враждебны друг другу, а различные элементы естественного устройства появляются в результате этой враждебности. В Ветхом Завете естественное устройство по своей сути и происхождению благое, как дело единого благого Бога — Яхве. Значение благости творения в Библии отчасти состоит в том, что оно свидетельствует о Боге, сотворившем его, отражая одну из сторон его характера (например, Иов 12,7–9; Пс. 18, 29; 49,6; 64; 103; 148; Деян. 14,17; 17,27; Рим. 1,20). Книга Притчей говорит: «Кто теснит бедного, тот хулит творца его» (Притч. 14, 31; ср. 17, 5, потому что бедный — также человек, созданный по образу его творца). Аналогично: «Кто уничтожает или разрушает землю, тот порочит своего творца» (потому что земля — часть творения, несущего печать благости Бога).
Во–вторых, творение благое по сути. Оно таково независимо от человеческого присутствия или суждения. В рассказах о творении утверждение «хорошо» произносит не Адам или Ева, а сам Бог. Поэтому благость творения (которая включает и красоту) богословски и хронологически предшествует человеческому суждению. Это нечто, что Бог видел и утвердил прежде, чем появился человек, созерцающий это. Поэтому благость творения не определяется наслаждением прекрасным летним пейзажем, как и не определяется она пользой, которую приносит человеку окружающий мир. Скорее, утверждение о благости творения — это печать божественного одобрения на всем, что им создано по мере его сотворения: возникновение света (Быт. 1, 4), рождение континентов из океанов (Быт. 1, 10), появление растительности (Быт. 1, 13), создание солнца и луны для отделения дней и времен (Быт. 1, 18), появление рыб и птиц (Быт. 1, 21) и наземных животных (Быт. 1,25). Все это существовало как благое Божье творение еще до появления человечества. Таким образом, сотворенный порядок, включая нашу планету, имеет внутреннюю ценность, потому что оценен Богом, источником всех ценностей. И это не просто вопрос ценности, которую мы, люди, приписываем земле. Наоборот, наша ценность как человеческих существ начинается с того, что мы — часть творения, которое Бог уже оценил и объявил хорошим. О человеческой жизни можно было бы сказать больше, но отправным пунктом является то, что наша ценность берет начало в творении, а не наоборот.
В–третьих, творение благое, потому что таково Божье намерение, которое состоит в том, что история природного мира, как и история человечества, должна включать развитие, рост и изменение. Несомненно, значение благости включает эстетический смысл — творение прекрасно, как произведение величайшего искусства и мастерства. Но оно также имеет и функциональный смысл: нечто является благим, когда оно работает согласно плану и действует согласно замыслу. Таким образом, мы не должны представлять благость творения как некое оригинальное, вневременное или неизменное совершенство. Время и изменение встроено в каждую структуру сотворенной реальности. Кроме того, оно включает в себя разложение и смерть. Как бы мы не хотели подчеркнуть, что Библия представляет смерть как результат греха, — в том смысле, в котором люди переживают ее, — все же представляется неоспоримым, что смерть в более широком биологическом значении в сфере животных и растений была частью жизни на этой планете изначально. Хищничество — часть благостного творения, и нет свидетельств, что изначально все было по–другому. И многие другие аспекты жизни нашей планеты, которые беспокоят нас эмоционально и нравственно, должны быть включены в наше богословие благости творения. Ведь именно такой мир, каким он есть, Бог оценил как хороший:
Таким образом, экосфера (да и вся вселенная) оценивается Источником ценности во всей ее нравственной неоднозначности, включая хищничество и расточительность, которые являются неотъемлемой частью эволюции и экологии. Мы видим неотделимую взаимосвязь красоты и уродства, комбинацию разрушения и созидания, наводнений и землетрясений, упорядоченный хаос в строении экосистем, включая «запланированную случайность» с элементами творческой непредвиденности, встроенной в обычно предсказуемые процессы. Однако у Бога есть тайная цель, и он ценит творение в его неоднозначном состоянии потому, что оно способствует достижению этой цели.[74]
Поэтому, в–четвертых, благость творения имеет эсхатологическое измерение. Творение еще не стало тем, чем Бог предначертал ему быть, даже без учета последствий грехопадения. Бог заложил в творение огромную способность воспроизведения, неисчерпаемые источники размножения, изобилия и разнообразия. Когда люди соприкасаются с миром, тот, конечно, страдает от последствий человеческого греха, желая стряхнуть его с себя (Рим. 8, 19–21). Поэтому Павел связывает двойную надежду искупления человечества и вселенского освобождения со славой, волей и Духом Божьим.
Утверждение благости творения — это выражение уверенности в благости Бога. Сейчас мир обладает промежуточной благостью. Ею не следует пренебрегать, отвергать или переступать; следует дорожить ею и ценить ее как выражение благости Бога. Она избыточествует чудесами и на некоторое время поддерживает различные формы жизни. Тем не менее, это также мир системного отчуждения, в котором всякая жизнь временна и разрушительна для другой жизни. Творение нуждается в освобождении и примирении. Сказать вместе с Никейским символом веры, что «все было сотворено» через Христа — значит сказать, что творение в целом имеет искупительную цель с самого начала. Творение, в конечном счете, стремится к совершенству. Оно хорошо весьма, потому что приводится к полноте благим Богом.[75]
Мы поговорим о творении в контексте эсхатологии в заключительном разделе.
Отделение творения от Бога
Начальный стих Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» подразумевает фундаментальное онтологическое отличие Бога от своего творения.[76] У неба и земли было начало. Бог был там еще до начала. Оба (Бог и вселенная) — различные порядки бытия. Такой дуализм между Богом и творением присущ библейской мысли и христианскому мировоззрению. Он противоположен монизму (убеждению, что вся реальность, в конечном счете, единична: все едино, без различий) и пантеизму (убеждению, что Бог в некоем смысле тождественен реальности вселенной; все вместе и есть Бог). Поэтому библейское учение о творении — это главный пункт отличия и полемики с духовностью движения Новый век, которое принимает общее монистическое или пантеистическое мировоззрение.
Следовательно, творение хоть и отличается от Бога, своего творца, но оно также полностью зависит от него. Творение не является независимым или вечным. Напротив, Бог активно и непрестанно поддерживает его существование и функционирование на макро– и микроуровнях (Пс. 32, 6–9; 64, 9–13; 103). В библейском учении мир не является самоподдерживающейся биосистемой. «Гипотеза Геи» (Gaia hypothesis), впервые предложенная Джеймсом Э. Лавлоком (James Е. Lovelock), говорит о взаимосвязанности всей биосферы.[77] Хотя Лавлок и предположил, что земля действует как единый организм, огромное живое существо, тем не менее, не персонализировал природу. Он не говорил, что вся биосфера — это разумное существо, имеющее сознание, и представляет собой некое божество. Лавлок отверг подобные популярные религиозные метаморфозы его труда. Он полагает, что его гипотеза — это научное переложение древней веры о живой земле, доказательство чему он находит в тенденции Геи к самоорганизации, считая ее своего рода разумом, стоящим за всеми живыми процессами. Хотя Лавлок отвергает всякое теистическое истолкование своей гипотезы, она вполне сравнима с традиционной идеей о Боге, Вседержителе мира.[78] Тем не менее, идея Геи (это греческое слово, означающее «земля», а также имя богини в греческой мифологии) была радушно принята популярным движением Новый век. Сама земля воспринимается как богиня, наделенная властью, разумом и замыслом. Гея занята своим самосохранением и в настоящее время (но не вечно) терпит разрушительные нападки людей. С другой стороны, Библия представляет всю вселенную как отличающуюся от Бога (ее бытие не является частью бытия Бога), но в то же самое время зависимую от Бога в смысле своего существования и поддержки. Бог первичен и не сотворен; вселенная сотворена и зависима. Это не отрицает того, что Бог вложил в землю невероятную способность к обновлению, восстановлению, балансу и адаптации. Эмпирические наблюдения Лавлока неоспоримо свидетельствуют о поразительной способности земли к восстановлению. Но то, как все эти системы работают и взаимодействуют, само по себе запланировано и поддерживается Богом.
Отличие творения от Бога не только искореняет монизм, оно и устраняет природный политеизм, который преобладал в культурном и религиозном окружении Израиля. Различные силы природы воспринимались как божества, и функция многих религиозных ритуалов состояла в том, чтобы расположить или склонить богов или богинь благоприятствовать урожайности и плодородию. Однако в вере Израиля такие великие реальности естественного мира, как силы, феномены или объекты, не имели внутренне присущего божественного бытия. Принадлежавшая им власть, которая, без сомнений, велика, была исключительно делом Господа и подчинялась его повелению. Таким образом, с одной стороны, ханаанские культы плодородия отвергались потому, что Израиль уже знал — только Господь обеспечивал их изобилие (напр., Ос. 2, 8 и дал.). С другой стороны, чрезвычайно могущественные и влиятельные астральные божества Вавилона были разоблачены как всего лишь сотворенные объекты, находящиеся под властью Господа (Ис. 40, 26). В любом случае, убеждения Израиля о творении стали причиной культурного и политического конфликта с окружающими мировоззрениями. Таким образом, хотя еврейская Библия учит уважительному отношению и заботе обо всем творении, она противится и осуждает склонность человека обожествлять и персонализировать естественный порядок или наделять властью, которая не зависит от творца.
Важно понимать различие между персонализацией и персонификацией природы. Ветхий Завет часто персонифицирует природу, но исключительно как риторический оборот, фигуру речи, для усиления эффекта. В таком литературном приеме о природе говорится, как о личности. Например, небеса и земля призваны быть свидетелями Божьего обращения к своему народу (напр., Втор. 30, 19; 32, 1; Ис. 1, 2; Пс. 49, 1–6), они возвещают его славу (Пс. 18), они радуются его суду (Пс. 95, 11–13; 97, 7–9). Наиболее ярким примером является описание земли, которая «извергла» прежних обитателей за их нечестие, и сделает то же самое с израильтянами, когда они последуют их примеру (Лев. 18, 25–28). Но суть такой персонификации природы либо в том, чтобы подчеркнуть личный характер Бога, создавшего ее, действующего в ней и через нее, либо чтобы выразить личный и нравственный характер отношений людей с Богом. Подобный литературный прием не наделяет природные силы характеристиками или личными способностями. По сути, персонализация природы (наделять онтологическим личным статусом саму природу) приводит как к обезличиванию Бога, так и к деморализации человечества. Приписывать творению личный статус и оказывать почтение, принадлежащее только Богу (или людям, которые являются носителями образа Божьего), — это форма идолопоклонства, столь же древняя, как и само грехопадение (см. Рим. 1, 21–25), хотя она и облечена в новые характерные одежды XX века в движении Новый век.
В первой половине XX века многие ученые подчеркивали исторический характер веры Израиля. Это включало утверждение, что Израиль «демифологизировал» широко распространенные ближневосточные мифы о сотворении. Утверждают, что Израиль превознес историю над природой. Яхве был Богом истории в противовес окружающим богам природы. Следовательно (согласно фон Радду, например), Израиль не имел независимого учения о сотворении, все было объединено в доминирующей искупительно–исторической традиции Яхве и Израиля. Хотя при разумном подходе подобные сравнения Израиля с окружающими народами правомерны, в случае крайних сравнений они не соответствуют действительности. Сейчас уже установлено, что прочие древние ближневосточные цивилизации верили — их боги действовали в человеческой истории, и не все их божества можно адекватно изобразить в качестве всего лишь обожествленных природных сил. И наоборот, радикальным искажением веры Израиля будет расценивать всю терминологию, метафоры и мистический символизм сотворения, который мы находим в Псалмах и пророках, как всего лишь еще один способ сказать об истории. Яхве, без сомнения, Бог сотворенного порядка, а также Бог истории Израиля. Однако негативным последствием ранней точки зрения было популярное мнение, что Библия десакрализировала природу. Это означает, что Израиль не имел ощущения сакральности сотворенного порядка, и считал его всего лишь объектом, который используется на благо человека. Есть мнение, что это служит библейским основанием научному, технологическому и потребительскому отношению ко всему остальному творению в целом. Подобное светское представление о природе не соответствует тому, что здесь подразумевается под отделением Бога от природы.[79]
Однако существует фундаментальное отличие между сакральным и божественным, когда мы говорим о творении (так же, как существует существенное отличие между святостью человеческой жизни и обожествлением какого–либо человеческого существа). Ветхий Завет постоянно говорит о творении в связи с Богом. Сотворенный порядок повинуется Богу, подчиняется его повелениям, возвещает его славу, пользуется поддержкой и заботой творца и служит его целям, включая обеспечение людей, или функционирует как инструмент Божьего суда над ними. Таким образом, существует сакральность всего сотворенного порядка, который мы призваны почитать, как об этом говорят законы, культ и пророчества Израиля. Но поклоняться природе в каком–либо ее проявлении — значит заменить творца творением. Это форма идолопоклонства, о чем Израиль постоянно получал предостережения (напр., Втор. 4, 14–20; ср. Иов 31, 26–28), и которое Павел связывает с восстанием, перечисляя трагические социальные пороки (Рим. 1, 25 и непосредственный контекст). Радикальный монотеизм Израиля, противопоставивший себя всем прочим богам природы (или в природе), не лишал саму природу связанной с Богом сакральности и значимости:
С этой перспективы радикального монотеизма в учении о сотворении не существует меньших божеств: солнца и луны (реакцией на поклонение которым было Быт. 1, 14–18), золотых тельцов или прочих идолов, священных рощ или древних деревьев, могущественных гор или вулканов, грозных животных или демонов, кесарей, фараонов или героев, даже Геи или Матери Земли. С этой точки зрения политеизм, анимизм, астрология, тотемизм и прочие формы поклонения природе — это не только идолопоклонство, но, как постоянно говорили пророки, суета и глупость (ср. Ис. 40, 12–28; 44, 9–20; 46, 1–11; Деян. 14, 15). Только один творец достоин поклонения… Тем не менее, хотя поклонения достоин только он, все создания Божьи достойны нравственного уважения в знак достоинства, переданного Богом и, по сути, как выражение поклонения Богу. Монотеистическое учение о сотворении не десакрализует природу. Природа все еще сакральна благодаря тому, что сотворена Богом, объявлена хорошей и помещена под исходное божественное владычество.[80]
Слава и хвала Бога
«Какова главная цель человека?» — так звучит первый вопрос Вестминстерского катехизиса. Ответ на него дается с величественной библейской простотой: «Главная цель человека — прославлять Бога и вечно радоваться в нем». Таким же библейски верным было бы и подобное утверждение в отношении всего творения.[81] Но даже постановка вопроса о цели творения может показаться странной, особенно для западного разума. Потому что цель или замысел предполагает разум, и разумность, в свою очередь, предполагает некое рациональное или личное существо. А мы давно согласились, что сможем обойтись без подобной личностной рациональности в нашем арсенале объяснений того, какова вселенная. Стивен Хокинг (Stephen Hocking) спрашивает: «Всех беспокоит, почему вообще появилась вселенная?» — и оставляет вопрос открытым, без какого–либо убедительного ответа.[82] «Почему существует нечто, а не ничто?» — вопрошает философ.
Почему? — самый главный вопрос, который задает ребенок уже в раннем возрасте, и на который все же нельзя ответить, исходя из структуры научного взгляда на вселенную. Наука, которая развилась в рамках канонов современности, в целом питает отвращение к телеологии, то есть к поиску целы вещей. Наука, в лучшем случае, работает в другом направлении, отыскивая причины и вопрошая о том, как все стало таким, каким оно есть. Мы двигаемся в исследовании все ближе к началу, к истокам и процессам всего, стремясь постичь великую цепь причинности. Но мы не осмелимся нащупать цель всего, или открыто заявить о том, что понимаем, для чего существует вселенная. В таком мировоззрении присутствует однобокость: оно блистательно открывает и поясняет, как все работает, но ничего не может сказать о том, почему все работает именно так или хотя бы почему это вообще существует. Но хуже всего то, что это мировоззрение утверждает, что любой ответ на последние вопросы будет неадекватен в свете научного знания. Это напоминает известную аналогию, как некто дает исчерпывающий и точный отчет о механизме часов, объясняет, как они работают, но отказывается высказать мнение, каково их предназначение, и насмехается над теми, кто склоняется к странной мысли, что они, на самом деле, были задуманы и изготовлены кем–то с целью сообщать время.
Те из нас, кто получил образование по канонам современной науки, уже не видят новшество и неестественность современного отвержения существования telos,или предназначения в мире, окружающем человека. Практически все когда–либо жившие люди и большинство людей, живущих в мире сегодня, чьи религиозные и культурные традиции противостоят секулярному влиянию западной культуры, верят, что природа характеризуется целеустремленным устройством и равновесием, имеющим глубокое нравственное и духовное значение[83] .
В Библии же телеологический взгляд на творение очевиден. Творение существует для славы и хвалы своего творца. Будучи сотворенными, мы также сопричастны этой цели: наша главная задача — прославлять Бога и получать от этого наслаждение, ведь это наслаждение в Боге. Но такая цель человеческой жизни не отделяет нас от всего творения. Скорее, мы разделяем с остальным творением эту цель — прославлять Бога. Единственное отличие в том, что мы должны прославлять своего творца по–своему, как приличествует нашему уникальному статусу единственного создания, сотворенного по образу Божьему.
Таким образом, все творение прославляет Бога и неоднократно призывается к этому (напр., Пс. 145, 10.21; 148; 150, 6). Отклик признательности подобает не только людям, которым дана божественная щедрость, но также приписывается всему творению (напр., Пс. 103, 27–28).
Этот отклик признательности — основная особенность творения, к которому причастны все создания на земле: люди и животные, ландшафты, моря и горы, земля, ветер, огонь и дождь. Псалмопевец говорит, что первый нравственный долг творения — поклоняться и прославлять творца… С еврейской точки зрения человечество и космос имеют нравственное значение, и от них требуется совершить нравственный отклик творцу, отклик, который отражает славу и отвечает признательностью, прославлением и поклонением (Пс. 150).[84]
В конце концов все творение сольется в радости и благодарении, которые будут сопровождать Господа, пришедшего как царя, чтобы все исправить (судить землю; напр., Пс. 95, 10–13; 97, 7–9).
Более того, когда мы размышляем о необходимости прославлять Бога, стоит отметить, что некоторые тексты связывают славу Бога с полнотой земли; то есть величественно разнообразным изобилием всей биосферы — земли, моря и неба. Язык полноты — особенность повествования о сотворении. От зияющей пустоты история развивается посредством повторяющихся наполнений. Как только вода и небеса были отделены, на пятый день по благословению и повелению Бога вода кишит рыбой, небо — птицами (Быт. 1, 20–22). Подобным образом на шестой день после сотворения всех прочих сухопутных животных, люди получают благословение и повеление «наполнять землю». Поэтому неудивительно, что Пс. 103, 24 говорит, что «земля полна произведений твоих». А Пс. 23, 1 может изображать это богатство просто как «все, что наполняет землю». Также и в Пс. 49,12, после перечисления лесных животных, скота на тысяче гор, горных птиц и полевых животных говорится: «Моя вселенная и все, что наполняет ее». Выражение «земля, и все, что наполняет ее» становится характерным способом сказать обо всей окружающей среде, иногда местной, иногда вселенской (напр., Втор. 33, 16; Пс. 88, 12; Ис. 34, 1; Иер. 47, 2; Иез. 30, 12; Мих. 1, 2).
Такое словоупотребление помогает нам понять значение хорошо известной песни серафима в видении Исайи в храме: «Свят, свят, свят Яхве воинств. Наполнение (или полнота) всей земли — его слава» (Ис. 6, 3; перевод автора). Когда мы читаем это в обычном английском переводе: «Вся земля полна славы его», легко предположить, что речь идет о земле как о вместилище, которое наполнено славой Бога, как храм в первом стихе, который был наполнен краями риз Божьих.[85] При таком прочтении только земля и слава значимые существительные, связанные соединительным глаголом. Но как мы видели, «полнота земли» — это способ говорить обо всем богатом изобилии сотворенного порядка, особенно творения помимо людей (когда идет речь о людях, говорится так: «и все живущее в ней», как в Пс. 23, 1). Поэтому серафим возвещает славу Бога в полноте земли. Богатое изобилие Божьего творения выражает его славу, демонстрирует его «вес», сущность и реальность. Земля полна славы Божьей потому, что все, наполняющее землю, составляет его славу. Подобным образом Пс. 103, 31 заключает Божью славу и Божьи дела творения в параллелизм:
Да будет Господу слава во веки;
да веселится Господь о делах своих!
Конечно, нам следует добавить, что слава Бога превосходит творение и предшествует ему. Как напоминает нам Пс. 8, 1, Бог превознес славу свою «превыше небес». Но творение не только проповедует славу Бога (Пс. 18,1), пол нота творения — это также важная часть этой славы. Та же идея подразумевается в другом видении славы Бога, в котором изображен не только полупрозрачный помост и сверкающий престол Бога, но также живые существа, четырьмя своими головами представляющие всех живых созданий, одним из которых является человек (Иез. 1). Все это видение с его символическим изображением творения иногда упоминается Иезекиилем просто как «слава Господня» (Иез. 3, 23; 8, 4; 10, 4 и проч.). Большинство из нас вздохнет с облегчением потому, что, как правило, не соприкасается со славой Бога так, как Иезекииль или Исайя. Но связь полноты земли (вся сотворенная жизнь на земле) и славы Бога означает, как напоминает нам Павел, что люди ежедневно сталкиваются с Богом, просто населяя планету (Рим. 1, 19–20). Как мы поступили с этой планетой, это, конечно же, совсем другой вопрос.
В завершение раздела стоит задаться вопросом о практическом значении всего сказанного. В каких случаях божественная собственность оказывает влияние на наш нравственный выбор? Существует ли экологическое значение сотворенного порядка как благого, по сути, из–за ценности, которую он имеет для Бога? Это не нейтральный материал, который мы можем превратить в товар и сделать источником прибыли, употребляя для личных целей. Более того, как часть всего творения, мы существуем не только для того, чтобы возвеличивать и прославлять Бога самим, но способствовать в этом всему творению. И если величайшей заповедью является любовь к Богу, то это подразумевает, что мы должны относиться к его собственности с почтением, заботой и уважением. Это известная истина в любых человеческих отношениях. Если мы любим кого–нибудь, то заботимся о том, что принадлежит ему. Любить Бога (даже познавать Бога вообще, добавил бы Иеремия [Иер. 9, 22]), означает ценить то, что ценит он. Поэтому, наоборот, способствовать или участвовать в злоупотреблении, загрязнении и разрушении естественного порядка — значит попирать благость Бога, отраженную в творении. Это значит обесценивать то, что ценит Бог, заглушать и подрывать Божью славу.
Земля и человек
Земля, как мы видели, принадлежит Богу так же, как и небеса. Но, в отличие от небес, земля — это место обитания людей, как возвещает Пс. 103. Однако никогда не говорилось, что земля дана прочим созданиям в том смысле, в котором она дана людям. Что делает нас видом, которому, в некоем уникальном смысле, Бог даровал землю?
Легко сказать, что человеческие существа высшие, уникальные или особенные. Это конечно, несомненно.[86] Однако начальные главы Библии не акцентируют внимание на уникальности людей как таковых. Наоборот, кажется, что пункт за пунктом Библия говорит, что у нас гораздо больше общего с остальным одушевленным творением, чем отличий от него. Подобно прочим животным (включая рыб, птиц и насекомых), мы получили благословение и повеление размножаться и наполнять землю (Быт. 1, 22.28). На самом же деле они получили благословение и наполняли землю, прежде чем мы появились. Человечеству даже не был отведен отдельный день творения. Мы созданы в шестой день вместе со скотом, дикими животными и пресмыкающимися. Бог создает животных и птиц из земли (Быт. 2, 19), как и людей. Автор использует те же слова (Быт. 2, 7). Единственным отличием есть то, что человек был создан «из праха земного» — отличие, которое явно не делает его высшим![87] Как люди, так и животные имеют дыхание жизни (Быт. 1, 30; 6, 17; 7, 15.22; ср. Пс. 103, 29–30). Если в нашем случае Бог вдохнул его в самые ноздри (Быт. 2, 7), то это, по всей видимости, говорит о близости отношений людей с Богом, а не об онтологическом отличии людей от животных (и см. Быт. 7, 22).
Более того, существует древнее заблуждение об отрывке Быт. 2, 7 как о тексте, говорящем о происхождении человеческой души, которой не наделены прочие животные. Но в последней части стиха: «и стал человек душою живою», используется то же слово(nepes), которое часто употребляется в отношении всех прочих живых существ (Быт. 1, 20.24.28; 6, 19).[88] То, что мы являемся одним из многих видов животного мира, подтверждается фактом, что Бог дает одинаковую пищу нам и прочим животным (Быт. 1, 29–30). Наша общность с остальными созданиями не должна беспокоить нас, но скорее вызывать восхищение и признательность (Пс. 103). Ведь мы, вместе с прочими животными, имеем такие же основные потребности в еде, воде, сне и крове, и щедрый творец обильно и нелицеприятно дает как им, так и нам все необходимое для жизни (Пс. 103, 10–30). Следовательно, мы — животные среди животных. Мы творение, земные создания – Адам, из земли,adama (или люди из гумуса). И мы, конечно, часть этой полноты земли, которая является славой Бога. Тварность — это слава, а не бесчестие. Наше бесчестие кроется в ином.
Образ Божий и господство
Но в чем же наше отличие, несмотря на такую общность с другими созданиями? В отличие от прочих творений, о людях сказано следующее: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 26). Бог решил сотворить нас по своему образу и повелел нам владычествовать над остальным творением. После слов о благословении, размножении и распространении (слова, сказанные ранее другим созданиям), Бог добавляет уникальное поручение «владычествовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 28).
С одной стороны, это богословское выражение очевидного факта: человеческий вид — доминирующий вид на планете. Мы колонизировали практически всю сушу и нашли способ контролировать и использовать почти любую окружающую среду, с которой имеем дело. Но текст утверждает, что это не просто биологический факт или случайность эволюции. Скорее, наше положение среди сотворенного порядка — результат божественной цели и повеления. В этом состоял Божий замысел, чтобы человек занимал особое положение. Создав нас по образу и подобию своему, Бог дал нам для этого все. Два утверждения настолько тесно связаны в тексте, что не может быть сомнений в их преднамеренной связи. Люди созданы, чтобы быть подобными Богу; люди созданы, чтобы владычествовать над остальным творением.
Не следует отождествлять оба высказывания, то есть утверждать, что наше господство над природой отражает образ Божий в человечестве. Ведь человек — это намного больше, чем просто господин окружающей природы. Множество чернил богословы израсходовали, пытаясь точно определить, что означает образ Божий в людях: наш интеллект, нравственное сознание, способность к отношениям, чувство ответственности перед Богом. Даже вертикальное положение и выразительность лица человека обсуждалась как вместилище образа Божьего в человеке. Поскольку Библия нигде об этом определенно не говорит, по всей видимости, напрасно пытаться найти ответ. В любом случае, мы не должны думать об образе Божьем как о независимом свойстве, которым мы каким–то образом обладаем. Бог не дает людям образ Божий, скорее это характеризует нас как создания. Выражение «по образу нашему» описывает способ, которым Бог сотворил нас, а не качество, которым мы обладаем. Образ Божий не столько то, чем мы обладаем, сколько то, кто мы есть. Быть человеком — значит быть образом Божьим. Это не что–то, данное нашему виду в дополнение, а то, что определяет нас как людей.
Теперь вернемся к предыдущему пункту. Если владычество над остальным творением является образом Божьим, то к чему образ Божий обязывает! Среди множества значений образа Божьего в человеке именно об этом сказано в Бытии явно: сотворенные по образу Божьему люди получили указания и были готовы для осуществления владычества. Или, если выразить это иначе, поскольку Бог планировал, что эти последние сотворенные им существа будут осуществлять владычество над всем его творением, именно поэтому он намеренно создал только этот вид по образу своему.[89]
Итак, Бог дает указания людям не только наполнять землю (повеление, которое дано и прочим созданиям), но также возделывать ее и владычествовать над остальными творениями. Словаkabas иrada часто используются для того, чтобы передать усилие и попытку навязать кому–то свою волю. Однако они не подразумевают насилие и злоупотребление, как это пытается карикатурно показать современная экологическая мифология. Источником широко распространенной идеи, что христианство наиболее ответственно за экологический кризис, по причине потребительского взгляда на природу, якобы является Быт. 1, 28, о чем говорит в своей часто цитируемой статье Линн Уайт (Lynn White), 'Ecologic Crisis', напечатанной в 1967 году. С того времени многие ответили на нее, и показали, что она основана на неверном понимании еврейского текста книги Бытия. Джеймс Барр (James Вагг), например, в 1972 году показал, что:
Владычество человека не подразумевает потребительского отношения к творению; оно ближе к известной восточной идее царя–пастуха… Иудео–христианское учение о сотворении гораздо меньше ответственно за экологический кризис, чем предполагают аргументы, подобные обвинениям Линн Уайт. Библейские же основания этого учения призывают совершенно к иному: к обязанности уважать и оберегать.[90]
Мысль, чтоkabas иrada могут подразумевать жестокое злоупотребление и эксплуатацию, и обвинение, что христианство, по сути, враждебная к экологии религия, относительно нова. Общепризнанно, что основным значением этих слов как в иудейской, так и в христианской традиции является благожелательная забота об остальном творении, доверенном попечению людей.[91] С одной стороны,kabas наделяет властью людей делать на земле то, что делают все остальные виды — использовать окружающую среду для жизни и выживания. Все виды так или иначе «обладают землей», в разной степени, необходимой для их процветания. Так устроена жизнь на земле. Говоря о людях, этот стих подразумевает не более чем сельскохозяйственную задачу. То, что люди разрабатывают инструменты и технологию, чтобы осуществлять собственное обладание землей для человеческого блага, не отличается принципиально от того, что делают другие виды, хотя и явно разнится по степени и влиянию на всю экосферу.
Понятиеrada отличается больше. Оно, безусловно, описывает роль и функцию людей, которая доверена только им — функция главенства, или осуществления владычества. Бог уполномочивает человека царствовать над всем его творением. Цари и императоры древности (как и современные диктаторы) обычно устанавливали в отдаленных уголках владений свои образы, демонстрируя власть над территорией и ее населением. Также и Бог приводит в сотворенный мир человека как образ и символ власти, принадлежащей Богу — творцу и хозяину земли.
Даже без учета этой аналогии Бытие изображает Божье дело в царственных терминах, не употребляя слово царь. В творческой деятельности Бога видна мудрость в планировании, могущество исполнения и благость в совершении. Именно эти качества превозносит Пс. 144 в «Боге и царе моем» в связи со всем, что он сделал. Божьей царственной власти над всем, что он сотворил, внутренне присуща праведность и благожелательность. «Все это, конечно, царские качества; не используя этого слова, автор Быт. 1 возвеличивает Бога как царя, высшего во всех проявлениях, принадлежащих идеальной царской власти, столь же правдиво, как Пс. 92—100 прославляют божественного царя как творца».[92] Следовательно, естественно полагать, что создание, сотворенное по образу Бога, будет отражать те же качества, осуществляя повеление о владычестве. Как бы человеческое владычество не осуществлялось, оно должно отображать характер и ценности царственной власти Бога. «'Образ' — это царственный образец и вид правления, доверенный Богом человечеству в соответствии с идеалами царствования. Идеалы, а не злоупотребления или небрежность, не тирания или произвольная манипуляция и эксплуатация подданными, но правление, которое руководствуется справедливостью, милостью и подлинной заботой ради всеобщего блага».[93]
Итак, владычество человека над остальным творением должно выражаться в осуществлении царской власти, которая отражает царствование Бога. Образ Бога не является разрешением на злоупотребление, основанное на высокомерном превосходстве, но образец, направляющий нас к смиренному отображению характера Бога:
Это понимание переворачивает наше превосходство с ног на голову, ведь если мы походим на Бога тем, что владычествуем, нас следует называть «подражателями Богу» (Еф. 5, 1) в том, как мы это делаем. В действительности вместо того, чтобы дать свободу действий на земле, imago Dei ограничивает нас. Мы должны быть царями, но не тиранами, если же станем ими, то станем отрицать и даже разрушать образ в нас. Как же Бог осуществляет господство? Пс. 144 говорит нам, что Бог милостивый, сострадательный, благой, верный, любящий, оберегающий, щедрый, и не только по отношению к людям, но и ко всему творению. Характерное действие Бога — благословение, и именно постоянная забота Бога служит гарантией того, что скот, львы и даже птицы накормлены и напоены
(Пс. 103; Мф. 5, 26).[94]
Царь–слуга
Какой же способ царствования Ветхий Завет предлагает нам в качестве модели для владычества над творением? Вероятно, наиболее лаконичное описание идеала исходит от старших и более мудрых советников молодого царя Ровоама, когда его северные подданные искали послабления деспотичной политики его отца Соломона. Вот что они сказали молодому царю: «если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему, … то они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 12, 7). Взаимное служение и было идеалом. Обязанностью народа было служить и повиноваться царю, а он должен царствовать, служа и заботясь об их нуждах, обеспечивая справедливость и защиту, избегая угнетения, жестокости и эксплуатации. Царь существует для блага своего народа, а не наоборот. Широко распространенной метафорой такого правления на древнем Ближнем Востоке был пастух. Цари были пастырями своего народа. Овцы должны следовать за своим пастухом, но главная ответственность пастуха — заботиться об овцах, а не эксплуатировать их или злоупотреблять своим положением. Само слово «пастух» говорит больше об ответственности, чем о правах и власти. Так, Иезекииль в своем резком осуждении бывших царей Израиля изображает их как пастухов, которые бессовестно эксплуатировали свое стадо безо всякого сострадания. Далее он представляет прекрасное метафорическое описание того, как должно выглядеть истинное царское правление, и говорит, что только Бог и назначенный им царь Давид будет способен осуществлять его (Иез. 34).
Таким образом, человеческое владычество в творении, если оно является формой царской власти, должно равняться на этот библейский пример:
Если мы владычествуем над другими созданиями Божьими, то призваны жить в мире с ними, как добрые пастыри и смиренные слуги. Мы не можем сказать, что сотворены по образу Божьему, и затем использовать это как повод злоупотреблять, пренебрегать или даже унижать прочих существ — ведь Бог не делает ничего подобного. Как цари, мы имеем власть над жизнью и смертью, и должны действовать в соответствии с принципами справедливости и милости. Но у нас также есть и другая обязанность — не только перед Богом, но и перед ними, — любить и защищать их.[95]
Следует отметить, что данная концепция царя–слуги лучше отражает отношение людей к остальному творению и более предпочтительна, чем часто используемая модель управителя. Представление о том, что мы должны быть управляющими творения, широко распространено и популярно, и, конечно, отражает некоторые фундаментальные библейские истины. Прежде всего, оно указывает на то, что мы не хозяева на земле. Скорее, нам доверил ее настоящий владелец. Тем не менее, концепция управителя имеет свои слабые стороны и может привести к неверному пониманию и злоупотреблению. В лучшем случае, управление широко используется в некоторых христианских кругах для сбора поддержки («мы поможем вам правильно распорядиться своими деньгами»). В худшем случае, слово используется в нехристианских кругах, чтобы придать нравственную ауру беспринципной эксплуатации ресурсов. Это слово говорит об управлении чем–либо, а не о заботливом отношении.
Проблема в том, что эта модель (управления) на самом деле не бросает вызов господствующему духу нашей упрощенной науки или потребительской технологии. Она всего лишь вторит современной идее, согласно которой мир и его обитатели, кроме людей, — то, чем мы можем пользоваться. Да, это ресурсы, но они принадлежат Богу; да, мы можем использовать их, но обязаны делать это осмотрительно и заботливо. Она также не бросает вызов нашему чувству превосходства: мы считаем, что управитель занимает более высокое положение, чем собственность, которой он управляет. Царь, с другой стороны, не руководит вещами, он властвует над живыми существами. Он должен отвечать перед Богом, а также он подотчетен своим подданным.[96]
Итак, давайте вспомним, что повеление в истории творения состоит не в том, чтобы быть управителями земли, а «владычествовать» над прочими созданиями. Поэтому приемлемой и правомочной библейской моделью является модель царствования, при условии, что мы правильно понимаем библейское учение о том, какими должны быть цари, и как они должны поступать в качестве слуг своих подданных.
Еще одним измерением ветхозаветной концепции царствования было то, что оно осуществлялось непосредственно ради слабых и бесправных. В Пс. 71 есть молитва, в которой говорится, что Бог наделяет царя справедливостью, чтобы он мог защищать страждущих и нуждающихся. Фундаментальной характеристикой справедливости в Ветхом Завете является не слепая бесстрастность, а посредничество с целью наведения порядка в отношениях, например, отстоять тех, с кем обошлись несправедливо, освободить угнетенных, дать возможность услышать голос слабых и беззащитных, позаботиться о них. Иер. 21,11 — 22, 5 придерживается данных критериев как идеалов, по которым оценивается иерусалимская монархия в глазах Бога. Соломон в лучшие времена своего царствования просил у Бога мудрости совершать суд, что является самым важным в правлении царя (3 Цар. 3, 5–12). Далее рассказчик иллюстрирует, как Бог ответил на его молитву, повествуя историю о мудрости Соломона в разрешении тяжбы двух женщин об их младенцах: осуществление царской власти, направленной на отстаивание интересов наиболее беззащитных, засвидетельствовано народом как «мудрость Божья в нем, чтобы производить суд» (3 Цар. 3, 16–28). И в кульминационной главе книги Притчей мудрость матери царя Лемуила выдвигает важнейший вызов царствованию:
Таким образом, владычествовать над остальным творением как царь, действовать как образ Бога — значит восстанавливать библейскую справедливость во всем творении. А осуществление справедливости должно включать особое внимание к немощным и беззащитными. «Говори в защиту тех, кто не может защитить себя сам» — это задача человеческого царствования, которая напоминает о нашей ответственности перед остальным творением, так же как правитель ответственен за своих подданных.[97] Быть голосом безгласных, несомненно, побуждает христиан стать участниками экологической деятельности: защищать вымирающие виды и среду их обитания, оберегать окружающую среду и прочее.
В самом деле, подобная сострадательная справедливость должна быть чертой не только царей в Ветхом Завете, но нравственного поведения всех людей. И, по крайней мере, один текст явно расширяет границы нравственного долга за пределы человеческих отношений:
Nepes в этом случае означает внутренние, невыразимые чувства и потребности животного (как оно употреблялось бы в отношении человека). Таким образом, одной из характеристик библейской праведности будет забота о животных в той же мере, как и о собрате–человеке.
Напротив, нечестивый (который в любом случае не заботится о справедливости, Притч. 29, 7) превратил сострадание в жестокость.
Значение этого изречения нельзя недооценивать. Из всех еврейских добродетелей, наиболее всеохватывающая (sedeq) и глубоко переживаемая (rahamim) используется в отношении Бога к людям и людей к подобным себе, и говорит о правильном и неправильном отношении к животным. Таким образом, отношение к животным также является частью нашей этики.[98]
Наконец, о нашей царственной роли в творении, воплощаемой в служении, мы можем узнать и за пределами Ветхого Завета, глядя на образец, данный нам Господом Иисусом Христом. И это неудивительно, ведь мы призваны действовать как образ Бога в творении, а Христос — это совершенный образ Бога. Поэтому его модель господства выражалась посредством служения, которое заключалось в великодушной любви и самопожертвовании ради тех, кому он пришел послужить. Мы хорошо знаем примеры христоподобного служения нашим собратьям–людям. Однако нет причин, чтобы не применить такую христоподобную ответственность к природному миру, который сотворен Христом и для него. Ветхий Завет уже дает нам убедительный пример учения о великодушной заботе Бога обо всех его созданиях (Пс. 103 и 144 — это классические описания). Иисус рассматривал эту характеристику своего Отца как неоспоримую предпосылку, на которой он мог строить свое учение (Мф. 6,25–34).[99] Итак, в нашем распоряжении масса библейских свидетельств, с помощью которых мы можем обрисовать контуры христоподобной экологической этики. Эндрю Линзи (Andrew Linzey) сосредотачивает внимание на Христовой модели жертвенной любви. Напоминая о главных «знаковых» текстах, подобных Флп. 2, 5–9 и Мф. 25, 35–37, он переносит их на наше отношение к животным:
Именно абсолютная беззащитность и бессилие животных и, соответственно, наша полная власть над ними, усиливают и побуждают к нравственному великодушию. Я полагаю, что мы должны быть для творения тем, чем Христос есть для нас. Когда мы говорим о превосходстве человека, мы должны помнить не только о христоподобном господстве, но и о христоподобном служении. Не может быть господства без служения, а служения без господства. Наша особенная ценность в творении состоит в том, чтобы быть ценными для других?[100]
Линзи далее говорит, что, может быть, наша уникальность как человеческого вида кроется именно здесь: только мы наделены способностью посвятить себя заботе о прочих созданиях, отражая этими действиями самого Бога. Линзи полагает, что в этом есть нечто священническое, что делает нас способными быть сопричастниками Христа в искуплении творения. Выходит ли это за пределы ясных утверждений Библии или нет (а я склонен считать, что выходит), все же представляется убедительным утверждение, что «уникальность человечества состоит в его способности стать служащим видом».[101] А такое служение — это вполне библейское представление о нашем царствовании в творении.
Итак, когда мы возвращаемся к фундаментальным повествованиям о сотворении, впечатляет баланс, который мы замечаем в основе всего, что обсуждали. С одной стороны, в Быт. 1 человечество, созданное как кульминация животного мира, наделено способностью владычествовать над остальными созданиями, как образ Бога среди них. С другой стороны, в Быт. 2 человек сотворен на земле с ее нуждами и помещен в Эдемский сад, чтобы «возделывать его и хранить».[102] Владычество (Быт.1) осуществляется через служение (Быт. 2) — это библейский баланс нашей экологической ответственности.[103]
Превосходство человека
Не совсем верно утверждать, что люди — это кульминация Божьего творения в Быт. 1—2. Настоящей кульминацией был субботний покой Бога, когда он стал наслаждаться своим «весьма хорошим» творением. Творение существует для Бога, для восхваления и прославления Бога, как мы уже видели, а также для его радости. Утверждать, что все творение существует для нас — абсурдная заносчивость, которая не должна исходить из данной нам роли: владычествовать над остальными созданиями. Нужно постоянно помнить библейский взгляд на царствование. Израильские цари не «владели» своим народом, или землей, на которой правили. Народ и земля принадлежали Господу. Следовательно, было искажением (которое часто осуждали пророки), когда цари считали народ и землю частной собственностью и использовали их для собственного обогащения. Именно об этом предупреждал народ Самуил, когда говорил о порочных тенденциях царской власти (1 Цар. 8, 10–18). Поэтому представлять, что весь мир существует исключительно для человеческой пользы — это абсолютно ошибочное представление о нашем владычестве. «Быт. 1, 26.28 наделяет людей статусом правителей мира, но думать, что подчиненные существуют только ради блага своих правителей — это не библейский взгляд! Если уж на то пошло, то все как раз наоборот (ср. Мф. 20, 25–28)».[104]
Поэтому творение существует не только для блага людей. Ветхий Завет говорит о его ценности непосредственно в связи с Богом, чтобы прославлять Бога и радовать его. Псалмы и книги мудрости прославляют те творения, о которых люди вряд ли могут сказать что–либо подобное, тем более использовать себе во благо (напр. Иов 38—41). Бог дал ресурсы земли не только для людей, но и для всех остальных животных, птиц и рыб (Пс. 103).
С точки зрения миссии, здесь есть еще два важных пункта. С одной стороны, если бы творение существовало исключительно для блага людей, а не, прежде всего, для славы и радости Бога, тогда можно было бы сказать, что забота о творении — это еще одна форма служения людей самим себе. Несомненно, вполне естественно, что, заботясь о творении, мы в конечном итоге делаем добро и человеку, но все же первоначальная задача значительна сама по себе. Мы заботимся о творении потому, что любим Бога, которому оно принадлежит, и потому, что желаем увидеть славу Божью в творении и Божью удовлетворенность творением.
С другой стороны, некоторые христиане скажут, что действия по защите окружающей среды важны только как форма христианской миссии, если имеют место какие–либо последующие блага для людей, предпочтительно евангелизационного характера. Кроме того, нам не стоит сомневаться в том, что христианское участие в защите окружающей среды имеет мощные евангелизационные последствия. Но забота о творении не нуждается в таком косвенном оправдании и обосновании. Мы заботимся о творении потому, что Бог объявил о его ценности для себя, и потому, что мы получили повеление выполнять царственные функции как вида, созданного по образу Бога. Забота о творении — это фундаментальное измерение нашего христианства. В этом, как и во многом другом, быть христианином значит стать более гуманным, а не вести себя так, как будто бы первая великая обязанность, возложенная Богом на человечество, никоим образом к нам не относится.
Однако, даже сказав все это, мы видим, что Библия признает уникальность людей, по крайней мере, тремя способами. Во–первых, только люди из всех созданий были сотворены по образу Бога. Во–вторых, все остальные создания были «положены к ногам» человека, который только немного ниже ангелов (или Бога) и который увенчан славой и величием (Пс. 8, 5–6). И, в–третьих, Бог заявляет, что человеческая жизнь имеет определенную неприкосновенность в рамках общего принципа, что вся жизнь важна для Бога (Быт. 9,4–6). На таких текстах и их предпосылках Иисус мог строить свои знаменитые призывы доверять небесному Отцу на том основании, что мы более ценны для него, чем прочие создания (Мф. 6, 26; 10, 31; 12, 12; Лк. 12, 7.24). «Подобные высказывания, конечно, не означают, что прочие создания не имеют ценности. Скорее наоборот: животные на самом деле имеют существенную ценность для Бога; в противном случае не было бы смысла говорить, что люди более ценны».[105]
Оба повествования о сотворении в Быт. 1 и Быт. 2 указывают на превосходство, или первенство, человека среди остального благого и ценного творения Божьего. Упорядоченное повествование первой главы приводит к Божьему решению создать человечество по своему образу, как кульминацию творческой недели. Быт. 2 помещает творение человека в центр повествования и рассказывает о создании всего остального в связи с физической и межличностной природой человека. Суть вести обоих текстов кажется ясной: человеческая жизнь в высшей степени важна (кульминационна и центральна) для Бога в контексте всего творения. Суть и вершина творения в этом человеческом виде (тезис, которому не противоречит новозаветное утверждение, что Христос является главой всего космоса; ведь, как убедительно напоминает нам Евр. 2, именно человек Иисус занимает это положение во исполнение Пс. 8).
Конечно, в науке есть принцип, известный как «антропный принцип». Сторонники этого принципа отмечают, что первичные условия с самого начала вселенной, в свете теории Большого взрыва, должны быть установлены очень точно, чтобы создать новые условия, в которых жизнь человека на планете Земля в этой солнечной системе и в этой галактике была бы возможной. Тот факт, что мы, люди, находимся здесь как разумный вид, с поразительной способностью размышлять не только о себе, но и о происхождении самой вселенной, — это результат некоей очень точной изначальной настройки. Говоря иначе, если бы вы хотели создать человеческую расу, вам следовало бы быть весьма точным, создавая вселенную. Допустите мельчайшее отклонение в любую сторону, и к настоящему времени во вселенной уже не было бы ни звезд, ни планет, ни условий для жизни, ни человечества. О чем это говорит? Библейские христиане скажут: это только подтверждает то, что мы уже знали или о чем могли догадаться из повествований о сотворении — Бог думал о нас, когда впервые произносил слова: «Да будет свет». Ученый, отклоняющий подобный богословский взгляд на вселенную, не может верить в такое антропоцентрическое объяснение.[106]
Антропный принцип не следует высмеивать как вид антропоцентризма, который расценивает все творение как ресурсы для неограниченного использования, и поэтому дает нам право злоупотреблять, пренебрегать, грабить или разрушать природную среду. Однако этот принцип вполне созвучен с библейским утверждением о преимуществе человека в сотворенном порядке. Хотя сторонники движения «Глубокая экология» (deep ecology) отвергли эту концепцию как «жестокую по отношению к животным» (speciesism), христианская этика поддерживает ее в связи с проблемами окружающей среды и волнующим вопросом о правах животных. Уникальность людей как существ, сотворенных по образу Божьему, состоит в том, что при возникновении конфликта между нуждами людей и прочих одушевленных и неодушевленных частей творения (но только в том случае, если это конфликт, который нельзя положительно разрешить, удовлетворив нужды обоих одновременно) люди пользуются преимуществом. Конечно, в идеале нам следует быть нацеленными на ситуации, в которых может действовать более целостная и экологически устойчивая картина, где дружественные к окружающей среде формы управления землей и водой могут способствовать процветанию людей, и где благо людей достигается в гармонии со всеми остальными сотворенными собратьями. Как мы увидим ниже, это часть эсхатологического видения будущего, но оно также может направлять нашу экологическую этику и задачи в настоящем.
Земля под проклятием
Природа и проклятие
Когда люди решили восстать против своего создателя, их непослушание и грехопадение оказало влияние на весь окружающий мир. Это сразу же видно из Божьих слов Адаму: «проклята земля за тебя» (Быт. 3, 17). Учитывая связь людей с остальным творением, по–другому и быть не могло. Бокэм (Bauckham) хорошо показывает неизбежные последствия:
Как грехопадение влияет на природу? Разве творческая деятельность Бога нарушена только в человеческой истории, требуя искупительной деятельности, тогда как во всей остальной природе творение продолжается, не испытывая последствий грехопадения? Это невозможно, поскольку человечество — часть целостной взаимозависимой природы, следовательно, нарушение в человеческой истории должно повлиять и на природу. Поскольку люди являются доминирующим видом на земле, человеческий грех неизбежно имеет очень серьезные последствия для природы в целом. Грехопадение нарушило гармоничные отношения людей с природой, отчуждая нас от нее, так что теперь мы на опыте переживаем враждебность природы, вводя элементы борьбы и жестокости в наши отношения с ней (Быт. 3, 15.17–19; 9, 2).[107]
Все это испытывает природа из–за наших усилий выжить и процветать на земле. Но существует более глубокий вопрос, беспокоящий умы богословов и рождающий сложные и не совсем удовлетворительные ответы. Является ли творение падшим само по себе? Действует ли нравственное зло в других процессах сотворенного порядка так же явно, как в человеческом сердце и обществе? Является ли проклятие Богом земли онтологическим (т. е. влияющим на саму природу планеты, какой она ныне является) или функциональным (т. е. влияющим только на отношения людей с землей)?
Те, кто отстаивает онтологическое понимание, объясняют разрушительные природные феномены, такие как землетрясения, проклятием земли. Однако возникает проблема в связи с хронологией, согласно которой естественные причины подобных явлений предшествовали появлению человеческого вида. Геология и палеонтология выдвигают гипотезу, согласно которой планета была более опасным и нестабильным местом до того, как на ней появились люди. Другие утверждают, что те особенности природы, которые мы находим неблагоприятными, вроде плотоядных видов и хищников, также являются нравственно злыми, а значит, являются результатом грехопадения. С другой стороны, сложность в том, что, судя по всему, подобные природные феномены всегда были частью «обычного порядка вещей» на планете, задолго до появления людей, задолго до грехопадения. Хотя Быт. 1, 30 говорит, что Бог даровал в пищу животным и людям растительность, очень сложно представить, что животные начали поедать друг друга только во время существованияHomo sapiens и в результате нравственного и духовного восстания человека против Бога.
Я склонен согласиться с теми, кто считает такие особенности природного мира не симптомами греха и зла или (учитывая тот факт, что Библия намекает — зло присутствовало в творении в некоторой форме до его прихода в жизнь человека) прямым результатом человеческого греха, а скорее частью незавершенности или несовершенства природы благого Божьего творения.
Падшая ли природа сама по себе? Другими словами, есть ли зло в природе? Падший статус природы — это идея, которой пользовались, чтобы объяснить различные особенности природы, например, жестокость и безжалостность в ней самой, ее враждебность к человеку в таких проявлениях, как бактерии, которые живут только для того, чтобы вызывать мучительное заболевание, или разрушительные явления вроде землетрясений. Каждый, кто наблюдал жестокость кота, играющего с мышью, вполне может поверить, что природа добра настолько, насколько это возможно, помимо влияния человека на нее. Если бы мы могли интерпретировать подобные особенности природы не как аморальные, а как вообще не имеющие отношения к морали, тогда мы могли бы посмотреть на них как на несовершенства, указывающие на незавершенность процесса творения, а не отступление от Божьей творческой цели.[108]
Творение с самого начала не было задумано как статичный й совершенный рай. Оно должно было постоянно развиваться и совершенствоваться. Сад Эдемский не был всей планетой. Это было безопасное место на земле, в которое Бог поместил людей. То, что люди оказались в Эдемском саду, говорит о том, что работа по возделыванию земли должна там начаться, а потом распространиться на всю землю, которая еще не была возделана. Поэтому библейски неверно представлять, что на заре человеческой истории вся земля была совершенным раем, или что силы природы, кажущиеся нам угрожающими и разрушительными, были результатом человеческого греха и божественного проклятия. Более того, следует отметить, что Божье проклятие было непосредственно направлено на «почву». Словоadama не означает всю землю (для которой обычно используется слово"eres, то, что мы теперь называем «планетой»), а относится к поверхности планеты — месту человеческого обитания, самой почве.[109] Следующее объяснение проклятия в терминах «терний и волчцев» и «пота лица» указывает главным образом на функциональное проклятие. То есть последствия человеческого греха будут ощущаться в борьбе за выживание человека, чтобы вырвать средства к существованию из почвы. Адам в конфликте сadama, из которой он взят. Об этом же воздыхает Ламех, отец Ноя (Быт. 5, 29).
Вселенский завет
Однако, предпочитая функциональный взгляд проклятия Богом почвы, нам не следует исключать вселенскую связь человеческого греха (да и всего поведения человека) с остальным миром природы. Существует множество библейских отрывков, которые мы склонны воспринимать только в метафорическом или символическом смысле, описывающих то, что можно назвать сложной сетью взаимосвязей Бога, человечества и всего остального творения. Роберт Мюррей (Robert Murray) использовал фразу «вселенский завет» для этой библейской темы, и развивает ее в своей книге с одноименным названием. Он утверждает, что находит в Ветхом Завете данные, подтверждающие
убеждение, которое древний Израиль разделял с окружающими культурами, о чем свидетельствуют документы из Египта и Месопотамии: верование в задуманный божеством порядок, гармонически связывающий небо и землю. В израильской традиции он был установлен в сотворении, когда космические стихии были связаны, чтобы поддерживать порядок. Однако гармония была разрушена, и ей постоянно угрожали беспорядочные сверхъестественные существа и силы, враждебные Богу и человечеству… [Божье обетование]«вечного завета» со всеми созданиями выражало убеждение, что вселенская гармония была волей Яхве; но для Израиля, как и для его соседей, она должна сохраняться пред лицом враждебных сил.[110]
Основанием такого убеждения является, конечно же, завет с Ноем, который был результатом окончания потопа и инициировал новое начало для творения:
И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда… И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
(Быт. 9, 8–12.16)
Отрывок определенно говорит, что вселенский завет заключен со всем живым на земле, и Бог связывает себя одновременными обязательствами завета с людьми и прочими формами жизни. Это завет, в котором мы предстоим как человеческий вид, и он подводит фундамент под все прочие заветные обетования, которые Бог даст в ходе библейской искупительной истории. Более того, это завет, в котором мы стоим наряду с прочими существами на планете. Завет связывает людей и прочих созданий отношениями с Богом, нашим творцом. Поэтому разумным допущением будет предположить, что Бог желал, чтобы между нами (т. е. не только между людьми, но также между людьми и прочими созданиями) также существовала некоторая форма обязательств по завету. Аналогия других заветов предполагает следующее: вертикальное измерение заветных отношений Израиля с Богом требовало соответствующего горизонтального обязательства, в котором израильтяне были по завету преданны друг другу. Быт. 9, 1–6 подразумевает некоторый элемент взаимности в отношениях людей и животных, хотя в настоящее время они, безусловно, омрачены позволением есть мясо и страхом животного мира пред людьми. Поэтому, хотя Ветхий Завет никогда явно не говорит об этой проблеме в таких выражениях, нам кажется допустимым говорить о долге людей по отношению к животным как о долге по завету, в рамках завета с Ноем. Мюррей осторожен в данном пункте, признавая, что он нигде не представлен прямо, но является результатом умозаключения. Он говорит о вечном завете,
который связывает вместе людей и животных в качестве партнеров творца (Быт. 9, 8–17)… Можно только сожалеть, что не выводятся дальнейшие обязательства взаимных отношений людей и животных. Однако подразумевается, что Бог обещает заботиться о тех и о других; и если оба — партнеры Бога в завете, как может быть, чтобы они не были взаимно связаны заветом друг с другом [111]
Именно Ноев завет изображен как «завет вечный». Итак, он вселенский по масштабу и продолжительности. Отголоски этого завета, который иногда называют «заветом мира», включающего людей и животных в заветные отношения с Богом, встречаются в Лев. 26, 3–6; Ис. 54, 9–10; Иер. 31, 35–36; 33, 20–25; и Иез. 34, 25–31.[112]
Мюррей отмечает два аспекта данного вопроса, которые стоит упомянуть. Во–первых, он говорит, что во многих культурах, окружающих Израиль, существовала мифологическая концепция брачного союза небес и земли (посредством соответствующих им божеств), который гарантировал плодородие земли. Однако Ветхий Завет (несмотря на то, что подобный взгляд постоянно подпитывал народный синкретизм, который характеризовал Израиль до пленения) постоянно противостоит сексуальной распущенности, которую включал этот религиозный культ. Господь не был партнером священного брака с какой–либо богиней, и подобные космические брачные церемонии не нужны были для того, чтобы земля давала урожай, а женщины рожали потомство. Хотя Осия использовал символизм священного брака, он демифологизировал его. Похоже, он первым применил подобные образы, но не к отношениям Господа и земли, а к историческим отношениям Господа с Израилем в рамках завета.[113] Осия представил отступничество Израиля как уход прелюбодейной жены от своего супруга; и напротив, исцеляющую любовь Господа как драгоценную верность уязвленного супруга. Собственный брак Осии стал подобной трагедией, и его восстановление было живым примером жертвенности и преданности.
Однако Осия не просто заимствовал миф, лишив его политеистического и языческого осквернения. Ведь даже если миф был искажен распущенностью и жестокостью культов плодородия, он все же свидетельствовал о главной истине — внутренней связи небес и земли и неразрывной связи человеческого поведения и всей остальной природы. Поэтому Осия использует язык космического брака, чтобы описать будущее восстановление народа Божьего к выполнению обязательств завета. Ос. 2,14–23 изобилует образами брачного союза и содержит специальные термины брачного согласия и признания, а именно: «услышать» или «ответить»:
И будет в тот день, Я услышу,
говорит Господь,
услышу небо,
и оно услышит землю,
и земля услышит хлеб
и вино и елей;
а сии услышат Изреель…
и скажу не Моему народу: 'ты Мой народ',
а он скажет: 'Ты мой Бог!'
(Ос. 2, 21–23)
Брак представлен как метафора, но смысл одновременно буквальный (восстановление благословений плодородия и изобилия в природе) и богословский (обновление разорванного завета с Израилем). Тот же образ небес и земли, отвечающих друг другу, с последствиями в природной и социальной сфере, встречается в Пс. 84, 10–13:
Милость и истина встретятся,
правда и мир облобызаются;
истина возникнет из земли,
и правда приникнет с небес;
и Господь даст благо,
и земля наша даст плод свой.
Во–вторых, Мюррей отмечает, что на всем древнем Ближнем Востоке, включая Израиль, существовала особенная связь между сохранением космического порядка и качеством правления царей. Социальная справедливость на земле была тесно переплетена с гармонией в мире природы. Также в политеистических культурах, окружавших Израиль, похоже, существовали особенные ритуалы, в которых принимал участие царь. Они, вероятно, включали мифологию сакрального брака и были нацелены на то, чтобы гарантировать стабильность космического порядка. В текстах Израиля данные о существовании таких ритуалов отсутствуют, но, несомненно, существует осознание и утверждение связи, лежащей в их основании.[114] Их можно встретить в положительной и отрицательной формах. Например, Пс. 71 смотрит на природное и экономическое благополучие как результат справедливого и великодушного правительства. По сути, псалом прекрасно переплетает молитву о царе, который должен поступать справедливо (подразумевая, главным образом, что он должен заботиться о бедных и нуждающихся — Пс. 71, 1–2.4.12–14), с ожиданиями, что в природной среде будет порядок и процветание (Пс. 71,3, 5–7, 16). Та же связь выражается в эсхатологическом контексте в Ис. 32, 15–20 и, конечно же, в Ис. 11, 1–9 — величественном видении грядущей мессианской эпохи, когда праведное правление приведет к вселенской гармонии. Таким образом, Ветхий Завет учит, что для достижения гармонии и благополучия естественного порядка царю не нужно участвовать в магических ритуалах или имитировать предполагаемую сексуальную связь богов земли и неба, но править справедливо и сострадательно. Тогда живой Бог позаботится о нуждах животных и зверей (Пс. 35, 6 [в контексте праведности и справедливости Господа]; 71; 103).
С болью в сердце Осия наблюдает последствия человеческого греха. Кульминацией его осуждений социальной несправедливости является страдание природы как следствие человеческого греха:
За то восплачет земля сия,
и изнемогут все, живущие на ней,
со зверями полевыми и птицами небесными,
даже и рыбы морские погибнут.
(Ос. 4, 3)
Как мне кажется, этот текст выходит за рамки обычной персонификации природы, реагирующей на нарушение завета, и предупреждает читателей о том, что произвольное отвержение познания Бога отразится не только на человеке.[115] Особенно экологически разрушительной является война. В книге Аввакума (Авв. 2) в список проклятий в адрес Вавилона автор включает большой вред окружающей среде наряду с обычными человеческими жертвами войны:
Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя[116]
за истребление устрашенных животных,
за пролитие крови человеческой,
за опустошение страны, города
и всех живущих в нем.
(Авв. 2, 17)
Масштабная вырубка американцами лесов на территории Вьетнама в ходе войны и иракские экологические зверства во время войны в Персидском заливе в 1991 году делают древний пророческий текст весьма актуальным для современности.[117]
Таким образом, в кажущейся простоте повествований о сотворении и грехопадении содержится чрезвычайно глубокая истина о тройственных отношениях Бога, человечества и всего сотворенного порядка. Рассмотренные выше тексты показывают, что Ветхий Завет предлагает нам радикальную оценку последствий нашего произвольного бунта и непослушания, эгоцентризма и греха. Грех оказал влияние не только на человеческую личность, но и распространился на другие сферы жизни. Были полностью извращены и искажены наши отношения друг с другом в области экономики, а также экологические отношения с самой землей. Это произошло не только потому, что люди находятся в центре сотворенного порядка и вся их жизнедеятельность тесно связана со всем живым на земле, но также потому, что Бог поручил нам владычествовать над творением. Точно так же, как цари в Израиле своим поведением влияли на все общество — к благу или (чаще всего) ко злу, так и осуществление нами царственной роли в творении имеет непредсказуемые последствия на все наше владение:
Дисбаланс власти между мужчинами и женщинами, страх между Богом и людьми, вражда людей и природы представлены в Быт. 2 и Быт. 3 как происшедшие не в природе вещей, изначально задуманной Богом, а в заговоре Адама, Евы и змея, которые вместе отвергли благость Божью и усомнились в добрых намерениях творца. Даже здесь есть намеки, что нравственное отпадение от изначальной благости не является исключительно человеческим грехопадением и включает другие порядки бытия, ангельского и нечеловеческого, потому что инициатором греховной мысли, приведшей Адама и Еву к нарушению заповеди не вкушать плод дерева познания, был змей. Общность отношений Бога, людей и природных видов была нарушена первым актом недоверия. Боль во время родов, отчуждение животных и людей, тяжелый сельскохозяйственный труд — все это последствия изначального отпадения от райской гармонии.[118]
Поэтому повествования о сотворении отсылают нас к истокам – не столько для того, чтобы подтвердить нам уже известные факты (все не так, как должно быть), но чтобы объяснить, почему все стало не таким, каким было задумано. Однако если книга Бытия говорит, что грех и зло, страдание и боль, жестокость и разрушение, разочарование и потеря не были первым словом нашему миру, то оставшаяся часть Библии уверяет — они не будут также и последним словом.
Земля и новое творение
Я начал эту главу, отметив близкую аналогию между треугольником искупления (Бог, Израиль и их земля) и треугольником творения (Бог, человечество и земля). Как и следовало ожидать, связь обнаруживается не только в вопросах экологии, но также с ветхозаветными ожиданиями Божьего искупления. Господь одновременно создатель и искупитель, поэтому мы видим переплетение двух этих измерений веры Израиля.
Искупление и земля в истории
Самым поразительным проявлением нарушения отношений Бога с Израилем была утрата ими своей земли. Вавилонское пленение в 587 году до P. X., которое предсказывал Амос, а также предвещал Иеремия на протяжении сорока лет до самого события, стало самым травмирующим эпизодом долгой истории Израиля в Ветхом Завете. Казалось, что изгнание из земли обетованной отрицало все, что они воспринимали как аксиому своего мировоззрения. Но ничто не могло показать столь убедительно и эффективно серьезность, с которой Господь относился к инициированному им самим завету. Длительная непокорность и нежелание раскаяться привели, в конечном счете, к рассеянию среди народов и утрату своей земли (Втор. 4, 25–28; 28, 64–68).
Поэтому, когда пророки, лелея надежду, о которой говорит Втор. 30, 1–10, указывали на лучшее будущее и говорили о восстановленных отношениях с Богом, именно земля была центром их вести. Ничто не говорило лучше о возвращении к Богу, чем возврат в землю (хотя без первого это было бесполезным). Таким образом, в Иер. 30—34, Ис. 40—55 и Иез. 36–48 (назовем только основные отрывки) обещанное восстановление Израиля после пленения описано как возвращение в землю. Существует множество новых измерений этого нового обетования, но оно никогда не «улетучивается» в духовную стратосферу. Земля оставалась частью Божьего искупительного комплекса для Израиля в продолжение столетий, до пришествия Христа. Обновление отношений завета означало возвращение в землю обетованную. И это осуществилось благодаря указу Кира в 538 г. до P. X.
Сотворение и искупление
Однако особенностью этих и других текстов (напр., Ам. 9,13–15) является не просто образ возвращения в землю, какой она была (что на самом деле оказалось сложной задачей для небольшой возвратившейся после плена общины, отягощенной множеством разочарований), но обновленной природы, напоминающей Эдемский сад изобилием и красотой (напр., Иер. 31, 12; Иез. 47, 1–12). Другими словами, в израильской эсхатологии представление о конечных целях Бога выражалось через изначальную цель Бога; а именно — совершенная земля, несущая благословения людям, которые будут наслаждаться ее благами.
И неудивительно, потому что это был характерный способ, посредством которого израильтяне прославляли искупительные деяния Бога в своей истории. Исход, как главное событие, включал буквальное «поражение» моря ради освобождения Израиля от армий фараона. Однако Израиль связывал это с широко распространенным мифом о поражении великого морского монстра хаоса, которого иногда называли Раав. Этот древний космогонический миф был трансформирован Израилем в историю, относя его к реальному событию исхода.[119] Однако историческая ссылка не устранила аналогию с творением. То, что Бог сделал с фараоном, считалось образцом сделанного им в творении — создание порядка из хаоса. Поэтому Песня моря в Исх. 15 прославляет историческое событие, используя поэтический язык победы Господа над самим морем. И в историческом событии Бог использует море как оружие, с помощью которого одержана победа над фараоном, врагом Господа и Израиля. «Так Бог демонстрирует царскую власть и превосходство над творением и, соответственно, избавляет народ Божий».[120] Однако, поскольку исход является частью Божьего избавления, прошлого, настоящего и будущего, использование истории творения для его описания является очень значимым. «Избавление Богом своего народа (их освобождение из–под власти египтян, путешествие в землю обетованную и поселение в ней), которое обычно рассматривается как историческое событие, представлено в терминах творения. Этим событиям, соответственно, придана космологическая значимость. Избавление Израиля — часть Божьего нового акта творения».[121]
Поэтому, когда позже Израиль просил Бога снова освободить их от новых врагов, одна и та же молитва прозвучала к Господу как творцу и избавителю. Например, в Пс. 73, написанном после трагического разрушения Иерусалима и храма, автор взывает к Богу, сила которого разделила море, сокрушила левиафана, создала солнце и луну, и установила времена года. Именно такой Бог нужен вам, когда враги торжествуют свою победу. «Согласно этому псалму, деятельность Бога в творении — это не только образец Божьего избавления Израиля, но также основание, благодаря которому Бог может избавлять, и причина, по которой он избавит».[122]
Словно прямой отголосок этого псалма, пророк Исайя призывает Бога восстать и снова действовать точно таким же образом (Ис. 51, 9–11), связывая воедино творение (Ис. 51, 9), историческое избавление (Ис. 51, 10) и эсхатологическую надежду (Ис. 51, 11). В пророчествах Ис. 40–55 постоянно переплетаются величие и сила Бога как творца, с его неизменными обетованиями искупления. То, что Бог сделает для своего народа, будет отражать совершенное им в творении. А его верность обетованию завета для народа будет отражать надежность существующего завета Бога с природой (Иер. 31, 35–36; 33, 20–26). В конечном счете, Бог совершит для своего народа то, что приведет к вселенскому благословению и радости в творении. К этой мысли я вернусь в заключении.
Распространение искупления на все творение
Я уже упоминал величественное видение Исайи в Ис. 11, 1–9, в котором справедливое правление мессианского царя приведет к гармонии и шалому в творении. Подобным образом, возвращение искупленных на Сион в Ис. 35 будет сопровождаться преобразованиями в творении. Однако кульминация ветхозаветного эсхатологического видения творения находится в Ис. 65—66. Выражение: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю» служат введением прекрасного отрывка, который следует прочитать полностью:
Ибо вот, Я творю
новое небо и новую землю,
и прежние уже не будут воспоминаемы
и не придут на сердце.
А вы будете веселиться и радоваться вовеки
о том, что Я творю:
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием
и народ его радостью.
И буду радоваться о Иерусалиме
и веселиться о народе Моем;
и не услышится в нем более
голос плача и голос вопля.
Там не будет более малолетнего и старца,
который не достигал бы полноты дней своих;
ибо столетний будет умирать юношею,
но столетний грешник будет проклинаем.
И буду строить домы и жить в них,
и насаждать виноградники и есть плоды их.
Не будут строить, чтобы другой жил,
не будут насаждать, чтобы другой ел;
ибо дни народа Моего будут,
как дни дерева,
и избранные Мои долго будут
пользоваться изделием рук своих.
Не будут трудиться напрасно
и рождать детей на горе;
ибо будут семенем, благословенным от Господа,
и потомки их с ними.
И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу;
они еще будут говорить, и Я уже услышу.
Волк и ягненок будут пастись вместе,
и лев, как вол, будет есть солому,
а для змея прах будет пищею:
они не будут причинять зла и вреда
на всей святой горе Моей,
говорит Господь.
(Ис. 65, 17–25)
Это вдохновляющее видение изображает Божье новое творение радостным местом, свободным от печали, слез, исполненным жизни и приятного труда, свободным от проклятия разочаровывающей работы и с безопасным природным окружением! Это видение оттесняет в тень большинство мечтаний движения Новый век. Этот и другие похожие отрывки служат ветхозаветным основанием новозаветной надежды, которая заключается не в отрицании земли и не представляет нас улетающими в какое–то другое место. Вместо этого она сосредотачивается на ожидании нового искупленного творения (Рим. 8, 18 и дал.), в котором будут обитать праведные после очистительного суда (2 Пет. 3, 10–13),[123] потому что сам Бог будет обитать там со своим народом (Отк. 21, 1–4).
Эта славная библейская надежда весьма важна для формирования экологической этики. И это не просто напоминание о сотворении, но ожидание нового творения. Таким образом, наша мотивация имеет двойную силу (своего рода «двухтактный» эффект). Это ожидаемая цель. Безусловно, только Бог может в конечном итоге достичь ее; но, как и в случае с другими аспектами библейской эсхатологии, то, что мы ожидаем от Бога, влияет на наш нынешний образ жизни и цели:
Роль апокалиптики и пророчеств в Библии не только предрекать будущее, но также поощрять и утверждать нравственное изменение и послушание в настоящем. Физический и эсхатологический характер библейских видений искупления дает надежду, что восстановление экологической гармонии на самом деле возможно. Это не устраняет нужности социальных и нравственных усилий в ответ на экологический кризис, но скорее утверждает, что человеческие сообщества, стремящиеся почитать Бога и отображать его справедливость, также принесут плоды справедливости и правосудия в человеческий нравственный порядок и гармонию в природный мир. Согласно Иезекиилю, даже иссохшая пустыня может вновь вернуться к жизни, а сухие кости вновь восстанут, чтобы прославить своего творца.[124]
Наконец, как отмечает Фрэнсис Бриджер (Francis Bridger), эта эсхатологическая ориентация дает нам надежду на решение экологических проблем, сосредоточивая наше внимание не на человечестве, а на Боге, которому земля всегда будет принадлежать:
Главное доказательство экологической ответственности находится в связи старого и нового творения… Мы призваны быть управителями земли, не только ориентируясь на Эдемское повеление творца, но также из–за нашей ориентации в будущее. Сохраняя и улучшая сотворенный порядок, мы указываем на грядущее господство Бога во Христе… Экологическая этика, следовательно, не является антропоцентричной, она свидетельствует о восстанавливающих деяниях Бога в сотворении и избавлении… Парадоксально, что именно Бог осуществит новый порядок творения в Конце и что мы всего лишь указываем на это будущее и не должны действовать вопреки. Скорее, он освобождает нас от бремени нравственной и технологической автономии и проясняет, что человеческие притязания на суверенность — относительны. Понимание, что этот мир принадлежит Богу и что наши усилия направлены не к построению идеальной утопии, а по воле Бога создавать плацдармы царства, служит нашему смирению и приводит к нравственному послушанию.[125]
Однако позвольте закончить поэмой, которая более созвучна с пророками и псалмопевцами:
Природы стоны в дольнем мире,
Что Небо слышало от века, к концу приходят,
Предсказано пророками, поэтами воспето.
И свет горел в светильнике пророка.
Время покоя, обещанный Шаббат грядет!
…
Реки радости напоят всю землю,
И страны все оденут красотой. Упрек
В бесплодии минул. Плодородное поле
Возликует от изобилия; и скудная земля,
Богатая позором лишь своим,
Торжествует, видя, что проклятие чертополоха отменено.
Времена года слились воедино,
И это время — вечная весна,
Сад бедствий не боится, ограда не нужна,
Никто не алчет больше, сыты все.
Лев, леопард, медведь
Пасутся с непугаными стадами…
…
Одну лишь песнь поют народы; все восклицают:
«Достоин Агнец, был заклан Он за нас!»
В долинах жители и на утесах
Кричат друг другу, и горные вершины
От дальних гор подхватывают радость;
Когда народы все мелодию узнают,
Землей прокатится восторженная Осанна.[126]
Итак, обобщим сказанное в этой главе. Можно ли говорить об экологической этике, основанной на Ветхом Завете? Существует ли экологическое измерение христианской миссии? Я верю, что в свете всего вышесказанного ответом должно быть «да». Мы видели, как два главных столпа веры Израиля, касающихся их собственной земли, были расширены, чтобы говорить обо всей земле. Вся земля — это дар Божий человечеству, но она все еще принадлежит Богу. Такое понимание порождает богатое разнообразие тем в области человеческих отношений с остальным творением — неодушевленным, а особенно с животными. К этим двум главным положениям я добавил влияние грехопадения на природу, с одной стороны, и включение всего остального творения в эсхатологическую надежду искупления, с другой стороны. Древний Израиль мог не тревожиться о состоянии планеты так, как это беспокоит нас, по той причине, что мы навредили ей намного больше, чем древний мир. Поэтому те трудности, которые мы считаем неотложными экологическими проблемами, прямо в Ветхом Завете не рассматривались. Тем не менее, богословские принципы и нравственные обязательства в отношении творения, которые сформулировали Писания, влияют на то, как библейски настроенные христиане вырабатывают свою экологическую этику сегодня.
Дополнительная литература
Ball, Jim, 'Evangelicals, Population and the Ecological Crisis', Christian Scholars Review 28 (1998), pp. 228–253.
Barr, James, 'Man and Nature — the Ecological Controversy and the Old Testament', Bulletin of the John Rylands Library of the University of Manchester 55 (1972), pp. 9–32.
Bauckham, Richard J., 'First Steps to a Theology of Nature', Evangelical Quarterly 58 (1986), pp. 229–244.
_, 'Jesus and Animals i) What Did He Teach? ii) What Did He Practice?'in Linzey and Yamamoto, Animals on the Agenda, pp. 33–60.
Bishop, Stephen, 'Green Theology and Deep Ecology: New Age or New Creation?' Themelios 16.3 (1991), pp. 8–14.
Bridger, Francis, 'Ecology and Eschatology: A Neglected Dimension', Tyndale Bulletin 41.2 (1990), pp. 290–301.
Dyrness, William A, 'Environmental Ethics and the Covenant of Hosea 2', in Robert L. Hubbard Jr, Robert K. Johnson and Robert P. Meye (eds.), Studies in Old Testament Theology (Dallas: Word, 1992), pp. 263–278.
Elsdon, Ron, Green House Theology: Biblical Perspectives on Caring for Creation (Tunbridge Wells: Monarch, 1992).
Gnanakan, Ken, God's World: Biblical Insights for a Theology of the Environment (SPCK International Study Guides, London: SPCK, 1999).
Hay, Donald Б., 'Christians in the Global Greenhouse', Tyndale Bulletin 41.1 (1990), pp. 109–127.
Houston, Walter, '"and Let Them Have Dominion …" Biblical Views of Man in Relation to the Environmental Crisis', Studia Biblica 1 (1978), pp. 161–184.
Janzen, Waldemar, 'The Theology of Work from an Old Testament Perspective', Conrad Grebel Review 10 (1992), pp. 121–138.
Kraftson–Hogue, Michael, 'Toward a Christian Ecological Ethic: The Lesson of Old Testament Israel's Dialogic Relations with Land, History and God', Christian Scholars Review 28 (1998), pp. 270–282.
Linville, Mark D., ў Little Lower Than the Angels: Christian Humanism and Environmental Ethics', Christian Scholars Review 28 (1998), pp. 283–297.
Linzey, Andrew, Animal Theology (London: SCM, 1994).
_, Animal Gospel (London: Hodder & Stoughton; Louisville, KY: WestminsterJohn Knox, 1998).
Linzey, Andrew, and Dorothy Yamamoto (eds.), Animals on the Agenda: Questions about Animals for Theology and Ethics (London: SCM, 1998).
Lovelock, James E., Gaia: A New Look at Life on Earth (Oxford: Oxford University Press, 1979).
Marak, Krickwin C, and Ami Y. Aghamkar (eds.), Ecological Challenge and Christian Mission (Delhi: ISPCK, 1998).
McDonagh SSC, Sean, To Care for the Earth: A Call to a New Theology (London: Geoffrey Chapman, 1986).
_, The Greening of the Church (Maryknoll: Orbis; London: Geoffrey Chapman, 1990).
McKenzie, J. L., 'God and Nature in the Old Testament', Catholic Biblical Quarterly 14 (1952), pp. 18–39, 124–45
Moss, R., The Earth in our Hands (Leicester: IVP, 1982).
Murray, Robert, The Cosmic Covenant: Biblical Themes of Justice, Peace and the Integrity of Creation (London: Sheed & Ward, 1992).
Nash, James Б.,Loving Nature: Ecological Integrity and Christian Responsibility (Nashville: Abingdon, 1991).
Northcott, Michael S., The Environment and Christian Ethics (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
Petrie, Alistair, Releasing Heaven on Earth (Grand Rapids: Chosen Books, 2000).
Rogerson, John W, The Old Testament View of Nature: Some Preliminary Questions', Oudtestamentische Studien 20 (1977), pp. 67–84.
Simkins, Ronald Б.,Creator and Creation: Nature in the Worldview of Ancient Israel (Peabody: Hendrickson, 1994).
Spanner, Huw, 'Tyrants, Stewards — or Just Kings?' in Linzey and Yamamoto, Animals on the Agenda, pp. 216–224.
White, Lynn, 'The Historical Roots of Our Ecologic Crisis', Science 155 (1967), pp. 1203–1207.
Wilkinson, Loren, 'New Age, New Consciousness and the New Creation', in W. Granberg–Michaelson (ed.), Tending the Garden: Essays on the Gospel and the Earth (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), pp. 6–29.
_, (ed.), Earthkeeping in the Nineties: Stewardship of Creation, rev. ed. (GrandRapids: Eerdmans, 1991).
Zimmerli, Walther, The Old Testament and the World (London: SPCK, 1976).
5. Экономика и бедность
«Если ты не брезглив, деньги можно делать на всем», — гласит древнее английское выражение. Эта житейская мудрость говорит о том, что все человеческое богатство, в конечном счете, находится в неисчерпаемых богатствах земли. Таким образом, вся сложная экономическая наука основывается на том, что растет и извлекается из почвы нашей планеты, так как мы почти не используем богатство океанов и океанского дна, энергию ветра и волн. Ветхий Завет и его богатое богословие земли (см. третью главу), а также богословие творения и Земли (см. четвертую главу), играют важную роль в формировании христианской экономической этики. В этой главе мы сначала рассмотрим экономическое значение ветхозаветного учения о творении и экономические последствия грехопадения. Затем мы увидим, как исторический опыт искупления Израиля углубил и усилил принципы творения в форме целой системы экономических отношений. Особое внимание мы обратим на то, как Израиль понимал и реагировал на распространенный феномен нищеты.
Экономическая этика в свете творения
В предыдущей главе мы видели, что земля принадлежит Богу, что творение по сути благое, ценное для Бога, и разделяет вместе с нами одну цель — воздавать Богу хвалу и славу. Далее мы видели, что Бог делегировал владычество над землей людям, которые были сотворены по его образу, что позволило им выполнять возложенные на них обязанности. Итак, люди, будучи на земле творением среди творений, хоть и наивысшим (но подвластным Богу), получили от Господа задачу. В чем же состояла задача человечества? Если собрать некоторые ключевые глаголы в повествовании книги Бытия, то мы должны: наполнять землю, возделывать ее, справедливо и снисходительно владычествовать над всем творением, отражая Божью модель царствования, трудиться на земле и заботиться о ней. На этих условиях и с такими ожиданиями земля и все ее ресурсы были вверены нам. При дальнейшем изучении текстов всплывают четыре принципа, которые, судя по всему, должны руководить нашей этикой в экологической и экономической сфере.[127]
Общий доступ к природным ресурсам
Поскольку земля была дана всему человечеству, ожидается, что ее ресурсы будут общими и доступными для всех. Доступ к ресурсам всей планеты и их использование — это общее наследие, завещанное всему человечеству. Повествования о сотворении нельзя использовать для оправдания приватизированных и индивидуальных прав собственности на землю и ее ресурсы, потому что она вверена всему человечеству. Это не означает, что иметь частную собственность незаконно, так как мы видели, что в Израиле права собственности были основаны на том, что земля и ее ресурсы — Божий дар, и должны быть справедливо распределены среди семей. Но это значит, что такие личные права собственности, даже если они законны, всегда подчинены высшему праву всего народа на доступ к ресурсам земли и их использование.[128] Другими словами, утверждение «я (или мы) владею этим», не является последним словом в решении экономического спора, с точки зрения этики. Ведь, в конечном счете, Богу принадлежит все, и я (или мы) владею этим только по доверенности. Кроме того, мы подотчетны Богу за тех, кто больше нуждается в том, что принадлежит нам. Право собственности на землю и ресурсы не дает абсолютного права на их использование, а, скорее, наделяет ответственностью за управление и распределение. Право всех пользоваться ресурсами земли, судя по всему, преобладает над чьим–либо личным правом иметь их в индивидуальном пользовании.[129] Обратите внимание также на ремарку Роберта Гнузе (Robert Gnuse) в конце его обзора израильских законов и установлений в отношении собственности: «Законы и нравственные императивы о займах, процентах, долгах, рабах, заработной плате и справедливости в целом указывают, что первостепенной заботой в Израиле была нужда человека, а не право собственности… Сохранение собственности и имущества должно стоять на втором месте после нужды человека. Таким образом, израильский закон ставит человека выше собственности и материальных благ».[130]
Право и обязанность трудиться
Повеление «наполняйте землю и обладайте ею» неизбежно включало человеческий труд. Сам труд не является результатом грехопадения, хотя, без сомнения, оно оказало на него влияние. Скорее, труд — это часть образа Божьего в человеке, ведь Бог — труженик, о чем свидетельствуют повествования о сотворении. Быть подобным Богу значит отображать его деятельность, которую мы наблюдаем в истории творения. Там мы находим Бога, который трудится, думает, планирует, принимает решения, оценивает и, в конце концов, отдыхает от труда. Соответственно, труд — это важная составляющая часть нашего человеческого облика, созданного по образу Бога. Поэтому заниматься продуктивной экономической деятельностью, владея мировыми материальными ресурсами — наша обязанность и право. Это говорит не только о том, что труд — это наш моральный долг, а умышленная праздность — грех (ср. 2 Фес. 3, 6–13), но и о том, что мы также обязаны помогать в трудоустройстве другим. Если мы мешаем людям трудиться или отказываем им в работе, мы уничижаем человеческую природу и образ Бога в них, а также не выполняем возложенную на нас обязанность перед Богом. Труд многозначен в свете истории творения и, без сомнения, не следует сводить его к оплачиваемому наемному труду, что характерно для современного общества.[131]
Ожидание роста и торговли
Слова «плодитесь и размножайтесь» говорят, конечно же, о человеческом потомстве и растущем населении. Однако рост населения требует увеличения материального производства и продуктов. С одной стороны, Бог позаботился об этом, дав в земле неисчислимое богатство наследия, которым люди могут распоряжаться. С другой стороны, он наделил их уникальным даром изобретательности и способностью приспосабливаться. Поэтому, хотя человеческий труд главным образом (как в древнем мире, так и в наши дни) направлен на потребность в пропитании, человечество всегда обладало внутренним потенциалом производить больше материальных благ, чем необходимо для выживания. Наряду с этим потенциалом следует учесть огромное разнообразие природных ресурсов, климатических зон, растительности и видов почв. Если люди должны были «наполнять землю и обладать ею», то это неизбежно привело бы к избытку отдельных продуктов в одних местах и недостатку в других. По всей видимости, обмен продуктами — это естественный способ, предусмотренный Богом для развития планеты, с учетом нынешних границ климатических зон, распределения минералов и прочее. Таким образом, обмен и торговля предметами потребления — естественное следствие человеческого роста с любой точки зрения. Однако в свете повелений, данных человеку в истории творения, такая деятельность попадает в сферу Божьих интересов и нравственной оценки. Ресурсы, которыми мы делимся, обмениваемся и торгуем, принадлежат, прежде всего, Богу, а, следовательно, и любой доход, даже если он является результатом человеческих усилий, тоже принадлежит ему (Втор. 8, 17–18).
Справедливое разделение продуктов экономической деятельности
Так же, как доступ и использование ресурсов земли является общим правом, устанавливающим нравственные ограничения праву частной собственности, право потреблять или наслаждаться конечным продуктом экономической деятельности ограничивается общими потребностями всех людей. Мы ответственны перед Богом за то, как мы распоряжаемся тем, что мы производим, в той же мере, как и за то, что дал нам Бог в качестве сырья. В повествовании о творении нет повеления ни об исключительно личном использовании благ, ни о накоплении и потреблении за счет других. Частная власть над некоторыми материальными ресурсами земли не дает права потреблять весь запас этих ресурсов, потому что владычествовать означает управлять по доверенности от Бога — и включает ответственность за других. Не существует необходимой или неприкосновенной связи между ресурсами, которыми человек обладает или вкладывает в процесс производства, и тем, что он называет исключительным правом получать обратно как прибыль. Существует взаимная ответственность за благополучие всего человеческого сообщества, а также за все творение, что перечеркивает мысль: «Это мое, и я имею право копить и потреблять все, что смогу взять из этого источника».
Конечно, намного больше можно сказать о каждом из четырех перечисленных выше пунктов, и намного больше следует сказать, когда определенные проблемы современной национальной и глобальной экономической системы обсуждаются христианами. Но эти принципы и обязательства, которые выдвигаются на их основе, формируют базовую модель, в рамках которой хотел бы поступать библейский христианин. Соединенные вместе, они образуют подмостки рассказа о творении, которые поддерживают сменяющиеся декорации в сценах человеческой экономической истории. Однако, продолжая метафору, в пьесе пошло все не так, как задумал автор, так что даже сами подмостки оказались в опасности. Теперь нам следует учитывать влияние грехопадения и вторжение греха и зла в непростые отношения человека с землей.
Экономика в падшем мире
Библейское описание вторжения греха и зла в человеческую жизнь уделяет особое внимание отношениям человека с землей. Это событие изображено как радикально исказившее и нарушившее наши отношения с землей и, как говорит Павел (Рим. 8, 20–21, вторя, по всей видимости, Екклесиасту), извратило предназначение творения по отношению к Богу. Сущностью грехопадения было надменное стремление человечества к автономности, бунтом против авторитета и благоволения творца. Опустошение, ставшее следствием попытки изменить статус, наряду с принесенным им проклятием, повлияло не только на наши духовные отношения с Богом и друг с другом, но также на экономическое и материальное окружение. Об этом мы подробно говорили в четвертой главе. Что касается нашей экономической этики, то можно увидеть, что каждый из четырех принципов творения, изложенных выше, был искажен и нарушен, и последствия этого многочисленны.
Конфликт в сфере ресурсов
Таким образом, земля и ее запасы, вместо того чтобы стать всеобщим источником благ, одинаково доступным для каждого, стала одной из основных причин борьбы и войн. Некоторые запасы были захвачены меньшинством, которое не пожелало делиться ими с остальными. Другие же были растрачены, загрязнены или неверно использованы. Вместо того чтобы стать объединяющим источником совместного использования ресурсов, как незаслуженного дара, они стали предметом завоевания и захвата, инструментом угнетения, жадности и власти. И даже отдельные территории с небольшими сельскохозяйственными благами или вовсе без них становятся яблоком раздора в наиболее кровавых и продолжительных войнах, уродующих человеческую историю. Ветхий Завет показывает заносчивость царей и императоров, заявляющих о своих правах на владение ресурсами, как если бы они сами создали их. Вот что ответил Бог на подобную абсурдную похвальбу:
Вот, я — на тебя, фараон, царь Египетский,
большой крокодил, который, лежа среди рек своих,
говоришь: «моя река,
и я создал ее для себя».
(Иез. 29, 3)
Испорченность в сфере трудовых отношений
С одной стороны это означает, что сам труд стал утомительным и разочаровывающим из–за проклятия земли. Он больше не является приятной составляющей человеческой природы, но превратился в рабство и необходимость: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). То, что было для покорения земли, превратилось для большинства людей в мучительную борьбу за выживание. Эта особенность труда в падшем мире усугубилась изменениями в самом характере труда в новейшее время, изменениями, причины которых сами по себе могут не быть греховными. Индустриализация и технологическое развитие могут считаться в некотором смысле неизбежными и не являются сами по себе греховными, хотя связаны с испорченностью всей человеческой деятельности. Механизация труда привела к разделению на специализации, надоедливому однообразию рабочего процесса и отчуждению от окончательного продукта и его потребителей. Все это умножает разочарование, которое сопровождает, в большей или меньшей степени, любую человеческую деятельность в падшем мире.
С другой стороны, это означает, что человеческие трудовые отношения в экономической сфере испорчены. Труд становится товаром потребления, который люди покупают и продают, забывая об ответственности и совершенно не тревожась о работнике. Труд становится рабом жадности, инструментом угнетения, средством, замещающим Бога амбициями человека. Иногда труд, который изначально был благим Божьим даром существам, сотворенным по его образу, становится идолом, — если люди пытаются обрести в нем свою идентичность и значимость или какой–то высший смысл и цель жизни.
В Книге Екклесиаста содержатся наиболее определенные в Ветхом Завете мудрые высказывания о парадоксальной сути человеческого труда. С одной стороны, он все еще остается даром от Бога, и для человека нет лучшей альтернативы, чем находить удовлетворение в труде (Еккл. 2, 24–25; 5, 18; 9, 10). Но, с другой стороны, труд может быть бесплодным и разочаровывающим (Еккл. 2, 4–11), в конечном итоге растраченным впустую (Еккл. 2, 18–23), пронизанным греховными мотивами (Еккл. 4, 4) или бесцельным (Еккл. 4, 8) и, в конце концов, сведенным смертью к суете (Еккл. 9, 10). Нет более проницательного объяснения последствий Божьего проклятия земли и его влияния на жизнь человека, чем эти наблюдения Екклесиаста о парадоксах человека–труженика.
Неконтролируемый рост
В нашем падшем состоянии жадность и неудовлетворенность приводит к тому, что экономический рост становится патологически навязчивым. В Ветхом Завете те, кто живут в послушании Богу, расценивают увеличение материальных благ как благословение, которое следует принимать как дар и наслаждаться им со всей ответственностью. Однако никогда оно не расценивается как гарантированная награда, более того, некоторые наиболее верные слуги Божьи оставались материально бедными. Для тех же, кто живет без Бога, рост благосостояния становится самоцелью. Желание накапливать все больше и больше приводит к социальному и экономическому угнетению и насилию, о чем много проповедовали Михей и Исайя (Мих. 2, 1–2; Ис. 5, 8). Павел не был первым, кто учил, что любостяжание равноценно идолопоклонству и что нарушение десятой заповеди равносильно нарушению первой. Второзаконие предупреждает об опасности, когда благословение Божье, умножаясь, может занять место Бога, в том случае, когда о нем забывают. Описав изобилие природных богатств земли (Втор. 8, 7–9) автор переходит к описанию признаков самодовольного, помешанного на возрастании материализма: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, — то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Втор. 8, 12–14).
Опять–таки Екклесиаст отмечает ненасытную жажду большего, хотя богатство столь ненадежно:
Кто любит серебро, тот не насытится серебром,
и кто любит богатство, тому нет пользы
от того.
И это — суета!
Умножается имущество,
умножаются и потребляющие его;
и какое благо для владеющего им:
разве только смотреть своими глазами ?
(Еккл. 5, 10–11; ср. 5, 13–17; 6, 1–2)
Несправедливое распределение
В конечном счете, окончательный продукт экономики также подвержен несправедливым махинациям. Права собственности приватизированы и считаются абсолютными, то есть свободными от какого–либо ощущения трансцендентной ответственности за других. Выражение: «Разве я сторож брату моему?» — стало эгоистичным отказом от ответственности в глобальном масштабе. Из некоторых стран природные богатства вывозятся на протяжении столетий, что равносильно грабежу. Затем произведенные товары, включая продовольствие, продаются в эти страны по субсидированной стоимости, что подсекает и практически уничтожает местное производство и сельское хозяйство. Эти весьма нечестные торговые соглашения усугубляются наличием внешнего долга, который вопреки естественной и исторической справедливости расхищается богатыми и алчными, а выплачивается бедными. Это глобальная проблема в настоящее время, но она не нова, ее наблюдал еще мудрец из Книги Притчей. Недостаточно просто владеть природными ресурсами. Даже недостаточно тяжело трудиться, чтобы произвести из этих ресурсов какой–то продукт. В конечном счете несправедливость может лишить вас и того и другого. Миллионы людей в нашем мире засвидетельствуют истинность этих слов:
Таким образом, зло проникло во все сферы экономической жизни человечества. Более того, Ветхий Завет намекает на еще одну проблему, а именно — весь материальный и экономический порядок пал жертвой демонических сил, которые провоцируют человека на грех, увеличивая и умножая его последствия. Рассказ о грехопадении изображает личную природу зла, приступающего к первому человеку посредством материального творения и использующего материальное творение, чтобы соблазнить к неверию, непослушанию и бунту. Борьба пророков с угнетением и несправедливостью касалась не просто экономики, но тесно связана с духовной борьбой против поклонения Ваалу. Ведь они ясно видели, как отвержение освобождающего служения Господня привело к служению богам эгоистичной наживы и безжалостного угнетения. Битва, инициированная Илией, и выбор, который он предложил людям, — Яхве или Ваал (3 Цар. 18, 21), был не просто духовным или религиозным. Он выступал от имени жертв экономического угнетения и жадности, связанных с религиозным отступничеством. Трагический случай с Навуфеем продемонстрировал это. То, что было верным в дни Илии, было таковым и в дни Иисуса, который справедливо заметил: «Не можете служить Богу и деньгам» (Мф. 6, 24; курсив автора). Какому богу вы будете служить — это очень важный вопрос. А идолопоклонство всегда порождает несправедливость и угнетение.
Поэтому христианин, вовлеченный в какую–либо отрасль широкой и сложной экономической системы, должен помнить, что проблемы не являются исключительно материальными или физическими. Здесь, как и в других сферах, «наша брань не против плоти и крови» (Еф. 6,12), и не просто против «пота» или «сорняков» проклятого творения, стенающего в отчаянии. Наша брань против духовных начальств и сил, которые своим вторжением и влиянием на человеческие экономические отношения, структуры и идеологии могут установить в этой сфере подавляющую тиранию над человеком так же, как они удерживают людей в рабстве умственной и духовной тьмы. Поэтому я перехожу к анализу экономического значения ветхозаветного богословия искупления.
Экономическое измерение израильской истории искупления
В третьей главе мы уже рассмотрели центральную роль земли Израиля, описанную на страницах Ветхого Завета. Напомнив эти тезисы, мы сможем далее оценить их фундаментальное значение для экономической этики.
Завет с Ноем. Гарантия этого творения и прототип нового
Ной получил свое имя (которое означает «покой» и «отдых») потому, что его отец Ламех хотел, чтобы Бог снял проклятие с земли (Быт. 5, 29). Это ключик к самому раннему библейскому пониманию того, что означает Божье спасение. Ввиду того, что влияние греха нарушило и осложнило жизнь человека на земле, наведя на нее проклятие, допотопный предок указывает на разрешение ситуации: пусть Бог устранит проклятие с земли. Обратите внимание, не заберет нас с земли куда–то в небеса. Неизменная библейская надежда — от Бытия до Откровения — состоит в том, что Бог должен нечто сделать с землей, чтобы мы снова могли жить на ней и с ним, в покое и мире шаббата. Библия главным образом говорит об ожидании пришествия Бога на землю, а не о нашем желании отправиться куда–нибудь еще. Именно земля должна стать местом Божьего суда и местом Божьей спасающей силы. Поэтому история о потопе и ее продолжение становится знаком не только Божьей верности жизни на земле в продолжение ее существования (в завете, скрепив его радугой),[133] но также грядущего окончательного суда и обновления — нового творения (см. 2 Пет. 3).
«Вселенский завет» Бога со всем живым на земле играет важную роль в том, как мы понимаем экономическую деятельность. Он имеет фундаментальное значение для экономики как науки, деятельности и этики. Ведь он говорит о постоянстве и надежности всех природных процессов, включая основные космологические феномены, известные нам теперь как вращение земли вокруг своей оси (день и ночь) и вокруг солнца (лето и зима), а также сферу продуктивного вмешательства человека (сеяние и жатва) на земле, благословенной заветом верности Бога — творца, судьи и спасителя. Поэтому мы понимаем всю серьезность экономических последствий того, что живем на проклятой земле, но радуемся стабильности и надежде, которые нам дает осознание проживания на земле обетованной.
Завет с Авраамом. Особенная территория, всеобщая земля
В первых одиннадцати главах Бытия упоминания о земле очень часто фигурируют в контексте отношений с Богом и человеком, поэтому неудивительно, что призвание Авраама, открывающее историческое искупительное повествование Бога, вращается вокруг обетования земли. Бог не восхитил Авраама и Сарру на небо в тот момент, когда они поверили Божьему обетованию, и это «вменилось им в праведность». Конечно, Послание к Евреям говорит о долгосрочной цели, кроме той земли, которую они покинули, или той, в которую прибыли. Однако Божьей целью для них был не духовный рай, но жизнь в избранной и обетованной им земле. И это, в свою очередь, стало символом жизни в искупленном творении, высшей цели Божьей искупительной деятельности.
Следовательно, существует преемственность и последовательность во всей библейской истории. Книга Бытия 1–11 изображает человечество на Божьей земле, но живущим в состоянии отчуждения от него и надеющимся на восстановление и устранение проклятия с земли. Заключительное видение в Книге Откровения 21—22 описывает новое творение, в котором Бог опять будет обитать с искупленным человечеством. Фундаментальный искупительный завет благодати с Авраамом, следовательно, включает землю, чтобы сделать конкретным и локальным то, что, в конце концов, будет универсальным — благословение не только всех народов, но также и всей земли.
Из предыдущего пункта следует, что землю Израиля в Ветхом Завете следует рассматривать в свете универсальности завета с Авраамом, а также его специфичности. Верность Бога своему обетованию, данному Аврааму, привела к историческому дару земли ханаанской коленам Израиля, но конечным намерением этого обетования было благословение всех народов. Остальные составляющие завета с Авраамом, несомненно, имели в виду эту глобальную цель: потомство (тот факт, что Авраам станет родоначальником народа, который будет инструментом Божьего благословения народов) и отношения (особый завет Бога с Израилем, который, как предвидит Ветхий Завет, будет распространен на все народы). Израиль стал народом ради всех остальных народов. Израиль был благословлен Богом, чтобы все народы получили его благословение. Таким образом, землю как элемент обетования Аврааму следует последовательно рассматривать в этом же вселенском контексте. Овладение Израилем своей землей было частью его миссии остальным народам и частью Божьего искупительного намерения для всей земли. Это очень важный пункт для концепции избрания.
Но это также важно в связи с задачей построения библейской экономической этики. Здесь мы обязаны вспомнить аргумент из второй главы о важности рассматривать Израиль как образец для других культур и обществ. Израиль создан и уполномочен быть «светом для народов». Следовательно, все, что связано с ним, было примером. Дарование земли, чтобы жить в ней, и закона, по которому жить, было неотъемлемо связано с тем, что Бог сделал Израиль образцовым народом. Поэтому обетование земли потомкам Авраама вылилось в очень специфическую и культурно обусловленную экономическую систему, однако ввиду вселенского масштаба самого обетования эта система имеет более широкое значение, выходящее за ее исторические и культурные границы. Именно такое понимание делает наше изучение экономической системы Израиля не просто изучением древней истории или исторической социологии, но высвобождает ее потенциал для формирований нашего нравственного отклика, целей и решений в сфере современной экономики. Когда мы постигаем структуры и цели экономической системы ветхозаветного Израиля, то соприкасаемся с Божьими мыслями о том, какой должна быть экономическая жизнь людей на планете в целом.
Исход. Экономическая независимость
Прототипом и моделью всей Божьей искупительной деятельности в Ветхом Завете был, несомненно, исход. Главной особенностью избавления в исходе был его многосторонний характер. В единой последовательности событий Бог даровал Израилю четырехкратную свободу: (1) политическую — от тирании иностранной автократической власти; (2) социальную — от невыносимого вмешательства в их семейную жизнь; (3) экономическую — от бремени принудительного рабского труда; и (4) духовную — от власти чуждых богов к свободному поклонению Господу и отношениям в завете с ним. Поразительно, насколько тесно связаны экономическая и духовная сферы. Бог слышит вопль Израиля в условиях экономического угнетения и несправедливости и отвечает на него (Исх. 2, 23–25). Он намерен избавить народ, чтобы исполнить обетования Аврааму, даровав им экономическое благословение в их собственной земле (Исх. 3, 7–8; 6, 4–8). Поэтому одной из главных причин исхода, основополагающего события спасения во всем Писании и истории Ветхого Завета, было освобождение от экономического угнетения, а экономическая свобода — одной из его главных спланированных задач. Экономика вплетена в саму ткань истории искупления Израиля.
Возрождение первоначальных ценностей в экономике Израиля
Экономическая жизнь в Израиле осуществлялась в рамках мировоззрения, сформированного не только принципами творения, которые были описаны в предыдущем разделе, но также их статусом народа, находящегося в отношениях завета с творцом, искупителем и Господом. В этом разделе мы увидим, как требования завета, включающие отношения с Богом и друг с другом, влияли на экономическую систему Израиля. В общих чертах, основанная на завете экономика требовала, чтобы экономические отношения основывались на любви и взаимной поддержке, а не на корысти. Некоторые экономические нормы Израиля требовали пожертвовать личной выгодой ради нужд собрата–израильтянина. И все это было в рамках фундаментального призыва доверять своему творцу–искупителю Богу, даже перед лицом экономического «здравого смысла». Мы можем видеть это в связи с каждым из четырех перечисленных выше принципов. Они представляют удобную схему, на которой показаны экономические законы и обычаи Израиля.
Общий доступ к природным ресурсам
В Израиле это отражалось, прежде всего, в системе распределения земли, которая должна быть как можно более беспристрастной. Это служит ярким контрастом в сравнении с ханаанской системой землевладения. Насколько нам известно, в ханаанской системе вся земля принадлежала местным царям или повелителям отдельных городов. Остальное население было крестьянами–арендаторами на чужой земле, оплачивая налоги и служа в армии царя. Израиль должен был отличаться. Даже до овладения землей в Книге Чисел 26, 52–56 описана система распределения земли таким образом, чтобы каждое колено получило надел пропорционально своей численности. Более позднее описание распределения земли в Книге Иисуса Навина 13—19 неоднократно указывает, что оно осуществлялось не только по коленам, но и «по племенам их». Цель ясна: каждое племя, клан или семейство должно получить достаточное количество земли, согласно своей численности и потребностям. Земля должна быть справедливо распределена, а землевладение должно быть честным, а не сконцентрированным в руках царя или богатого меньшинства. Учитывая географическое разнообразие Палестины, это не значило, что земли у всех должно быть поровну, но что у каждой семьи должно быть достаточно, чтобы она была экономически жизнеспособной.[134] Здесь имеет место принцип творения, действующий в контексте искупления.
Однако экономические последствия греха, такие как алчность, лишение собственности, политические интриги, вместе с природными катаклизмами, войнами и прочим, приводили к тому, что огромное количество людей не имело собственной земли. Такие люди выживали, нанимаясь за деньги на работу к семействам, которые владели землей. Еврейские рабы в Исх. 21, 2–6 и Втор. 15, 12–18 принадлежали к такому безземельному классу народа.[135] В израильском законе большое внимание уделяется их защите, так же как и защите других групп безземельных людей — вдов и сирот, пришельцев и левитов. Экономическая щедрость для облегчения их участи была обязательна и усиливалась экономическими и богословскими причинами (Втор. 15, 14–18). Таким образом, те, у кого не было земли, все же могли найти пропитание в богатствах страны. Этот принцип выражается во Второзаконии фразой «есть и насыщаться». С одной стороны, это будет благословением, которое израильтяне испытают, овладев землей и поселившись на ней: «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую он дал тебе» (Втор. 8, 10). Но, с другой стороны, это также будет благословением для бездомных и безземельных (вдов, сирот и пришельцев), когда они получают помощь из распределения трехлетней десятины. Они, хоть и не имеют собственной земли, также «пусть едят и насыщаются» (Втор. 14,29). Одна и та же фраза применима к тем, кто владеют землей, и безземельными.
Но одной щедрости было не достаточно. Эсхатологическое видение пророков устремляется ко дню Божьего спасительного преобразования. Тогда «каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею» (Мих. 4,4; курсив автора), и тот, кто сейчас не имеет земли, получит надел и будет владеть землей в новом Божьем творении (Иез. 47, 22–23). Такой спасительный Божий акт восстановит первый принцип экономики творения.
Право и обязанность трудиться
Этот второй принцип творения применим к искупленной общине в земле обетованной в той же мере, что и ко всему человечеству в Эдемском саду. Даже идиллическое описание благословения Богом своего народа, который послушно живет на дарованной земле, предполагало обычный сельскохозяйственный труд. Но с учетом искажения грехом сферы труда и трудовых отношений, как мы уже отмечали, закон также выдвинул некоторые прямые требования к искупленному народу в этой сфере. Ветхозаветные законы, относящиеся к труду, можно классифицировать следующим образом:
• Условия. Евреи рабы должны иметь возможность получить свободу (которая на практике означала смену работодателя) после шести лет, и условия их работы и освобождения были четко установлены (Исх. 21, 1–6). Рабовладелец имел определенные ограничения в обращении с рабами (Исх. 21, 20–21.26–27), а тот, кто не мог обеспечить себя сам и добровольно поступал на работу к кредитору, не должен был работать в жестких условиях (Лев. 25, 39–40.43).
• Плата. Заработная плата наемных работников должна выплачиваться полностью и в срок (Лев. 19,13; Втор. 24,14–15). Пророки осуждали угнетение и эксплуатацию работников, особенно в вопросах оплаты (Ис. 58, 3; Иер. 22, 13).
• Отдых. Субботний покой, принцип со времени сотворения, стал обязательным для работодателя, работника и даже животных не только на основании Божьего примера в истории творения (Исх. 20,11), но также на основании его искупительного деяния (Втор. 5, 15). В дополнение к этому регулярному еженедельному отдыху, рабам и прочим местным и наемным работникам позволялось отдыхать во время великих праздников и культовых событий, добавлявших несколько дней перерыва в работе на протяжении сельскохозяйственного года (ср. Втор. 16, 11.14). Для постоянной тяжелой сельскохозяйственной работы такая периодическая передышка была просто необходима.
Однако трагедия заключается в том, что законы и условия, регулирующие трудовую жизнь, игнорировались царями, начиная с Соломона, и еще с большей силой теми, кто был после него (ср. 3 Цар. 5,13–17; 9,20–23; 11,28; 12, 3–4.10–11). Это стало одной из причин пленения, которое можно расценивать только как божественный суд в свете Лев. 26. В этой главе суд связан с нарушением народом соблюдения субботы, что, как показывает контекст Лев. 25, включало субботнее установление о земле: периоды покоя земли в седьмой субботний год (однозначно ради блага бедных); освобождение от долгов по займам (ср. Втор. 15, 1–3; займовые залоги, по всей видимости, включали иждивенцев должника, которые отрабатывали свой долг); и юбилейное освобождение тех, чья земля и труд были отданы кредиторам под залог. Все эти субботние установления сосредоточены на интересах тружеников, особенно тех, единственным активом которых был их труд. Пренебрежение субботами, в этом смысле, соотносится с обвинениями в несправедливости и эксплуатации неимущих, которые высказывали пророки. Подобным образом экономическую эксплуатацию с нарушением субботнего дня из алчных мотивов связывают Амос (Амос. 8, 5–6), Исайя (Ис. 58, 3–14) и Иеремия (Иер. 17, 19–27; ср. 7, 5–11).
Поэтому и сами законы, и реакция пророков на пренебрежение ими говорят о том, что в Ветхом Завете большое внимание уделяется обстоятельствам и условиям труда, достаточному отдыху и честной оплате. Такие правила распространялись на все трудовое население: работодателей, свободных наемных работников, рабов. Более того, принципы честности и сострадания распространялись даже на рабочих животных, таких как груженый осел или вол на гумне (Исх. 23, 4–5; Втор. 25, 4; ср. Втор. 22, 1–4).
И хотя в Израиле этими законами зачастую пренебрегали, они имеют значение для христианских этических проблем в области экономики, особенно касающихся наемного труда. Остается справедливым, как говорят Биггар и Хей (Biggar and Hay), «более общее утверждение Библии о том, что труд — это часть человеческой природы, важный элемент человеческого достоинства и источник самоуважения».[136] Несомненно, природа труда и занятости в относительно простой сельскохозяйственной экономике, такой как в древнем Израиле, сильно отличается от сложной индустриальной экономики современных развитых стран. Но постоянный поиск удовлетворительных и достойных условий труда и честной оплаты не прекращается. Отношение к отдыху в развитых странах изменилось радикально, поскольку обычная безработица и техническая революция привели не к излишку работы, а ее отсутствию и нехватке. Мы вынуждены заново осознавать, что труд не тождественен оплачиваемой занятости, и нам следует переосмыслить значение и использование досуга. В то же самое время мы встречаем нравственное искажение в том, что многие люди в западных обществах переутомляются, подгоняемые тираническими компаниями и своей собственной алчностью, в то время как другие вовсе не имеют достойной работы. Переработка для одних и безработица для других — это один из наиболее примечательных и абсурдных результатов грехопадения в сфере труда.
Тем не менее, все еще существуют огромные территории так называемого развивающегося мира, или Мира большинства (Majority World), где характер человеческого труда мало отличается от древних моделей, которые встречались в библейские времена. А также существуют общества, в которых условия работы предполагаемых «свободных» наемных рабочих, к сожалению, более тяжелые и гнетущие, чем условия рабов в Израиле. В таких ситуациях значимость ветхозаветных экономических законов в народе Божьем по вопросу труда и занятости может быть примером. Введение установленных законом дней отдыха и праздников, создание условий и обстоятельств занятости, защиты от посягательств на личные права и физическое достоинство, гарантии честной и своевременной оплаты (это только некоторые ветхозаветные предписания о правах работников) произведут революцию в экономической жизни в некоторых частях нашего мира. И все эти принципы взяты из экономических законоположений искупленного Божьего народа, Израиля.
Поэтому справедливо желание отстаивать простые принципы и идеалы, присущие порядку труда, данному в творении, но влияние грехопадения таково, что невозможно сделать это адекватно, не возвратившись к принципам и конкретным моделям, данным в контексте искупления народа Божьего. Между прочим, ничего не поменяется, если мы обратимся к Новому Завету по вопросу этики труда и занятости. Ведь наставления работодателям и их работникам–рабам, а также предостережения о всякой праздности ясно представлены в посланиях Павла к христианским церквям. В одном пророческом обличении эксплуатирующих работодателей, (предположительно) не принадлежавших к общине искупленных, к которой он обращался, Иаков делает то, чего, как мы видели, нельзя было избежать — он использует язык и концепции закона ветхозаветного Израиля: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас… Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак. 5, 1–6; ср. Исх. 22, 22–23; Лев. 19, 13; Втор. 24, 14–15).
Более того, для труда есть место и в эсхатологических видениях нового творения. Устранение проклятия с земли и избавление от человеческой порочности не оставит людей в райской праздности. Пророки описывают искупленное трудящееся человечество, но трудящееся под мирным небом, при царящих на земле праведности и мире и в полной гармонии с природой:
Вот, наступят дни, говорит Господь,
когда пахарь застанет еще жнеца,
а топчущий виноград — сеятеля;
и горы источать будут виноградный сок,
и все холмы потекут.
(Ам. 9, 13)
И перекуют они мечи свои на орала
и копья свои — на серпы…
Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою
и под своею смоковницею,
и никто не будет устрашать их…
(Mux. 4, 3–4; ср. Ис. 11, 1–9; Ос. 2, 18–23)
Снова мы видим, что новое творение возрождает изначальное предназначение человечества. Эсхатологическое видение наряду с предписанием творения является стимулом для нашей социальной этики, тогда как предписания искупления обеспечивают принципы и модели для настоящего, которые учитывают наше падшее состояние.
Ожидание роста и торговли
Третьим принципом творения было ожидание экономического роста посредством обмена, торговли и увеличения товаров наряду с возрастанием численности населения и разнообразия его владычества над природой. В результате грехопадения желание трудиться стало навязчивым и идолопоклонническим, уровень роста стал чрезмерным для одних за счет других, а средства роста наполнены алчностью, эксплуатацией и несправедливостью. Следовательно, возникла дилемма в вопросе создания законов для роста в экономике Божьего искупленного народа. Как должен учитываться и поощряться экономический рост и товарная производительность в свете Божьих целей творения и очевидного желания даровать изобилие в качестве благословения, хотя в то же самое время необходимо воспрепятствовать и максимально ограничить зло противозаконного роста?
Именно в этой сфере ветхозаветная экономическая этика и законы, на мой взгляд, наиболее радикальны и проницательны. Но также в этом месте они наиболее подвержены неверному истолкованию двух противоположных крайних точек зрения. С одной стороны, некоторые втискивают тексты, говорящие о материальном преуспевании и увеличении благ как о Божьем благословении, в буквальный карт–бланш, благословляющий свободу действий всех форм частного предпринимательства и капиталистической экономики, ориентированной на рост. С другой стороны, их оппоненты расширяют отрицание, которого придерживаются закон и пророки, по поводу чрезмерного и несправедливого накопления богатства до проклятия любой формы частной собственности или обогащения. Оба взгляда ошибочны и несбалансированы в свете представлений Ветхого Завета.
Достаточность
Можно сказать, что основная суть ветхозаветной экономики передана в десятой заповеди: «Не желай». Адресованная во втором лице единственного числа к отдельному человеку и включающая, среди прочего, экономические активы своего ближнего, эта фундаментальная заповедь видит источник всякой греховной формы экономического роста там, откуда он проистекает — алчность человеческих сердец. Пророк Михей видел за социально–экономическим злом своего времени жадность людей, «замышляющих беззаконие и на ложах своих» (Мих. 2, 1). Противоядием «жадности, которая есть идолопоклонство» (Кол. 3, 5; RSV) является «страх Господень», порождающий мудрость довольства. Традиция мудрости, несомненно, принимала рост и преуспевание в качестве божественных даров (ср. Притч. 3, 9–12; 10, 22). Но она в равной степени осознавала как опасности чрезмерного богатства, так искушения крайней нищеты:
нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом,
дабы, пресытившись, я не отрекся тебя
и не сказал: «кто Господь?»
и чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе.
(Притч. 30, 8–9)
Втор. 8 — еще один довольно сбалансированный комментарий в этой связи. Первая часть главы предвосхищает вхождение Израиля в землю, где их ожидает достаток в отличие от пустыни, где они довольствовались малым: «В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни — железо, и из гор которой будешь высекать медь» (Втор. 8, 9). Такой достаток должен приводить к хвале (Втор. 8, 10).
Однако автор текста вполне осознает, что достаток в конечном счете приведет к избытку, «когда будет у тебя много», а избыток приведет к гордости и забвению Бога (Втор. 8, 12–14). Поворотным моментом главы, судя по всему, является одиннадцатый стих (обратите внимание на выражение «есть и насыщаться» в разных местах текста), с его строгим предостережением против забвения Бога. Только когда Бог должным образом почитается и прославляется, мы сможем устоять на тонкой грани между достатком и хвалой, с одной стороны, и избытком и гордостью, с другой.
Отсутствие рынка земли
Когда мы подходим к действительным законам и институтам, задуманным для воплощения этого принципа, наиболее важными являются установления о неотчуждаемости семейной земли и поддерживающие процедуры выкупа и юбилейного года в Лев. 25. Совокупность этих установлений должна была изъять землю с товарного рынка. Спекуляции землей или накопление огромных частных землевладений посредством постоянного приобретения земли были технически невозможны в Израиле. Земля не могла постоянно продаваться (Лев. 25, 23). Сам продавец мог выкупить свою землю позже, или же продажа могла быть предотвращена и выкуплена родственником (ср. предотвращение Иеремией продажи земли его родственником Анамеилом, Иер. 32, 6–12). В любом случае, даже если этого не происходило, земля возвращалась к ее и значальному владельцу или его потомкам в юбилейный год; то есть не больше, чем через поколение. Следовательно, любой происходивший обмен землей на самом деле вовсе не был продажей земли, а всего лишь узуфруктом,[137] или ожидаемой прибылью с земли до следующего юбилейного года. Поэтому цена земли с каждым годом уменьшалась по мере приближения юбилейного года (Лев. 25, 14–17)! Цель — воспрепятствовать беспринципному росту одних за счет других, что ясно показано дважды: «не обижайте друг друга» (Лев. 25, 14.17).
Ограничения долговых обязательств
Юбилейный год также действовал как гарантия безопасности против другого вида злоупотребления, связанного с законной процедурой выкупа. Преуспевающий родственник, пользуясь своим правом преимущества покупки или выкупа земли своих бедных родственников в племени, мог в итоге вполне законно овладеть большей частью их земли, фактически сделав бедных родственников крепостными (Лев. 25, 39–40). Юбилейный год ограничивал такого рода замаскированный под благотворительность экспансионизм, повелевая освобождение и возврат всех семейств на свое изначальное наследие.[138]
Поэтому первоначальный порядок распределения земли семьям, принцип неотчуждаемости, возможность выкупа и положения о юбилейном годе приводят к экономической системе, которая начиналась с положения широкого равенства, но признавала греховную реальность: некоторые будут преуспевать, тогда как другие — обнищают. Она пыталась ограничить и обезопасить людей от худших последствий этого процесса посредством регулирующих и восстанавливающих экономических мер. Авторы Ветхого Завета хорошо осознавали, что подобные меры противоречат «природным» экономическим тенденциям эгоистичных людей. Именно поэтому, согласно Лев. 25, экономические отношения внутри Израиля должны быть построены на избавлении из египетского рабства и завете с Богом (Лев. 25, 17–18.23.36.38.42–43.55). Эти экономические правила, которые отражают принципы творения, развиты в рамках завета среди народа, знающего, чем он обязан Богу.
Ограничения на накопление богатства
В связи с этим центральным стержнем ветхозаветной экономики мы также могли бы перечислить некоторые другие нормы, цель которых — ограничить рост личного богатства, приобретенного несправедливо или при помощи угнетения.
Во–первых, существовал запрет на передвижение межевых камней, обозначавших границы семейной земли (Втор. 19, 14). О серьезности этого нарушения говорит его включение в проклятия книги Второзаконие (Втор. 27, 7). Оно использовано как олицетворение несправедливости Осией (Ос. 5, 10), а также было популярной темой в традиции мудрости (Иов 24, 2–3; Притч. 23, 10).
Во–вторых, среди израильтян запрещалось брать процент с займов (Исх. 22, 25; Лев. 25, 36–37; Втор. 23, 19–20). Речь идет не о процентах в коммерческих инвестициях, как мы их понимаем. Разрешение в книге Второзакония брать проценты с чужеземцев, по всей видимости, подразумевает подобную коммерческую деятельность. Однако другие законы ясно указывают, что заем требуется из–за нужды, главным образом на необходимые ежегодные расходы сельскохозяйственной жизни; например, заем посевного зерна. Запрет на ростовщичество, таким образом, касается не самого экономического роста, а роста, который достигается ценой беспринципного злоупотребления нуждой другого. Запрет на ростовщичество имел серьезные последствия среди израильтян: «поскольку заем у родственника можно было взять без процентов, расширенная семья получает преимущество, сберегая подобные трансакции в рамках родни, вместо того чтобы обращаться вовне».[139]
В–третьих, существовал контроль над использованием залогов для гарантии займов. Это варьировалось от простой человеческой внимательности (напр., возврат верхней одежды до вечера, Исх. 22, 26–27; не брать в залог жернов, Втор. 24, 6; не вторгаться в жилье за залогом, Втор. 24, 10–11) до главных субботних законов. Освобождение, предписанное для седьмого года во Втор. 15, 1–3, вероятно, означало, что залоги, взятые в качестве гарантии займов, должны вернуться к владельцу, и заем получал отсрочку на год (или же вовсе аннулировался).[140] Залогом могла быть земля, заставленная кредитору, или иждивенцы должника, отрабатывающие его долг. Возврат таких залогов должен был приносить существенное облегчение должнику и, соответственно, обуздать алчность жадных кредиторов. К тому же закон вполне осознает тенденции экономической сущности человека и поэтому, подобно Неемии, взывает к искупленной совести (Втор. 15, 9 и далее; Неем. 5, 1–13).
В–четвертых, закон запрещает чрезмерное обогащение царя, человека, который мог считать, что ему это позволено. Несомненно, у царя должны быть личные средства, подтверждающие его высокий статус. Главное, чтобы «он не умножал себе» (Втор. 17, 16–17) их, будь то лошади, жены, серебро или золото. Лошади были тягловой силой для колесниц, а жены содержались в гареме — символе восточной царской роскоши. Оружие, женщины и богатство — вот символы царской власти в народном сознании (с тех пор прошло много времени, но мало что изменилось в отношении власть имущих). Но Бог сказал, что цари Израиля должны идти против течения, и избегать подобных ловушек надменности и алчности. Со времени Соломона и далее этот закон игнорировали цари и царские фавориты, но все же он постоянно обличал склонности к накоплению посредством несправедливости и угнетения через бесстрашные слова пророков.
Наконец, как можно понять из двух предыдущих разделов, эсхатологическое видение нового творения, когда Божий народ будет обитать в новых и совершенных отношениях с Богом и друг другом, включает исполнение идеала творения о товарном росте и плодоносном изобилии. Главы Иер. 31—33, включающие известные пророчества о новом завете и вечной эпохе Божьего благословения и изобилия, включают образы, взятые из экономической сферы восстановления торговли, производства и преуспевания после пленения. Хотя осуществление окончательных Божьих целей искупления, несомненно, включают суд и уничтожение экономического угнетения и несправедливости (см. пророчества против Тира и Вавилона в Ис. 13—14; 23, и их отголоски, которые включают экономический аспект, в Откр. 18), экономическое измерение человеческой жизни и достижений на земле не игнорируется.
Справедливое распределение продукта экономической деятельности
Четвертый принцип экономики творения гласит, что мы подотчетны Богу не только в том, как распределяем сырьевые богатства земли, но также в том, что делаем с продуктами и прочими результатами экономического процесса. Наша ответственность перед Богом друг за друга означает, что мы не можем претендовать на исключительное и абсолютное право использования произведенного нами. Заявление: «Это мое, ибо я создал его» — может быть приписано только Богу (ср. Пс. 94, 4–5). В устах любого человека подобное заявление перечеркивается тем фактом, что и ресурсы, и сила использовать их являются дарами Бога. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство» (Втор. 8, 17–18). Поэтому, естественно, мы нравственно подотчетны ему в справедливом, сострадательном и щедром распределении богатства, способность произвести которое дал нам Бог.
Справедливость, несомненно, должна управлять всей общественной жизнью Израиля (как мы это увидим более полно в восьмой главе). Но справедливость важна, в первую очередь, в экономических отношениях. Сам рынок, большой или малый, был местом экономического обмена товарами и услугами, и его работу должна была регулировать справедливость. Закон призывает к точным весам и мерам, чтобы предотвратить обман во время продажи и приобретения (Лев. 19, 35–36). Простая честность в торговых отношениях — это фундаментальный принцип экономической справедливости:
В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; в доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя должна быть тонная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе; ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду.
(Втор. 25, 13–16; Притч. 11, 1)
Справедливость также распространяется на тех, от чьего труда вы зависите, чтобы получать богатство. Поэтому своевременная выплата вознаграждения, обещанного работникам (как мы уже видели), — это требование закона (Втор. 24, 14–15), нравственное заявление праведных (Иов 31, 38–40) и социальная проблема для пророков (Иер. 22, 13; Ис. 58, 36). Даже вол, вращающий жернова, чтобы молоть зерно для ваших ежедневных потребностей, заслуживает справедливого отношения: есть то, что производит для вас (Втор. 25, 4).
Однако библейская справедливость выходит за рамки подсчета прав и заслуг. Из–за того, что она характеризуется межличностными отношениями, она всегда идет рука об руку с состраданием к тем, кто слаб. Таким образом, в библейской экономике богатство, которое Бог дал нам возможность произвести, нужно использовать с сострадательным сердцем и рукой. Конечно же, сострадание — это область сердца и эмоций, но это также обязанность по завету, и поэтому может быть заповедана. Важно не то, чувствуете ли вы сострадание, а действуете ли вы сострадательно. Поэтому, что бы вы ни ощущали при этом, вы не должны убирать свои поля, виноградники или сады до последнего зерна, грозди или маслины. Есть те, чьи нужды более важны, чем ваши права собственности, и те, ради которых Бог повелевает практическое сострадание (Лев. 19, 9–10; Втор. 24, 19–22). Также сострадание — это то, как вы смотрите на неимущих в сообществе. Отношение сердца руководит нашими руками, поэтому они важны:
Если же будет у тебя нищий кто–либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: «приближается седьмой год, год прощения», и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; дай ему, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей.
(Втор. 15, 7–11)
Следовательно, сострадание, как отмечает этот текст, ведет к щедрости. И тексты, которые следуют непосредственно за ним, говорят о щедрости, которая выходит за рамки специфически правовых требований при освобождении раба–должника после шести лет работы. Более того, он побуждает к щедрости на основании щедрости Бога, которой израильтянин призван подражать: «Снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 15, 14). Действительно, милость и сострадание, справедливость и щедрость — это главные качества Господа, которые отражают боящиеся Господа. Определенно об этом сказано в Пс. 110, 4–5 и 111,4–5.
Экономика и бедность
Итак, до этого момента в данной главе мы рассматривали принципы творения, на которых базируется ветхозаветная экономика. Мы видели искажения, являющиеся следствием человеческого греха и непослушания, и усилия в рамках израильской экономической системы, которые могут воплотить принципы творения в пределах израильской искупленной общины завета. Как все это влияет на проблему нищеты?
Вообще, есть ли в Ветхом Завете проблема нищеты? Сирил Родд (Cyril Rodd) помещает главу с названием «Нищие» среди тех вопросов, которые, как полагает он, современные нравственные проблемы привнесли в ветхозаветную этику (Rodd, Glimpses, ch. 14). В характерной для себя манере, представляя очень хороший обзор библейской и научной литературы, посвященной лексике и отношению к нищете в Ветхом Завете, он соглашается с Т. Р. Гоббсом (Т. R. Hobbs), утверждающим, что нищета сама по себе не была нравственной проблемой для Израиля (просто это было частью того, как обстояли дела в том мире). Скорее для израильтян была проблемой потеря статуса и бесчестие, которое влекла за собой нищета. Нищета была несчастьем, а не нравственной проблемой. Сам Родд доказывает, что сама по себе материальная нищета редко является проблемой для ветхозаветных авторов, но, скорее, они рассматривали ее как несправедливость или угнетение в обществе, где были унижены одни, в то время как другие преуспевали. Это представляется мне четким тезисом, но он не устраняет нищету из сферы подлинной ветхозаветной этики так, как это предполагает Родд. Ведь ветхозаветная этика характерно межличностная, а не абстрактная или поддающаяся количественному исчислению. На самом деле то, что нищета подразумевает для человеческих отношений (злоупотребление ими, искажение, эксплуатация и пр.), составляет нравственную проблему. Следовательно, нищету нельзя рассматривать просто как экономическую или материальную проблему без одновременного рассмотрения межличностных вопросов социальной несправедливости и эксплуатации.
Сначала мы отметим некоторые причины нищеты, признанные и обсуждаемые в Ветхом Завете. Затем мы сделаем обзор ответов нищете, которые встречаются в основных частях канона.[141]
Причины бедности
Нищета может прийти к человеку, семье или общине по множеству причин, и Ветхий Завет признает сложность этого вопроса.
Во–первых, то, что мы бы назвали естественными причинами. Мы живем в падшем мире, в котором многие события происходят неожиданно, по непонятным причинам. Например, болезни посевов и нашествия саранчи могут разорить местную экономику. Иногда подобные события рассматривались как результат божественного суда (напр., Иоиль), однако в другое время они просто фиксировались без объяснения. Случается всякое. Можем вспомнить голод, погнавший семью Иакова в Египет, описанный в Книге Бытия, или тот, что заставил Елимелеха эмигрировать в Моав из Вифлеема (по иронии означавшего «дом хлеба») в Книге Руфи. Болезнь и несчастье может превратить человека в тень (Иов); утрата и вдовство может наполнить женщину пустотой и горечью (Ноеминь). Приписывание всего этого руке Господа (справедливо или нет) не смягчает боль подобных трагедий. Похоже, для этого нет никаких рациональных объяснений.
Во–вторых, Ветхий Завет показывает, что некоторые случаи нищеты могут быть прямым результатом лени. Это мудрое наблюдение часто встречается в Книге Притчей. По этой причине некоторые ученые представляют авторов этих книг циничными представителями благополучной городской элиты, расценивавшими неимущих не столько как нравственный вызов, сколько как политическое бельмо на глазу, и чувствовавших необходимость обвинять самих бедных за их бедность.[142] Мне это представляется преувеличенной идеологической интерпретацией Притчей. Тезис, который предлагают Притчи, в наших рамках представляется обоснованным и дополняет закон и пророков (как мы увидим). Суть в том, что лень и расточительность действительно могут привести к обнищанию, а усердный труд часто способствует экономическому преуспеванию (напр., Притч. 12, 11; 14, 23; 20, 13; 21, 17 и пр.). В самой Книге Притчей ясно дается понять, что это обобщения, а не правила без исключений (напр., Притч. 13, 23).
В–третьих, угнетение — едва ли не самая признанная причина нищеты. Ветхий Завет учит, что только незначительная доля нищеты случайна, — то же показывает и современный анализ. Чаще всего бедность настигает человека из–за прямых или косвенных действий других людей. Нищета обусловлена. И главная причина — это эксплуатация одних людей другими, чьи эгоистичные интересы держат неимущих в нищете:
Пророки… не считали нищету результатом случайности, судьбы или лени. Нищета — это продукт богатых, которые нарушили завет из–за своей жадности. Богатые не использовали свои возможности и ресурсы для того, чтобы помочь общине, но преследовали собственные цели. Так они нарушили завет, разрушили единство Израиля и накликали божественный суд.[143]
Подобная жестокая эксплуатация принимает различные формы, и Ветхий Завет тонко подмечает это разнообразие:
1. Эксплуатация социально слабых. В обществе есть те, чей статус делает их уязвимыми. Часто это происходит с теми, кто потерял свою семью, земли или то и другое: вдовы, сироты и пришельцы. Ноеминь и Руфь служат иллюстрацией потенциальной борьбы, а 4 Цар. 4, 1–7 представляет типичный случай. Потеря семьи делает человека беззащитным, если только могущественные защитники не станут на его сторону (как поступил Вооз и как делал Иов до того, как его постигли бедствия: Иов 29, 12–17).
2. Эксплуатация экономически слабых. Долг растет, что приводит к потере земли, толкая людей на самое дно нищеты. Ростовщичество обостряло проблему (Исх. 22, 25). То же самое и с царскими налогами, конфискацией и воинской повинностью (1 Цар. 8, 10–18). Экономическое и социальное бессилие идут рука об руку в ситуации, ярко изображенной в Неем. 5. Долг (даже явно пустячные долги) мог привести к рабству (Ам. 2, 6). С другой стороны, механизмы ослабления долга могут быть попираемы, или людям могут отказать в займе из–за близости юбилейного года (Втор. 15, 7–9). Работодатели могли эксплуатировать наиболее уязвимую рабочую силу — поденных рабочих — задерживая выплату зарплаты (Втор. 24, 14–15).
3. Эксплуатация этнически слабых. На заре своей национальной истории израильтяне представляли собой этническое меньшинство в Египте, страдая от всех ужасов политического, экономического и социального угнетения, кульминацией которого стал поддерживаемый государством геноцид (Исх. 1). По этой причине им было сказано обращать особенное внимание на уязвимость этнических меньшинств, находящихся среди них (Исх. 22, 21; Лев. 19, 33). Вновь история Руфи иллюстрирует потенциальную опасность, которой могут подвергнуться иммигрирующие иностранцы. Можно вспомнить, что два ключевых ветхозаветных персонажа, Авраам и Давид, в известных эпизодах опустились весьма низко в своем отношении к этническим пришельцам (Агарь и Урия).
4. Царская невоздержанность, коррупция и злоупотребление властью. Ветхий Завет строго критикует бесчеловечную коррумпированность правителей и приобретение богатства ценой обнищания других. Соломон — яркий пример, когда в позднем периоде своего правления он дошел до неприкрытой эксплуатации северных племен, которая, вне всякого сомнения, внесла свою лепту в его легендарное богатство и роскошь, но также стала причиной восстания, отделившего северную часть царства от его сына Ровоама (3 Цар. 11—12). Последующие цари следовали примеру в той или иной мере. Алчность Ахава уничтожила Навуфея (3 Цар. 21). Жадность Иоакима способствовала его процветанию и изобилию за счет неоплаченного труда работников (Иер. 22, 13). Иезекииль так обобщает всю испорченную историю монархии в Иерусалиме: «Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь… Заговор пророков ее среди нее — как лев рыкающий, терзающий добычу; съедают души, обирают имущество и драгоценности, и умножают число вдов». Неудивительно, что простые люди следуют примеру своих господ: «А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо» (Иез. 22, 6.25.29).
5. Судебная коррупция и ложные обвинения. Случай Навуфея говорит не только о царской алчности; израильская система правосудия стала жестоким орудием в руках Иезавели (3 Цар. 21, 7–16). Ам. 5, 7.11–12 высвечивает ужасную продажность судов, обративших понятие справедливости в трагедию для бедняков. Власть имущие могли даже узаконить нищету указом (Ис. 10,1–2)! Это частая причина жалоб в Псалтыри, когда нищие праведны (юридически правы, в противовес порочным оппонентам), но не встречают человеческого понимания в собрании и могут взывать только к Богу. Нежелание судей выполнять свою работу вызовет ярость Бога и приведет к их окончательному уничтожению (Пс. 81).
Отражение бедности в Писании
«Как ранние, так и поздние ветхозаветные документы стоят на стороне бедных».[144] Нам не следует полагать, что забота Израиля о бедных уникальна. Она, без сомнения, имеет уникальные особенности, однако Израиль был частью древней ближневосточной макрокультуры, обращавшей внимание на реалии нищеты и богатства. Это не означает, что ветхозаветная реакция на нищету была всего лишь заимствованием. Скорее, как говорит Кальвин: «Все человеческое сообщество требует, чтобы мы не стремились разбогатеть за счет потерь других людей».[145] Общая история творения наряду с универсальностью Божьей благодати и нравственных требований не должны удивлять нас; забота о неимущих встречается и за пределами народа завета. Норберт Лофинк (Norbert Lohfink) показывает в деталях, что «многие библейские утверждения, мотивы и формулировки являются созвучными мыслям и переживаниям всего окружения, в котором возникла Библия». Далее он выдвигает следующие тезисы, ссылаясь на множество небиблейских текстов: «На древнем Ближнем Востоке богатые были научены заботиться о бедных… Среди особых обязанностей царя была забота об их правах… Основой такой этики было всеобщее убеждение, что сами боги, в особенности бог солнца, по–особенному любят неимущих». Однако далее Лофинк отмечает ограниченность этого древнего ближневосточного выбора в пользу бедных. Существовал огромный разрыв между теорией и практикой (обвинение, которое, несомненно, применимо к израильской поздней монархии). Она не бросала вызов социальной системе, порождавшей нищету, поскольку боги, которые, как считалось, заботились о бедных, были теми же богами, которые служили гарантом социальных структур и сохраняли власть богатых. И, таким образом, этот смягчающий подход только замалчивал насущную проблему.[146] Отличие же ветхозаветного учения о нищете, согласно Лофинку, заключается в том, что уникальное прообраз – событие исхода рассматривается как акт освобождения, исхода неимущих из угнетающей их системы.[147] Сейчас мы рассмотрим ряд избранных текстов из различных частей канона.
В законе
1. Закон утверждает, что на нищету необходимо реагировать и исправлять, какими бы ни были ее причины. Ряд придаточных предложений в Лев. 25, начинающихся фразой: «Если брат твой обеднеет…» (Лев. 25, 25.35.39.47) — не указывает возможных причин. Возникает вопрос, что же необходимо делать, если брату угрожает опасность нищеты? Если имела место несправедливость или угнетение, ставшие причиной обнищания, это вопрос скорее для пророческой риторики. Те, от кого ожидались действия, не обязательно несли ответственность за проблему (вину за ее возникновение). Однако они отвечали пред Богом за тех, кому грозила опасность нищеты из–за недостатков общества. Подобным людям в зоне риска следовало помочь, так или иначе.
2. Закон подчеркивал родственную, семейную структуру общества в качестве ключевого фактора, предотвращающего нищету и помогающего выйти из нее. Как мы уже видели, экономическая система Израиля включала следующие принципы семейной поддержки: справедливое распределение земли посредством широкой сети кланов и семейств (Чис. 26, 52–56); неотчуждаемость семейной земли (Лев. 25, 23); выкуп и законы юбилейного года, чтобы восстановить участие семьи в сообществе (Лев. 25); запрет ростовщичества среди израильтян (Втор. 23, 19); предписание о левиратном браке (Втор. 25, 5–10).
3. Закон Израиля включал ряд мер, которые вместе образовывали впечатляющую программу социальной поддержки для сильно нуждающихся; то есть главным образом для тех, кто не имел семьи и земли.[148] Таким образом, существовало право ежегодного сбора после сбора урожаев (Исх. 23, 10–11;Втор. 24, 18–22); сбор десятины раз в три года, когда 10% всей продукции сберегались, чтобы создать социальный фонд для поддержки нуждающихся (Втор. 14,28–29);[149] и предписания субботнего года, которые включали доступность всего выросшего самостоятельно на земле в субботний год (Исх. 23, 10–11), отмена (или отсрочка) долгов (Втор. 15, 1–11) и освобождение рабов–евреев (Втор. 15, 12–18). Все это вместе означало, что каждый год существовало нечто для блага тех, у кого действительно не было собственных средств, чтобы поддерживать себя экономически.
4. Закон настаивал, что на протяжении всего судебного процесса к нищим следовало относиться с точки зрения судебного равноправия. Это исключало несправедливое предпочтение состоятельных людей или же (более вероятная картина) вовсе отказ в правосудии из–за социальной или экономической власти богатых (Исх. 23, 6–9; Лев. 19, 15).
5. Закон обычно обращался не к самим нищим, а к тем, кто обладал экономической или общественной властью. Израильский закон не рассматривает бедных как проблему, обвиняя их и поучая, каким образом они должны поступать, чтобы изменить свою ситуацию, а обращается к тем, у кого на самом деле есть власть что–то сделать или чья власть должна быть некоторым образом ограничена ради блага неимущих. Поэтому закон обращается к кредитору, а не к должнику (Втор. 24, 6), работодателю, а не поденным работникам (Втор. 24, 14); рабовладельцу, а не к рабам (Исх. 21, 20–21.26–27; Втор. 15, 12–18).
Второзаконие представляет облегчение страданий нищих вопросом послушания божественной воле. Если бы Израиль повиновался закону, то нищеты не было бы. Поскольку народ не повиновался, нищета — это реальность, с которой необходимо справляться. Второзаконие обращается к богатым, судьям, владельцам рабов, кредиторам, ко всем, кто может либо улучшить, либо усугубить ситуацию нищих… прося, чтобы люди со средствами отказались от некоторых из своих прав, действовали вопреки своей экономической выгоде и относились к неимущим, как к членам собственных семей, кем они на самом деле и были.[150]
6. Закон выстраивает вокруг собственной системы законов о нищете широкую нравственную и эмоциональную систему отношений. Она включает знакомый ветхозаветный акцент на признательности и подражании Богу как побудительном мотиве (см. первую главу), и сострадании и щедрости как основных добродетелях (см. выше).[151]
7. Закон делает заботу о бедных показателем верности закону в целом. Это выражено во Втор. 26, 12–15. Верующий израильтянин, принося свой дар с благодарностью за дар земли и урожай, должен заявить, что отдал священную часть Господу, а также бедным и нуждающимся, как требовал того закон о трехлетней десятине (Втор. 14, 28–29). Только на этом основании он мог заявлять, что «не забыл» Божьих заповедей.
Таким образом, подаяние нуждающимся — это не только священный долг перед Богом, но также определяющая точка для любого утверждения о соблюдении закона. Закон соблюден только в том случае, если есть забота о нищих. Когда Израиль дает возможность каждому в обществе есть и насыщаться, только тогда он может утверждать «я исполнил все, что ты заповедал мне». Это демонстрирует… как установленная любовь к нищим и нуждающимся является практическим доказательством подлинной, почитающей Бога любви к ближнему. Сама Тора, таким образом, соглашается с пророками, которые позже заостряли внимание и рассматривали заботу о нищих как что–то определяющее, как пример отклика Израиля Богу в целом.[152]
В повествованиях
1. Основное повествование искупительной истории Израиля описывает переход израильтян из египетского рабства к свободе земли обетованной. Как верно отмечает Родд (Rodd, Glimpses, p. 183), слова, относящиеся к нищете, не встречаются в связи с евреями в Египте, ситуация описывается в терминах угнетения, а не нищеты. Тем не менее, Второзаконие придает большое значение изобилию земли обетованной, что резко контрастирует с минимальными средствами к существованию в Египте и пустыне (Втор. 8 и 11). Несомненно, египетское угнетение включало экономическую эксплуатацию через принудительный труд евреев ради обогащения и роскоши фараона, а не их собственного блага.
2. Это повествование об освобождении составляет основу восхваления уникальных деяний Яхве как Бога. Анна воспевает Божью силу в экономических преобразованиях (1 Цар. 2, 5–8). То же делает и псалмопевец (Пс. 146).
3. Повествования также представляют примеры отрицательного и положительного отношения к нищете. Как мы видели, ветхозаветный рассказчик рисует резкий контраст между роскошью Соломона и нарастающим угнетением отдельных колен в его царстве, и далее с грустью отмечает череду царей, следовавших его примеру. Но есть и ободряющие рассказы о людях, которые воплощали израильский идеал справедливости, сострадания и щедрости в отношении слабых и нуждающихся. Одним из таких является Вооз.
У пророков
1. Сложно переоценить степень вовлеченности пророков в борьбу за интересы бедных в Израиле. Родд (Rodd) прав, утверждая, что главным вопросом была не материальная нищета, а несправедливость и угнетение. Дисбаланс в обществе, которое должно было созидаться на равенстве и взаимной поддержке, более всего гневил пророков. Дональд Гауэн (Donald Gowan) красноречиво описывает это измерение Ветхого Завета в отношении несправедливости, лежащей в основе большинства случаев нищеты:
Для авторов Ветхого Завета причиной нищеты, вызывавшей большую озабоченность и подлинное негодование, было не то, что бедные делали или не делали, но что другие сделали по отношению к ним… Существовали способы решения проблемы голода, скудной одежды и бездомности, но их могла перечеркнуть несправедливость, и именно на это гневаются авторы Ветхого Завета. Те, у кого не было власти настоять на справедливости по отношению к себе, были предметом особого внимания всего сообщества… Ветхий Завет нигде не придерживается идеала абсолютного равенства в распределении богатства. Он допускает, что всегда будут те, кто богаче остальных. И это не постыдно, поскольку богатство — это один из благих даров Бога (Притч. 22, 4). Постыдно, как отмечают большинство текстов, бессовестно отнимать принадлежащее по праву тем, кто беден.[153]
Однако нельзя игнорировать материальный аспект. Жертвы эксплуатации становятся также материально нуждающимися, что видно из противопоставления Амосом их трудного положения роскошному образу жизни тех, кого он называет нечестивыми (напр. Ам. 4,1; 6,4–6); или же Исайя противопоставляет накапливающих недвижимость и дома богатых и тех, кому негде жить (Ис. 5, 8). Иеремия противопоставляет эксплуататорскую жадность Иоакима справедливости и щедрости Иосии в отношении к беднякам (Иер. 22,13–17). Михей, без сомнения, имеет в виду страдания, связанные с материальной нуждой, когда зловеще изображает безжалостных богачей:
сдираете с них кожу их
и плоть с костей их,
едите плоть народа Моего
и сдираете с них кожу их,
а кости их ломаете
и дробите как бы в горшок,
и плоть — как бы в котел.
(Mux. 3, 2–3)
2. Вероятно, основной урок, которому мы можем научиться у пророков, в смысле пророческой ответственности церкви сегодня, состоит в том, что они не закрывали глаза на происходящее. Они были устами Бога видящего, о чем Израилю следовало помнить, потому как в Книге Исхода записано, что Бог увидел их страдания в Египте, услышал вопль и заступился за них (Исх. 2, 23–25; 3, 7). Одна из главных проблем нищеты — в том, что ее игнорируют, она становится невидимой и бедных не слышно. Но только не для Бога Израиля: «Вот, я видел это, говорит Господь» (Иер. 7, 11). Поэтому пророки сначала замечают, далее указывают на обиды, а затем бросают вызов власть имущим (особенно царям и судьям), которые предпочли бы их не замечать. Не удивительно, что Ахав назвал Илию «смущающим Израиля», хотя источником проблемы был сам Ахав (3 Цар. 18, 17–18). Правительство, которое может сделать то, что Иезавель и Ахав сделали с семьей крестьянина–земледельца Навуфея, следовало серьезно побеспокоить, и Илия не увиливал от этой задачи.[154]
В псалмах
1. Подобно пророкам, псалмопевцы недвусмысленно заявляют, что Господь есть Бог, который слышит вопль нищих. Они полностью зависят от Бога, когда человеческая помощь истощается, а их бедственное положение имеет большое значение для Бога (Пс. 145; 146; 147 и др.). Таким образом, часто встречаются колебания между материальным и духовным значением нищих в Псалтыри. Ошибочно настаивать исключительно на одном или другом. Материально нищие полностью зависят от Бога. Таким образом, нищета служит, с одной стороны, буквальным описанием нуждающихся, и, с другой стороны, метафорой духовного смирения. Сью Гиллингэм (Sue Gillingham) утверждает, что миссия церкви должна сохранять эту целостную двойную направленность:
Мы не можем кормить и одевать нищих, не видя духовной нищеты в окружающем нас мире, возможно, именно нищеты зажиточного Запада; мы также не можем проповедовать Евангелие, восполняющее наши глубочайшие духовные потребности и не бросающее вызов нашему отношению к каждому аспекту материального благополучия. Это, на мой взгляд, возносит богословие нищеты, которое является одновременно библейским и современным.[155]
2. Богослужение Израиля, подобно закону и пророкам, также недвусмысленно указывает, на ком лежит главная ответственность по вопросу потребностей и справедливого дела нищих: на политических властях — царях (Пс. 71) и судьях (Пс. 81).
3. Псалтырь также создает тесную связь притязания и критериев приемлемого для Бога поклонения, с одной стороны, и практической социальной заботы и экономической справедливости, с другой. Среди признаков праведного верующего, который может обитать на святой горе Божьей, находится желание давать в долг, не требуя процентов, — главный параграф экономической этики Израиля (Пс. 14, 5). И если верно, что человек уподобляется объекту своего поклонения, тогда не удивительно, что поклоняющийся и боящийся Господа будут отображать его в справедливости, сострадании и щедрости (Пс. 110, 4–5; 111, 4–5).
В литературе мудрости
1. Авторы литературы мудрости используют мощный фундамент творения для социальной этики. Это отличается (хотя и по–другому) от того, как Тора и пророки обосновывали свою нравственную мотивацию великой традицией истории искупления. Таким образом, Книга Притчей гласит, что к нищим следует относиться с уважением, потому что они также сотворены Богом. По сути, то, что мы делаем для них, мы делаем для Бога (поразительное предвосхищение учения Иисуса):
Равенство раба и господина, установленное в творении, направляло Иова в его честном обращении с жалобами работников (Иов 31, 13–15).
2. Как и в случае многих других вопросов, авторы литературы мудрости были одарены наблюдательностью и проницательностью в вопросах нищеты — они расценивали ее не только как экономическое ослабление, но также и как унижающее социальное положение (Притч. 10, 15; 19, 4.7). Иов красноречиво описывает нищету (Иов 24, 1–12). Екклесиаст наблюдает доводящий до бедности эффект бюрократии (Еккл. 5, 8–9), а также стремительность, с которой богатство меняется местом с нищетой (Еккл. 5, 13 — 6, 6).
3. Основываясь на этом наблюдении, все авторы литературы премудрости отстаивают одни и те же качества: сострадание, щедрость и справедливость (Иов 31, 16–23; Еккл. 4, 1). Подобное отношение на самом деле характерно для истинной праведности, так же как его отсутствие характерно для нечестивых. Ведь
Однако простой заботы недостаточно. Иов, жаловавшийся, будто Бог ничего не делает для решения проблем бедных и угнетенных, не учел того, что сам он был инструментом Божьей справедливости в качестве старейшины у ворот, защищая слабых и выступая против угнетателя (Иов 29, 7–17; «выступая» — это слабое слово в сравнении с метафорой Иова: «Сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его исторгал похищенное»). Принятие мер в отношении нищеты, причиной которой стало злоупотребление властью, обязательно влечет за собой конфликт с людьми, злоупотребившими положением.
4. Подобно Закону, Пророкам и Псалмам, традиция мудрости указывает на ключевую роль политических властей в том, чтобы взять на себя ответственность за нужды нищих. Так, в заключительной главе Притчей, перед описанием идеальной жены, даются некоторые советы идеальному царю. Придавая некоторый личностный колорит закону, который ограничивал привилегии царей, мать царя Лемуила побуждает его избегать распутства с женщинами и злоупотребления вином. Однако этот совет был нацелен не столько на благо его здоровья, сколько на то, чтобы у него был ясный разум для защиты справедливости и угнетенных. Главное дело правителя, согласно словам мудрой матери царя, в следующем:
Конец бедности
В заключение следует отметить, что та эсхатологическая надежда, о которой шла речь в конце предыдущей главы (экологическая надежда для нашей земли и всей окружающей среды), так же сильно окрашивает ветхозаветную экономическую этику. Для нас, живущих в падшем мире, Ветхий Завет предлагает разумный баланс. С одной стороны, он поддерживает идеалы и цели (нищеты не будет, если люди будут жить согласно принципам и заповедям, данным Богом для человеческого процветания). Но, с другой стороны, он осознает реальность всеобщей человеческой жадности и жестокости, что неизбежно приводит к сохранению нищеты. Второзаконие представляет классическое выражение обеих мыслей в пятнадцатой главе. С одной стороны, «не должно быть у тебя нищих:[156] ибо благословит тебя Господь… если только будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди сии» (Втор. 15, 4–5). Но, с другой стороны, «ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор. 15, 11).
Однако придет время, когда нищеты больше не будет. Величественное видение мессианского века у Михея дополняет похожий текст из Исайи: «Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею» (Мих. 4, 4; ср. Ис. 2, 1–5). Оба пророка предвидят конец войны и накапливания вооружения как главный вклад в экономическое возрождение. Как мы видели в конце четвертой главы, видение нового творения в Ис. 65, 17–25 не рисует картину дармового изобилия, а образ общества без нищеты и угнетения, в котором труд будет приносить удовлетворение, а вознаграждение будет свободным от разочарований болезни и потери собственности. Как и в случае с экологической этикой, экономическая этика строится вокруг основных принципов творения, реальности грехопадения, реакции Израиля на экономические проблемы (особенно нищету, причиной которой является угнетение) и эсхатологической надежды на новый мир, что так же надежно, как характер и обетование Бога.[157]
Дополнительная литература
Biggar, Nigel, and Hay, Donald, The Bible, Christian Ethics and the Provision of Social Security', Studies in Christian Ethics 7 (1994), pp. 43–64.
Blomberg, Craig L., Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Material Possessions Downers Grove: InterVarsity Press; (Leicester: Apollos, 1999).
Brueggemann, Walter, The Land (Philadelphia: Fortress, 1977).
Carroll R., M. D, 'Wealth and Poverty', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, pp. 881–887.
Dearman, John Andrew, Property Rights in the Eighth–Century Prophets: The Conflict and Its Background (Atlanta: Scholars Press, 1988).
Englehard, David H., 'The Lord's Motivated Concern for the Underprivileged', Calvin Theological Journal 15 (1980), pp. 5–26.
Fager, Jeffrey Б.,Land Tenure and the Biblical Jubilee, JSOT Supplements, vol. 155 (Sheffield: JSOT Press, 1993).
Fensham, F. Charles, 'Widow, Orphan and the Poor in the Ancient near Eastern Legal and Wisdom Literature', Journal of Near Eastern Studies 21 (1962), pp. 129–139.
Gillingham, Sue, 'The Poor in the Psalms', Expository Times 100 (1988), pp. 15–19.
Gnuse, Robert, You Shall Not Steal: Community and Property in the Biblical Tradition (Maryknoll: Orbis, 1985).
Gottwald, Norman K., The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel 1250–1050 ВСЕ (Maryknoll: Orbis; London: SCM, 1979).
Gowan, Donald E., 'Wealth and Poverty in the Old Testament: The Case of the Widow, the Orphan, and the Sojourner', Interpretation 41 (1987), pp. 341–353.
Habel, Norman C, 'Wisdom, Wealth and Poverty: Paradigms in the Book of Proverbs',Bible Bhashyam 14 (1988), pp. 26–49.
_, The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies (Philadelphia: Fortress, 1995).
Hanks, Thomas D., God So Loved the Third World: The Biblical Vocabulary of Oppression (Maryknoll: Orbis, 1983).
Hobbs, T. R., 'Reflections on "the Poor" and the Old Testament', Expository Times 100 (1988–89), pp. 291–293.
Hoppe OFM, Leslie J., Being Poor: A Biblical Study (Wilmington, DE: Michael Glazier, 1987).
Hughes, Dewi, God of the Poor: A Biblical Vision of God's Present Rule (Carlisle: OM Publishing, 1998).
Jacobs, Mignon R., 'Toward an Old Testament Theology of Concern for the Underprivileged', in Kim, Ellens, Floyd and Sweeney, Reading the Hebrew Bible for the New Millennium, pp. 205–229.
Kaufman, Stephen Б., ў Reconstruction of the Social Welfare Systems of Ancient Israel', in W. Boyd Barrick and John R. Spencer (eds.), In the Shelter of Elyon (Sheffield: JSOT Press, 1984).
Lohfink SJ, Norbert F., Option for the Poor: The Basic Principle of Liberation Theology in the Light of the Bible (Berkeley: BIBAL Press, 1987).
Pleins, J. David, 'Poverty in the Social World of the Wise', Journal for the Study of the Old Testament 37 (1987), pp. 61–78.
_, 'Poor, Poverty', in Freedman, Anchor Bible Dictionary, vol. 5, pp. 402–414.
_, 'How Ought We to Think about Poverty? Re–thinking the Diversity of the Hebrew Bible', Irish Theological Quarterly 60 (1994), pp. 280–286.
_, The Social Visions of the Hebrew Bible: A Theological Introduction (Louisville KY: Westminster John Knox, 2001).
Rad, G. von, 'Promised Land and Yahweh's Land', in The Problem of the Hexateuch and Other Essays (New York: McGraw Hill; London: SCM, 1966), pp. 79–93.
Waldow, З. E. von, 'Social Responsibility and Social Structure in Early Israel', Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), pp. 182 — 204.
Weir, J. Emmette, 'The Poor Are Powerless: A Response to R. J. Coggins', Expository Times l00 (1988),pp. 13–15.
Whybray, R. N., Wealth and Poverty in the Book of Proverbs, JSOT Supplements, vol. 99 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990).
Wright, Christopher J. H., God's People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1990; Carlisle: Paternoster, rev. ed., 1996).
_, Deuteronomy, New International Biblical Commentary, Old Testament Series (Peabody: Hendrickson; Carlisle: Paternoster, 1996).
6. Земля обетованная и христианская этика
В третьей главе мы видели, что земля занимает центральное место в ветхозаветной истории, и богословие земли играет ведущую роль в вере Израиля в целом. В двух предыдущих главах было показано, как центральная функция земли формировала этику, экологические взгляды и экономические законы и установления. В этой главе мы рассмотрим, какое отношение все это имеет к христианской этике и какие герменевтические методы могут помочь нам использовать учение Ветхого Завета о земле в христианской системе взглядов?
Выше были отмечены два метода толкования Ветхого Завета: парадигматический и эсхатологический. К ним следует добавить третий, с новозаветной перспективы, — типологический. Сначала обратимся к первым двум при помощи нашей треугольной диаграммы, и затем подробнее объясним третий. После этого мы испытаем новый метод на конкретном примере библейского юбилея и посмотрим, сможем ли мы, проанализировав его с трех различных углов и применив к нему три уровня толкования, перевести его на современный христианский язык богословия и этики.
Следует подчеркнуть, что эти уровни (парадигматический, типологический и эсхатологический) являются тремя взаимодополняющими способами толкования и применения ветхозаветного нравственного материала. Они не являются взаимоисключающими и не применимы к каждому случаю. Однако земля служит интересным примером, потому что ее можно включить в христианскую рефлексию и применить всеми тремя способами. Поэтому нам не следует полагать, будто говоря о том, что земля в Ветхом Завете имеет значимость для эсхатологического нового творения, мы тем самым исключаем ее экономическую значимость для настоящего социального порядка. Или говоря о том, что она находит типологическое исполнение во Христе, мы тем самым лишаем ее возможности быть образцом для решения проблем, связанных с землей и территориями в наши дни. Каждый уровень может быть многозначным и обоснованным, не исключая другие.
Парадигматическое толкование
Этот подход базируется на убеждении, что отношения Бога с Израилем в земле обетованной являются отображением отношений Бога с человечеством на всей планете. Или, если быть более точным, взаимодействие Бога с Израилем в их земле было Божьим искупительным ответом на разрушение его творческого замысла для человечества и планеты. Человечество восстало и живет на земле под Божьим проклятием. Израиль был искуплен и жил в земле, которую Бог обещал благословить. Мы можем визуально представить эту двойную модель при помощи диаграммы:
Это не просто укладывание сложного материала в удобную геометрическую модель. Мы уже ясно видели во второй главе, что Израиль как общество (социальный ракурс) был избран ради всех остальных народов земли, и его социальная система должна была стать частью богословской вести «света народам». И в начале четвертой главы мы видели соотношение двух тем: божественной собственности и божественного дара, земли Израиля (экономический ракурс) и остальной земли.
Таким образом, совершенно справедливо, что мы берем социальные и экономические законы и установления Израиля (линию в основании внутреннего треугольника) и используем их в качестве моделей для решения этических задач в большом мире современного светского общества (линия в основании внешнего треугольника). В экономической сфере ветхозаветная парадигма предоставляет нам задачи, не требуя буквального переноса обычаев древнего Израиля в общество XX века. Но в то же самое время парадигматический подход вынуждает нас серьезно работать с самими текстами, чтобы досконально понять модели, которые мы стремимся применять.[158]
Эсхатологическое толкование
Данный подход базируется на убеждении, хорошо обоснованном как Ветхим, так и Новым Заветом: Божья искупительная цель, начавшаяся с Израиля и их земли, в конечном итоге охватит все народы и всю землю в преобразованном и совершенном новом творении. Выражаясь языком нашей диаграммы (если вообще можно показать движение на неподвижном рисунке), можно сказать, что треугольник искупления перейдет за рамки падшего творения:
Ветхий Завет ожидает не только признания народами Бога Израиля и согласия жить под его господством (см. седьмую главу), но и что мир природы будет изменен чудесной силой Бога (как мы видели в четвертой главе). Ветхозаветная надежда далеко не эфемерна, — она напрямую касается творения, которое Бог не отвергнет, а обновит. И земля Израиля служила прообразом этой искупленной планеты. Намеки на это встречаются в описаниях земли, которые резко контрастируют с проклятой планетой. Это земля обетования, тогда как вся планета была ареной борьбы и суда. Она полна молока и меда (Исх. 3, 8 и дал.), а не терний и волчцов (Быт. 3, 18).[159] Описание земли в Книге Второзакония напоминает некоторые райские особенности Едема: «добрая земля» (ср. Быт. 8, 7 и дал.), хорошо орошаемая, полная растительности и богатая ресурсами (Быт. 2, 8 и дал.). Короче говоря, это «земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года» (Втор. 11, 12). В действительности, если бы только искупленный народ Божий полностью повиновался ему, это была бы земля невероятных благословений, буквально возрожденный рай (Втор. 28, 1–14). Та же тема повторяется в Лев. 26, 12, где Бог обещает «ходить среди» своего народа, используя ту же необычную форму глагола, которая использована для описания хождения Бога с парой в саду Едемском.[160]
Однако несмотря на то, что Израиль был искуплен и заключил завет с Богом, он оставался частью падшего человечества. И их земля была частью проклятой планеты. Исторический народ и земля были частью процесса Божьей искупительной цели, а не ее окончательный, совершенный продукт. Поэтому богословская функция народа и земли подобна прообразу, или знамению, указывающему на нечто, лежащее за пределами их настоящей эмпирической реальности. Когда Израиль ожидал будущего исполнения искупительной цели Бога, он делал это в понятиях, взятых из опыта прошлого и настоящего. Для израильтян новый завет был немыслим без закона, хотя это будет закон, превосходящий возможности любого законодателя, поскольку он написан на сердцах Божьего народа (Иер. 31, 33). Также они не представляли будущего многонационального Божьего народа без земли, хотя это будет земля, превосходящая воображение любого географа или зоолога! Совершенно ясно, что преобразование природы в отрывках, подобных Ис. 2, 2; 11, 6–9; 35, 1–10; Иер. 31, 1–14 и Ос. 2, 18–23 не представлялось как буквальное. Однако его также не следует просто одухотворять или воспринимать просто как метафорическое. Искупительная цель Бога для своего творения может превосходить наше воображение, но не взор веры.
Итак, это еще одна важная функция земли Израиля в полном диапазоне библейского богословия. Она указывает эсхатологически на «новое небо и новую землю» на которых будет обитать праведность, потому что там будет обитать Бог со своим народом (2 Пет. 3, 13; Отк. 21, 1–3). Отождествление явно проводится в Новом Завете с помощью использования нового Иерусалима как образа нового грядущего творения (ср. Отк. 21, 4–5; Ев. 12, 22).
Библейское представление о будущем, тем не менее, не следует расценивать как психологическое бегство от проблем настоящего. Использование пророками своего видения будущего, также как и исторического прошлого, было направлено на то, чтобы вызвать отклик и изменить настоящее. Библейская эсхатология — это не просто утопическая мечта о том, что могло бы быть, томительное «если бы только…» Подобное мечтание может привести к отчаянию и цинизму по отношению к настоящему. Скорее оно является видением того, что будет, потому что Бог совершит это. Поэтому его часто дополняет нравственный вызов и стимул позитивного ожидания (ср. Пс. 96, 10; Ис. 2. 5; Мих. 4, 5; Мф. 25; Отк. 21, 8. 27; 22, 11). Итак, рассмотрение любой ветхозаветной темы (в данном случае, темы земли) в эсхатологическом ракурсе обязательно раскроет ее нравственное значение для современного мира. Если история придет именно к такому завершению, то что это означает для нас, живущих в этой истории?
Это эсхатологическое измерение библейской этики не усиливает специфическое содержание наших нравственных предписаний в социальных или личных терминах обоих Заветов. Это содержание уже присутствует в известных заповедях Бога, в примерах, парадигмах и поучениях, данных в Божьем откровении. На самом же деле оно, с одной стороны, придает неотложность и стимул этим императивам (как в случае с Рим. 13, 11–14; 2 Пет. 3, 11–14; 1 Ин. 3, 2–3) и, с другой стороны, дает нам твердую уверенность, что видение исполнения этих императивов будет достигнуто. Наш труд в экономической или любой другой сфере в конечном итоге не будет «тщетным пред Господом» (1 Кор. 15, 58), как заключает Павел в своем утверждении о нашей будущей надежде на воскресение тела.
Типологическое толкование
Остается один важный вопрос. Что происходит с землей в Новом Завете? Не вызывает сомнений, что новозаветные авторы считали Иисуса Мессией, который исполнил и воплотил миссию Израиля. Поэтому христианская церковь как мессианская община тех, кто «во Христе», находится в духовной органической связи с ветхозаветным Израилем. Мессия — это воплощение народа Божьего, исполнение ветхозаветного народа Божьего и основание новозаветного народа Божьего. Язычник или еврей, верующий во Христа — духовное семя Авраама и наследник завета и обетования (Гал. 3, 26–28). Но ведь главной составляющей обетования, данного Аврааму, была земля. Если все великие темы ветхозаветной веры и обряда типологически сводятся во Христе, то где же место земле? Ведь, как мы видели, земля — одна из наиболее важных богословских реалий в вере ветхозаветного Израиля.
Утрата святости
В некотором смысле понятие земли отсутствует в Новом Завете. Нигде в Новом Завете географическая территория Палестины не связывается с какой–либо богословской значимостью. Земля как священное место потеряла значение. Лексикон благословения, святости, обетования, дара, наследия и тому подобного никогда не употребляется по отношению к территории, населенной еврейским народом, где–либо в Новом Завете, хотя часто упоминается в Ветхом Завете. Частично это объясняется тем, что церкви стремительно распространились за пределами Палестины, в других землях Средиземноморья и дальше. Но важнее то, что святость земли и все прочие ее атрибуты в ветхозаветном мышлении были перенесены на самого Христа. Духовное присутствие живого Христа освящает любое место, в котором находятся верующие в него. Это перенесение святости земли на Христа хорошо представлено У. Д. Дейвисом (W. D. Davies), который показывает, как христианство отреагировало на конкретные требования иудаизма, включая землю: «в переводе на Христа, которому подчинены все места и все пространство, как и все другое. Христианство, по сути… заменило святость места святостью личности, отождествив священное место с Христом».[161] Обещание Иисуса быть там, где собирается его народ, делает ветхозаветное обетование Божьего присутствия среди его народа в их земле универсальным, ведь теперь народ Иисуса находится повсеместно:
Иисус там, где собран Твой народ,
Там созерцают они Твой престол милосердия.
Где они ищут и находят Тебя —
Святая земля повсюду.[162]
Более того, географической земле Израиля нет места в учении Нового Завета об окончательном будущем Божьего народа. Даже в ключевых отрывках, в которых обсуждаются отношения христиан из евреев и неевреев, особенно в Рим. 9 — 11, где Павел говорит о будущем еврейской нации, земля, или что–нибудь в этом роде, не упоминается. Также нет указаний, что Павел, будучи сам верующим евреем, считал, что земля как территория все еще имеет богословское значение для еврейских христиан. Вне всякого сомнения, Павел включил бы землю в великие дары, полученные евреями от Бога; однако весь контекст и ход его аргументации демонстрируют, что он считал все, полученное евреями от Бога, сосредоточенным, исполненным и превзойденным в личности Мессии, Иисусе (ср. Рим. 9, 4–5; 10, 4). Это на самом деле было его личным символом веры, когда он сравнивал все, что имел в своем прошлом статусе, с тем, что было теперь у него в Мессии (Флп. 3, 3–11). И в яркой аллегории в Гал. 4 он противопоставляет нынешний земной град Иерусалим, сравнивая его с Агарью, городу свободных детей Божьих, применяя пророчества, которые изначально произносились об Иерусалиме для мессианской общины верующих в Иисуса.
Конечно, поскольку Павел не касался напрямую темы земли как богословской проблемы, мы не можем быть уверенными в отношении его взглядов на ее богословскую значимость. Его молчание по этому поводу, тем не менее, представляется красноречивым, учитывая глубину, с которой он рассматривает некоторые ветхозаветные реалии, которые считал богословски значимыми. По этому поводу я думаю следующее: если бы Павел имел дело с проблемой земли, как, например, с обрезанием, он бы разрешил ее похожим образом. Мы знаем, что он не придавал какого–либо богословского значения физическому обрезанию в искупительном деле Бога. Спасение людей и их принадлежность к общине завета больше не требовали подчинения этому знаку национальной идентичности с еврейским народом. Во Христе не имеет значение ни обрезание, ни необрезание. В этом Павел был абсолютно уверен. Но как только этот тезис был признан, он считал обрезание вопросом морально нейтральным — не имело богословского значения, обрезываешься ты или нет (Гал. 5, 6; 6, 15). Он не возражал, чтобы еврейские христиане сохраняли эту практику, и даже обрезал Тимофея из–за культурного окружения его служения (Деян. 16, 3).
Подобным образом мы можем себе представить его мнение о том, что земля как территория больше не имела богословского значения в искупительной цели Бога, потому что она теперь полностью связана с искупительным делом распятого, воскресшего и пребывающего Мессии. Обетование спасения через Иисуса доступно любому живущему где угодно; нет никакой особенной привилегии или преимуществ у живущих в земле ветхозаветного наследия Израиля. Если бы этот тезис был действительно принят иудеями, Павел допустил бы мысль, что еврейские христиане могут чувствовать эмоциональную и культурную связь с землей своих предков. Но их вера, надежда и поклонение больше не должны сосредоточиваться на той земле, а только на едином Христе. Сам Мессия учил этому, когда отвлек внимание самаритянки от спора о правильном географическом месте поклонения Богу к единственно верной личности, через которую поклоняться Богу; а именно к нему самому, Мессии. Иисус, а не земля будет центром духовного поклонения Богу отныне и навсегда (Ин. 4, 20–26).[163]
Значение земли для ветхозаветного Израиля
Следовательно, Новый Завет не придает богословского значения территории земли Палестины. Однако в Ветхом Завете земля никогда не была просто частью территории, также как и храм не был просто строением, а Иерусалим просто городом. Земля была средоточием богословских и этических традиций. Как мы видели, земля воплощала множество аспектов отношений завета между Господом и Израилем — его обетования, благословения и требования. Эти традиции земли вряд ли исчезли из поля зрения Нового Завета, особенно потому, что они были связаны с заветом Авраама, который занимал важное место в богословии Павла. В разных местах мы видим, как темы и символы, связанные с храмом и Иерусалимом, были заимствованы и использовались духовно в Новом Завете. Итак, мы вновь возвращаемся к нашему прежнему вопросу: что случилось с землей в Новом Завете?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала необходимо вспомнить функцию земли в жизни и вере Израиля, а затем спросить, какой аспект христианской жизни и веры впитал или исполнил эту функцию в Новом Завете. Что же означала земля для ветхозаветного израильтянина? Какое, соответственно, значение она имеет для христианина? Найти аналогию — вот что подразумевается под типологическим подходом. То, что земля означала для отношений Израиля с Господом, является символическим, или типологическим для некоторых реалий христианских отношений с Богом через Христа. Рассмотрим же, на что это типологическое соответствие нам указывает.[164]
Мы уже видели, что для израильтянина земля, прежде всего, была Божьим даром. Она была дана во исполнение обетования Аврааму и получена в ходе истории искупления. Земля, следовательно, для каждого главы семьи в Израиле была огромным, символическим, осязаемым доказательством, что он, его семейство и народ находились в особых отношениях с Господом. Второзаконие неоднократно связывает землю с гарантией их избрания в Аврааме. Они были Господним народом, потому что жили в Господней земле, которую он дал им. Каждый человек имел свою часть в земле благодаря системе родства и неотчуждаемости наследия — свой удел земли. Второзаконие также неоднократно говорит о земле как о наследии Израиля, что является семейным прообразом. Израиль был, как сказано в Исх. 4, 22, первородным сыном, а земля, опять же, была видимым свидетельством этих сыновних отношений. Таким образом, принадлежать к израильскому семейству, живущему в Божьей земле, означало ощущать безопасное присоединение к отношениям завета — земля была местом жизни с Богом. Но это также означало принять требования этих отношений: земля также была местом особенного нравственного и духовного образа жизни пред Богом. Обладать землей означало быть причастным к наследию и ответственности всего народа Божьего. Короче говоря, земля для израильтянина означала безопасность, принадлежность, благословение, сопричастность и практическую ответственность.
Однако вместе с этим в Ветхом Завете также существовало осознание, что отношения Израиля с Богом, укорененные в социально–экономической сфере земли и родства, превосходили ее и не были постоянно или исключительно связаны с нею. Бог назвал Израиль своим «первородным сыном», когда они были еще в Египте (Исх. 4,22), и скрепил свой завет с ними еще до того, как они вошли в землю. Подобным образом они оставались народом Божьим, даже когда несли наказание и были изгнаны с земли. Утрата земли была большой трещиной в отношениях Бога и Израиля, но, о чем постоянно говорили пророки той эпохи, это не был конец отношений. Господь действовал и в Вавилоне и мог призвать свой народ к покаянию через Иезекииля в Вавилоне так же, как и через Иеремию в Иерусалиме. Бог не связан географическими границами и, соответственно, ими не мог быть связан и народ Божий.
Когда мы переходим к Новому Завету, то более значимым является факт, что в эсхатологических видениях пророков о будущих отношениях Бога с его народом мы видим ослабление, почти устранение, древнего основания завета в земле и родстве. Восстановленный народ Божий будет включать и тех людей, которые были исключены или имели неопределенное положение согласно старому критерию земли–родства. Они будут введены в полные и гарантированные отношения с Богом как неотъемлемая часть Израиля. Так, например, в Ис. 56, 3–8 сомнения пришельца (который не имел доли в земле) и евнуха (у которого не было семьи или потомства) успокоены обетованием верности нового завета. И в Иез. 47, 22–23 идеализированная картина будущего землевладения Израиля включает тех, кого ранее исключали или только терпели как иждивенцев —gerim, пришельцев, иммигрантов и беженцев, которым ранее не разрешалось иметь долю в земле. В этом видении будущего их причастность наследию народа Божьего больше не будет зависеть от милосердия или счастливого случая, но будет гарантирована навсегда. Другими словами, богословские темы уверенности, присоединения, причастности и ответственности, которые однажды были связаны с землей, остаются действительными; однако они освобождены от буквальной и территориальной привязки, поскольку границы спасения расширяются, чтобы включить и неизраильтян.
«Во Христе» — то же, что «на земле»
В Новом Завете эсхатологическое понимание того, что искупление выйдет за пределы народа Израиля, считается исполненным посредством включения неевреев в народ Божий благодаря делу Мессии, Иисуса. Миссия ранней церкви среди язычников была и явно осознавалась как четкое исполнение ветхозаветных пророчеств о восстановлении Израиля (Деян. 15, 12–18).
Классическое объяснение Павлом нового всеохватного измерения христианского евангелия (Еф. 2,11 — 3,6) серьезно обогащено ветхозаветными образами. Павел начинает, обобщая прежнее положение неевреев вне Христа в понятиях, эквивалентных положению тех, кто в Ветхом Завете не имел части в земельно–родовой системе принадлежности к Израилю: «отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования» (Еф. 2, 12). Затем, описав дело Христа на кресте как разрушение преграды, которое устанавливает мир и обеспечивает доступ к Богу как для верующего еврея, так и нееврея, Павел возвращается к ветхозаветным образам, чтобы изобразить новое положение неевреев во Христе: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы [слова, которые передают значениеgerim иtosabim — безземельные иждивенцы в израильской экономике], но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). Это говорит о постоянстве, уверенности, присоединении и, как он вскоре покажет, практической ответственности. В кульминационном моменте этого очерка благовествования Павел суммирует новое положение язычников двумя словами в Еф. 3, 6 (одно из которых он изобрел). Отныне они сонаследники(synleronoma), составляющие одно тело (syssdma), и сопричастники(symmetocha) обетования вместе с Израилем в Мессии Иисусе через благовествование. Весть абсолютно ясна: через крест Христов бывшие вне теперь внутри; бывшие далеко стали близки; бывшие исключенными теперь принадлежат. Этот ветхозаветный язык наследия напоминает модель отношений Бога с Израилем и их землей, в рамках которой древний Израиль обретал свою уверенность. Однако теперь эта уверенность дается всем верующим во Христа: как из язычников, так и из евреев. То, что Израиль получал посредством земли, все верующие получили посредством Христа.
Таким образом, благодаря присоединению к Мессии люди из всех народов обретают особый статус и ответственность, которые в Ветхом Завете были сосредоточены на жизни в земле обетованной. Теперь сам Христос перенял значение и функцию старого земельно–родственного ограничения. Быть во Христе — то же, что быть в земле: во–первых, обозначает статус и отношения, данные Богом; во–вторых, положение присоединения и гарантии Божьей семьи; и, в–третьих, обязательство жить достойно, неся практическую ответственность перед теми, кто имеет такие же отношения с вами. Именно это подразумевается под типологическим пониманием значения земли Израиля. Это просто означает рассматривать землю так, как мы рассматриваем другие великие особенности и темы Ветхого Завета, связывая ее с личностью и делом Мессии, и через него с характером общины тех, кто «во Христе», — мессианского Израиля.[165]
До сих пор я использовал Павла в качестве нашего богословского гида. Однако Послание к Евреям еще значительнее. С одной стороны, Павел писал верующим из язычников, чтобы уверить их в новом положении во Христе в связи с обетованиями Ветхого Завета. С другой стороны, автор Послания к Евреям писал главным образом еврейским верующим, чтобы уверить их, что во Христе они не теряют ничего из того, что было в старом завете, но, скорее, обретают еще больше, обретая Христа. Важным аргументом Послания к Евреям является то, что теперь мы в Иисусе имеем все, что было реальным для Израиля. Упоминание автором «теней» (Евр. 10, 1) не означает, что все великие основания жизни Израиля в Ветхом Завете (земля, закон, храм, священство, жертвоприношения и пр.) были нереальными или всего лишь обманом. Нет, они были существенными и важными факторами в отношениях Бога и Израиля в то время. Но из–за божьих обетовании о том, что он собирался сделать для Израиля и через него, эти изначальные реалии должны были наполниться еще большим значением в будущих отношениях Бога с его народом. Утверждение, постоянно встречающееся в Послании к Евреям, что во Христе мы имеем «лучшее», не является «богословием замещения» (как его часто уничижительно называют). Это скорее богословие расширения или исполнения. Точно так же многонациональная община верующих в Иисуса Мессию не является новым Израилем (как будто старый был списан со счетов). Скорее изначальный Божий Израиль теперь расширен Христом посредством включения язычников, как обещал Бог со времен Авраама.
Утверждения в Послании к Евреям о том, что мы «имеем», на удивление исчерпывающи и явно были задуманы такими, чтобы уверить еврейских читателей. У нас есть земля, изображенная как «покой», которого даже Иисус Навин не принес Израилю, но в который мы входим через Христа (Евр. 3, 12 — 4, 11). У нас есть Первосвященник (Евр. 4, 14; 8, 11; 10, 21). У нас есть жертвенник (Евр. 3, 10). У нас есть надежда благодаря завету (Евр. 6, 19–20). Мы имеем дерзновение входить во святилище, поэтому у нас есть реальность скинии и храма (Евр. 10, 19). Мы приступили к горе Сион (Евр. 12, 22). У нас есть царство (Евр. 12, 28). В самом деле, согласно Посланию к Евреям, единственное, чего у нас нет, это земного города, имеющего обозначенную территорию (Евр. 13, 14). В свете других позитивных «у нас есть» — это явно негативное утверждение выделяется еще значительнее. Не существует святой земли или святого града для христиан. Мы не нуждаемся в этом — у нас есть Христос.
Таким образом, Послание к Евреям настаивает на том, что верующие в Иисуса евреи ничего не теряют из того, что принадлежало им ранее. Напротив, они теперь обрели все это в вечной реальности через Христа, включая то, что обозначала земля. Павел настаивает, что язычники, которые поверили в Иисуса, получают полное наследие, принадлежавшее ранее исключительно, но временно, Израилю. Как евреи, так и язычники (имевшие землю и не имевшие ничего; близкие и далекие) теперь вместе, и точно так же имеют все, если пребывают во Христе. Ведь во Христе все равны: никто не теряет и все приобретают.
Земля и христианское общение
Однако что случилось с социально–экономическим измерением земли, которое было столь важным для ветхозаветного Израиля? Разве оно просто исполнилось, было одухотворено и забыто? Ни в коем случае! Оно питает как раз ту сферу совместной причастности и практической ответственности, которая в одинаковой мере является особенностью как Ветхого, так и Нового Завета.
Прежде чем рассмотреть, что это означало на практике, давайте обратимся к отрывку, который мы только что рассматривали—Еф. 2. Дважды в этом отрывке Павел упоминает о роли Святого Духа во вхождении евреев и язычников в новое сообщество Божье во Христе (Еф. 2, 18.22). Павел считает сам дар Святого Духа исполнением обетования Аврааму в контексте расширения спасения и на неевреев (Гал. 3, 14). В том же контексте он связывает единство верующих во Христе с их положением семени и наследников Авраама (Гал. 3, 28–29). Ведь это единство верующих во Христа и их совместный жизненный опыт во Христе через Святого Духа не просто абстрактный, духовный концепт. Напротив, у него есть далеко идущие практические обязательства в социальной и экономической сфере. Обе сферы (социальная и экономическая) включены в новозаветное понимание и практику «общения» и имеют глубокие корни в ветхозаветной этике земли.
Общение — это обычный русский эквивалент греческого словаkoinonia, которое имеет богатый набор значений. Изучение корня koinon– в Новом Завете показывает, что большое число словоупотреблений, сформированных или составленных из него, либо означает, либо находится в контекстах, которые связаны с реальными социальными или экономическими отношениями между христианами. Они означают практическое, иногда дорого обходящееся участие, которое далеко отстоит от того жиденького единения, что часто выдается за общение в наших церквях. В Новом Завете общение касается наших отношений и имущества.
Покажем это на нескольких примерах. Первым последствием излитая Духа на Пятидесятницу была новая община, которая «пребывала в … общении»(te koinonia), имела все общее (Деян. 4, 42. 44), и не было в ней нуждающегося (Деян. 4, 34). В Рим. 12, 13 верующих призывают быть гостеприимными для святых(koinonountes). В 1 Тим. 6, 18 богатых нужно увещевать быть «щедрыми»(koinonikous). Та же обязанность возлагается на всех христиан в Евр. 13, 16. Павел говорит о сборе средств среди греческих церквей для помощи христианам в Иудее как о «деле общения»(koinonian tina, Рим. 15,26). Он оправдывает этот сбор средств тем, что если язычники стали причастниками(ekoinonesan) в духовном благословении от евреев, они должны поделиться с ними материальным благословением (Рим. 15, 27). Этот же принцип взаимности применяется к отношениям наставника и наставляемого в Гал 6, 6 — наставляемый должен делиться(koindneito), то есть поддерживать финансово учителя. В самом деле, поощряя коринфян в их готовности участвовать в сборе средств(koinonia, 2 Кор. 8, 4; 9, 13), Павел изображает это как доказательство их покорности евангелию, подразумевая, что подобные конкретные экономические доказательства общения имеют природу истинного христианского исповедания. Что могло лучше убедить иерусалимских еврейских христиан в том, что язычники на самом деле истинно уверовали в евангелие? Когда они видели их плод покорности евангелию в материальной помощи. По всей видимости, не случайно, когда апостолы в Иерусалиме посчитали благовествование Павла истинным, «они подали рукуkoinonia» и тут же попросили его «не забывать нищих», как бы в доказательство (Гал. 2, 9–10). Его сбор средств среди неевреев на самом деле подкреплял исповеданную им готовность почитать это евангельское общение. Так же, когда Павел благодарит Бога за то, что филиппийцы «участвовали в благовествовании» (Флп. 1,5), оставшаяся часть послания ясно дает понять, что он мыслит конкретно, а не просто духовно. Они были соучастниками(synkoinonoi) вместе с Павлом (Флп. 1, 7) в практической финансовой поддержке его служения (Флп. 4, 15 и дал.).
Наличие подобной терминологии в новозаветном понимании общения приводит меня к мнению, что оно имеет глубокие корни в социально–экономической этике Ветхого Завета. Существует большое сходство, показывающее, что опыт общения (в его полном, богатом, конкретном новозаветном смысле) выполняет аналогичные богословские и этические функции для христиан, какие обладание землей выполняло для ветхозаветных израильтян. И то, и другое (землю в Ветхом Завете, общение в Новом) нужно рассматривать как часть цели и модели искупления, а не как что–то случайное. Ясной целью исхода было получение богатых благословений от Бога в его доброй земле; цель искупления через Христа — «нелицемерное братолюбие» (1 Пет. 1, 22) со всеми его практическими последствиями. И то, и другое связано со статусом сыновей и родственными темами наследия и обетования. И то, и другое, таким образом, составляет доказательство подлинных отношений с Богом в качестве его искупленной общины. Ввиду того, что общение, как и земля, имеет границы, человек, который навсегда покидает его или отказывается принять его, демонстрирует, что не имеет реальной причастности к Божьему народу (ср. Мф. 18, 15–17; 1 Ин. 2, 19).
Но самое главное, что и земля, и общение — это совместный опыт: земля — благодаря характеру израильской экономической системы, описанной выше; общение — благодаря самому определению словаkoinonia. Отсюда то и другое получает глубоко практическую взаимную ответственность, пронизывающую ветхозаветную и новозаветную этику. Потому одинаковая забота о нищих и нуждающихся (ср. 1 Ин. 3, 17) — тот же идеал равенства среди Божьего народа экономически (ср. 2 Кор. 8, 13–15 вместе с ветхозаветной аллюзией) и социально (ср. Иак. 2, 1–7), а также одинаковое пророческое обличение тех, чей грех — силой или обманом — лишает членов народа Божьего их законной части данного Богом наследия всему своему народу. Ветхозаветные пророки осуждали несправедливых угнетателей, изгонявших собратьев–израильтян с их земли. Сравните это с критикой Иисуса в адрес тех, кто отказывается простить брата (Мф. 18, 21–35); обеспокоенность Павла раздробленностью и недостатком любви в Коринфе и первенство, которое в различных списках грехов он отводит тем, что вредят общению (напр. Еф. 4, 25 и дал.; Флп. 2, 1–4. 14; Кол. 3, 8 и дал.); и отказ Иоанна считать чадом Божьим того, кто ненавидит своего брата (1 Ин. 2, 9–11; 4, 7 и дал.).
Итак, типологическое толкование земли, связывающее ее с личностью и служением Иисуса Мессии, не ограничивается только этим. Скорее, оно переносит социальный и экономический акцент Ветхого Завета далее, в этику практических отношений с новозаветным Израилем, мессианской общиной. Гражданство царства Божьего обязательно имеет социальное и экономическое измерение. Это измерение вышло за пределы структуры земли и родства ветхозаветного Израиля, но не так, чтобы сделать эту изначальную структуру неуместной. Этот перенос социально–экономических уз ветхозаветного общества на христоцентрические узы Нового Завета признает еврейский ученый Рафаэль Лёве (Raphael Loewe): «Социологическое основание, на котором покоится христианство — это не узы родства, как в случае с иудаизмом, но общения, общения во Христе».[166] Этим — и многим другим — Христос и царство, которое он проповедовал и ознаменовал, исполняет Ветхий Завет, беря его социально–экономическую модель и преобразовывая ее в нечто, что может стать опытом не только для одного народа на небольшом клочке территории, но для каждого и везде во Христе.
Таким образом, нашу диаграмму необходимо дополнить еще одним треугольником. В одном углу мы можем поместить христианскую церковь — мессианскую общину верующих евреев и неевреев — в качестве духовного наследника и продолжения ветхозаветного Израиля. В другом углу мы поместим христианское общение, в его полном новозаветном смысле, как выполняющее богословские и этические функции, сходные с функциями земли Израиля. Вместе они составляют контекст типологического толкования ветхозаветной этики для церкви.
Выводы
Итак, рассмотрев вопрос с каждой из трех перспектив, необходимо вновь напомнить, что это дополняющие и взаимно усиливающие способы для понимания христианского нравственного смысла экономики ветхозаветного Израиля. Для дальнейшего изучения будет полезно обратить внимание на два различных понятия в вопросах толкования земли — принцип и обетование. С этой точки зрения парадигматический метод имеет дело с принципами; тогда как типологический и эсхатологический метод взаимодействуют с Ветхим Заветом на уровне его неотъемлемого обетования.
Таким образом, подходя к экономической системе израильского землевладения парадигматически, мы стремимся отождествить и подчеркнуть принципы, на которых она основана, цели, которые она достигает, и обоснование, мотивацию и практические результаты. Как только мы сделали это, то можем задаться вопросом, как подобная парадигма влияет на контекст, в котором мы сами живем. Мы ищем пути применения спектра экономических принципов, которые подлинно отражают целостность самой библейской парадигмы.
Однако когда мы подходим к ветхозаветному богословию земли с точки зрения его неотъемлемого обетования, мы рассматриваем исполнение этого (как и всех ветхозаветных обетовании) в пришествии Иисуса из Назарета, Мессии. Новый Завет, представляется мне, не оставляет нам другого выбора, как провести эту ясную связь. Однако этот мотив обетования–исполнения в отношении земли распадается на два, подобно двойному представлению царства Божьего в Новом Завете. Существует «уже» и «еще нет». Мы уже имеем во Христе и в общении со всем народом Божьим ту реальность, которую земля давала Израилю — видимое благословение наших искупительных, заветных отношений с Богом и друг другом (наше типологическое толкование). Однако все еще грядет окончательное исполнение всех обетовании о земле, данных народу Божьему; а именно восстановление всего в новом творении, новое небо и новая земля (эсхатологическое толкование).
Эти различные уровни толкования, тем не менее, не являются независимыми друг от друга. Мы видели, что если утверждаются типологические отношения земли Израиля и общения христиан, то парадигматическое понимание обязанностей израильтян в земле помогает сформировать и углубить наше понимание социальных и экономических обязанностей христианского общения. Если же эсхатологическое толкование дает надежду и уверенность в окончательной победе Бога над всем, что наносит урон его творению, тогда это, в свою очередь, подпитывает наше решение отстаивать и применять библейскую экономическую и экологическую парадигму в современном мире.
Итак, этот тройственный остов толкования — парадигматического, типологического и эсхатологического — высвобождает потенциал и силу ветхозаветной этики для всего спектра христианских обязанностей по отношению к церкви и миру. Это остов, к которому мы пришли непосредственно в результате изучения ветхозаветной экономики, однако я верю, что он правомочен для всего спектра этических принципов, действующих в Ветхом Завете, как мы это увидим в последующих главах.
Пример юбилейного года
Чтобы увидеть, как эти различные ракурсы и уровни могут работать, рассмотрим подробнее одно ветхозаветное установление, глубоко укорененное в богословии израильского землевладения — юбилейный год. Прежде всего, мы изучим его в его непосредственном контексте, удостоверившись, что хорошо поняли этот контекст, обоснование и задачи. С этой целью мы построим свое исследование вокруг трех углов нашего базового треугольника — социального, экономического и богословского ракурсов — рассматривая его поочередно с каждого из них. Это потребует некоторого повторения тезисов, сделанных ранее в процессе исследования, ради полного обзора используемого метода. Затем мы сделаем краткий экзегетический очерк Лев. 25, чтобы понять весь отрывок закона. Затем, наконец, чтобы обдумать его потенциал в христианской этике, мы используем три уровня толкования — типологический, парадигматический и эсхатологический.
Юбилей(jobel) наступал в конце цикла семи субботних лет. Лев. 25, 8–10 определяет его как пятидесятый год, хотя некоторые ученые полагают, что это на самом деле был сорок девятый, то есть седьмой субботний год. И некоторые предполагают, что это не был весь год, но либо один назначенный день в рамках пятидесятого года, либо дополнительный месяц после сорок девятого года, подобный нашему исчислению високосных годов. В этот год следовало объявлять свободу израильтянам, которые стали рабами за долги, и возвратить землю семействам, вынужденным продать ее из–за нужды на протяжении предыдущих пятидесяти лет. Предписания о юбилее и его связи с процедурами выкупа земли и рабов находятся в Лев. 25. Но об этом также упоминается в Лев. 26 и 27. Это установление вызывало огромный интерес как в древности, так и в настоящее время, а в последние годы оно вышло на передний план в произведениях, посвященных радикальной христианской социальной этике.
Юбилей, в сущности, был экономическим установлением. В сфере его интересов находилось два предмета: семья и земля. Следовательно, он коренился в социальной структуре израильской системы родства и основанной на ней экономической системе землевладения. Однако и то и другое имело богословские измерения в вере Израиля. Итак, теперь мы должны рассмотреть юбилей со всех трех ракурсов нашего этического треугольника.
Социальный ракурс. Израильская семья
В Израиле существовала трехъярусная система родства, состоящая из племени, рода и семейства. Скромный ответ Гедеона ангельскому гостю показывает все три: «Посмотри на мой род — он наименьший в племени Манассии; а я наименьший в доме отца моего» (Суд. 6, 15, перевод мой). Две последних меньших единицы (семейство и род) имели большую социальную и экономическую значимость, чем племя, в смысле благ и обязательств, касающихся отдельных израильтян. Дом отца был местом власти даже для женатых, таких как Гедеон (Суд. 6, 27; 8, 20). Он также был местом безопасности и защиты (Суд. 6, 30 и дал.). Род был большим образованием ряда семейств и важной частью племени. Роды носили имена внуков Иакова или других членов патриархального генеалогического дерева (см. Чис. 26 и 1 Пар. 4 — 8). Это хорошо видно из того, что они были членами узнаваемого родства. Но иногда имя роду давали территории их расселения, вроде деревни или группы деревень. Таким образом, род имел две составляющие части — родство и территорию. Род нес серьезную ответственность за сохранение земли, распределенной среди входящих в него семейств.[167] Юбилей был задуман главным образом для экономической защиты наименьшего из этих групп — «дома отца», или семьи в широком смысле этого слова. Тем не менее, в Лев. 25 он переплетен с практикой выкупа земли и людей, за что отвечал тот или иной род ради защиты своей же целостности. Оба положения (юбилей и выкуп) были взаимодополняющими, как мы увидим.
Экономический ракурс. Израильская система землевладения
Какие бы ни происходили события, благодаря которым Израиль оказался в Ханаане, но как только евреи установили контроль над землей (который, конечно же, был очень ограниченным довольно долгое время, особенно в областях, где доминировали ханаанские города), они ввели в действие систему землевладения, основывавшуюся на родовых группах. Таким образом, территория была распределена «по племенам их»,[168] а в племени каждое семейство имело свою долю наследия. Суд. 21, 24 говорит, что израильские воины возвращались каждый к своему колену, племени и своему семейному наследию. Эта система имеет две особенности, резко контрастирующие с предыдущей ханаанской экономической структурой:
• Справедливое распределение. В ханаанской системе земля принадлежала царям и их знати, а большая часть населения была всего лишь фермерами–арендаторами, которые платили подати. В Израиле изначально земля распределялась среди родов и семейств в племенах на общем условии, что каждый должен получить землю согласно числу и потребности. Документальное подтверждение этого встречается в списке племен в Чис. 26 (в особенности обратите внимание на Чис. 26, 52–56) и подробном распределении земли, описанном в Нав. 13 — 21. В Книге Иисуса Навина повтор фразы «по племенам их» указывает на то, что земля должна распределяться во всей системе родства как можно шире.
• Неотчуждаемость. Чтобы защитить эту систему родового распределения, земля семейства была неотчуждаемой. То есть она не продавалась и не покупалась как коммерческий актив, но должна была оставаться, насколько это возможно, в расширенной семье, или, по крайней мере, в кругу семейств рода. Именно этот принцип лежал в основе отказа Навуфея продать свою вотчину Ахаву (3 Цар. 21), а также он отражен в экономических установлениях Лев. 24.
Богословский ракурс. Божья земля, Божий народ
Земля не должна продаваться навсегда, ибо Моя земля; а вы пришельцы и поселенцы у Меня.
(Лев. 25, 23, перевод автора)
Это утверждение, находящееся в центре главы о юбилее, является переходом между описанной выше социальной и экономической системой и ее богословским обоснованием. Сформулировав правило неотчуждаемости, она представляет два основных фактора богословского контекста юбилея и родственных законов — богословие земли и статус израильтян.
Божья земля
Кратко повторим и суммируем рассмотренное нами в третьей главе. Одним из центральных столпов веры Израиля было то, что земля, в которой обитали евреи — это земля Господа. Она принадлежала ему еще до того, как Израиль вошел в нее (Исх. 15, 13.17). Эта тема часто встречается у пророков и в псалмах как часть культовой традиции Израиля. В то же самое время, хотя земля и принадлежала Господу, она была обещана и дана Израилю в ходе искупительной истории. Она была их наследием (см. Книгу Второзакония в разных местах) — это понятие указывает на сыновние отношения Израиля и Господа.
Эта двойная традиция земли (божественная собственность и божественный дар), была в некотором смысле связана со всеми основными нитями богословия Израиля. Обетование земли было важной частью патриархального предания об избрании. Земля была целью традиции искупления в событии исхода. Сохранение отношений завета и гарантии жизни в земле были взаимосвязаны. Божественный суд в конечном итоге означал изгнание из земли, до тех пор, пока восстановленные отношения не были представлены символически в возвращении в землю. Таким образом, земля была центром в отношениях Бога и Израиля (см. ее положение в Лев. 26, 40–45). Она была монументальным, осязаемым свидетельством как божественного контроля над историей, в которой были установлены отношения, так и нравственных и моральных требований, которые влекли за собой эти отношения. Для израильтянина жизнь со своей семьей на выделенной ему доле Господней земли, как и сама земля, служили доказательством его принадлежности к Божьему народу и средоточием практического отклика на Божью благодать. Все, что касалось земли, имело богословские и этические измерения, и об этом ему также напоминала каждая жатва (Втор. 26).
Божий народ
Лев. 25 изображает израильтян двояко:
1. «Вы пришельцы и поселенцы (RSV), чужестранцы и наемники (NIV) у Меня» (Лев. 25, 23.). Эти понятияgerim wetosabim, описывают класс людей, которые проживали среди израильтян в Ханаане, но не были этническими израильтянами. Они могут быть потомками обнищавших хананеев или иммигрантами. Они не были кровно заинтересованы в землевладении, но выживали, нанимаясь в качестве постоянных рабочих (чернорабочих, ремесленников и пр.) к владеющим землей семействам израильтян. При условии, что семейство израильтянина оставалось экономически жизнеспособным, его наемные рабочие имели и защиту, и безопасность. Однако в противном случае их положение было неустойчивым. Поэтому они часто упоминаются в законе Израиля как те, кто особенно нуждается в справедливости из–за их уязвимости.
Израильтяне должны были рассматривать свое положение пред Богом как аналогичное статусу этих постоянных иждивенцев перед собой. Таким образом, они (израильтяне) не имели окончательного права собственности на землю — ею владел Бог. Господь был верховным землевладельцем. Израиль был его коллективный арендатор. Тем не менее, израильтяне могли пользоваться гарантированными благами земли при Господней защите и подчинении ему.
Практический результат этой модели отношений Израиля с Богом виден в стихах Лев. 25, 35.40.53. Если все израильтяне имели одинаковый статус пред Богом, тогда к обнищавшему или задолжавшему брату следовало относиться так же, как Бог относился ко всем израильтянам, то есть с состраданием, справедливостью и щедростью.
2. «Они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской» (Лев. 25, 42.55). Три раза в этой главе упоминается исход, и еще дважды в следующей главе (Лев. 26, 13.45). Он расценивался как акт искупления, благодаря которому Бог приобрел Израиль для себя. Освобожденные из рабства египетского, они теперь стали рабами Божьими. Поэтому теперь никто не мог предъявлять права частной собственности на собрата израильтянина, принадлежавшего по праву приобретения одному Богу. Искупление в событии исхода, таким образом, обеспечивало историческую и богословскую модель социальной и экономической практики выкупа и юбилея. Те, кто являются вольноотпущенниками Бога, не должны становиться рабами друг для друга (Лев. 25, 39.42).
Этот вес богословской традиции, сконцентрированный в Лев. 25,23 придает огромную богословскую значимость экономическим мерам, очерченным в оставшейся части главы. Чтобы понять их, нам следует сделать экзегетическую схему главы.[169]
Экзегетический план Лев. 25
1. Стихи 1—7. Глава начинается с закона о субботнем годе на земле. Это расширение закона в Исх. 23, 10–11, который далее во Втор. 15, 1–2 становится годом, в который долги (а скорее всего залоги по займам) должны были списываться.
2. Стихи 8—12. Далее вводится юбилейный год, как пятидесятый год, следующий за седьмым субботним годом. Десятый стих представляет сдвоенные концепции, фундаментальные для всего установления; а именно свобода и возвращение. Свобода — от бремени долга и рабства, которое может быть его результатом; возвращение — к собственности предков, если она была заставлена кредитору, и к семье, которая могла быть разделена в результате долгового рабства. Эти два компонента юбилея, свобода и восстановление, вошли в метафорическое и эсхатологическое употребление юбилея в пророческой и позднее новозаветной мысли.
3. Стихи 13—17. Далее разъясняются финансовые обязательства повторяющегося юбилея. Кажущаяся продажа участка земли на самом деле приравнивалась всего лишь к продаже права использования земли. Поэтому приближающийся юбилей снижал цену для покупателя, потому что он приобретал количество урожаев до того времени, пока юбилей не возвратит землю изначальному хозяину.
4. Стихи 18—22. Здесь введены призывы, чтобы побудить к соблюдению субботних предписаний, при помощи обещания особого благословения в год, предшествующий седьмому. Богословский принцип состоял в том, что послушание экономическим установлениям Израиля потребует не расчетливых вычислений, но веры в способность Господа позаботиться посредством контроля как над природой, так и над историей.
5. Стихи 23–24. Эти центральные стихи в главе являются заголовком для оставшихся параграфов, которые главным образом сфокусированы на экономическом выкупе земли и людей, переплетенном с юбилеем. Мы уже упоминали главные богословские традиции, воплотившиеся в них.
6. Стихи 25—55. Теперь мы подходим к практическим подробностям выкупа и юбилея. В этих стихах представлены три нисходящих стадии нищеты и необходимые отклики, прерываемые вводными частями, которые касаются домов в городах и собственности левитов (Лев. 25, 29–34) и рабов неизраильтян (Лев. 25, 44–46). Стадии обозначены вводной фразой «если брат твой обеднеет» (Лев. 25, 25.35.39.47). Возможно, эта фраза предваряла серию процедур выкупа, не связанных с юбилеем. Дополнение юбилейных предписаний местами усложняет вопрос, но, как мы увидим, функционирует как необходимое дополнение к итогам выкупа.
а. Стадия 1 (Лев. 25,25–28). Изначально, столкнувшись с трудными временами (по любой причине, ни одна не уточняется), израильский землевладелец продает, или предлагает купить часть своей земли. Чтобы сохранить ее в семье в соответствии с принципом неотчуждаемости, долгом ближайшего родственника(go'el) было либо воспользоваться преимущественным правом покупки земли (если она все еще выставлена на продажу), либо выкупить ее (если она продана). Во–вторых, продавец сохраняет за собою право выкупить ее для себя, если позднее у него появятся для этого средства. В–третьих, собственность в любом случае, была она продана или выкуплена родственником, возвращается к изначальным владельцам в юбилейный год.
i. Исключение (Лев. 25,29–31). Приведенные выше правила не распространяются на жилища в обнесенных стеной городах. По всей видимости, это объясняется тем, что главным намерением установлений выкупа и юбилея было сохранить экономическую жизнеспособность семей благодаря гарантированному обладанию наследственной землей. Городские дома не были частью этой производительной экономической основы, и по этой причине на них не распространялись безграничные права выкупа и юбилейного возвращения к продавцу. Тем не менее, сельские жилища считались частью сельской местности и по этой причине были включены,
ii. Исключение (Лев. 25, 32–34). Это дополнение к первому исключению. Поскольку у племени левитов не было наследственной доли земли, но они были приписаны к определенным городам, на их жилища в городах распространялись обычные правила выкупа и юбилея.
b. Стадия 2 (Лев. 25, 35–38). Если положение более бедного брата ухудшается, и он все еще не способен оплатить свои долги, предположительно даже после нескольких таких продаж, тогда обязанностью родственника становится поддерживать его как наемного работника при помощи беспроцентных ссуд.
c. Стадия За (Лев. 25, 39–43). В случае полного экономического упадка, когда у бедного родственника не останется земли для продажи или залога ради займа, он и все его семейство продаются (становятся рабами) более богатому родственнику. Этому родственнику даются многократные и ясные повеления относиться к израильтянину–должнику не как к рабу, но как к постоянному работнику. Подобное состояние дел должно было продолжаться только до следующего юбилея; то есть не более одного поколения. Затем должник или его дети (изначальный должник мог умереть, однако следующее поколение должно было пользоваться благами юбилея, Лев. 25, 41.54) должны были получить обратно свою родовую землю и иметь возможность начать все сначала.
i. Исключение (Лев. 25,44–46). Это напоминание о том, что постановления о выкупе и юбилее относились к израильтянам, а не к рабам–чужестранцам или пришельцам. Напоминание подчеркивает, что постановления главным образом касались распределения земли и жизнеспособности израильских семей и не были применимы к безземельным людям.
d. Стадия Зb (Лев. 25, 47–55). Если человек стал долговым рабом вне рода, тогда обязанность воспрепятствовать потере семьи ложилась на весь род — при помощи осуществления своего долга выкупить его. Список потенциальных родственников–искупителей в Лев. 25, 48–49 показывает, как ответственность переходила от ближайших родственников ко всему роду («семья» в RSV Лев. 25, 49 вводит в заблуждение; еврейское словоmispaha — «род»). Весь род должен сохранять входящие в него семьи и унаследованную ими землю. На нем также была обязанность следить, чтобы кредитор неизраильтянин вел себя так, как должен поступать израильтянин по отношению к должнику–израильтянину, и чтобы постановления о юбилейном годе были выполнены.
Из этого анализа главы видно, что существовало два основных отличия между установлением выкупа и юбилея. Во–первых, время. Выкуп был долгом, который можно было исполнить в любое время на любом месте, как того требовали обстоятельства, тогда как юбилей происходил дважды в столетие как общенациональное событие. Во–вторых, цель. Главной целью выкупа было сохранение земли и людей рода, тогда как главным получателем благ было семейство, или дом отца. Следовательно, юбилей функционировал как необходимая замена практики выкупа. Регулярное осуществление выкупа могло привести к тому, что через некоторое время земля всего рода оказывалась в руках нескольких зажиточных семейств, а остальные семьи рода становились своего рода долговыми рабами, живя в зависимости от богатых арендодателей. То есть могла начать работать как раз та система, которую Израиль ниспроверг. Таким образом, юбилей был механизмом, препятствующим этому и сохраняющим социально–экономическую структуру землевладения и независимую жизнеспособность самых мелких групп типа «семья–плюс–земля».[170]
Типологическое толкование юбилея
Этот подход предлагает рассмотреть то, как к институту юбилея относился Иисус и как применяли его авторы Нового Завета к эпохе исполнения, которую он ознаменовал. Другими словами, как юбилей относился к широкому смыслу ветхозаветного обетования, которое исполнил Иисус? Иисус объявил близкое наступление эсхатологического правления Бога. Он заявлял, что надежда восстановления и мессианские перемены исполнились в его служении. «Назаретский манифест» (Лк. 4, 16–30) - самая ясная программная формулировка этого, прямо цитирующая Ис. 61 — текст, на который сильно повлияли идеи юбилея. Роберт Слоуэн (Robert Sloan) отмечал, что использование Иисусом слова освобождение,aphesis, имеет значение как духовного прощения греха, так и буквального финансового освобождения от реальных долгов. Таким образом, изначальный юбилейный фон экономического освобождения сохранился в вызове Иисуса в отношении нравственного отклика на царство Божье.[171] Шарон Ринг (Sharon Ringe) прослеживает переплетение основных образов юбилея в различных частях евангельского повествования и учения Иисуса (напр., Блаженства, ответ Иоанну Крестителю [Мф. 11, 2–6], притча о пире [Лк. 14, 12–24], различные эпизоды прощения, учение о долгах [Мф. 18, 21–35 и др.]).
Данных много, и они соответствуют модели, которая уже была установлена в Ветхом Завете. Юбилей функционирует как будущая надежда, а также как этическое требование в настоящем.[172] Точно так же в Деяниях, юбилейная концепция эсхатологического восстановления упоминается при других обстоятельствах странной идеей «полного восстановления». Необычное для этого слово,apokatastasis, встречается в Деян. 1, 6 и 3, 21 в связи с окончательным Божьим восстановлением Израиля. Похоже, Петр взял самый корень надежды юбилея и применил его не только к возвращению земли земледельцам, но и к восстановлению всего творения посредством пришествия Мессии. Примечательно, что ранняя церковь откликалась на эту надежду на уровне взаимной экономической помощи, тем самым исполняя субботние ожидания Втор. 15. Деян. 4, 4 с его простым заявлением о том, что «не было среди них никого нуждающегося» является буквальной цитатой греческого перевода Втор. 15, 4 из Септуагинты: «не будет среди тебя нищих». Новая эпоха жизни в Мессии и в Духе описана в терминах, которые служат отголоском исполнения надежды юбилея и связанных с ним субботних установлений.[173]
Парадигматическое толкование юбилея
Если читатель помнит, данный подход применяется для определения принципов и правил, на которых основывается то или иное ветхозаветное установление и которые оно воплощает в себе и демонстрирует. Для этого полезно еще раз вспомнить наши три ракурса и подумать о том, как израильская парадигма обращается к нам.
В экономическом смысле юбилей существовал, чтобы защитить форму землевладения, которая основывалась на справедливом и широком распределении земли, и предупредить сосредоточение собственности в руках немногих богачей. Это вторит принципу творения, согласно которому вся земля дана Богом всему человечеству, которое действует как распорядитель ее богатств. Существует параллель между заявлением Лев. 25, 23 в отношении Израиля о том, что «Моя земля», и утверждением Пс. 23, 1 в отношении человечества, что
Господня земля и что наполняет ее,
вселенная и все живущее в ней…
Поэтому нравственные принципы юбилея могут быть сделаны всеобщими на основании нравственной последовательности Бога. То, что Бог требовал от Израиля, соответствует тому, чего он ожидает и от человечества: справедливого распределения богатств планеты, особенно земли, и обуздания склонности к накоплению с неизбежным угнетением и отчуждением. Таким образом, юбилей является критикой не только крупного частного накопления земли и родственного богатства, но также масштабных форм коллективизации или национализации, разрушающих любое разумное чувство личной или семейной собственности. Понятие юбилея может сделать свой вклад в современные христианские подходы к экономике. Юбилей, конечно же, не приводил к перераспределению земли, как ошибочно предполагают некоторые современные авторы. Это было не перераспределение, а возвращение. Это не была раздача хлеба или благотворительность, но возвращение семейным группам возможностей и ресурсов, чтобы снова обеспечивать себя. В современном применении юбилей требует творческого подхода, чтобы понять, какие формы возможностей и ресурсов помогут людям обрести достоинство и социальную вовлеченность, которую дает подобное самоснабжение.[174]
В социальном смысле юбилей воплощал практическую заботу о семье. В случае Израиля это означало расширенную семью, дом отца, который был достаточно большой группой родственных семей, которые происходили по мужской линии от живущего прародителя, включая третье и четвертое поколение. Это была наименьшая группа израильской структуры родства, и в ней соединялись идентичность, статус, ответственность и безопасность отдельного израильтянина. Именно эту социальную группу намеревался защищать и периодически восстанавливать (если было необходимо) юбилей. Он делал это не просто нравственными средствами (то есть взывая к сплоченности расширенной семьи или увещевая родителей и детей), но устанавливая законом специальные структурные механизмы, чтобы регулировать экономические последствия долга. Семейная нравственность была бессмысленна, если семьи разбивались и лишались собственности при помощи экономических рычагов, делавших их беспомощными (см. Чис. 5, 1–5). Юбилей должен был восстановить социальное достоинство и участие семей, сохраняя или возвращая им экономическую жизнеспособность.[175] Долг — это причина социального распада и разложения, которая склонна порождать множество социальных зол, включая преступление, нищету, запустение и жестокость. Долг появляется, и Ветхий Завет признает этот факт. Однако юбилей был попыткой уменьшить его безжалостные и бесконечные социальные последствия, ограничивая его возможную продолжительность. Экономический упадок семьи в одном поколении не должен был обрекать все будущие поколения на рабство бесконечной задолженности. Подобные принципы и цели, вне всякого сомнения, применимы к законодательству о социальном обеспечении и, по сути, ко всякому законодательству с социально–экономическими обязательствами. И действительно, поднятый на еще более высокий уровень, юбилей красноречиво говорит о крупной проблеме международного долга. Не напрасной была глобальная кампания под названием «Юбилей 2000», целью которой было положить конец невыносимым и бесконечным долгам обнищавших наций.
Интересный и, на мой взгляд, убедительный парадигматический подход к институту юбилея предложил Гейко Мюллер–Фаренхольц (Geiko Muller–Fahrenholz) в главе под названием «Юбилей: временные границы для роста денег» (The Jubilee: Tinme Ceilings for the Growth of Money) в книге под редакцией Уко «Вызов юбилея» (Ucko, ed., Jubilee Challenge). Он высказывает мнение о мощном богословии времени, содержащемся в субботних циклах Израиля, и его контрасте с коммерциализацией времени в современной, основанной на долге и прибыли, экономике. Время — это качество, принадлежащее Богу, потому что никто из сотворенных существ не может создать время.
Мы наслаждаемся временем, нас увлекает течение времени, все наступает в свое время, поэтому сама мысль об эксплуатации потока времени, чтобы получать прибыль с одолженных денег, казалась абсурдной. Но больше она не представляется таковой, поскольку сакралъность времени исчезла еще раньше, чем сакральность земли испарилась из памяти наших современных обществ. Вместо этого до глобальной значимости возросла капиталистическая рыночная экономика; она наделена качеством всемогущества, которое граничит с идолопоклонством. Поэтому возникает вопрос: имеет ли смысл наделять деньги качествами, которыми никогда не обладали тварные вещи, а именно — вечным ростом ? Каждое дерево должно умереть, каждый дом однажды разрушится, каждый человек должен умереть. Почему нематериальные блага, подобные капиталу (и его дополнение — долги) не должны также иметь свое время? У капитала нет природных барьеров роста. Нет юбилея, который мог бы положить конец его накапливающейся власти. И поэтому нет юбилея, чтобы положить конец долгу и рабству. Деньги, питающиеся от денег, не имеющие производственной или социальной обязанности, представляют широкий поток, который угрожает даже крупным национальным экономикам и топит маленькие страны… Но в средоточии этой разбалансировки стоит бесспорная идея вечной жизни денег.[176]
В богословском смысле юбилей основывался на нескольких центральных заявлениях веры Израиля, и их важность весьма высока в оценке его значения для христианской этики и миссии. Подобно другим предписаниям о субботе, юбилей возвещал всевластие Бога над временем и природой, и послушание этому требовало подчинения всевластию. Это устремленное к Богу измерение является причиной, по которой год признан святым, субботой Господу, и почему его следовало соблюдать из страха Господня. Более того, соблюдение этого измерения субботнего года также требовало веры в провидение Господа, который может распоряжаться благословением в естественном миропорядке. Дополнительную мотивацию закона делают повторяющиеся призывы к познанию Божьего исторического акта искупления, исхода, и всего, что он означал для Израиля. А к этому историческому измерению присоединились культовый и настоящий опыт прощения, подчеркнутый тем фактом, что юбилей объявлялся в День искупления. Знание, что ты прощен Богом, непосредственно выливалось в практическое освобождение от долга и рабства других. Можно вспомнить некоторые притчи Иисуса и надежду юбилея, смешанную с эсхатологической надеждой на Божье окончательное возвращение человечества и природы к изначальной цели. В этой главе Книги Левит бьется мощный богословский пульс.
Следовательно, для применения модели юбилея необходимо, чтобы люди повиновались всевластию Бога, доверяли его провидению, знали историю искупительных деяний Бога, лично пережили данное Богом искупление, а также надеялись на Божью справедливость и Божьи обетования. Целостность модели юбилея охватывает церковную миссию благовестия, ее личную и социальную этику и ее надежду.
Эсхатологическое толкование юбилея
Исследование юбилея не может быть полным, если оно не окажет никакого влияния на наши ожидания и надежду. Даже Израиль чувствовал «будущее измерение» этого праздника. Предполагалось, что ожидание юбилея повлияет на все нынешние экономические ценности и установит пределы несправедливым социальным отношениям. Юбилей возвещался звуком трубы(yobel, от которого происходит его имя), инструмента, ассоциирующегося с решительными деяниями Бога (ср. Ис. 27, 13; 1 Кор. 15, 52). Мы видели, что в юбилее было две основных темы: избавление и свобода и возвращение и восстановление. Обе легко переходили от строго экономических установлений юбилея к широкому метафорическому применению. То есть эти экономические понятия становились понятиями надежды и чаяния будущего и, следовательно, входили в пророческую эсхатологию. В последних главах Книги пророка Исайи есть символические отголоски юбилея. Миссия Слуги Господня имеет мощные элементы восстановительного плана Бога для своего народа, сфокусированного в особенности на слабых и угнетенных (Ис. 42, 1–7). Ис. 58 — это наступление на культовое исполнение установлений без соблюдения социальной справедливости, которое призывает к освобождению угнетенных (Ис. 58, 6), особенно обращая внимание на обязанности в отношении своих родственников (Ис. 58, 7). Яснее всего Ис. 61 использует образы юбилея, чтобы изобразить помазанника вестником Господа, «благовествующим» нищим, возвещающим свободу пленникам (используется словоderor, которое недвусмысленно является словом из терминологии юбилея «освободить»), объявляющим год Господнего благоволения (практически нет сомнений в аллюзии на юбилейный год). Идеи избавления и возвращения объединены в видении будущего Ис. 35, где параллельно размещены образы преобразования природы. Таким образом, только в Ветхом Завете юбилей уже привлек эсхатологические образы наряду с его нравственным применением к настоящему. То есть юбилей можно использовать для изображения окончательного вмешательства Бога в историю с мессианским искуплением и восстановлением; однако он также может поддерживать нравственный призыв о справедливости к угнетенным в современной истории.
Эта надежда и видение юбилея вдохновляла пророческие обращения, подобные Ис. 35 и 61, с их прекрасным объединением в одно целое личной, социальной, физической, экономической, политической, международной и духовной сферы. Использование нами идеи юбилея должно сохранять подобное равновесие и взаимосвязь, предохраняя нас от разделения того, что Бог в итоге объединит. И, во всех наших предприятиях, ветхозаветный юбилей освещает наш путь до будущего совершенного исполнения. Потому что еще наступит день, когда в славном торжестве юбилея
возвратятся избавленные Господом,
придут на Сион с радостным восклицанием;
и радость вечная будет над головою их;
они найдут радость и веселье,
а печаль и воздыхание удалятся.
(Ис. 35, 10)
Дополнительная литература
Barker, Р. Б., 'Sabbath, Sabbatical Year, Jubilee', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, pp. 695 — 706.
Biggar, Nigel, and Hay, Donald, 'The Bible, Christian Ethics and the Provision of Social Security', Studies in Christian Ethics 7 (1994), pp. 43 — 64.
Brueggemann, Walter, The Land (Philadelphia: Fortress, 1977).
Burge, Gary M., Whose Land? Whose Promise? What Christians Are Not Being Told about Israel and the Palestinians (Carlisle: Paternoster; Cleveland, OH: Pilgrim, 2003).
Chapman, Colin, Whose Promised Land? Rev. ed. (Oxford: Lion, 1989).
Davies, W. D., The Gospel and the Land: Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine (Berkeley: University of California Press, 1974).
Fager, Jeffrey Б.,Land Tenure and the Biblical Jubilee, J SOT Supplements, vol. 155 (Sheffield: JSOT Press, 1993).
Holwerda, David E., Jesus and Israel: One Covenant or Two? (Grand Rapids: Eerdmans; Leicester: Apollos, 1995).
Janzen, Waldemar, 'Land', in Freedman, Anchor Bible Dictionary, vol. 4, pp. 144—154.
Johnston, P. and Walker P. W. L. (eds.), The Land of Promise: Biblical, Theological and Contemporary Perspectives (Leicester, Downers Grove: IVP, InterVarsity, 2000).
Mason, John, 'Biblical Teaching and Assisting the Poor', Transformation 4.2 (1987), pp. 1 — 14.
Mott, Stephen Charles, 'The Contribution of the Bible to Economic Thought', Transformation 4.3–4 (1987), pp. 25 — 34.
Ringe, S. H., Jesus, Liberation, and the Biblical Jubilee: Images for Ethics and Christology (Philadelphia: Fortress, 1985).
Schluter, Michael, and Clements, Roy, Reactivating the Extended Family: From Biblical Norms to Public Policy in Britain (Cambridge: Jubilee Centre, 1986).
Sloan Jr., R. В.,The Favorable Year of the Lord: A Study of Jubilary Theology in the Gospel of Luke (Austin: Schola, 1977).
Ucko, Hans (ed.). The Jubilee Challenge: Utopia or Possibility: Jewish and Christian Insights (Geneva: WCC Publications, 1997).
Walker, P. W. L. (ed.), Jerusalem Past and Present in the Purposes of God, rev. ed. (Carlisle: Paternoster, 1994).
Weinfeld, Moshe, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient near East (Jerusalem: Magnes; Minneapolis: Fortress, 1995).
Wright, Christopher J. З.,God's People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1990; Carlisle: Paternoster, rev. ed., 1996).
_, 'Jubilee, Year Of, in Freedman, Anchor Bible Dictionary, vol. 3, pp. 1025 — 1030.
_, Knowing Jesus through the Old Testament (London: Marshall Pickering; Downers Grove: InterVarsity Press, 1992).
7. Политика и народы
Израиль был одним из многих народов в центре густонаселенной местности, в которой весьма часто происходили междоусобицы. Соответственно, достаточно большие части Ветхого Завета говорят о политических отношениях как во внутренней жизни Израиля, так и во внешних отношениях с соседями. Однако для того, чтобы адекватно рассмотреть политическую значимость Ветхого Завета для христианского богословия и этики, нам необходимо выйти за рамки восприятия политики просто как случайной и временной необходимости. Бог пожелал осуществить первую фазу своей искупительной цели посредством государства — национального образования. Иногда политика рассматривается всего лишь как прискорбный побочный продукт того, что ветхозаветный Израиль был государством. Реальность же намного глубже, и в действительности показывает то, что означает политика для библейски верного народа. В Израиле политика не была чем–то чуждым ни для богословия, ни для духовной сферы. Более того, «вся лексика, используемая в отношениях Яхве с Израилем, исходит из сферы политики».[177] Центром отношений Израиля с Богом был завет. В иврите для него использовалось словоbefit, которое обычно означало «договор». Договоры заключались между отдельными людьми и государствами и всегда включали обязательства и условия. Это была социально–политическая реальность, посредством которой воспринимались и формировались отношения с Господом и Царем, Яхве.
Но в то же время многие другие важные концепции веры Израиля прояснялись и обретали содержание языком политических отношений. Это справедливо в отношении таких концепций, как спасение, преданность, освобождение, мир, справедливость и праведность, доверие и верность, послушание, правление Господа и так далее. Понимание Израилем всех этих концепций коренилось в его политической истории. И эти понятия затем были переданы через пророческое служение Иисуса и обеспечили терминологию, с помощью которой Новый Завет объясняет спасительный подвиг Христа. «Знание Израиля о Божьем благословении было, от начала до конца, политическим знанием; и, исходя из этого знания, апостолы и евангелисты говорили об Иисусе».[178] Поэтому не следует полагать, что политические измерения Ветхого Завета, без сомнения, важные для некоторых аспектов нашей политической этики, останутся в стороне, если мы вдохнем более разреженный духовный воздух Нового Завета. Ведь Новый Завет рассматривает Иисуса как завершение повествования Израиля и видит как само повествование, так и его исполнение в политических понятиях с вселенскими политическими последствиями для человечества.
Герменевтический принцип, определяющий христианское обращение к политическим категориям в Еврейских Писаниях — это просто сам Израиль. Посредством этого уникального политического образования Бог сделал свои цели известными миру. В связи с кризисом, встающим перед этим уникальным образованием, церковь провозглашала исполнение этих целей. Или же, говоря иначе — руководящим принципом является царственное правление Бога, выразившееся в существовании Израиля и окончательно осуществленное в жизни, смерти и воскресении Иисуса.[179]
Однако мы забегаем вперед. В этой главе о политической этике Ветхого Завета я буду следовать модели, похожей на ту, которой мы следовали при рассмотрении его экологического и экономического влияния. То есть сначала я рассмотрю вопрос в свете сотворения и грехопадения. Затем я сделаю обзор широкого спектра способов, при помощи которых Израиль как искупленное сообщество либо был государством, либо был вынужден иметь отношения с окружающими государствами. Наконец, я рассмотрю эсхатологическое представление Израиля о будущем народов в планах Бога.
Вопрос в свете сотворения и грехопадения
Этническое и культурное многообразие творения
Богатое многообразие экономических богатств земли находит отражение в широком этническом многообразии человечества и его постоянно изменяющемся калейдоскопе национальных, культурных и политических изменений. Библия дает нам повод считать и то, и другое частью творческой цели Бога. Будучи евреем и обращаясь к язычникам в контексте благовестия, Павел воспринимает как данность многообразие народов в рамках единства человечества и приписывает это Творцу: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17, 26). И хотя далее он цитирует греческих авторов, слова Павла в этом стихе взяты из Ветхого Завета, из древней песни Моисея в Книге Второзакония:
Когда Всевышний давал уделы народам
и расселял сынов человеческих,
тогда поставил пределы народов…
(Втор. 32, 8)
Таким образом, упорядочивание отношений различных групп человечества является частью ответственности одного человека перед другим, как повествует история Каина и Авеля. То же самое можно сказать о структурировании социальных отношений в любой подобной группе, будь то небольшая община или вся нация. Этот общественный характер человечества, имея следствием вытекающую из него общественно–политическую организацию, является частью творческой цели Бога для созданных им людей. И это связано с сотворением людей по образу Божьему. Ведь Бог социален. Решение сотворить человека вводится как неожиданное, контрастирующее обращение к множественному числу: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). И первая особенность этого образа Божьего состоит в наличии полов, эту дополняющую двойственность единства, из которой происходит весь наш социальный характер: брак, отцовство и материнство, семья, родство и далее. Таким образом, люди сотворены в отношениях и для отношений.4
Конечно же, автор Быт. 1, 26 имел в виду не то, что мы понимаем в свете более широкого библейского откровения, говоря о доктрине Троицы. Тем не менее, в свете этого широкого учения мы можем по праву видеть в формах множественного числа большее значение, чем то, которое вкладывал автор. В Быт. 1, 2 уже упоминалось о Духе Божьем, участвовавшем в сотворении (хотя мы не можем утверждать, что автор понимал это в смысле отдельной личности божества, но скорее как динамическое, действенное дыхание Бога), а Новый Завет превозносит Иисуса Христа как участвующего в сотворении и как его цель (Ин. 1, 1–3; Кол. 1, 15–17; Евр. 1, 1–3).
Следовательно, Бог в тайне Троицы живет в гармоничных отношениях равных личностей, каждая из которых обладает своей характерной функцией, авторитетом и связанностью с другими. Поэтому люди, сотворенные по образу Божьему, созданы, чтобы жить в гармонии личного равенства, но с социальной организацией, которая требовала функциональных структур и моделей отношений. Таким образом, упорядочение социальных отношений и структур на локальном, национальном и мировом уровне представляет непосредственный интерес для нашего Бога Творца. Однако такое упорядочение — это суть политики. Поэтому Библия не проводит насильственного разделения политики и религии, хотя и не отождествляет их. Обе являются важными измерениями того, что означает быть человеком. Поклоняться истинному Богу — значит быть преданным Божьим способам социальных отношений. Политическая задача сохранения справедливого порядка — это человеческий долг перед Богом.
Более того, мы видим в эсхатологическом видении искупленного человечества в новом творении, что этническое и культурное многообразие являются частью творческого намерения Бога в отношении людей. Обитатели нового творения изображаются не как однородная масса или единая мировая культура. Скорее, присутствует продолжение славного многообразия человеческой расы на протяжении истории: люди из каждого племени, языка, народа и национальности принесут свое богатство и хвалу в град Божий (Отк. 7, 9; 21, 24–26). Новое творение сохранит богатое разнообразие первоначального творения, но очистится от последствий грехопадения.
Грехопадение. Нарушение порядка человеческого общества
Грехопадение извратило политическую сферу, как и все остальные сферы человеческой жизнедеятельности. Повествование в Книге Бытия изображает быстрый распад всех социальных отношений, вокруг которых структурирована жизнь человека. Брачные отношения искажены: вместо того чтобы раскрыть себя в соответствии с целью творения, помогая партнеру реализовать его собственную цель (Быт. 2, 18–24), отношения мужа и жены переросли в грубое доминирование и похоть (Быт. 3, 16). Последующие отношения, соответственно, были отравлены завистью, гневом, насилием и местью (Быт. 4), пока нечестие и зло не стало характерным для всего человечества (Быт. 6, 5).
Каин и Авель. Жестокость и месть
Продолжение истории семьи в потомках Каина иллюстрирует усиливающийся беспорядок в человеческом обществе, начиная с того самого места, где больше всего должны были проявляться любовь и поддержка — между братьями. Как отмечает Пол Маршалл (Paul Marshall), рассказ о Каине и Авеле описывает не только последствия зависти, гнева и насилия, но также дает нам прообраз судебной структуры. Бог порицает Каина как обвинитель, в то время как кровь убитого брата вопиет как истец, жертва несправедливости. Тем не менее, даже после того, как Каин объявлен виновным и приговорен, он находится под божественной защитой, чтобы ему самому не стать жертвой эскалации насилия. Знамение на Каине не в наказание, а для защиты:
В повествовании о Каине мы видим появление правопорядка. За убийство, совершенное Каином, устанавливается наказание, однако Каин, в свою очередь, не отдан во власть анархии. Установлен правопорядок в наказаниях, и этот правопорядок включает Каина и всякого, кто стремится лично отомстить ему. «Знамение Каина» не предназначено для одного только Каина, — это знак, который Бог предназначил, чтобы поддерживать справедливость… Повествование о Каине демонстрирует, что правопорядок появился на самых ранних этапах вместе с обработкой земли, строительством городов, созданием музыки. И этот правопорядок мы сегодня могли бы назвать некоторым видом политического строя, отличающегося от анархии. Людям была дана ответственность беречь справедливые отношения, установленные Богом.[180]
Вавилон. Гордыня и разделение
Влияние грехопадения на сферу международных отношений изображено в простом, казалось бы, рассказе о Вавилонской башне (Быт. 11, 1–9). Из него видно, что существует двойная причина разделений, барьеров и непониманий между народами (символически представленная в смешении языков), а также отстранения и чувства взаимного отчуждения (символизированного рассеянием по земле). С одной стороны, эти вещи являются результатом человеческой заносчивости и самонадеянных амбиций. Однако, с другой стороны, они также изображены как божественный отклик на угрозу объединенного греховного восстания.
Следует подчеркнуть последний пункт. Решение Бога касается не наказания, а превентивной меры: «вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать» (Быт. 11, 6). Ужасный и неограниченный потенциал зла объединенной падшей человеческой расы побуждает Бога разделить человечество. Грех разделенной человеческой расы будет, по крайней мере, ограничен полным бессилием, лишая возможности получить что–либо совместно, даже в нечестии.
Здесь присутствует некий парадокс зла и Божьего всевластия. Все тот же грех самодовольства, который мешает человечеству жить в единстве на благо, не дает всей человеческой расе объединяться во зле. Таким образом, за грехом, превратившим сотворенное Богом многообразие в отягченное раздором разделение, можно увидеть милость и благодать Бога, которые используют то же последствие греха в качестве плотины, не дающей человечеству быть затопленным и уничтожить самих себя. Действительно, такая комбинация суда и скрытой благодати в Божьем ответе Вавилону дает будущее человеческой истории, чтобы во взлетах и падениях ее общественно–политического течения Бог мог осуществлять свою искупительную цель. И когда эта цель будет достигнута, плотина будет устранена, как показывает Книга Откровения, и человечеству будет позволено создать ужасающее всемирное единство обмана и мятежа, апокалиптический Вавилон, который станет предтечей последнего суда.
На более локальном, или национальном, уровне влияние греха на политическую жизнь видно в жажде власти. Подобно богатству, власть становится тем, чем овладевают, что защищают, используют эгоистично и предоставляют абсолютный статус, принадлежащий одному Богу.[181] Причина первой войны на Ближнем Востоке, которую Библия представляет нашему вниманию, была вызвана политическим подчинением и его неизбежной жестокой обратной стороной (Быт. 14, 1–4).
Политическая география
Таким образом, эти начальные главы Бытия описывают ревностную заботу Бога о политической жизни народов, и иногда непосредственное участие в ней — от международных отношений до местной политики мелких царств в долине реки Иордан. Поэтому неудивительно, что когда начинается история искупления в Быт. 12, то она происходит на арене человеческой политической истории и географии, а не в некой сверхъестественной, мифологической сфере. К тому же нам следует обращать внимание на порядок библейского повествования и его богословское значение. Как история о Вавилонской башне, так и ее последствия для падшего, отчужденного, рассеянного человечества на проклятой земле (в Быт. 11), так и призвание Авраама с обетованием избавления и благословения для всех народов, начинающегося с новой земли (в Быт. 12) размещено на фоне родословия и расселения народов в Быт. 10. Какова же цель этого пласта древней этнической географии?
Какой бы ни была цель, из–за которой она была изначально записана, ее размещение в этом важном месте между потопом и началом искупительной истории не оставляет сомнений о характере последующего библейского повествования. Это не мифический, доисторический мир богов и чудовищ, а разумный классифицируемый мир народов, территорий, городов, царств и языков — вполне узнаваемый, политический человеческий мир. Как губительные последствия грехопадения, так и искупительная деятельность Бога происходят в реальном мире людей и народов. И история искупления осуществляется не только в этом мире, но также через него. То есть Бог поступает как искупитель через те действия, события, отношения и структуры, которые мы считаем политическими. Заимствуя образ у Иисуса, плевелы и пшеница находятся на одном поле, а поле — это весь мир.
Духовные власти
Мы не должны пренебрегать библейским учением о духовной брани, стоящей за историческим делом искупления, конфликтом между властью Бога и узурпированным правлением сатаны, «князя мира сего», и всех демонических сил, которые находятся под его командованием. Конечно же, в Ветхом Завете нет развитой демонологии. Однако в Ветхом Завете присутствуют намеки на существование мира духовных, невидимых сил, стоящих за институтами и персонифицируемыми государствами, за ошеломляющей силой политической власти и специфическим характером различных социальных систем. Это не вопрос многобожия или дуализма, ведь эти силы, хотя и называются богами,[182] все же не боги, а, если уж на то пошло, просто сотворенные существа. Отсюда язвительное разоблачение Исайей астральных богов Месопотамии: «Кто сотворил их?» (Ис. 40, 26; курсив автора). Чем бы они ни были, их, как и людей (включая тех людей, которые под их влиянием использовали неограниченную власть), ожидает Божий суд:
И будет в тот день: посетит Господь
воинство выспреннее на высоте
и царей земных на земле.
(Ис. 24, 21)
Государство и народ Божий в свете истории Израиля
Теперь мы переходим к самой важной части нашего исследования в этой главе. Если, как мы видели в главах с третьей по шестую, Израиль обладал экономической системой, из которой мы можем многое взять для христианской этики, то какая политическая система была у Израиля, и чему мы можем из нее научиться? Однако именно на этом этапе нам необходимо быть готовыми столкнуться с историческим характером ветхозаветного канона и, конечно, исторического характера содержащегося в нем откровения Бога. Ведь если мы задаем вопрос, каково представление Израиля о государстве, нам также необходимо спросить — какого Израиля, и когда? Заимствуем ли мы политическое богословие государства у молодой революционной федерации племен в первые годы после расселения в Ханаане? Или у организованного имперского государства Соломона и его преемников? А может, у преследуемого остатка, сберегающего религиозные отличия во враждебном окружении гигантских империй? Если сосредоточиться узко на одном из перечисленных выше периодов, это приведет к искажениям того, что еврейская Библия как целое может привнести в христианскую политическую этику. Нам необходимо охватить все основные периоды истории Израиля. Несомненно, это приведет к некоторым кажущимся противоречивым взглядам на политическую природу народа Божьего и его отношений с государством. Являются ли они сами государством или должны иметь отношения с другими государствами? Но, с другой стороны, рассматривая все эти перспективы вместе в рамках авторитетного канона, нам следует избегать превознесения исключительно одного из взглядов. Это, в свою очередь, поможет нам распознать, где определенные политические применения Ветхого Завета являются несбалансированными или крайними. Оливер О'Донован (Oliver О'Donovan) предупреждает именно об этом:
Если богословы должны рассматривать политическую традицию Израиля в качестве нормативной, они обязаны рассматривать ее в качестве истории. Они не могут смотреть на Ветхий Завет, как если бы он был просто материалом для использования, в любом порядке и в любых пропорциях, в процессе создания собственного богословского артефакта. Они имеют дело с постепенным с раскрытием, которое обрело форму в последовательности политических событий, и каждое из них должно быть взвешено и истолковано в свете того, что ему предшествовало и что следовало за ним… Мы не можем апеллировать к исходу ради идеи освобождения нищих и затем избегать упоминания захвата Ханаана… Мы не можем обращаться к племенному периоду в поисках децентрализованного республиканского духа амфиктионии и затем избегать упоминания монархии и так далее[183].
Мы рассмотрим Израиль как народ Божий на пяти различных этапах их ветхозаветной истории. В каждом контексте мы обсудим характер народа Божьего в то время, природу государства, как оно отображено в том контексте, и роль концепции Бога, господствующей в сознании народа Божьего. Там, где уместно, мы также рассмотрим, какое влияние эта определенная эра истории Израиля имела на политическое мышление христиан на протяжении истории церкви.[184]
Патриархальный период. Семья странников
Хотя Израиль как нация образовался во время исхода и расселения в Ханаане, справедливо начать наш обзор с патриархов,[185] поскольку чувство национального единства Израиля всегда связано с ними. Хотя Ветхий Завет признает разнообразные факторы, сыгравшие роль в формировании Израиля, существовало сильное чувство генетического единства, проистекающее из верования, что все они были семенем Авраама. Соответственно, сущность Израиля, по крайней мере, потенциально, можно видеть уже в странствующих семьях патриархов.
Народ Божий
В патриархальном контексте народ Божий главным образом является сообществом, вызванным из общественно–политического окружения и получившим новую идентичность и будущее благодаря обетованию Бога. Они являются народом только благодаря акту Божьего избрания. Это не означает, что Бог вознес уже существующий народ на уровень статуса избранного, но что Бог вызвал Израиль к существованию как свой народ, как группу, отличающуюся от окружающих национальных государств с самого начала. Это сопровождалось образом жизни, который включал максимальную зависимость от общественно–политических и экономических структур своего времени. Они не владели землей и считали себя (и их считали) странниками, пришельцами в земле своего странствования. Это не означает, что они были социально изолированными. Книга Бытия содержит множество случаев социального и экономического взаимодействия между патриархами и их современниками. Но они оставались странствующим народом, вызванным и призванным двигаться вперед.
Данному статусу соответствовало требование веры в обетование Божье и послушание Божьему повелению. И снова мы видим особенность, отличающую их от окружающих народов. Наиболее ярким тестом патриархальной традиции, освещающим нравственный характер Израиля, является Быт. 18, 19: «Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Эти слова произнесены в контексте неотвратимого суда Божьего над Содомом и Гоморрой, нечестие которых вызвало такой вопль, что Бог должен был вмешаться. В отличие от того общества, в котором жил Авраам, Бог требовал, чтобы сообщество, зарождающееся ныне от самого Авраама, характеризовалось совершенно иными ценностями. Они должны были стать народом, подражающим характеру самого Господа («путь Господень»), быть верными «праведности и справедливости». Несомненно, эти социально–нравственные ценности имеют экономические и политические последствия. Поэтому совершенно очевидно, что хотя Бог хотел, чтобы его народ был вызван из своего окружения, это не означало отказа от общественно–политического процесса. Скорее, в этой сфере, как впрочем, и во всей их общественной жизни, они должны были руководствоваться справедливостью, потому что это и есть Божий путь.
Таким образом, о Божьем народе в этом контексте можно сказать следующее:
• он появился на свет благодаря Божьему избранию;
• он живет в свете Божьего обетования;
• он не должен попадать под влияние окружающих его общественно–политических структур власти, хотя и не должен при этом отстраняться от окружающих его народов;
• он должен жить в послушании, подражая справедливости самого Бога.
Государство
Изображение государства в патриархальном контексте, представленного различными политическими центрами власти и городами древнего ближневосточного мира, варьируется от нейтрального до негативного. Оно не изображается крайне тираническим, как Египет Моисея или Вавилон периода пленения. Тем не менее, когда Авраам впервые появляется в Быт. 12, это происходит в рамках общества, о котором мы уже кое–что знаем из рассказа о Вавилонской башне в одиннадцатой главе. Именно из земли вавилонской вызван Авраам. И, как отмечено в повествовании, это было весьма гордое и самоуверенное сообщество. Несомненно, именно поэтому Бог требовал выйти оттуда. Спасение людей обретается, по сути, не в государстве. Высшая искупительная цель Бога облечена в хрупкий человеческий сосуд стареющего мужа и бездетной жены. Призвание Авраама из его страны и народа (Быт. 12, 1) было «первым исходом, посредством которого имперские цивилизации Ближнего Востока в целом были заклеймены как менее значимая среда».[186]
С другой стороны, город–государство можно рассматривать как место нравственного восстания против Бога, являющегося источником угрозы для странствующего народа Божьего. Примерами этого являются Содом и Гоморра. Бог знал о «вопле» против них (Быт. 18, 20–21). Словоse'aqa — специальный термин в Ветхом Завете для воплей тех, кто страдает от угнетения, жестокости и несправедливости. Это слово используется в отношении крови Авеля, вопиющей против своего убийцы, а также в повествовании о вопле Израиля в египетском рабстве. Люди вопияли в Содоме и Гоморре от боли, жестокости и тирании. Быт. 19 упоминает существующее там насилие и разврат. Отрывок Ис. 1, 9–10, рассматриваемый в свете остальной части главы, связывает оба города с пролитием невинной крови. Иез. 16, 49 перечисляет грехи городов: гордость, пресыщение, праздность и отсутствие помощи нищим и нуждающимся (список звучит очень по–современному, что объясняет, почему Содом и Гоморра являются прототипами вселенского человеческого нечестия). По этой причине данные города–государства ожидал страшный суд Божий. Откликом народа Божьего, представляемого Авраамом, было ходатайство.
Бог
В этих повествованиях Бог изображается, как тот, кто суверенно контролирует все в Месопотамии, Ханаане и Египте. Вместе с этим Господь — это Бог искупительной цели, чьим главным устремлением является благословение всех народов. Инициируя особенные отношения с народом, сотворенным им и принадлежащим ему, Бог на самом деле предполагал лучшее для тех народов, из которых они были вызваны, но среди которых продолжали жить. Обещание благословения семени Авраама — это обещание благословения народов.
Хотя мы видим из остального Писания, что весь мир подлежит Божьему суду, и знаем из книг, подобных книгам Даниила и Откровения, что этот суд, главным образом, направлен на человеческие государства в их мятежном состоянии, тем не менее, само существование народа Божьего среди этих государств является знаком масштабной и окончательной цели Бога. Эта цель не что иное, как искупление человечества и преобразование царств земли в царство Божье. Интересно то, что Господь, в упоминавшейся выше истории из Быт. 18—19, собираясь излить пламя на конкретное человеческое сообщество, Содом и Гоморру, напомнил себе о высшей цели искупления для всех народов. И он сделал это во время трапезы с парой, в которой он видел воплощение этой цели — с Авраамом и Саррой. Бог, судья всей земли, желает благословить все народы — это парадокс, который, похоже, способствовал настойчивости Авраама в молитве.
Историческое значение периода
Влияние истории патриархов на христианские взгляды в отношении церкви и государства было сильным, особенно это видно в упоминании в Евр. 11, где делается ударение на независимость патриархов от земли, которую они покинули, и той, по которой странствовали. С одной стороны, эти тексты можно использовать в негативном смысле (подобно Аврааму, мы должны искать города нерукотворного), что приведет к отказу от какого–либо участия в делах этого мира. С другой стороны, странствующий характер жизни патриархов должен напоминать нам следующее: несмотря на то, что миссия народа Божьего должна осуществляться в человеческом сообществе, мы не должны думать, что чаяние спасения обретается непосредственно в государстве. Мир является нашим домом, однако в его нынешнем мятежном состоянии он не может быть нашим последним домом.
От исхода до судей. Освобожденный народ
Обозначенный период может показаться большим, но в течение этого периода Израиль был теократией на практике, а не просто в теории. Некоторые ученые считают это временем, когда Израиль был наиболее свободным народом, отличавшимся от окружающего мира.[187]
Народ Божий
Народ Божий, потомки Израиля, пренебрежительно называемые «евреями», в начале этого периода представляют собой угнетенное этническое меньшинство в очень могущественном имперском государстве. Требование Яхве противостоит фараону: «Отпусти народ Мой, чтобы он мог поклониться (служить)[188] мне». Государство, отказывающее в свободе тем, кто желает поклоняться Яхве, быстро становится врагом Яхве. Бог, который в патриархальных повествованиях показал себя трансцендентным в том смысле, что его не ограничивает и не впечатляет величайшая из человеческих имперских цивилизаций, поддерживает право своего народа на свободу поклонения среди государств с иными богами, включая самого фараона.
Требование Яхве к государству фараона идет дальше, чем просто духовное право свободы поклонения. В Египте присутствовала гражданская дискриминация в отношении Израиля как этнического меньшинства на основании политической целесообразности. Фараон цинично использовал общественные страхи, маскируя их общественными интересами. Его правительство занималось экономической эксплуатацией пленных рабочих. И народ фараона был виновен в жесточайшем попрании нормальной семейной жизни посредством политики поддерживаемого государством геноцида. На всех этих фронтах — политическом, экономическом и социальном, а также религиозном — Яхве требует и затем осуществляет освобождение своего народа. В ходе ряда событий государство, заявившее, что не знает, кто такой Яхве (Исх. 5, 2), узнает о его личности и силе. В самом деле, движение от мнимого неведения о Яхве до потрясающего признания его силы является, вне всяких сомнений, основной побочной сюжетной линией повествования. (Обратите внимание на ход мысли в следующих текстах: Исх. 5, 2; 7, 5.17; 8, 10.22; 9, 15.29; 14, 18.25). Притязания фараона и других богов государства должны склониться перед тем фактом, что Яхве настолько же Бог Египта, как и Израиля. По сути, выдвигается утверждение, что Яхве — Бог всей земли. Кульминацией песни Моисея, после того как море скрепило печатью реальность освобождения Израиля, является то, что Яхве, а не фараон, царствует вовеки (Исх. 15, 18).
От исхода народа Божьего из имперского государства Египта мы переходим к их вхождению в средоточие культуры городов–государств Ханаана. На данном этапе можно сказать, что народ Божий стал не просто освобожденным народом, но также освобождающим, хотя в свете недавней истории можно посчитать несправедливым описание захватчиков в качестве освободителей. Тем не менее, прибытие или появление Израиля в Ханаане произвело там наиболее значимое социальное, политическое, экономическое и религиозное преобразование.[189] Израиль, народ Яхве, не только считал себя иным, он был иным (см. вторую главу).
Главной особенностью народа Божьего на данном этапе является теократическое правление. То есть это означает, что у них не было царя, но все формы власти, в конечном счете, принадлежали Яхве. А правление Яхве было связано с преданностью определенным целям, которые воплощены в Синайском завете и Законе, целям, характеризующимся обязательствами равенства, справедливости и родства. Более того, эти цели были включены во всю жизнь Израиля, включая религиозные обряды. Быть народом Божьим на данном этапе — вот задача, которую следовало осуществить. Это было альтернативное представление, требующее «подробного послушания в этической, социальной и культовой сферах [которое] … утверждает представление о народе Божьем как о нравственном принципе. В своем поведении народ Божий связан между собой. Поскольку Яхве был их сюзереном, они не имели человеческих господ. Теократия и общественно–политическое равенство (радикальное богословие и радикальная социология) идут рука об руку».[190]
Этот тезис подчеркивает важность Синая, упустить которую мы рискуем при непосредственном переходе от Египта к Ханаану. Путь Израиля был не таким прямым. Синай находится как раз на половине пути между освобождением из Египта и расселением в Ханаане. Освобождение не было самоцелью. Вновь освобожденный народ постоянно становился жертвой дезинтегрирующих процессов вольности, мятежа, отступления и недостатка смелости. У Синая Бог дал важные и формирующие установления и законы, благодаря которым израильтяне могли превратиться из толпы освобожденных рабов в упорядоченное и функционирующее общество. Там, в Торе, мы встречаем большую часть особенностей общественного строя Израиля, благодаря которым он стал таковым: родственное основание землевладения, установление субботы и юбилея, запрет на ростовщичество, равенство туземцев и пришельцев перед законом, гражданские права рабов, рассеивание политического руководства и власти среди старейшин, ограничение экономической власти религиозных руководителей. Хотя в этот период Израиль не был государством в строгом смысле слова, у него было достаточно институтов с последовательными целями и связным обоснованием. Это также демонстрирует нам реализм Бога. Задумав создать в качестве модели и инструмента искупления народ, который все еще находится в среде падшего человечества и является его частью, Бог дал этому народу каркас социальных, экономических и политических институтов, предназначенных сберечь свободу и нравственные цели, присущие их искуплению. Цель искупления — свобода. В случае с Израилем не только свобода от общественно–политического угнетения в Египте, но свобода быть народом Божьим, царством священников и светом для народов.
Государство
Государство в этот период представлено Египтом, с одной стороны, и Ханааном, с другой. Египет был огромной империей, осуществляющей свою власть в вопиющем притеснении народа Божьего ради собственных интересов. Ханаан был мозаикой небольших городов–государств с пирамидальной формой политической и экономической власти, обрекающей на угнетение и эксплуатацию крестьянское население. Оба представлены в тексте идолопоклонническими по природе, врагами Господа и угрозой его народу. В обоих случаях отношением народа Божьего к государству, когда оно демонстрирует идолопоклонническую враждебность, является конфронтация, вызов и конфликт.
Следовательно, исход и переход народа Божьего из Египта в Ханаан влечет за собой суд на оба противящихся человеческих государства. С Египтом боролись главным образом из–за его угнетения; с Ханааном главным образом из–за его идолопоклонничества и мерзких ритуалов, перечисленных в книгах Левит и Второзакония. Таким образом, в данном конкретном контексте по сравнению с народом Божьим государство выступает тем, чему следует противиться, нанести поражение, развенчать, и окончательно заместить совершенно другим человеческим сообществом, которое непосредственно управляется Богом. Повествования о поражении фараона и захвате Ханаана в некотором смысле являются знаком, указывающим на окончательный суд Божий над всеми, кто продолжает оставаться его врагами.
Бог
Бог, о котором говорится все это время, — не просто Бог. Его имя — Яхве. Впервые мы слышим его имя, когда читаем о событиях, предваряющих исход, а после этого оно становится символом, хоругвью израильского народа. Яхве — это Бог, выступивший против несправедливости и угнетения, специально инициировав исход, чтобы навести порядок. Поступив так, Бог Яхве вторгается в историю, в особенности в политическую историю, таким способом, который не был явным в повествованиях о патриархах. Трансцендентность Яхве вторгается в империю фараона и распахивает ее двери настежь. Брюггеманн (Brueggemann) убедительно высказывается о двойной значимости «моисеевой» альтернативы: что она известила о Боге и о человеческих политических возможностях.
Радикальный разрыв Моисея и Израиля с имперской реальностью можно назвать двухмерным разрывом с религией статичного триумфализма и политикой угнетения и эксплуатации. Моисей развенчал религию статичного триумфализма, разоблачив богов и показав, что на самом деле они не имеют силы и богами не являются. Таким образом, мифическая легитимность социального мира фараона разрушается, потому что показано, что на самом деле подобный режим хочет опираться на несуществующую поддержку. Мифические притязания империи остановлены раскрытием альтернативной религии свободы Божьей. Вместо богов Египта, созданий имперского сознания, Моисей раскрывает Яхве суверенного, который действует в Своей величественной свободе, выступает не из социальной реальности и не является пленником социального восприятия, но действует, исходя из Своей личности и для осуществления Своих целей.
В то же самое время Моисей разоблачает политику угнетения и эксплуатации, противопоставляя ей политику справедливости и сострадания… его труд как раз касался соединения религии Божьей свободы с политикой человеческой справедливости…. Яхве требует альтернативного богословия и альтернативной социологии. Пророчество начинается с различения того, насколько подлинной альтернативой он является.[191]
Яхве, Господь, освобождающий Бог справедливости затем воспринимается как царь. Центр теократии находится именно здесь, в том, что изначально Израиль не признавал другого царя, кроме Господа. То, что Израиль считал Господа царем с начала расселения (а не только со времени собственной монархии) ясно из нескольких древних текстов (напр. Исх. 15, 18; 19, 6; Чис. 23, 21; Втор. 33, 5). Вера в царствование божества не является уникальной для Ближнего Востока и существовала в древнем ближневосточном мире задолго до того, как появился Израиль.[192] Но если теократия в народе, который считает свое божество царем, не была уникальной, ее конкретное израильское проявление и опыт, несомненно, были уникальными. Ведь в Израиле теократия на протяжении нескольких столетий исключала человеческого царя.[193]
Причина, по которой царствование Господа в это время было несовместимо с человеческим институтом царей, состоит в том, что Господь полностью взял на себя две главные функции и обязанности царей древнего мира, а именно ведение войны и осуществление закона и справедливости. Конечно, осуществляя эти две функции, человеческие цари древнего Ближнего Востока играли наиболее сакральную роль; то есть они действовали от имени бога, которого представляли (или воплощали). Однако в Израиле сам Господь выполнял эти роли. Господь был главным военачальником и высшим судьей. Это означало, что соответствующее человеческое политическое руководство в данных сферах было решительно понижено в звании и нивелировано. Напротив, Израиль был народом завета с Господом, который отвечает за их защиту и справедливое упорядочение каждого аспекта их общественной жизни. И когда было необходимо, Господь воздвигал судей, которые выполняли одну или обе эти задачи: военное руководство и судебную власть. Судьи могли приходить и уходить (они не были царями), а владычество Господа продолжалось.
Итак, в этот период в истории Израиля на сцене появился подлинно радикальный и альтернативный политический выбор. И этот радикальный общественный выбор был приведен в действие во имя Яхве так, что религия Яхве не отделялась от социальных задач Израиля. Ведь Израиль не был только народом Божьим (многие народы претендовали на это в той или иной форме), но именно народом Яхве, а это само по себе означало преданность по завету определенному виду общества, отражавшему характер, ценности, приоритеты и цели Яхве.
Это эквивалентно тому, что теократия не является идеальной целью народа Божьего в его политических мечтах. Все зависит от того, кто и что естьtheos, который будет править. Только образ Яхве (как Бога, подлинно раскрывшего себя) инициировал и поддержал конкретную форму теократии Израиля. Но, к сожалению, государство, подобно всем людям, склонно создавать своих богов по образу своему. Когда Израиль сам перешел от радикальной, альтернативной, поразительной теократии Яхве к организованной форме монархии, он сделал то же самое, несмотря на напоминание пророков о подлинной идентичности и призвании.
Историческое значение периода
Невозможно переоценить влияние рассказов об исходе и захвате земли на социальную и политическую историю. Для Израиля исход стал моделью и образцом, к которому обращались во все времена страдальцы и угнетенные в библейской истории. И конечно, для еврейского народа на протяжении их послебиблейской истории празднование Пасхи помогало сохранить рассказ живым и значимым, особенно в частые времена преследований. В ходе христианской истории исход воспламенял надежды и воображение, иногда плодотворно, иногда крайне неудачно. Конфронтационное отношение народа Божьего к государству, воспринимаемому как греховное, сатанинское, безбожное и так далее, подпитывало множество вариантов христианского утопизма, милленаризма и радикального нонконформизма. Подобные движения часто заканчивались «нереальными ожиданиями, фанатичной набожностью, иррациональным поведением, диктаторскими режимами и беспощадными репрессиями или уничтожением врага».[194] Их также обычно подпитывали апокалиптические верования, утверждавшиеся в некоей надисторической манере. В отличие от них исход и все последующие события оставались в рамках исторической реальности и, какими удивительными они б не были, ограничивались возможностями истории. После исхода для Израиля ход вещей не был совершенным, будь то в пустыне или в земле обетованной. Однако в рамках истории беспрецедентный акт справедливости и освобождения действительно произошел, и был рожден радикально иной вид общества.[195]
Такое использование истории исхода стало отчасти основой богословия освобождения, а также негритянского и феминистского богословия. Кроме того, эта история стала утешением и ободрением для многих верующих, страдающих в терпении, чаянии и надежде.
Период монархии. Организованное государство
Ко времени Самуила, когда внешнее давление на Израиль усилилось, теократия уже не казалась народу удачной формой. Ощущая обеспокоенность и незащищенность перед лицом филистимской агрессии, они более не хотели полагаться на кажущийся спонтанным характер защиты Господа посредством произвольно поставляемых судей. Парадоксально, что из–за страха перед окружающими народами они решили подражать им — создать централизованную и милитаризованную систему управления. Они выбрали монархию. Совершив этот фатальный поворот, им пришлось выживать при Сауле, служить Давиду, страдать при Соломоне, и, в конечном итоге, разделиться на два враждебных царства, каждое из которых в свое время претерпело плен и погрузилось в забвение. Такой, в общих чертах, была не очень славная история монархии в Израиле.
Народ Божий и национальное государство
На протяжении данного периода (от Саула, или хотя бы от Давида, до пленения) народ Господень был организованным государством с центральным управлением, границами, организованной военной обороной, правительственными департаментами и тому подобным. Тем не менее, отождествление народа Божьего с политическим государством никогда не было абсолютно уместным. В самом Ветхом Завете встречаются намеки на сознательное различение двух реальностей, несмотря на то, что существует формальная и кажущаяся тождественность.[196] Поэтому внутри самого Израиля существовала проблема отношений народа Божьего и государства. Более того, повествования об учреждении монархии рисуют нам амбивалентную картину, в которой событие представлено одновременно с негативного и позитивного ракурса. Поскольку повествование о монархии, с вплетенными в него хронологически пророческими текстами, наиболее явная политическая часть Ветхого Завета, мы уделим больше внимания изучению его тонких и сложных ракурсов.
1. Человеческие истоки. Одно становится ясным — возникновение монархии в Израиле связано с человеческими, двойственными, даже низкими факторами. Не было божественного повеления, инициирующего появление монархии. Закон в Книге Второзакония упоминает о «царе, которого Господь, Бог твой изберет», но только как вторичное ограничивающее условие в ситуации, возникшей по желанию народа: «поставлю я над собою царя» (Втор. 17,14–15). Именно так историк–девтерономист описывает историю в 1 Цар. 8 — 12. Требование царя возникло в результате смешения мотивов, некоторые из них явно хороши (желание справедливости и неразвращенного руководства, в контексте неспособности сыновей Самуила дать это), другие, без сомнения, регрессивные (желание быть похожими на другие народы). Повествование разворачивается двусмысленно относительно избрания Саула – избранного, но и отвергнутого Богом, пришедшего к власти на волне популярности, но склонного к зависти и потере самоконтроля из–за непостоянства этой популярности. Он начал многообещающе, но закончил трагедией.
Рассказ о человеческих слабостях Саула очень важен именно из–за славы его правопреемника Давида. Давид положил начало новому богословию Израиля, новому способу выражения связи между царствованием Бога и царем Израиля, новой эсхатологии грядущего мессианского царя, происшедшего от Давида. Саул же никогда не даст израильтянамзабыть ни о политической сущности монархии, ни о человеческой сущности монарха. Монархия в Израиле не была по сути священной или божественной. Цари в Израиле не могли проследить свое родословие до богов или героев далекого прошлого. Историческое, человеческое происхождение этого института и весьма человеческие ошибки его первого обладателя (и даже его блестящих последователей) имели огромное значение. Ведь они хранили Израиль свободными от той царственной мифологии, которая в соседних культурах обеспечивала непререкаемую священность социального неравенства и пирамиды политики с позиции силы.
Еще одно последствие этого человеческого происхождения состоит в том, что монархия как политический институт была условной и, рассматриваемая с точки зрения всего хода истории Израиля в ветхозаветный период, переходной. Израиль прожил в земле несколько столетий, прежде чем выбрал царя, и смог выжить без него, начиная с пленения и далее. Более того, если благотворные последствия монархии рассматривать на фоне ее пагубных результатов, почти не вызывает сомнений, что чаша весов склонится в сторону убытков. Именно цари разделили народ, цари покусились на традиционную систему землевладения, цари усиливали экономическое угнетение и неравенство. Гордыня царей дорого стоила народу в игре политических союзов и войн. Цари почти не препятствовали народному отступлению и идолопоклонству. Безусловно, были яркие исключения. Но в общем можно сказать, что история монархии в Израиле больше отражала страхи и предостережения Самуила (1 Цар. 8, 10–18), чем надежды народа. Падшая человеческая природа даже искупленного народа была более всего видна на данных высших уровнях их политической жизни.
2. Божественное участие. Однако поразительный факт состоит в том, что большая часть ветхозаветных исторических повествований изображает Бога действующим на данной сцене, заполненной отвратительными декорациями и порочной израильской царственной политикой. Великий парадокс монархии в том, что хотя она и человеческого происхождения, и заражена с самого начала склонностью к отступничеству и коррупции, Бог, тем не менее, вплел ее в центр своих искупительных целей. Царь Израиля стал фокусом нового измерения Божьего самораскрытия. Царь представлял Божье правление над Израилем в настоящем и стал символом надежды Божьего совершенного будущего, мессианского правления над всеми народами. Таково чудо взаимодействия человеческой свободы и божественного суверенитета.
Здесь существует интересное сочетание теократического идеала, атрибутов и функций, приписываемых человеческому царствованию. Как мы отмечали выше, практическим результатом сохранения всех царственных преимуществ за Господом должно быть сокращение всех человеческих отличий в израильском обществе — социальных, политических и экономических. Однако желание иметь царя действительно было выражением неудовлетворения теократией, как известил сам Господь: «не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8, 7). Однако Господь был Богом, стоявшим за всей социальной и экономической структурой их общества, в отличие от ханаанского неравенства и угнетения. Господь был Богом освобождения из рабства и справедливости на земле. Отвергни Господа как царя — и ты так же предашь все блага его правления. Поэтому Самуил утверждал вполне обоснованно, что если они хотели царя «подобно другим народам», они также должны быть готовы к такому обществу, как у прочих народов. Картину, нарисованную Самуилом в 1 Цар. 8, 10–18, было нетрудно предсказать, учитывая то, с каким видом царствования Израиль был знаком в окружающих его культурах. Принятие монархии привело бы к конфискации земель, воинской повинности и налогообложению, а также к социальному и экономическому расслоению в израильском обществе, которое было бы несправедливо, обременительно и необратимо. Именно таким было позднее правление царя Соломона. Все было настолько плохо, что Брюггеман (Brueggemann) говорит о духе, характере и результатах деятельности Соломона как об аннулировании Моисеевой альтернативы, возвращении к ценностям и образу управления империи, прямо противоположному контркультуре Синая.[197] Таким образом, само существование царя было в некотором смысле отвержением теократии. Самая ранняя попытка учредить царский дом претерпела неудачу на этом основании. Гедеон отказался от венца, говоря: «ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» (Суд. 8, 23).
Как это ни парадоксально, но в каком–то смысле царь стал центром теократии. Израильский царь, конечно же, не считался божественным сам по себе, но был призван, чтобы демонстрировать божественные свойства как образец того подражания Богу, которое, как мы видели в первой главе, было основным измерением ветхозаветной этики. Царь не должен был быть «сверхизраильтянином», наслаждаясь престижем положения (Втор. 17, 20). Скорее, он должен быть образцовым израильтянином, устанавливающим высочайший стандарт преданности закону (Втор. 17, 19). Для этой задачи он получил особенные дары Божьей благодати. Он был помазан, что символизировало особенную миссию от Бога и силу Божьего Духа. Он был усыновлен как сын Божий (2 Цар. 7, 14; Пс. 2, 7), тем самым объединяя в своей личности высокий статус сына и ответственность послушания, к которым он обязывал, статус и ответственность, принадлежавшие всему народу.
Эти высокие ожидания, возложенные на израильского царя, объединялись в одном слове «пастух» — понятие, которое также применялось к Богу, насколько нам известно (Пс. 22, 1 и дал.). На человеческом уровне у пастухов была очень ответственная и трудная работа, но относительно низкий социальный статус. По отношению к царям сравнение с пастухом было сильным напоминанием об обязанностях, а не о славе царствования. Царь должен следить, чтобы среди его народа вершилась справедливость, Божья идея справедливости (см. Пс. 71, 1) в интересах нищих и притесняемых. Несостоятельность нескольких поколений царей в этой сфере навела на израильского царя–пастыря гнев пророков: «горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?… Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали… а правили ими с насилием и жестокостью» (Иез. 34, 2–4; ср. Иер. 22, 1–5; 23, 1–4). Любопытно, что Иезекииль видит главную проблему в нечестивых и бессердечных правителях, а ее решение в новом утверждении теократии. Господь заявляет: «вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их… буду пасти их по правде» (Иез. 34, 11–16).
Тем не менее, даже в этом эсхатологическом видении правление Господа остается посреднической теократией; богословие Сиона–Давида не отвергнуто: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем» (Иез. 34, 23). Только пришествие мессианского царя, который будет одновременно сыном Давида и самим Господом Богом, помогло объединить оба аспекта видения. Это не означает, что все израильские цари не выполняли свой долг —отображать характер Бога. Некоторые из них, по крайней мере, заслужили хорошую репутацию тем, что были милостивее, чем это предусматривали нравственные обычаи их времени (3 Цар. 20, 31 и дал.). А Иосия доказал, что на самом деле знал Господа, исполняя его требования: праведность и справедливость ради нищих и нуждающихся (Иер. 22, 15–16; ср. 9, 23–24; 4 Цар. 23, 25).
Если царю следовало истинно добиваться справедливости среди своего народа, защищая страждущих, спасая детей, нуждающихся, сокрушая угнетателя (см. Пс. 71,4), тогда он должен быть доступным, так же как пастух для своих овец. И это в самом деле заслуживающая внимания особенность израильской монархии, по крайней мере, в раннем ее периоде. К царю могли прийти и умолять о справедливости простые люди или, от их имени, пророки. Среди примеров притча Нафана ради Урии (2 Цар. 12, 1–10), Иоав и притча мудрой женщины из Фекои ради Авессалома (2 Цар. 14, 1–24), обращение блудницы к Соломону (3 Цар. 3, 16–28), и обращение женщины сонамитянки к Иораму (4 Цар. 8. 1–6).
Эта особенность израильских царей имеет свою теократическую параллель. Народ, дороживший привилегией приближаться к Богу в поклонении и молитве (см. Втор. 4, 7), вряд ли смог бы принять недоступного царя. Если Бог, обитавший в вечности, снизошел до того, чтобы жить с незнатными и выслушивать просьбы таких, как Анна, то не стоило человеческому политическому руководству становиться недосягаемым и возноситься над критикой. Даже когда позже цари Израиля и Иудеи стали исключительно самодержавными, живой голос пророчества нельзя было заставить умолкнуть. Говоря политическим языком, пророки выполняли роль, сравнимую с «оппозицией ее величеству», заставляя политическую власть прислушиваться к критике, напоминая о ее неизбежной подотчетности Богу и народу.
Нафан и Иоав использовали интересный и иносказательный подход в противостоянии политической власти. Первый был вызван откровенной несправедливостью, второй — непопулярной политикой, но оба произвели одинаковый эффект. Они задели за живое и подтолкнули царя к тому, что ему следовало делать: в нравственном и политическом смысле они задействовали его, заставляя высказать суждение по конкретному делу. Это были практичные, особые вмешательства, связанные с непосредственными событиями, а не с абстрактной политической теорией. Оба были результативны, производя перемену в сердце и сознании царя. Оба призывали к покаянию: во–первых, нравственному, во–вторых, политическому.
Эти образные способы обращения к власти служат хорошим примером для христианского участия в политике. Христиане, будучи «солью и светом» для этого мира, должны постоянно приводить нравственные аргументы политическим властям, убеждая их действовать. Особенно это нужно делать ради слабых, беззащитных, тех, с кем поступили несправедливо или грубо пренебрегли, как в рассказах Нафана и Иоава. Важно, чтобы это убеждение было действенным для решения конкретных проблем и задач.
Пророческое изображение отношения Бога к монархии
Восприятие Богом этого периода следует искать главным образом в голосах пророков. От них мы узнаем об условном и неполном принятии Богом монархии в качестве политической формы для своего народа. Можно подытожить представление пророков о монархическом государстве Израиля (как северного, так и южного царствах), сказав, что они принимали его богоданность, но отвергали подмену в нем Бога. Например, важно, что в момент отделения северных племен от Иуды один и тот же пророк, Ахия, одновременно ободрял Иеровоама, утверждая, что это отделение было задумано Богом как суд над домом Соломона (т. е. Бог давал ему царство), и позднее сурово критиковал его за идолопоклонство, в которое он ввел северные колена (его царство узурпировало место Бога) (3 Цар. 11, 29–39; 14, 1–16).
1. Двойной грех. Любопытно сравнить грех двух главных персонажей повествования о разделении царства — Ровоама и Иеровоама.
Грехом Ровоама было тираническое злоупотребление властью для личного обогащения и престижа. Конечно, от своего отца Соломона он унаследовал непростую империю, зависящую от жестокого бремени налогообложения и принудительного труда. Но Ровоам намеренно выбрал путь угнетения и правления при помощи силы в качестве заявленной политики государства (3 Цар. 12, 1–14), даже когда была предложена альтернатива. Поступив так, он отверг совет старейшин, напоминавший ему о подлинной израильской концепции политического руководства — взаимном служении: «если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему… то они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 12, 7). Отвержение этого совета стоило Ровоаму более половины его царства, но не отвратило его или его преемников, на севере или юге, от искушений властью. Пастыри уничтожали собственное стадо. Но Ровоам отверг не просто человеческий совет. Он также отверг ясные требования завета Господня о том, что справедливость и сострадание должны характеризовать все отношения в Израиле, и особенно быть признаком тех, кто находится у власти.
Грехом Иеровоама было подчинение религиозных обычаев политическим целям — выживанию и независимости собственного новорожденного государства. Идолопоклонство северного царства было сконцентрировано на золотых тельцах в Вефиле и Дане. Однако нам следует разобраться, что они означали. Из 3 Цар. 12, 26 и далее мы видим, что Иеровоам явно не собирался поклоняться ложным богам как таковым. По всей вероятности, тельцы должны были символизировать присутствие Господа, выведшего Израиль из Египта. Это было в большей мере нарушением второй заповеди, чем первой. Но главный акцент идолопоклонства Иеровоама состоит в мотивах его поступка и инициированных им дополнительных религиозных ритуалах и должностях. Он явно стремился защитить свое зарождающееся царство от каких–либо народных устремлений к величию Иерусалима (3 Цар. 12, 26–27). Чтобы быть абсолютно спокойным, он предложил для северного царства альтернативную систему культа, которую он полностью разработал, утвердил и руководил ею самостоятельно, и вся она служила интересам его государства (3 Цар. 12, 31–33). В результате Господь стал номинальным главой его государства. Само государство стало идолопоклонническим. Поклонение Господу использовалось ради другой цели — сохранения государства, или, если точнее, ради выживания нового царя (3 Цар. 12, 27).
То, что это действительно так, ясно видно из ироничных слов Амасии, первосвященника в Вефиле при Иеровоаме II (почти двести лет спустя) против Амоса: «Провидец! пойди и удались в землю Иудину… а в Вефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский» (Ам. 7, 12–13, курсив автора).[198] Амос, тем не менее, подобно Ахии на ранних этапах истории северного царства и как его анонимный собрат из Иудеи, пришедший возвещать от имени Бога в Вефиле (3 Цар. 13, 1–6), отказался повиноваться запрету подмененного божественного авторитета нового политического режима. Возможно, Бог позволил этому царству появиться, но это не обязывает Бога служить эгоистичным интересам царства. Пророки не позволили, чтобы авторитет Бога или Божьего пророческого слова был похищен, чтобы узаконить человеческие политические амбиции. Иногда такая оппозиция стоила очень дорого.
Илия — один из тех пророков, который точно не стал бы служить интересам государства. Его служение совершалось в северном царстве в IX веке до P. X. во время правления Ахава и Иезавели, когда практически все государство стало отступническим. Тем не менее, оставалось семь тысяч верных, не капитулировавших перед навязанным двором поклонением Ваалу (3 Цар. 19, 14.18). Происхождение идеи об остатке верных, по всей видимости, восходит к этому времени. Истинный народ Божий представлял собой не государство Израиль, а меньшинство истинных верующих в нем.
2. Сомнительная легитимность. С точки зрения ветхозаветных историков северному царству, конечно же, с самого начала недоставало легитимности. Однако в южном царстве Иуды, несмотря на всю богословскую легитимацию государства и его монархии, пророческий глас Господа продолжал конфликтовать с ним и бросал вызов нравственной порочности любого, кто занимал престол Давида. Легитимность престола Давида коренилась в Божьем обетовании завета (2 Цар. 7). Однако специфическое правление любого наследника престола Давида могло быть подвергнуто тщательному анализу, и, при необходимости, объявлено нелегитимным. Критерием же оценки был закон завета. Пророки единогласно подчиняли Сион Синаю.
Закон в Книге Второзакония, позволявший (а не предписывавший, как мы отметили) монархию, заложил для нее строгие условия, включая требование, согласно которому царь должен знать, читать и исполнять закон. Он должен быть не сверхизраильтянином, а образцом среди своих братьев (Втор. 17, 14–20). Поскольку ему доверили закон, царь должен был отвечать за сохранение справедливости в духе сострадания (см. Пс. 71). Даже в поздней монархии Иеремия провозглашал необходимость соблюдения требований закона и завета от иерусалимской династии царей у самых ворот их дворца в Иерусалиме. Его слова — это на самом деле заявление об условиях легитимности и выживания давидовой монархии. Сион должен подчиниться Синаю, либо грядет опустошение:
Выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их. А если не послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.
(Иер. 22, 2–5)
На этом основании Иеремия продолжает, с одной стороны, выражать одобрение правлению Иосии, жившему по требованиям закона (Иер. 22, 15–16) и, с другой стороны, порицать Иоакима, действия и политика которого включали бесплатную принудительную работу, личное обогащение за счет других, нечестность, насилие и угнетение. Легитимность или нелегитимность двух царей оценивается на основании их отношения к нищим и нуждающимся, работникам и невинным, то есть царя в Сионе судили исключительно в соответствии с основными требованиями Синайского закона.
Таким образом, даже когда общественно–политические настроения народа Божьего радикально сменили раннюю теократию на организованное монархическое государство, контролирующей моделью политической системы все еще был закон и завет. Это означало, что, по сути, монархическая форма израильской теократии не могла по справедливости считаться божественным правом царей. Быть помазанником Божьим не означало обладать абсолютной неприкосновенностью. Над царем стоял закон завета, который контролировал его. В конечном счете, сама монархия могла навлечь на себя суды завета (его проклятия), как и вся нация.
Нравственная оценка окружающих государств
Такой же нравственный критерий применяется у пророков к власти внешних правителей, не входящих в завет. Какой бы ни была их национальность, власть им дарована Господом. Израильские пророки еще в IX веке до P. X. претендовали на право помазания царей окружающих народов во имя Яхве (3 Цар. 19, 15). В VIII веке до P. X. Исаия считал Ассирию и ее тиранических правителей всего лишь жезлом в руке Яхве (Ис. 10, 5 и дал.). Но яснее всех Иеремия смог в VII веке до P. X. объявить во время международной дипломатической встречи, организованной Седекией в Иерусалиме, что Яхве передал Навуходоносору высшую, всемирную власть и могущество на обозримое будущее. Навуходоносор, говорит Господь, — «раб Мой» (Иер. 27, 1 — 11; обратите внимание на стихи 5–7).
И если израильские цари оценивались нравственными стандартами закона Божьего, это же касалось и языческих царей. И вновь самым ярким примером этого служит Навуходоносор. Даниил хорошо усвоил суть заявлений Иеремии о Навуходоносоре, ведь он повторяет их, практически дословно, в его присутствии (Дан. 2, 37–38). Тем не менее, в другой ситуации Даниил, гражданский служащий, облекается в подлинную пророческую мантию, выходя за рамки ожидаемого истолкования сна, чтобы дать совет Навуходоносору. И этот совет на самом деле является предупреждением: если тот не увидит беззакония своего града и не проявит милость к бедным, быть ему судимым. Твердость пророческого слова Даниила в Дан. 4, 28–29 не должна ускользнуть от нас, хоть последующая за этими стихами довольно странная история здесь и может сбить читателя с толку. Царь, которого Господь одарил властью и могуществом больше, чем любого израильского правителя, был взвешен на весах справедливости и не выдержал испытания.
Все это помогает лучше понять представления Павла о государственной власти в Рим. 13. Ветхий Завет полностью поддерживает мнение, что все человеческие власти существуют в рамках воли Божьей. Он полностью отвергает воззрение, что это положение дает им легитимность вне зависимости от их соответствия Божьей справедливости, которая явлена в законе завета.
Таким образом, исторический опыт народа Божьего как государства демонстрирует серьезные трудности. Монархия никогда не была само собой разумеющимся установлением, даже в Иудее при Давиде. Это становится видно благодаря таким группировкам, как рехавиты в период позднего царства (Иер. 35). Всегда казалось, что предназначение Израиля крылось в другом. Тем не менее, из пророческой критики царей и институтов этого периода (как в повествовании, так и в пророческих книгах) мы узнаем больше всего о радикальных требованиях Бога от политических властей.
Историческое значение периода
Влияние Израиля как модели организованного монархического государства, по всей видимости, полнее всего можно увидеть в идее христианского мира в столетия, когда христиане, казалось, поддались коллективной иллюзии о том, что лучший способ спасти мир — это править им. Преобразования Константина в христианстве часто сравнивают с началом монархии в Израиле.[199] Несомненно, мы видели, что превращение Божьего народа в государство оценивалось неоднозначно как в истории, так и в богословии и каноническом праве. Тем не менее, историю изменить нельзя, и размышления о том, что могло бы быть, если бы они послушались Самуила, также бесплодны в этом случае, как и в любом другом. Голдингей пишет об «исторической неизбежности перехода от (номинальной) теократии к монархии», у которого не было альтернативы.[200]
Голдингей идет дальше и считает принятие Богом монархии, несмотря на ее сомнительное происхождение, прецедентом того, что Бог снисходит до человеческой неспособности жить по его идеальным стандартам, даже в своем собственном искупленном и освобожденном народе: «Существование организованного государства означает, что Бог начинает идти рядом со своим народом там, где они находятся; если они не могут справиться с его высшим путем, он создает путь попроще. Когда они не отвечают Духу Яхве, или всякие иные духи приводят их к анархии, он дает им организованную безопасность земных правителей».[201] Из этого можно сделать вывод, что организованное государство, подобно некоторым иным человеческим условиям, допускаемым законом, является уступкой человеческому ожесточению сердца — допущенной, но преходящей.
Период плена. Страждущий остаток
В 587 г. до P. X. организованное монархическое государство Иудеи исчезло под обломками Иерусалима, разрушенного армиями Навуходоносора. Северное царство Израиля исчезло задолго до этого, рассеянное ассирийцами в 721 г. до P. X.
Народ Божий
Заброшенный в изгнание, народ Божий не только больше не был государством — его едва ли можно было назвать нацией. Жалкий остаток, они вновь учились жить, подобно своим отцам, как странники в чужой земле, в той самой земле, откуда их отцы вышли, повинуясь призыву Бога. Теперь же они возвратились туда в результате Божьего суда.
Однако Вавилон был не просто чужим. Он был огромным, враждебным и угрожающим окружением, в котором израильтяне были изгнанниками. Следовательно, на этом этапе своей истории народ Божий был преследуемым остатком, в то время как государство было внешней, враждебной силой, в которой они должны были выживать и как–то продолжать жить, как народ Божий. В подобное время опасность была двоякой: (1) они могли утратить свою идентичность в результате компромисса и ассимиляции в новом окружении и, таким образом, перестать быть особенными; либо (2) они могли упрямо стараться отличаться, чем навлекли бы на себя огонь преследования, который окончательно поглотил бы их. С подобной дилеммой — когда народ Божий был страдающим меньшинством во враждебном окружении — они сталкивались множество раз за свою историю. И в потому в еврейской Библии есть разные ответы на подобный вызов. Мы рассмотрим четыре из них — два положительных и два отрицательных.
Отношение к окружающим народам
1. Молитва. Во–первых, был совет молиться за Вавилон. Это изумительная весть, отправленная Иеремией в письме первой группе переселенцев, записана в Иер. 29. Вопреки тем, кто предсказывал кратковременное изгнание или предлагал немедленное восстание с целью положить конец плену, Иеремия предрекает долгое пребывание там двух поколений и поэтому советует смириться с этим. Изгнанники должны понять, что Вавилон сделал это по допущению Господа, поэтому молитва о Вавилоне будет в согласии с волей Божьей. Покой народа Божьего был связан с покоем языческого народа, среди которого они теперь находились.
Это, несомненно, не просто прагматическая политика, призванная гарантировать выживание. Этот совет Иеремии вторит подлинной миссии Израиля — быть источником благословения для народов. Более того, поскольку молитва была одной из обязанностей священников, это пример священнической функции Израиля среди народов. А поскольку рассматриваемый народ в то время был врагом и угнетателем Израиля, не будет преувеличением отметить здесь ветхозаветное предвосхищение великой заповеди Иисуса «любите врагов своих и молитесь за обижающих и гонящих вас» (Мф. 5, 44).
Хотя следующая история и относится к раннему периоду, любопытно сравнить совет Иеремии с повествованием о ходатайстве Авраама о Содоме (Быт. 18, 20–33) и миссии Ионы в Ниневию. Сострадательное священническое ходатайство Авраама, хотя его результат и не был тем, о котором он просил,[202] резко контрастирует с пророческой миссией Ионы. В случае Ионы результат оказался именно таким, которого он не хотел, но проницательно предполагал его вероятность. Интересно, что Ниневия была столь же известна своим нечестием и угнетением, сколь Содом и Гоморра. Однако на этом сходство заканчивается. Авраам взялся ходатайствовать, хотя его не просили; Иону же просили, однако он отправился в другую сторону. Авраам не смог добиться отсрочки для городов в долине; Иона против воли привел Ниневию к покаянию и тем отсрочил суд. Авраам ходатайствовал, потому что знал: Бог праведен; Иона пытался избежать своей миссии, потому что знал: Бог милосерден, и это проблема (Иона 4, 1–3)!
Вместе эти три истории — Авраама, Ионы и письмо Иеремии — представляют нам священническое служение народа Божьего в греховном мире. Нам следует ходатайствовать даже о тех, над кем нависла угроза Божьего суда. Нам также необходимо возвещать об этом суде, но с надеждой покаяния и отсрочки. Кроме того, нам следует делать это в духе Авраама, а не Ионы.
Мы также можем добавить здесь, что Иеремия предвосхищает новозаветную заповедь молиться о светских властях, повинуясь Богу, который владычествует над ними. Основания те же самые — искупительное желание и цель Бога: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 1–4).
Молитва ставит все, включая человеческие власти, на свое место. Молитва ищет блага для государства, в то же самое время отказываясь его абсолютизировать, поскольку сам акт молитвы обращен к более высокому авторитету, чем государство (именно поэтому молитва является также политическим актом). Молиться о Вавилоне — значит поставить его на положенное ему место. Даниил, будучи человеком молитвы, напоминал Навуходоносору, вавилонской «золотой голове», — «есть на небесах Бог» и «власть небесная» (Дан. 2, 28; 4, 26).
2. Служение. Во–вторых, Даниил не просто молился о Вавилоне, он был готов служить молодому имперскому государству Навуходоносора. Книга Даниила — это поразительный анализ чрезвычайных опасностей, а также уникальных возможностей подобного решения. Существуют параллели с историей Иосифа. Оба смогли свидетельствовать о живом Боге в среде языческого идолопоклоннического государства; оба могли влиять на государственную политику; оба смогли принести пользу народу Божьему благодаря своей светской профессиональной карьере. Повествования в Дан. 1 — 6 предлагают примеры величайших возможностей для верующего, находящегося на высочайшем уровне языческой политической власти, и сохранения верности и бескомпромиссности.[203]
С другой стороны, можно отметить другие примеры в Ветхом Завете. Были времена, когда государство Израиль так далеко уходило от Господа, что буквально уподоблялось внешней враждебной силе для верных Яхве. Несомненно, при царях вроде Ахава проблема отношений между верными последователями Господа и государственными чиновниками, которые далеко не были верными ему, стала насущной и важной. Нам известна реакция Илии. Илия представляет непримиримую оппозицию, заявляя, что ставит верность Господу выше верности государственной власти. Важной была его ремарка в присутствии самого Ахава «жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою\»; то есть «я служу Ему, а не тебе, Ахав» (3 Цар. 17,1; курсив автора). Другая реакция в тех же условиях представлена Авдием. Говорится, что Авдий был «человек весьма богобоязненный» (3 Цар. 18, 3). Тем не менее, он решил остаться на высокой политической должности, служа при дворе Ахава и Иезавели. Он не только служил государству, но также мог воспользоваться своим положением, чтобы сберечь жизнь сотен других верных пророков посреди жестокого преследования (3 Цар. 18, 4). Реакции Илии и Авдия на враждебное государство требовали мужества. Однако можно утверждать, что Авдию было сложнее в долгосрочной перспективе. Несомненно, сотня пророков была обязана своей жизнью смелости Авдия внутри, а не выступлению Илии вне политического львиного рва. Позднее Иеремия был обязан своей жизнью другому чиновнику — Авдемелеху (Иер. 38, 6–13).
3. Суд. Также из–под пера Иеремии вышло объявление суда Вавилону. Это представляет удивительный парадокс, учитывая совет Иеремии изгнанникам молиться о Вавилоне. Буквально в следующем мешке дипломатической почты — после письма в двадцать девятой главе — Иеремия отправил увесистое послание против Вавилона, записанное в Иер. 50 — 51. Свиток следовало прочесть публично, а затем вместе с камнем бросить в реку Евфрат, где он потонул бы, что ожидает и могущественный Вавилон. Это показывает, что письмо в двадцать девятой главе не было розовыми очками квиетизма, основанного на наивной вере в благожелательность Вавилона. Иеремия сказал, чтобы изгнанники молились о мире(shalom) Вавилона, ясно осознавая реалии Вавилона и его будущую судьбу, в которой он определен на уничтожение Божьим судом.
В этот контекст нам необходимо включить часто игнорируемые отрывки книг пророков — пророчества против народов. Мы склонны пропускать их как устаревшие предречения о падении империй, давно отправленных в корзину истории, или как призрачные, но красивые музейные экспонаты. Однако весть этих пророческих сообщений о народах весьма сильна. Они говорят о всевластии Бога, осуществляемом на протяжении сменяющихся сцен истории. Они говорят о подотчетности всех человеческих империй всего мира живому Богу. И они отрезвляюще говорят о непостоянстве даже самых сильных народов на земле в любой период времени. Эти утверждения необходимы народу Божьему в любой эпохе, и еще больше в наше время, когда не только народы и государства обладают такой гигантской властью, но торговые марки и корпорации, а также феноменально (до неприличия) богатые отдельные люди.[204]
4. Насмешка. Наконец, присутствовала также реакция намеренной насмешки и разоблачения вавилонского имперского пантеона и утонченной «научной» цивилизации. Важность Ис. 46 и 47 можно упустить, если не проследить связь этих глав между собой и их контекстом. Здесь пророк стремится воодушевить свой разочарованный народ поверить в то, что Господь вновь может сделать нечто великое; что их нынешнее положение временно; что они на самом деле смогут встать и выйти из Вавилона. Народ Божий вновь должен заявить о своей идентичности в мире, идентичности служения, которая, однако, приобрела вселенское измерение, имеющее спасительное значение для всех народов. Однако парализующее величие Вавилона мешает Израилю совершить такой отклик. Поэтому еще прежде, чем армии Кира развенчали вавилонскую империю в военном смысле, поэзия Исайи уже развенчивала ее психологически и духовно в восприятии изгнанников. Поэтому в данных главах присутствует явная политическая насмешка над идолопоклонничеством и уязвление культурной заносчивости Вавилона. Брюггеман (Brueggemann) отмечает этот тезис со свойственной ему содержательностью:
От имени угнетенного народа поэт ввязывается в некую партизанскую борьбу, которая всегда необходима. Во–первых, того, кого ненавидят, необходимо высмеять и сделать уязвимым, затем его можно ослушаться и считать его никем — не претендующим на верность и не хранящим обещаний. Большой дом не дает реальной жизни, его не стоит бояться, ему не следует доверять и почитать.
Когда вавилонские боги были высмеяны, а над вавилонской культурой поглумились, тогда ход истории изменился. Похороны становятся торжеством, печаль — славословием, отчаяние превращается в восхищение. Вероятно, это не более чем культовое событие, но не следует его недооценивать, потому что культ тесно связан с историческим опытом, который может воодушевить народ. Например, обратите внимание на негритянские церкви и их движение за гражданские права, или освободительное сопротивление в Латинской Америке. Культ может быть инсценировкой, которую цари считают невозможной… Нам не следует недооценивать силу поэта. Изменения могут начаться в перемене языка, определенного заново поля восприятия или измененного сознания.[205]
Тем не менее, несмотря на сказанное выше, будущее народа Божьего все еще зависело от Кира, который был таким же языческим царем языческой империи, как Навуходоносор и вавилоняне. Государство, высмеянное Исайей, ранее называлось слугой Божьим, осуществляющим его суд над Израилем (Иер. 25, 9; 27, 6). Исайя избегает использования понятия «слуга» в отношении Кира, поскольку это определение имело особенное значение в его пророчестве, относящемся к Израилю и к тому, кто исполнит его миссию. Тем не менее, он говорит о Кире как о Господнем «пастыре» и его «помазаннике» (Ис. 44, 28; 45, 1). Обычно эти определения применялись к царям Израиля. Поэтому, хотя пророк заявляет, что избавление Израиля из плена будет победоносным делом Господа, он ожидает, что новое зарождающееся внешнее государство осуществит это. Моисеем нового исхода станет язычник!
И вновь мы видим, насколько полно Ветхий Завет помещает всю человеческую политическую и военную власть под суверенную волю Господа. Внешнее имперское государство может быть тираническим и порабощающим, как орудие божественного суда; либо же оно может быть более просвещенным и освобождающим, в качестве инструмента божьего искупления. В любом случае, это действие руки Господа.
Период второго храма. Особенное общество
Народ Божий
После возвращения из Вавилона в Иудею народ Божий уже не был организованным государством. Однако они и не были крошечной перемещенной группой пленных изгнанников. Ввиду отсутствия национальной независимости их вряд ли можно было назвать нацией. Тем не менее, они были сообществом с ощущением особенной этнической и религиозной идентичности. Как провинция в огромной Персидской империи, они оставались политически незначительными. В то же самое время они чувствовали собственную значимость как народа Божьего в окружающем мире, в неизменной роли его слуг, с надеждой, что Божья цель для них и через них будет, в конечном итоге, осуществлена. Итак, они были восстановленным сообществом, сообществом веры и обетования, сообществом воспоминания и надежды.
Голдингей отмечает четыре главных особенности израильского сообщества после плена. (1) Они были поклоняющимся сообществом, которое возвращалось к изначальной концепции израильскогоceda, собрания, объединившегося для поклонения. Ездра заложил основания этого, а летописец обеспечил его обоснование в повествовании своей истории. (2) Они были ожидающим сообществом, ожидающим нового будущего от Бога в разнообразии апокалиптических предвосхищений. (3) Они были повинующимся сообществом, с особой преданностью закону, понимая, что именно пренебрежение законом привело к изгнанию. Таким образом, закон даже в большей мере, чем завет, частью которого он был изначально, становится центром новой общины веры, которая впоследствии стала известна как «иудаизм». И, наконец, (4) они были вопрошающим сообществом. Неопределенность и неоднородность веры, вызванные историей Израиля, послужили причиной сомнений и неуверенности, о которых часто пишется в литературе мудрости.
Государство
Во время данного периода влияние государства на жизнь народа Божьего было разным. Во времена Персии они пользовались достаточно благосклонной политикой религиозной свободы и в значительной мере местной автономией, конечно, без независимости. Однако беспринципные враги могли использовать это против них, как это демонстрирует Книга Есфири. Повествования Неемии и Ездры показывают и другую картину, где израильтяне воспользовались государственной поддержкой, защитой и властью для восстановления инфраструктуры сообщества и сопротивления врагам. В поздние годы контроля греков над Палестиной при правлении династии Антиохов сообщество подверглось жесточайшему давлению. Отчасти это давление угрожало расколоть сообщество на тех, кто мог принять греческую культуру и образ жизни и адаптироваться к ним, и тех, кто любой ценой сохранял веру и ее особенности. Книга Даниила была написана и сохранена для народа, сталкивающегося с подобной дилеммой, и реакцией израильтян было терпение, подкрепленное апокалиптическими надеждами и уверенностью, что все до сих пор находится под Божьим контролем. Не ожидалось ни исхода, ни Кира. Требовалось только терпение до тех пор, пока не вмешается сам Бог.
Практическое значение истории
Итак, мы увидели, что в Ветхом Завете нет единой доктрины государства, но присутствует ряд реакций на все более усиливающийся человеческий фактор. Внешнюю политическую власть следовало уважать и служить ей, но Иосиф и Даниил показывают: существуют границы, за которыми компромисс становится недопустимым. Ведь царство не является абсолютом, а царь — божественным. Однако у них есть склонность считать себя таковыми, и те представители народа Божьего, которые поступили на политическую службу человеческим властям, должны хорошо понимать вероятность преследования и страдания. Теперь мы имеем достаточно материала для размышления об отношениях народа Божьего и государства. Что же нам следует с ним делать?[206]
Признание многообразия
Во–первых, мы должны найти взаимосвязь между особенностями каждой ситуации, в которой оказывается сообщество Божьего народа в конкретный период истории Израиля, и современным светским государством. Это не так просто сделать, как кажется: нужно избегать общих утверждений, которые скорее наивны, чем реальны. Например, не все угнетаемые христиане могут сравниваться с израильтянами в Египте. Вавилон, к примеру, может быть более подходящей аналогией. Некоторые христиане могут находиться в ситуации формирования нации после великих перемен в стране в соответствии с ценностями, взятыми из Синайской и теократической модели. Другие могут существовать как незначительное меньшинство в достаточно благожелательном государстве, при этом не имея возможности влиять на него. Поэтому нам необходимо изучить многообразие опыта Израиля, чтобы увидеть, когда и где он соответствует нашему опыту, и каким урокам должен научить.
Политика исхода, например, не требует, чтобы каждая ситуация несправедливости отождествлялась с Египтом… Употребление понятий «угнетатели» и «угнетенные» в библейском повествовании взвешенно и оправданно, но они не могут переноситься на другие исторические события и общественные конфликты бездумно. Наоборот, только с помощью непредвзятого исследования можно решить, справедливо ли вообще мыслить в рамках «угнетатели» и «угнетенные» в каждом отдельном случае или же будет правильнее найти другое социологическое объяснение?[207]
Во–вторых, нам необходимо избегать произвольного выбора, который может исказить наше представление об отношении народа Божьего к государству. Если мы необдуманно проводим параллели, приспосабливая пример Израиля к сегодняшнему периоду, то вполне можем впасть в такое же искушение, как и Израиль в то время. Даже если мы обнаружим, что определенный период максимально похож на нашу ситуацию, нам необходимы корректировка и взвешенное отношение в осмыслении аналогий и разницы периодов. Важно понимать, что Израиль находил Бога в каждом из них, а также извлекал уроки и справлялся с проблемами:
Подлинное ободрение обнаруживать в самом Писании, как народ Божий разными способами справляется с проявлениями трудностей, которые переживаем и мы. Бог сказал «да» каждому из них. Монархия была частью воли Божьей, хотя имела земное происхождение — посредством человеческого восстания. Общество должно было найти способ жить с опытом неисполнения Божьих обетовании. Однако… опасность состоит в том, что наш выбор одной из многих перспектив, предложенных Ветхим Заветом, может быть произвольным. Предопределение понимания того, что означает быть народом Божьим, может быть подкреплено экзегетически обращением к библейским свидетельствам, поддерживающим позицию, избранную до изучения Библии.[208]
Поиск нормы
Если спросить, имеет ли какой–либо период в ветхозаветной истории Израиля первостепенную значимость и может ли служить основополагающей моделью для других, то ответ надо искать в Синайском завете и законе, в попытках ранней теократии создать сообщество, воплощающее поставленные социальные задачи. Мы уже видели, что пророки критиковали все злоупотребления монархии на основании конституции Синайского завета.
Другим нормативным примером соблюдения закона даже в языческом окружении вновь выступает Даниил. Живя в изгнании, когда его народ был угнетаемым меньшинством в языческом государстве, Даниил имел видения об империи, «животной» по своей сути. Подобно Иеремии, Даниил полностью осознавал, что, в конечном итоге, государство — враг Бога; более того — своего рода подмена Бога с целью раз и навсегда с ним покончить. И все же он не только решил служить государству на гражданско–политическом уровне, но также воспользовался этой возможностью, чтобы бросить вызов этому государству во имя Бога небес, чтобы привести его в соответствие с образцом справедливости, полученным у Синая (Дан. 4, 27).
Тонкость и взвешенный баланс позиции Даниила поразительны. С одной стороны, зная, что сам Бог даровал Навуходоносору всю власть и могущество, он, тем не менее, не чувствует себя обязанным повиноваться Навуходоносору в каждой отдельной ситуаций. Скорее, он устанавливает пределы своего подчинения государству, потому что не существует пределов его подчинения Богу. Доктрина Даниила о божественном назначении человеческой власти не делает его пассивной пешкой, некритично повинующейся конкретному властителю, при котором он живет. Однако, с другой стороны, зная, что Вавилон был одним из «зверей» его видений, орудием зла и разрушений духовного характера, он все же продолжал свою ежедневную политическую деятельность на своем посту, сохраняя честность и свидетельствуя о высоком уровне национального менталитета. Доктрина Даниила о сатанинском влиянии на человеческие власти не заставила его отказаться от политической деятельности. Христианам необходимо подобное сбалансированное понимание политической и общественной ответственности в государствах, которые могут не признавать Бога, но все же остаются частью Божьего мира.
Определение власти
Характер и источник власти явно является ключевой проблемой в любой дискуссии о политике. Здесь, основываясь на обзоре политического богословия Израиля, я выдвину три тезиса.
Во–первых, вся власть принадлежит Господу. Ветхий Завет подчеркивает это столь же очевидно, сколь Новый Завет настаивает, что вся власть принадлежит Христу. И власть Бога относится ко всему существованию человека на земле. Поэтому вся власть человеческая вторична и производна. Наша склонность абсолютизировать человеческие власти должна постоянно разоблачаться и решительно отвергаться. Это, несомненно, относится как к человеческой власти, осуществляемой в народе Божьем, так и к сфере политической власти в государстве. Вся человеческая власть относительна и подотчетна Богу. Поэтому важен пророческий дар и служение.
Во–вторых, политическая власть исходит от Бога, а не только от людей. Это утверждается в различные периоды. Народ желает царя, но именно Бог дает его. И все же роль народа в этом немаловажна, так же как и немаловажна законность власти в глазах людей. Интересно, что народ часто играл ключевую роль в возведении или свержении царей, даже в истории назначенных Богом царей из династии Давида (напр., 4 Цар. 11, 17 и дал.; 14, 19–21). Но поскольку власть в действительности исходит от Бога, это устанавливает пределы назначенной или избранной власти, а также на выбор и поведение народа. В Ветхом Завете большинство имеет не больше божественных прав, чем монарх. Именно поэтому распределение и рассеяние могущества — благо, поскольку это оберегает отдельного человека или группу людей от захвата полной политической власти, которая, строго говоря, принадлежит только Богу.[209]
В–третьих, моделью политической власти является служение. «Моисей верен во всем доме Его, как служитель» — это не ветхозаветный текст (Евр. 3, 5), но израильтяне согласились бы с ним (см. Исх. 14, 31). Хоть Моисей и был величайшим вождем среди самых великих вождей в истории человечества, его можно было описать как «кротчайшего человека на земле» (Чис. 12, 3, курсив автора). Поэтому неудивительно, что закон о царе в Книге Второзакония строго запрещает царю возноситься над своими братьями; скорее, он должен подавать пример, воплощая требования и ценности закона (Втор. 17, 14–20). По сути, этот текст говорит, в большей или меньшей степени, что каким бы ни был царь в Израиле, он не должен уподобляться обычному земному царю, который владеет оружием (военный престиж), богатством (серебро и золото) или женами (гарем). В контексте того времени можно было задаться вопросом: а стоило ли вообще становиться царем на таких условиях? Модель Израиля на самом деле была совершенно иной. К сожалению, даже Давид едва ли соответствовал этой модели, а Соломон вовсе забыл о ней.
Образец политического руководства в Израиле наиболее лаконично представлен в совете, данном Ровоаму его старшими советниками, уже упоминавшемся выше в 3 Цар. 12, 7: «если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему… то они будут твоими рабами на все дни». Царская власть предполагала взаимное служение. Та же мысль присуща общей метафоре о пастухе в применении к политическому руководству. Как мы уже отмечали, у пастуха ответственный труд, но низкий статус. Он существовал ради овец, которые не принадлежали ему, но за которых он отвечал перед их владельцем. Поэтому когда Иисус взял на себя роль благого пастыря, показал, что служение, а не положение ведет к подлинному величию, он восстанавливал истинно ветхозаветный взгляд на руководство и власть.
Бог и народы
Начав главу с описания разнообразия народов как части сотворенного Богом порядка, мы возвращаемся к народам в эсхатологическом контексте. Каким представлял будущее народов Израиль? Как воспринимал он нынешнее отношение народов к Израилю как к народу Господа? Предмет обширный, и поэтому здесь можно лишь кратко очертить некоторые главные тезисы.[210]
Свидетельство народов
В некоторых текстах Израиль писал о народах как о свидетелях отношений Бога с Израилем, будь то в позитивном или негативном смысле. Жизнь Израиля протекала на открытой сцене, и народы были свидетелями всего происходящего с ним. Таким образом, наслаждался ли Израиль деяниями Божьего освобождения, или же испытывал суровость суда Божьего, народы наблюдали и делали собственные выводы, верные или неверные (Исх. 15, 15; 32, 12; Чис. 14, 13–16; Втор. 9, 28; Иез. 36, 16–23). Наблюдение народов также было серьезным стимулом для нравственного отклика Израиля Богу. Это также могло быть позитивным (Втор. 4, 6–8) или негативным (Втор. 29, 24–28).
Благословение народов
И вдруг совершенно неожиданно другие народы изображаются хранителями израильских благословений; другие народы получают приглашение прославить Яхве, Бога Израиля. То, что Бог совершил для Израиля, даже включая поражение народов, бывших их врагами, в итоге будет предметом благодарности и восхваления среди народов, ведь искупление, в конечном счете, должно произойти и для их блага (3 Цар. 8, 41–43; Пс. 46; 66).
Вливание народов в Израиль
Но наиболее поразительно то, что Израиль принял эсхатологическое видение, согласно которому будут существовать народы, не только присоединившиеся к Израилю, но которые будут отождествляться с Израилем, с одинаковыми именами, привилегиями и ответственностью перед Богом (Пс. 46, 9; Ис. 19, 19–25; 56, 2–8; 66, 19–21; Ам. 9, 11–12; Зах. 2, 10–11; Деян. 15, 16–18; Еф. 2, 11–3,6).
Эти тексты завораживают своим вселенским масштабом. Это пророческое наследие Израиля, которое наиболее ярко повлияло на богословское объяснение и мотивацию миссии к язычникам в Новом Завете. Оно, несомненно, подчеркивает истолкование жизни, смерти и воскресения Христа у Иакова и успех миссии к язычникам, описанный в Деян. 15 (цитата из Ам. 9,12). Оно также вдохновило усилия Павла как практического богослова миссии (напр., Рим. 15, 7–16); и придало богословскую форму Евангелиям, каждое из которых заканчивается различными вариантами Великого поручения — отправкой учеников Иисуса в мир народов.
Многообразие и единство народов
Таким образом, окончательное видение Ветхого Завета включает все народы в искупительную цель Бога, в обетование, впервые данное Аврааму. То, что было скрытой отменой рассеяния и смешения Вавилона в призвании Авраама, становится явным в пророческом видении Софонии о народах: они вновь объединятся. Потому что после уничтожающего суда Божьего гнева над греховностью народов,
Опять Я дам народам уста чистые,
чтобы все призывали имя Господа
и служили Ему единодушно.
(Соф. 3, 9)
Однако это эсхатологическое единство в поклонении Богу не будет означать отказа от национальной идентичности. Напротив, славой будущего правления Бога будет огромное разнообразие всех нapoдoв. Это волнующая радость Ис. 60, и более взвешенное предостережение Зах. 14, 16 и далее. Более того, не только народы, но все их достижения, богатство и слава будут принесены и очищены в Новом Иерусалиме Божьего царствия.[211] Ветхозаветные видения встречаются в Ис. 60, 5–11; Агг. 2, 6–8; и в изумительном заключении пророчества против Тира (Ис. 23, 18), где предвидится, что вся прибыль исконно торговой империи будет посвящена Господу ради блага его народа.
Это не вульгарный шовинизм или алчность. Скорее, это осознание, что окончательная цель Бога — создание народа для себя, нового человечества на новой земле. Все, что человечество делает и достигает, может, по Божьему провидению, только способствовать в итоге славе этого нового порядка. Подобное видение обсуждается в Книге Откровения, когда «царство мира сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» и «цари земные принесут в него славу и честь свою» (Отк. 11, 15; 21, 24).
Дополнительная литература
Bauckham, Richard, The Bible in Politics: How to Read the Bible Politically (London: SPCK; Louisville, KY: Westminster John Knox, 1989).
Baum, Gregory,'Exodus Polities', in van Iersel and Weiler, Exodus, pp. 109–117.
Brueggemann, Walter, The Prophetic Imagination (Philadelphia: Fortress, 1978).
_, A Social Reading of the Old Testament Prophetic Approaches to Israel's Communal Life, ed. Patrick D. Miller Jr, (Minneapolis: Fortress, 1994).
_, Theology of the Old Testament Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis:Fortress, 1997)
Gimsurd, Ted, and Johns, Loren L. (eds.) Peace and Justice Shall Embrace: Power and Theopolitics in the Bible: Essays in Honour of Millard hind (Telford, PA: Pandora, 1999).
Goldingay, John, Theological Diversity and the Authority of the Old Testament (GrandRapids: Eerdmans, 1987).
Houston, Walter, 'The King's Preferential Option for the Poor: Rhetoric, Ideologyand Ethics in Psalm 72',Biblical Interpretation 1 (1999), pp. 347–368.
Knight, Douglas Б., 'Political Rights and Powers in Monarchic Israel', Semeia 66 (1994), pp. 93–117.
Liechty, Daniel, 'What Kind of Political Power? The Upside–Down Kingdom in Millard Lind's Reading of the Hebrew Bible', in Gimsrud and Johns, Peace and Justice Shall Embrace, pp. 17—33.
Lind, Millard C, 'The Concept of Political Power in Ancient Israel', Annual of the Swedish Theological Institute 1 (1968–9), pp. 4–24.
Marshall, Paul, Thine Is the Kingdom: A Biblical Perspective on the Nature of Government and Politics Today (Basingstoke: Marshall, Morgan & Scott, 1984).
Mason, Rex, Propaganda and Subversion in the Old Testament (London: SPCK, 1997).
Mettinger, Tryggve N. D, King and Messiah: The Civil and Sacral Legitimation of the Israelite Kings (Lund: Gleerup, 1976).
Mott, Stephen Charles, A Christian Perspective on Political Thought (Oxford: Oxford University Press, 1993).
Mouw, Richard J., When the Kings Come Marching In: Isaiah and the New Jerusalem (Grand Rapids: Eerdmans, 1983).
O'Donovan, Oliver М. T, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
Plant, Raymond, Politics, Theology and History (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
Reventlow, Henning Graf, Hoffman, Yair, and Uffenheimer, Benjamin (eds.). Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature, JSOT Supplement Series, vol. 171 (Sheffield: JSOT Press, 1994).
Schnabel, Eckhard J., 'Israel, the People of God, and the Nations' Journal of the Evangelical Theological Society 45 (2002), pp. 35–57.
Scobie, C. З. H., 'Israel and the Nations: An Essay in Biblical Theology', Tyndale Bulletin 43.2 (1992), pp. 283–305.
Voegelin, E., Israel and Revelation (Baton Rouge: Louisiana State University, 1956).
Walsh SJ, J. P. M., The Mighty from Their Thrones: Power in the Biblical Tradition, Overtures to Biblical Theology vol. 21 (Philadelphia: Fortress, 1987).
Walzer, Michael, Exodus and Revolution (New York: Basic Books, 1985).
Wogaman, J. Philip, Christian Perspective on Politics, 2nd ed. (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2000).
Wright, Christopher J. H., Tested by Fire: Daniel 1–6 in Today's World (London: Scripture Union, 1993).
_, The Message of Ezekiel, The Bible Speaks Today (Leicester: IVP; Downers Grove: InterVarsity Press, 2001).
8. Справедливость и праведность
Правды, правды ищи.
(Втор. 16, 20)
Ибо Я, Господь, люблю правосудие.
(Ис. 61, 8)
Забота о справедливости пронизывает весь Ветхий Завет. Она встречается в исторической, правовой, пророческой литературе, литературе мудрости, а также в псалмах. Она представлена на протяжении всей истории, запечатленной в ветхозаветной литературе… Все говорит о том, что забота о справедливости была одним из факторов — если не центральным, — благодаря которому многогранная жизнь древнего Израиля была объединенной в продолжение всех исторических перемен… Ни одна сфера жизни Израиля не была лишена заботы о справедливости, и было известно, что Господь действует во всех этих сферах.
Ральф Ниерим «Задача ветхозаветного богословия» (Ralph P. Knierim, Task of Old Testament Theology)
Вряд ли какая–либо тема занимает большее внимание в дискуссии о социальной этике, чем справедливость. Где бы ни размышляли люди любой культуры о главных этических проблемах, справедливость будет на переднем плане. Похоже, многое зависит от нее, если человеческое общество хочет функционировать хоть с какой–то видимостью гражданского порядка, безопасности и гармонии. Чем больше попирается справедливость, тем меньше шансов обществу сохранить свою жизнеспособность. Ветхий Завет также говорит: если справедливость исчезнет, основания всего космического порядка распадутся, поскольку справедливость является фундаментальной для самой сущности Господа, Творца вселенной, и для сущности Божьего правления в истории.
Следовательно, для Израиля справедливость не была абстрактной концепцией или философским определением. Справедливость была по сути богословской. Она коренилась в характере Бога израильтян; она проистекала из его действий в истории; ее требовали отношения завета Господа с Израилем; в конечном счете, она будет установлена на земле суверенным могуществом Бога.
Таким образом, хотя основное внимание данной книги направлено на социальную этику Израиля, необходимо помнить, что ветхозаветная этика является фундаментально богословской. Справедливость на земле проистекает из справедливости в небесах. Поэтому вместо того, чтобы подходить к рассмотрению темы с помощью системного анализа израильской концепции и практики справедливости (о которой существует огромная масса разной литературы — смотри дополнительную литературу в конце главы), мы будем помнить, что Бог находится в центре всего, и поразмыслим о трех пунктах: во–первых, справедливость, представленная Богом; во–вторых, справедливость, требуемая Богом; и, в–третьих, справедливость, которую окончательно осуществит Бог.[212]
Справедливость и праведность Бога
Из множества текстов в Ветхом Завете, заявляющих о Господе как Боге справедливости или прославляющих его, полезно обратить внимание на один примечательный текст и начать с него. Пс. 32 содержит сильное утверждение:
Терминология
Фраза «правда и суд» в Пс. 32, 5 сближает два величайших слова в Ветхом Завете. Каждое из них в отдельности в глагольных и именных формах встречается сотни раз. Там, где они вместе (будь то праведность и справедливость, или справедливость и праведность), образуется гендиадис — единое составное определение, выраженное с помощью использования двух слов.[213] Эти два еврейских слова стоит знать:
1. Первое происходит от корняsdq, который встречается в двух формах существительных:sedeq иsedaqa. По всей видимости, не существует серьезных отличий между этими двумя формами[214]. Обычно в английской Библии они переводятся как «праведность», хотя это религиозно окрашенное слово не передает полного спектра значений, которые они имеют в иврите. Значение корня, вероятно, «прямой»: нечто фиксированное и такое, каким оно должно быть. Поэтому оно может означать норму — нечто, с помощью чего измеряются другие вещи, стандарт. Буквально оно употребляется в отношении объектов, которые являются или делают то, чем они должны быть; например, точные весы и меры — это мерыsedeq (Лев. 19,36; Втор. 25,15). Хорошие пути для овец — это путиsedeq (Пс. 22, З[215]). Поэтому оно означает «праведность» — то, что есть и должно быть, то, что соответствует стандарту. Если говорить о человеческих действиях и отношениях, оно говорит о соответствии тому, что правильно или что ожидается, не в абстрактном или общем смысле, но согласно требованиям отношений или характеру ситуации. «Терминологияsdq обозначает правильное поведение или статус в отношении к некоему стандарту поведения, принятому в сообществе».[216]
Sedeq иsedaqa — слова, которые относятся, в первую очередь, к сфере взаимоотношений. Настолько, что Хемченд Госсай (Hemchand Gossai) включает целый раздел о них в своем определении понятия «взаимоотношения».
Для того, чтобы человек был saddiq (праведный), нужно, чтобы он жил таким образом, который позволяет ему правильно реагировать на ценности взаимоотношений (которые могут включать отношения супругов, родителей, судьи, работника, друга и пр.)… Следовательно, в сущности sdq — это не просто объективная норма, присутствующая в обществе, и которую необходимо соблюдать, а скорее это концепция, вытекающая из отношений, в которых она обретается. Поэтому мы можем сказать, что правильный суд, правильное управление, правильное поклонение и милосердная деятельность — все это относится к завету и праведности, несмотря на свое разнообразие.[217]
2. Второй корень —spt относится к судебной деятельности на любом уровне. Как глагол, так и существительное — производные от него. Глаголsapat относится к судебному действию широкого диапазона. Он может означать: действовать в качестве законодателя; действовать в качестве судьи, вынося решение в споре двух сторон; выносить приговор, объявляя, кто виновен и кто невиновен; осуществлять суд, выполняя судебные последствия подобного вердикта. В самом широком смысле слово означает «исправить» — вмешаться в неправильную, угнетающую или неконтролируемую ситуацию и «исправить» ее. Это может включать конфронтацию с обидчиком, с одной стороны, и, с другой стороны, оправдание и освобождение тех, с кем поступили несправедливо. Подобные действия не ограничиваются судом, но могут происходить в других местах и по–другому; например, посредством битвы. Именно поэтому так называются действующие лица в Книге Судей. Они «судили» Израиль, исправляя ситуацию, в военном, религиозном, судебном смысле, примером использования всех трех аспектов является Самуил.
Производное существительноеmispat может описывать весь процесс тяжбы (дела) или его конечный результат (приговор и его выполнение). Оно может означать судебное постановление, обычно право, которое основывается на прошлых прецедентах. (Отрывок Исх. 21 — 23, известный как Кодекс Завета или Книга Завета, на иврите называется простоmispatim.) Оно также может использоваться в персональном значении личного законного права, судебного процесса или дела, которое человек представляет в качестве истца перед старейшинами. Часто встречающееся выражение«mispat сироты и вдовы» означает законное судебное дело против тех, кто их эксплуатирует. Именно благодаря этому последнему значению, словоmispat обрело значение «справедливости» в некоем активном смысле, тогда какsedeq — sedaqa имеет более статичный оттенок.[218] В самом широком смысле (признавая, что существует значительная степень частичного совпадения и взаимозаменяемости между словами)mispat — это то, что необходимо сделать в определенной ситуации, чтобы вернуть людей и обстоятельства в соответствие сsedeq — sedaqa. Mispat — это качественный набор действий, то, что вы делаете. «В библейских текстах справедливость часто употребляется скорее в смысле призыва к действию, чем в качестве оценочного принципа. Справедливость как призыв к ответу означает взять на себя дело тех, кто не может защитить себя сам (ср. Ис. 58, 6; Иов 29, 16; Иер. 21, 12)».[219]Sedeq—sedaqa — это качественное состояние дел, то, чего ты желаешь достичь.
В Пс. 32, 5 оба слова образуют пару, что встречается часто, когда хотят описать широкое понятие. Возможно, ближайшим русским эквивалентом этой сдвоенной фразы является «социальная справедливость». Но даже данное выражение в некотором смысле является абстрактным для динамического характера этих еврейских слов. Джон Голдингей (John Goldingay) обращает внимание, что еврейские слова являются конкретными существительными, в отличие от абстрактных существительных, которыми они обычно переводятся на английский язык. То есть это действия, которые вы совершаете, а не концепции, над которыми размышляете.[220]
Контекст
Пс. 32 прославляет Бога как Искупителя, Творца, Судью и Спасителя. Следовательно, концепция справедливости утверждена в заветных рамках исторических отношений Господа с Израилем. Именно благодаря этой истории израильтяне поняли, что означает: Господь возлюбил справедливость. Кроме того, эта история позволила сделать утверждение универсальным, говоря о «всей земле» (Пс. 32, 56).
Ближайшие утверждения в Пс. 32,4–5 позволяют нам лучше понять прямое заявление о том, что Бог любит праведность и справедливость. Они показывают контекст, в котором Израиль мыслил о справедливости. Здесь я только могу бегло обозначить их.
Первое — слово Господне(dabar, Пс. 32, 4). Посредством него Бог вступает в отношения с людьми и управляет историей. Могущественное слово Божье искупительно, оно исправляет и провозглашает истину в мире несправедливости и лжи (Пс. 32, 4а). Могущественное слово Божье — творческое, оно вызывает к существованию всю вселенную из ничего (Пс. 32, 6.9) и затем продолжает управлять историей народов по всей Земле (Пс. 32, 10–11).
Затем, верность (`ётйпа, Пс. 32, 4) и милость (hesed, Пс. 32, 5) Господа. Это характеристики Господа завета: его преданная верность своему народу в сохранении обетовании и действий на основании благодати и любви. Словоhesed часто переводится как «доброта» или «любовь», хотя оно имеет более определенное значение. Оно означает его неизменную верность своему завету, его непоколебимую волю исполнить свое великодушное обетование. То, что он решил и учредил в своей праведности, подтверждается установленной им целью. Перевод «верная любовь» (RSV), или «неизменная любовь» (Пс. 32, 22, NIV), близки к оригинальному значению. Частоhesed иsedaqa идут парой, как параллельные понятия, обозначающие и качества Божьей деятельности (Пс. 36, 10), и требования человеческого нравственного отклика (Ос. 10, 12; Мих. 6, 8).
В других текстах Божья справедливость объединяется с его благодатью и состраданием; более того, в Ис. 30, 18 Божья справедливость является причиной его сострадания, что звучит странно для уха, привыкшего мыслить о справедливости в терминах наказания и суда:[221]
И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас
и потому еще удерживается,
чтобы сжалиться над вами;
ибо Господь есть Бог правды:
блаженны все уповающие на Него!
Таким образом, понятно, что для Израиля вся идея справедливости была сведена к качествам и характеристикам Господа, их Бога, и особенно была связана с отношениями завета между Израилем и Господом.
Повествование Израиля
Как Израиль узнал об этом? На каком основании он мог сделать столь исчерпывающее утверждение, как в Пс. 32, 5? Ответ очевиден — из своей собственной истории. Пс. 32 не много говорит об истории Израиля, но она неявно присутствует в нескольких фразах, таких как «все дела Его верны» (4 ст.), «совет же Господень стоит вовек» (11 ст.), «народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе» (12 ст.). Следовательно, мы можем обозначить несколько ключевых эпизодов в истории Израиля, наблюдая явленные в них признаки Божьей справедливости.
Праотцы
Самые ранние предания представляют Господа как осуществляющего справедливость и желающего ее. Быт. 18, 19 делает весьма важное заявление (устами Бога в разговоре с Авраамом) о том, что создание сообщества праведности и справедливости было непосредственной целью избрания Авраама. Конечной целью было благословение народов («что сказал о нем»):
От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд (sedaqa и mispat); и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.
(Быт. 18, 18–19)
Контекстом этого всестороннего утверждения о божественной цели является порочность Содома и Гоморры и запланированный суд Божий над этими городами. Однако текст говорит не только о том, что Бог обращает внимание на их порочность, но и о том, что он увидел и
• Божественное дело справедливости основывается на любви к своему народу и верности своим обетованиям. Они, как мы видели, являются реляционными компонентами справедливости, осуществляемой Богом.
• Божественный акт исторической справедливости основан и на новых отношениях между Господом и Израилем, в рамках которых они познали его как Господа (т. е. Бога освобождающей справедливости, Исх. 6, 6–8), и на учреждении Израиля сообществом праведности, которая основана на справедливости Бога. Это приводит нас (как и Израиль) к Синаю и закону.
Синайский завет и закон
Справедливость была основой общественной жизни Израиля, с одной стороны, потому что инициатива Божьего искупительного могущества была актом праведности, с другой — потому что требовала отклика праведности и справедливости в среде самих израильтян. Будучи, образно говоря, «исправленными», израильтяне должны были поддерживать праведность. Пережив на опыте справедливость, они должны были сами творить правду. То, что Бог предвосхищал в своем разговоре с Авраамом (Быт. 18,19), в то время когда израильский народ существовал только в чреслах Авраама, Бог подтвердил в конституции завета новообразованной нации.
I. Декалог. Мы сможем яснее представить данный пункт, если рассмотрим Десять заповедей в этом свете, считая их главной хартией или программным заявлением всего остального закона. Декалог был формулой ответственной свободы. Десять заповедей можно считать тем, что дано для сохранения прав и свобод, достигнутых исходом, при помощи перевода их в обязанности. Рассмотрим же их последовательно с этой перспективы.
• Бог даровал израильтянам право и свободу поклоняться только Богу как Господу, Богу их отцов. Это было ясной целью требования освободить их из Египта (Исх. 4, 23); поэтому отныне они должны поклоняться исключительно Господу (первая заповедь).
• Своим могущественным деянием Господь явил себя живым и ревностным Богом; поэтому любой безжизненный образ или идол был оскорблением (вторая заповедь).
• Исход был связан с великим откровением значения личного имени Бога — Яхве, Господь; поэтому они не должны употреблять это имя в своих целях, злонамеренно или безрассудно (третья заповедь).
• Бог освободил их от изнурительной и принудительной работы, давая им теперь возможность трудиться как свободному народу; поэтому они должны сохранять право регулярного субботнего отдыха для себя, своих семей, наемных работников, и даже животных (четвертая заповедь).
• Бог освободил их от невыносимой жестокости фараона, направленной на их семьи, поэтому они должны беречь семью: уважать родительский авторитет (пятая заповедь) и сохранять половую чистоту (седьмая заповедь).
• Освобожденные от детоубийственного и преступного египетского угнетения, они должны уважать жизнь и не допускать убийства в своем обществе (шестая заповедь).
• Поскольку отныне они уже не будут пришельцами в чужой земле, но будут обладать собственной землей, они не должны красть или желать того, что является Божьим даром для всех (восьмая и десятая заповедь).
• Имея перед собой пример справедливости Божьей, они не должны обманывать друг друга, злонамеренно и ложно свидетельствуя в суде (девятая заповедь).
Если мы рассматриваем Декалог с такой перспективы, можно считать его своего рода «Биллем о правах», человеческих и божественных, выраженных в форме обязанностей, которые необходимы избавленному народу, чтобы сохранять свою свободу и пользоваться ею.
2. Закон. Остальная часть закона в Пятикнижии является свидетельством Божьей справедливости. Книга Второзакония возвеличивает справедливость Господа и считает ее основанием для поведения, которое должно характеризовать израильтян, соблюдающих его законы и постановления. Так, удивительно богатый текст Втор. 10, 12–19 предлагает всем израильтянам простую истину, состоящую из пяти частей: Господь лишь требует, чтобы они боялись его, ходили его путями, любили его, служили ему и соблюдали его заповеди. Во избежание непонимания, что означает на практике ходить путями Господними, текст прерывается двумя славословиями в четырнадцатом и семнадцатом стихах, и затем мы читаем величественные строки о Боге (Господь есть Бог, обладающий вселенной и господствующий в ней) нищих, беззащитных, нуждающихся и отверженных. Господь есть Бог честности, которого нельзя подкупить или задобрить. Более того, Господь есть Бог, любящий пришельца, питающий и одевающий его. Затем встречаются ключевые слова, переводящие эти характеристики Господа в нравственный императив: «Любите и вы пришельца…» (по всей видимости, следуйте примеру Бога во всех упомянутых аспектах).
Поэтому неудивительно, что Книга Второзакония в одном из самых древних поэтических произведений в Библии — песне Моисея в Втор. 32 — сравнивает Господа со скалой справедливости:
Он твердыня; совершенны дела Его,
и все пути Его праведны;
Бог верен, и нет неправды в Нем;
Он праведен и истинен.
(Втор. 32, 4)
3. Псалмопевцы и закон. Псалмопевцы возвеличивают закон как откровение Господа. Пс. 18 ликует, что сотворенный порядок проповедует славу Божью, но тут же переходит к утверждению, что закон отображает более личные качества Бога, включая его надежность, праведность и справедливость (Пс. 18, 7–9). Закон воплощает все перечисленное, и, конечно же, намного больше. Автор Пс. 118 обращает внимание на чудеса закона Божьего, используя синонимы практически в каждом стихе своей тщательно составленной алфавитной поэмы. Но хотя предметом внимания целиком является закон Божий, адресатом псалма является сам Господь: во втором лице единственного числа, «Ты». Это псалом в высшей степени межличностный. Суть его в том, что автор находит в законе самый верный путь познания законодателя. И через закон он познает весь характер Бога — Божью любовь, обетования, верность, истину, праведность, животворную силу, защиту, оправдание от клеветы, руководство и так далее. Таким образом, твердое решение псалмопевца ходить путями праведности исходит из его близких отношений с Богом, которого он так основательно познает, созерцая закон Божий.
Продолжающееся повествование
Остальная часть истории Израиля в Ветхом Завете повествует об отношениях Господа с Израилем и народами. Захват земли, или исход, представлял собой акт справедливого суда над порочностью хананеев (см. Приложение) (Втор. 9,4–6). Последующие победы описаны как акты справедливости или как правда Господа (Суд. 5,11).[222] Но, как мы видим из истории, израильтяне могли быть судимы и противоположным образом. Бог в своей справедливости мог судить их за грех, наказывая руками врагов. Но вновь, после их покаяния и вопля из состояния угнетения, Бог вновь мог судить их, освобождая врагов их. Как мы видели, оба аспекта соответствуют значениюsapat — Бог действует в своей справедливости, чтобы наказывать грешных и защищать угнетенных.
Божий «суд» (sapat) означает не абстрактный, нейтральный, юридический акт, но активное спасительное исправление разорванных отношений. В контексте справедливости это означает «спасать от угнетения», освобождать, избавлять. Это означает, что в Библии нам следует ассоциировать слова «суд», «справедливость», «праведность» не с греческой или римской традицией, т. е. с юридическими институтами и с абстрактными личными добродетелями, а с Божьей силой, созидающей общество и защищающей его.[223]
Таким образом, в понятиях израильской терминологии и мысли, для израильтян не было противоречием говорить о Господе, судящем их, когда он наказывал их за грехи, а также когда он защищал и избавлял их от врагов.
В ветхозаветной истории и плен, и возвращение из плена истолковывались в связи со справедливостью Господа. А поскольку Божья праведность наиболее видна в его спасительной деятельности, народы приглашаются отвратиться от своего бунта и идолопоклонства и обрести спасение только в праведности Господа (Ис. 45, 21–25).
Один Господь для всех
Возвращаясь к нашему исходному тексту Пс. 32, может показаться, что израильтянин совершил поразительный скачок в логике веры. Судя по всему, аргументация развертывается следующим образом. Если Господь действительно таков, каким показал себя в нашей истории (т. е. Господь есть Бог справедливости, верности и любви) и если Господь поистине есть единый Бог «и нет иного» (Втор. 4, 35), тогда, в конечном счете, Господь должен быть таким для всех. Его справедливость должна быть всеобщей. Его любовь должна быть всеобъемлющей. Таким образом, они могли прийти к поразительному утверждению Пс. 32. 5: «милости Господней полна земля», и мы можем быть уверены, основываясь на параллелизме стиха, что она действительно полна праведности и справедливости. Эта всеобщность подразумевается в призывах восьмого стиха: «Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной», а также в последующих утверждениях стихов 13—15, что Господь видит, знает, и делает нравственно подотчетным каждого человека на планете.
Все это часть несомненной веры и воображения в поклонении. Это, подобно Пс. 95, «новая песнь», предлагающая видение, преображающее мир. Ни мы, ни псалмопевец не можем возвещать Пс. 32, 5 на основании эмпирического наблюдения, но это есть язык надежды и уверенности в искупительном могуществе Бога и высшей спасительной всеобщности его справедливости. И это не единичный пример. Подобная вселенская логика встречается в других псалмах, которые переходят от всевластия Господа в истории Израиля к признанию его глобальной, даже космической,[224] справедливости и его заботы о всех людях (напр., Пс. 35, 5–8: обратите внимание на ту же комбинацию Божьей любви, верности, праведности и справедливости; и Пс. 96, 1–6: «Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его»).
Сказать подобное — значит сделать заявление о характере живого Бога, раскрывшегося как Бог справедливости через историю Израиля, предназначенного стать вселенским свидетельством для человечества.
Справедливость и праведность человека
Справедливость — требование Бога ко всему Израилю
Подобно тому, как я взял Пс. 32 в качестве ключевого текста для первого раздела, мы могли бы взять Мих. 6, 8 в качестве текста для настоящего раздела:
О, человек! сказано тебе, что — добро
и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
Широкое понятие «человек» (`adam) указывает, что это нечто общее для всех израильтян. Мих. 6, 8 всего лишь кристаллизует то, что Израиль всегда знал: что весь народ, история которого основана на искупительной и конституционной справедливости, должен отображать это в своем поведении, воплощая любовь–справедливость.
Мы могли бы также легко взять в качестве ключевого текста Ис. 5, 1–7. Песня Исайи о винограднике — это притча о всей истории Израиля в образе друга (Бога), который насадил виноградник (Израиль) и затем затратил огромные усилия и терпение на его охрану и защиту. Цель насаждения виноградника — вырастить виноградные гроздья. Какой же тогда была цель насаждения Израиля? Разве Бог уже не объяснил свои намерения в Быт. 18, 19? «Я избрал его (Авраама), чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя… творить правду и суд». Долгосрочной целью (в последнем придаточном предложении стиха) было обетованное благословение народов, но непосредственной задачей было создание сообщества справедливости. Это было намерение и цель избрания и искупления Израиля, а также всей их истории. «Вся история Израиля по воле Бога подчинена единой цели — праведности, выраженной в справедливости».[225]
Соответственно, подобно как виноградарь приходит в свой виноградник в определенное время, ожидая найти там добрый урожай гроздьев и последующую перспективу хорошего вина, так и Господь приходит в сотворенное им сообщество, ожидая найти людей, которые преданы той праведности и справедливости, что отражает его характер. Он хочет видеть общество, которое осуществляет все его надежды, ради которых он изначально насадил их. Но владелец виноградника разочарован, более того — удивлен. Как случилось, что в результате тщательного ухаживания и заботы выросли только кислые и негодные гроздья? Это столь же противоестественно, сколь неожиданно. Поэтому в кульминации притчи Исайи (Ис. 5, 7) мы слышим:
Виноградник Господа Саваофа
есть дом Израилев,
и мужи Иуды —
любимое насаждение Его.
И ждал Он правосудия (mispat),
но вот — кровопролитие (mispah);
ждал правды (sedaqa),
и вот — вопль (sedaqa).
Можно перечислить много других текстов, делающих такое же базовое утверждение — Господь требовал от своего народа быть преданным справедливости, поскольку он доказал, что верен ей. Некоторые тексты также применяют призыв непосредственно на уровне отдельно взятого человека.
Иер. 9, 23–24 — это прекрасно сложенная маленькая поэма. Три наилучших дара Божьих (мудрость, сила и богатство) взвешены на неких словесных весах, и признаны недостойными того, чтобы ими хвалиться в сравнении с познанием Господа. Однако познание Господа означает быть преданным тому, что больше всего ему нравится — другая сбалансированная тройка: милость(hesed), суд(mispat) и правда(sedaqa). Познание Бога — это не просто дело внутренней духовности, но преобразования системы ценностей. Результатом этого является практическая верность.
Иезекииль в своем мощном исследовании праведности и развращенности — и реакции Бога на них — рисует свой портрет прототипа «праведника» (Иез. 18, 5–9).[226] Он приводит всесторонний список разного рода негативных и позитивных поступков, являющихся моделью, под общим заголовком «он делает то, что право и справедливо». Список Иезекииля включает множество различных сфер жизни в рамках этого определения: частную и публичную, сексуальную и социальную, религиозную и светскую.
В Псалмах похожий список встречается в контексте условий для поклонения. Тот, кто осмелится прийти в присутствие Бога для поклонения, должен быть тем, чья жизнь отображает характер Бога, которому он собирается поклоняться:
Придерживаясь таких же критериев, пророки настаивали, что поклонение людей, ведущих образ жизни, отрицающий или попирающий справедливость, было неприемлемо для Бога. Более того, такое поклонение было мерзостью для него (см., напр., Ам. 5, 21–24; Ис. 1, 10–17; 58, 2–7; Иер. 7, 1–11).
Праведность, выраженная в справедливости, является неотъемлемой характеристикой поклонения. Нет справедливости — не может быть и приемлемой публичной религии.[227]
Долг справедливости по отношению к страждущим настолько важен, что, если он не исполняется, Бог даже не примет божественно установленные жертвоприношения и поклонение. Когда они забывают о справедливости, истинный Бог не может быть объектом поклонения и благочестия народа
(Иер. 22, 15–16).[228]
Перечитывая огромное количество текстов, которые настаивают на необходимости творить справедливость в качестве Божьего требования, и понимая, что для Бога творить справедливость, в частности, означает заботу о нуждах немощных и нищих, возникает вопрос — приемлемо ли традиционное понимание справедливости в библейском контексте как строгой беспристрастности. Напротив, совершенно очевидно, что Господь по–особенному внимателен к нуждам отверженных (см. Втор. 10, 18–19), что это представляется самой сутью справедливости, согласно Божьим условиям, что люди тоже должны иметь подобные приоритетные интересы.
Подобная мысль яснее всего выражена у пророков. Пророки бескомпромиссно отстаивали интересы нищих, немощных, угнетенных, обнищавших, пострадавших, утверждая, что в своей деятельности выступали от имени Бога справедливости. Даже до появления великих пишущих пророков мы видим, что Нафан выступил против Давида от имени Урии, и Илия выступил против Ахава ради Навуфея. Это также справедливо в отношении придворных пророков вроде Исайи, который был близок к царской власти, а также в отношении пастуха–пророка Амоса. В этом аспекте, конечно же, представление Бога пророками полностью совпадает с голосом самого закона (см. Исх. 22, 22–24.26–27; Втор. 10, 18–19), с голосом поклоняющихся в псалмах (напр. Пс. 146, 7–9) и голосом мудрости (напр. Притч. 14, 31; 22, 22–23).
Тем не менее, несомненный факт активной заботы Бога о немощных и нищих следует формулировать осторожно. Забота не является делом произвольной пристрастности со стороны Бога. Выражение «Бог на стороне нищих» может быть понято как своего рода фаворитизм, который Библия отрицает. Это не означает также, что Бог не замечает грехов нищих людей, как будто нищета и угнетение делают своих жертв непорочными и невинными. Более того, Исайя (Ис. 9, 14–17) включает также сирот и вдов, нищих и бесправных в свое подробное описание тотального развращения народа. Бог нелицеприятен, и нищие также являются грешниками. Скорее, говорится вот о чем: нищие как определенная группа в обществе обращают особенное внимание Бога на себя потому, что они являются потерпевшей стороной в ситуации хронической несправедливости — ситуации, которую Бог ненавидит и желает исправить. Для того чтобы осуществлялась праведная воля Божья, необходимо творить справедливость ради нищих. Поэтому Бог занимается ими, или их делом, выступая против творящих несправедливость. Бог через своих пророков, а также, в идеале, через набожных судей, становится на сторону праведных, что означает не нравственно безгрешных, а тех, кто прав в ситуации социального конфликта и злоупотребления.[229]
Проповедуя это, пророки защищали беспристрастность Бога. Ведь представляя подобным образом отношение к угнетенным, пророки оправдывали Бога от подозрений в том, что он на стороне богатых и могущественных. Угнетатели в Израиле вполне могли указать на свое богатство и власть как явное свидетельство Божьего благословения их и их деятельности.[230] Используя литературный прием, Амос развернул эту распространенную оценку (прикрепив судебный вердикт «праведный», т. е. правый, к нищим и обнищавшим, и назвал «нечестивыми», т. е. неправыми, богатых землевладельцев), что было весьма эффективно для того, чтобы отделить Бога от притязаний богатых грешников. Те, кто думал, что Бог на стороне богатых, услышали в недвусмысленных формулировках, что это абсолютно не так, потому что их богатство было получено в результате безнравственности и угнетения, — а Яхве не был Богом, который благословлял, санкционировал или вознаграждал подобное поведение. Напротив, Бог был на стороне праведных — тех, с кем обошлись несправедливо и кто действительно нуждался в защите. Подобный взгляд заново подтверждал суверенную независимость Бога в качестве справедливого судьи, которого нельзя обмануть внешним видом или благочестивыми заявлениями:
Справедливость — главное требование Бога к человеческим властям
Вожди в Израиле на всех уровнях были наделены обязанностью сохранения или восстановления праведности и справедливости во всех смыслах этих слов. В рассказе о делегировании полномочий Моисея различным уровням руководителей во Втор. 1, 10–18 главная задача, возложенная на этих «мудрых, разумных и испытанных мужей», состояла в том, чтобы они поддерживали справедливость честно и нелицеприятно, признавая, что они воплощали суды Господа (Втор. 1, 17). Далее с еще большей силой автор обращает внимание на то, какими должны быть руководители: «чтоб они судили народ судом праведным; не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых; правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 16, 18–20).
Судьи
Те, кого называли судьями в домонархическом Израиле, занимались не только судебным разбирательством («судя» в привычном буквальном значении), как Самуил — прототип окружного судьи (1 Цар. 7, 15–17). Более того, некоторые из них, похоже, не обладали такими полномочиями, но были только лишь военными освободителями. Но в той мере, в которой последняя роль была связана с освобождением Израиля из состояния угнетения и восстановлением его правоты перед Богом, она была осуществлением праведности в действии, как ее понимал Израиль. Военные судьи также воплощали праведные деяния Бога в форме национального или племенного спасения. Таким является комбинированное ликование Деворы — судьи (Суд. 4, 5) и Барака — военного вождя после великой победы у Мегиддо:
Там да воспоют хвалу Господу,
хвалу вождям Израиля/
(Суд. 5, 11)
Цари
Долг сохранять справедливость, конечно же, был возложен и на плечи царей израильских. В некоторых царских псалмах тесно связывается их военная и судебная роль. Ожидалось, что если царь верен своему долгу соблюдения справедливости и подражанию Божьей защите страждущих и нуждающихся (см. Втор. 17, 18–20), тогда Бог дарует ему успех и преуспевание также и в других сферах. Наилучший пример этому — Пс. 71. Это молитва о царе, который начинает с признания подлинного источника всякой праведности и справедливости:
Далее псалом соединяет описания практического осуществления им справедливости ради нищих и нуждающихся с ожиданием материального благословения земли. Волнующее описание международного военного престижа царя в стихах с восьмого по одиннадцатый связано пояснительным «ибо» с дальнейшим описанием его судебной деятельности, что вновь подчеркивает главную задачу подобной справедливости — избавление слабых, нуждающихся и угнетенных в стихах с двенадцатого по четырнадцатый (ср. Пс. 44, 4–6; в отличие от Пс. 57). Особенно примечательно, что данная судебная деятельность царя будет способствовать хорошему устройству и миру народа путем освобождения его от угнетения и жестокости. Жестокость как дополнение несправедливости является заметной темой в Ветхом Завете. Те, кто ответственен за угнетение, полагается на жестокость ради устрашения, однако они также поощряют жестокость в своих жертвах.[231] Тем не менее, роль политической власти, справедливо совершаемой по воле Бога, состоит не только в заботе о нуждающихся, но также в ниспровержении тех, кто поступает с ними несправедливо. «Царь и его роль в деле слабых состоит не только в том, чтобы спасать их от угнетателей, но также упразднять зло и ниспровергать притеснителей и тиранов: "да спасет сынов убогого и смирит притеснителя"» (Пс. 71, 4).[232]
Иеремия бесстрашно провозгласил у самых врат царского дворца в Иерусалиме, чего Бог ожидает от царей из дома Давида, если они хотят, чтобы продолжалось их законное пребывание на престоле. Если же они потерпели неудачу в поставленных задачах, они будут смещены.
Представив так суть вопроса, Иеремия бескомпромиссно подчинил богословие Сиона Синайскому завету. Как мы видели в седьмой главе, правители, которые попирают заветные основания социальной справедливости, не могут быть легитимными:
Выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их. А если не послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.
(Иер. 22, 2–5)
Литература премудрости также обращает внимание на требования социальной справедливости со стороны царя (см. Притч. 29, 4. 14). Например, мать царя Лемуила по этой самой причине предостерегала его от пьянства:
Напротив, обязанностью царя, как самого могущественного, было защищать дело слабых:
Конечно, идеалы — это одно, а реальность зачастую иная. Более пессимистический голос Израиля (также из традиции мудрости) очень понятно для нас воздыхает о деспотизме иерархии и бюрократии: «Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший» (Екк. 5, 7).
Критика руководителей
Многие тексты в Ветхом Завете подвергают критике руководителей (судей, царей) за то, что они не справлялись с решением вопросов социальной справедливости на своем публичном посту. Несмотря на это, есть хорошие примеры позитивной оценки:
1. В негативном смысле Пс. 81 — это резкое осуждение тех, кому Бог доверил обязанность совершать божественную справедливость (так что их даже можно было назвать «богами»). Текст может говорить об ангельских созданиях, осуществляющих свою власть над делами человеческими, но делающих это в состоянии греховной испорченности или извращенности; или же о человеческих судьях, поступающих, в сущности, так же. В любом случае весть ясна — Бог требует отчета у подобных властей (небесных или земных) и в конечном итоге уничтожит тех, кто отказывается вершить правосудие так, как этого требует Бог. Псалом заканчивается характерной комбинацией призыва к Богу действовать в качестве судьи (уничтожить развращенных и оправдать угнетенных) и той вселенской тенденции, которую мы уже отмечали:
Исайя, который, по всей видимости, чаще, чем другие пророки, ходил царскими коридорами, осудил начальствующих в Иерусалиме как «князей Содомских» (Ис. 1, 10). Причина описана непосредственно вслед за этим — подобно Содому, Иерусалим стал местом страдания, угнетения, грабежа, коррупции и жестокости, вместо справедливости и праведности, которые обычно в нем обитали (Ис. 1, 21–23). Позднее Исайя высмеивает судебные власти за то, что они лучше разбираются в своих спиртных напитках, чем в судебных исках (Ис. 5, 22–23). Они даже утверждали угнетение законодательно; то есть издавали законы, благодаря которым их эксплуататорские действия получали видимость законных (Ис. 10, 1–2).
Иеремия язвительно осудил Иоакима за несправедливое использование неоплачиваемого труда и изобразил его человеком, очи и сердце которого были «обращены только к своей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие» (Иер. 22, 13–14.17). Это похоже на эпитафию, потому что тот же отрывок предрекает его бесславную гибель.
Иезекииль не мог обличать какого–либо конкретного царя, находясь среди изгнанников в Вавилоне, поэтому он распространил свое наступление на «пастырей Израиля», подразумевая прошлое поколение царей. Все, что он видел, было историей ненасытности, разорения, алчности и недостатка заботы о потребностях народа (Иез. 34, 1–8).
2. Несмотря на это, есть и положительные примеры. Самуил в цитате, которая приведена ниже, обличал себя, но народ полностью принял его защиту. Осуществление им публичного руководства не было эгоистичным или коррупционным. Его риторические вопросы и согласие народа с тем, что он говорил, указывают на основные требования, согласно которым вожди должны действовать: и отправлять справедливость, и самим быть честными людьми.
Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, — и я возвращу вам.
И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял.
(1 Цар. 12,3–4)
Немногих царей можно похвалить за попытки восстановить социальную справедливость. Наиболее неоднозначным царем был Соломон. Во время своего раннего правления он сам просил о даре мудрости, чтобы быть способным вершить справедливость (3 Цар. 3, 9.11). Одно из первых его решений на посту царя связано с историей о двух споривших блудницах, которые не могли поделить ребенка. Соломон принял мудрое решение, о чем свидетельствует текст: «мудрость Божья в нем, чтобы производить суд» (3 Цар. 3, 28). Но все же печально, что по мере умножения его власти и богатства он все больше шел по пути угнетения, что в конце концов (не без помощи его сына Ровоама), привело к расколу царства на части. Ироничная нотка рассказчика вложена в уста царицы Савской. В тот самый момент, когда у нее перехватило дыхание из–за величия богатства Соломона (которое, как мы вскоре узнаем, будет причиной его падения из–за компрометирующих в религиозном смысле, но целесообразных политически браков, сопровождавших его международные усилия по созиданию империи), она напоминает ему, что «Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду» (3 Цар. 10, 9). Точное замечание. Но именно этим Соломон занимался все меньше, и к концу следующей главы уже становится совершенно ясно, что Соломону стало чуждо всякое почтение к основным требованиям в отношении царей, записанным во Втор. 17, 14–19. Моральное разложение под царственным блеском раскрывается в последующей главе (3 Цар. 11).
Похоже, только два царя выделяются отличными оценками в табеле успеваемости за справедливость. Одним был Иосафат (имя которого весьма уместно означает «Яхве — судья»). 2 Пар. 19, 4–11 описывает его попытки социальной, образовательной и судебной реформ в IX веке в Иудее. Обращает на себя внимание то, как человеческие судебные процедуры должны отображать божественную справедливость. Другим был Иосия, о котором писал Иеремия в известном отрывке (резкий контраст с его безбожным преемником Иоакимом):
Отец твой ел и пил,
но производил суд и правду,
и потому ему было хорошо.
Он разбирал дело бедного и нищего,
и потому ему хорошо было.
Не это ли значит знать Меня ?
говорит Господь.
(Иер. 22, 15–16)
Ведь это именно то, что Книга Второзакония говорила о деятельности и желаниях самого Господа. Следовательно, Иосия всего лишь подражал самому Господу, делал то, что желал видеть Господь, заботился о тех, кого любит Господь. Иеремия говорит, что это и означает знать Господа, — поразительные слова! Приговор историка Иосии также позитивен и несет на себе отголоски Второзакония: «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву» (4 Цар. 23, 25).
Наконец, мы не можем игнорировать упоминание Иова о его поведении в судебных делах в безмятежные дни, прежде чем постигло бедствие. Как и в случае с Самуилом, это нравственная самозащита, однако она показывает, каковы были почитавшиеся в Израиле идеалы выполнения общественного долга теми, кто занимал ведущие позиции в обществе. В двадцать девятой главе Иов рассказывает, что когда–то он был уважаемым старейшиной в обществе, занимал свое место на площади у ворот и вершил справедливость в местном сообществе:
Я спасал страдальца вопиющего
и сироту беспомощного.
Благословение погибавшего приходило на меня,
и сердцу вдовы доставлял я радость.
Я облекался в правду,
и суд мой одевал меня, как мантия и увясло.
Я был глазами слепому
и ногами хромому;
отцом был я для нищих
и тяжбу, которой я не знал,
разбирал внимательно.
Сокрушал я беззаконному челюсти
и из зубов его исторгал похищенное.
(Иов 29, 12–17)
Итак, в заключение мы можем еще раз отметить, что вопрос справедливости, которую должны были отправлять власти, был весьма важным для Господа, Бога Израиля, о котором неоднократно возвещалось, что он — Бог всей земли, всех народов и всего человечества. Забота о социальной справедливости является существенной человеческой ценностью и служит мерилом того, насколько мы находимся в гармонии с сердцем этого Бога, Бога Библии.
Осуществление справедливости и праведности
Царем, которого мы не упоминали при обсуждении справедливости как главной задачи царей, был сам Давид. Служение Давида, без сомнения, было неким идеалом, образцом для будущих царей в этом отношении и многих других. Во 2 Цар. 5–8 находится связное описание событий, благодаря которым Давид стал царем над всеми коленами Израиля и учредил свою столицу в Иерусалиме. Описание начинается обобщающим утверждением, что он стал царем над всем Израилем и Иудой, и заканчивается подобным же заявлением, включая список главных ведомств государства (подобные тексты находятся в 2 Цар. 20, 23–26 и 3 Цар. 4,1–6). Однако кульминационным заявлением о царствовании Давида является 2 Цар. 8, 15: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Более удачным переводом второго придаточного предложения будет вариант «и начал он утверждать справедливость и праведность для всего своего народа».[233]
Это в действительности была цель, к которой должна стремиться всякая истинная монархия не только в Израиле, но и согласно общим идеалам (если не реальной деятельности) царствования во всем древнем ближневосточном мире. Таким образом, Давид служит примером того, что следовало делать будущим царям, которые придут после него. Как мы видели, его сын Соломон изначально поступал так, но это было еще задолго до того, как царица Савская польстила ему, говоря о принципах его правления. О будущих царях, которые потерпели неудачу в управлении государством, сказано, что они не ходили путями Давида, отца своего, и лишь немногих из царей, которые занимались социальными реформами, отменой идолопоклонства и вновь учреждали справедливость,[234] позитивно сравнивали с ним.[235]
Неспособность столь многих царей в истории вершить справедливость, которая была их обязанностью, приводила в Израиле к растущему ожиданию и предсказаниям о будущем пришествии сына Давида. Этот ожидаемый, эсхатологический царь добьется того, чего не смогли сделать цари — утвердит справедливость и праведность и принесет истинный мир. Таким образом, мессианская надежда, которая встречается в различных пластах пророческой литературы, предполагает, что окончательное достижение социальной справедливости на земле — дело эсхатологического царя, того, кто в конечном итоге придет, чтобы воплотить вселенскую справедливость Господа.
В видении о младенце, который родится, чтобы взять на себя правление Божье, он представлен «великим Сыном великого Давида», делающим для всех и навсегда то, что начал осуществлять Давид в свое время:
Умножению владычества Его и мира нет предела
на престоле Давида и в царстве его,
чтобы Ему утвердить его и укрепить его
судом и правдою
отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа
соделает это.
(Ис. 9, 7)
Похожее видение об отрасли от корня Иессеева также говорит о справедливом правлении мессианского царя:
Он будет судить бедных по правде,
и дела страдальцев земли решать по истине…
И будет препоясанием чресл Его правда,
и препоясанием бедр Его — истина.
(Ис. 11, 4–5)
Иеремия и Иезекииль оба возвещали о своей надежде на царя из рода Давида, которого поставит Бог, и который (даже в случае с Иезекиилем) воплотит теократическое царствование самого Господа. Иеремия даже назвал его «Яхве наша праведность» (Иер. 23, 5–6; Иез. 34, 23–24).[236] Пс. 71, который изначально был написан как молитва о царе из дома Давида, с течением времени также связывался с мессианским ожиданием царя, который на самом деле будет ответом на мольбы народа о справедливости, окончании угнетения, благословении и поклонении народов, плодовитости земли, всеобщем царстве мира и вселенской славе Господа.
Хотя образ Слуги Господнего из Ис. 40—55 не сильно связан с Давидом,[237] но важной составляющей его миссии является учреждение справедливости. Когда о нем упоминается в Ис. 42, первое, что он должен осуществить при помощи Духа Божьего, которым он наделен — это справедливость. Более того, он принесет справедливость не только Израилю, но также народам. Распространение закона Господнего и справедливости до края земли — это повторяющаяся тема в Ис. 42, 1–9:
Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку,
избранный Мой,
к которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него,
и возвестит народам суд.
(Ис. 42, 1)
Тем не менее, надежда на то, что Бог в итоге осуществит справедливость, которую он демонстрирует и требует, не ограничивалась подобными отголосками темы Давида в текстах, которые начали считаться мессианскими и эсхатологическими. Неугасимая надежда основывалась на характере Господа как Бога. Невозможно было допустить, чтобы Судья всей земли поступил неправосудно, и, тем более, недопустимым было то, что тот же Бог не вмешается, чтобы судить накопившиеся пороки человечества и исправить положение дел раз и навсегда. Только Бог может окончательно расставить все по местам. Только Бот может, однако то, что Бог сделает, является нерушимым основанием многих ветхозаветных текстов. Исайя считает день, когда наступит Божья справедливость, могущественным делом Духа Господнего. В своем прекрасном размышлении о том, как будет, когда «царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону» он ожидает времени, когда
изольется на нас Дух свыше…
Тогда суд водворится в этой пустыне,
и правосудие б^дет пребывать
на плодоносном поле.
И делом правды будет мир,
и плодом правосудия —
спокойствие и безопасность вовеки.
(Ис. 32, 15–17)
Последнее слово, тем не менее, должны сказать великие кузнецы веры Израиля — авторы гимнов поклонения. Ведь на самом деле в Псалтыри мы находим это великое, захватывающее дух ожидание Господа как Бога грядущего. И тот факт, что Бог грядет, грядет неумолимо, является призывом к радости и хвале не только в среде его народа, но и по всей земле, более того, во всем творении. Почему? Почему предметом вселенского торжества является то, что Бог грядет? Потому что когда придет Бог, все будет исправлено. Бог грядет судить — в подлинном ветхозаветном значении слова — исправить неверное, уничтожить нечестие, оправдать праведных и окончательно утвердить справедливость, правильные отношения Бога и его народа, отношения между людьми, а также между людьми и сотворенным порядком.
Поэтому неудивительно, что все творение приглашается присоединиться к песне радости. И это, подобное Пс. 32, вновь преобразующее мир видение, открывающее перед верой – воображением верующего не мечту о том, что могло бы быть, а видение того, что будет. И это будущее уже сейчас настолько реально для очей веры, что о нем можно торжествовать заранее, и провозглашать его народам как радостную весть царства Божьего. Потому что так будет, когда Бог, Яхве, библейский Господь Бог, окончательно учредит свое царствование:
Скажите народам: Господь царствует!
потому тверда вселенная, не поколеблется.
Он будет судить народы по правде.
Да веселятся небеса и да торжествует земля;
да шумит море и что наполняет его;
да радуется поле и все, что на нем,
и да ликуют все дерева дубравные
пред лицем Господа;
ибо идет, ибо идет судить землю.
Он будет судить вселенную по правде,
и народы — по истине Своей.
(Пс. 95, 10–13; ср. Пс. 97, 7–9)
Дополнительная литература
Воусе, Richard Nelson, The Cry to God in the Old Testament (Atlanta: Scholars Press, 1988).
Brueggemann, Walter, A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life, ed. Patrick D. Miller Jr. (Minneapolis: Fortress, 1994).
Duchrow, Ulrich, and Liedke, Gerhard, Shalom: Biblical Perspectives on Creation, Justice and Peace (Geneva: WCC Publications, 1987).
Englehard, David H., The Lord's Motivated Concern for the Underprivileged', Calvin Theological Journal 15 (1980), pp. 5–26.
Gossai, Hemchand, Justice, Righteousness and the Social Critique of the Eighth–Century Prophets, American University Studies, Series 7: Theology and Religion, vol. 141 (New York: Peter Lang, 1993).
Hamilton, J. М.,Social Justice and Deuteronomy: The Case of Deuteronomy 15, Society of Biblical Literature Dissertation Series, vol. 136 (Atlanta: Scholars Press, 1992).
Hendrickx, Herman, Social Justice in the Bible (Quezon City: Claretian Publications, 1985).
Knierim, Rolf P., The Task of Old Testament Theology: Substance, Method, and Cases (Grand Rapids: Eerdmans, 1995).
Malchow, Bruce V., 'Social Justice in the Wisdom Literature', Biblical Theology Bulletin 12 (1982), pp. 120–124.
_, 'Social Justice in the Israelite Law Codes', Word and World 4 (1984), pp. 299–506.
Mays, James L., 'Justice: Perspectives from the Prophetic Tradition, in David L. Petersen (ed.). Prophecy in Israel: Search for an Identity (London: SPCK; Philadelphia: Fortress, 1987), pp. 144–158.
Mott, Stephen Charles, A Christian Perspective on Political Thought (Oxford: Oxford University Press, 1993).
Muilenburg, J., The Way of Israel: Biblical Faith and Ethics (New York: Harper, 1961).
Reimer, David J., 'Sdq' in VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 3, pp. 744–769.
Schofleld, J. N., '"Righteousness" in the Old Testament', Bible Translator 16 (1965), pp. 112–116.
Stek, John H., 'Salvation, Justice and Liberation in the Old Testament', Calvin Theological Journal 13 (1978), pp. 112–116.
Weinfeld, Moshe, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient near East (Jerusalem: Magnes; Minneapolis: Fortress, 1995).
Willis, John T, Old Testament Foundations of Social Justice', in Perry C. Cotham (ed.), Christian Social Ethics (Grand Rapids: Baker, 1979), pp. 21–43.
9. Право и судебная система
Самое меньшее, что можно сказать о людях, выразивших столь восторженные чувства в отношении закона, это то, что они не находились под тяжким бременем законности. Они не старались лихорадочно заработать свое спасение и поддерживать отношения с Богом посредством скрупулезного соблюдения закона. Они не раздувались от осознания собственной праведности и не истощались от усилий делать праведные дела. Короче говоря, они не соответствовали ни одной из карикатур, навязанных ветхозаветному закону теми, кто, неверно усвоив аргументацию Павла против людей, исказивших закон, приписал закону те самые искажения, от которых он пытался его освободить.
Напротив, люди, которые могли составить подобные хвалебные гимны закону, знали, что это национальное сокровище, которое дороже всего, чем мог бы гордиться любой музей. Подобные благочестивые израильтяне наслаждались законом как даром Божьей благодати и знаком Божьей любви, данным им для их собственного блага (Втор. 4,1.40; 6, 1–3.24 и др.). Они считали его благословением и средством, несущим благословение (Втор. 28, 1–14). Они вспоминали, что откровение закона Израилю было уникальной привилегией, которой не удостоился никакой другой народ (Втор. 4, 32–34; Пс. 147, 8–9). Они побуждали друг друга повиноваться ему, не для того, чтобы спастись, но потому, что Бог уже спас их (Втор. 6, 20–25). Они восхищались им как путем жизни (Лев. 18, 5; Втор. 30, 15–20) и плодоносной рекой (Пс. 1, 1–3).
Таким образом, приступая к теме ветхозаветного закона и задаваясь вопросом, как он может, или должен, соотноситься с христианской этикой, первое, что необходимо сделать — решиться прочитывать закон в его собственном ветхозаветном контексте. Мы постараемся понять его динамику, мотивацию, богословские основы и социальные задачи, насколько это возможно понять изнутри, с точки зрения ветхозаветного израильтянина (в той мере, в которой мы вообще способны реально погрузиться в их мир). Отложим хотя бы на некоторое время проблемы позднего периода, над которыми Павел бьется в споре о законе с еврейскими оппонентами его миссии к язычникам. Отложим (на еще более долгое время) догматические и деноминационные споры о соотношении закона и евангелия.[238] Псалмопевцы не были иудействующими, не были они и кальвинистами, арминианами, теономистами, диспенсационалистами, законниками или антиномистами. Они были поклоняющимися верующими, представителями народа, который понимал, что находится в особенных отношениях с Господом, их Богом, искупленный спасительной благодатью Божьей и наделенный привилегией обладать землей, чтобы жить в ней, и законом, по которому жить. Итак, попытаемся понять и воспринять закон их глазами.
Первое, что мы должны понять — закон для израильтянина означал больше, чем обычно это слово означает для нас. Прежде всего, отличие в понятии, относящемся ко всему материалу в первых пяти книгах Ветхого Завета. Словоtorn означает не просто закон в смысле законодательства или права, но «руководство», «наставление». Израильтянин видел во всех материалах, вошедших в то собрание книг, что мы называем Пятикнижием (книги от Бытия до Второзакония), Божью книгу руководства к жизни. И это руководство включало не только великие собрания законов, которые мы находим во второй половине Книги Исхода, в книгах Левит, Числа и Второзаконие, но также все великие повествования, в которые они вставлены, вместе с множеством других писаний — песен и обрывков древней поэзии, путевых заметок, родословий, благословений, географических заметок, списков переписей, некрологов и тому подобного. Тога — это богатый гобелен из множества нитей. Повествовательная структура имеет особенное значение для правильного восприятия закона, и мы возвратимся к этому позднее.
Однако во всем этом разнообразии есть несколько основных блоков законов в общепринятом значении слова. Конечно, существуют также законы и упоминания законов вне этих пяти основных разделов, иногда они таковы, что это указывает на большую универсальность Божьих законов, не ограничивающуюся исключительно Синайским откровением.[239] Но мой интерес сейчас простирается на те крупные блоки, в которых содержится большая часть ветхозаветного закона. Именно эти части Пятикнижия я буду обычно подразумевать, используя в дальнейшем понятие «закон».
Основные правовые тексты
Большая часть законов Пятикнижия содержится в трех основных собраниях, помимо самого Декалога, с которого я начну.
Декалог (Исх. 20, 2–17; Втор. 5, 6–21)
Название «Декалог» происходит от греческого перевода буквального еврейского выражения десять слов, которое встречается в Исх. 34,28; Втор. 4, 13; 10, 4. В повествовании о событиях, происшедших у Синая (Исх. 19—20; повторяются во Втор. 5), рассказывается, что Декалог был дан Израилю Богом. Хотя сказано, что Десять заповедей были даны через Моисея, его участие в этом было второстепенным. Считалось, что они были произнесены и запечатлены на камне самим Богом. В них было нечто самодостаточное и завершенное, зафиксированное в выражении «Слова сии изрек Господь … и более не говорил» (Втор. 5, 22).[240] Это уникальное качество прямой божественной речи наряду с внушающими благоговение событиями, сопровождавшими их обнародование у Синая, гарантировало Десяти заповедям особенное место в преданиях Израиля. Это простое, но всеобъемлющее обобщение важнейших условий заветных отношений обеспечивало то ограничение поведения, которое требовалось от участников завета. Это подразумевает, что один шаг за эти границы (посредством нарушения данных заповедей) означает выход из сферы отношений и обязанностей завета. Также оно обеспечивало (в особенности для Второзакония,[241] с точки зрения ученых) программное заявление, список стратегических ценностей, которые определяли характер и направление остальных законов.
Из–за своей важности Декалог был предметом огромнейшего числа научных исследований и споров, ряд которых перечислен в библиографических примечаниях. Обсуждалось все, от выяснения авторства и даты написания до вопроса о том, какого рода законом является Декалог, и как он функционировал в жизни и культе израильтян. Изобилию научных теорий все еще не достает общего согласия, разве что кроме самого факта важности Декалога в Израиле. «Что бы человек ни думал об авторстве, тот факт, что Декалог занимал центральное положение в жизни Израиля издревле, остается важнейшим результатом новейших исследований… Он был связан с Синайскими событиями как обязывающая хартия, выражающая божественную волю Господа Завета».[242]
Книга завета (Исх. 20, 22 — 23, 33)
Это название дано группе законов, которые следуют непосредственно за Декалогом. Это выражение встречается в Исх. 24, 7: «И взял Моисей книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Обычно считается, что это относится к предшествующей части, главным образом к Исх. 21—23. В то время отклик народа стал основанием церемонии утверждения завета, описанной в заключении двадцать четвертой главы.
После пролога, подчеркивающего уникальность и святость Господа (Исх. 20, 22–26), эта группа законов начинается с заголовка «Вот mispatim…» (Исх. 21, 1); то есть «суждения» или «прецеденты». Следующие далее законы — это, главным образом, прецедентные законы (см. ниже). Они описывают типичные ситуации, связанные со спорами о собственности, вреде, оскорблении, небрежности и тому подобном. Также существует важный раздел о социальной ответственности в отношении слабых членов сообщества (Исх. 22, 21–27), постановления о судебной процедуре (Исх. 23,1–9) и раздел о культовом законе (см. ниже), имеющем отношение к приношениям и праздникам (Исх. 23, 14–19). Раздел завершается эпилогом, который обращен ко времени захвата Ханаана и подчеркивает уникальность требования Господа к своему народу (Исх. 23, 20–33), тем самым возвращаясь к теме пролога.
Это собрание законов, как уже упоминалось, подвергалось тщательным научным исследованиям, особенно в свете множества положений, в которых оно сходно с прочими собраниями законов великих древних ближневосточных цивилизаций. Существует всеобщее согласие, что Книга завета — старейшее собрание законов в Ветхом Завете.[243]
Книга Левит
Книга Левит практически полностью состоит из законов и предписаний, за исключением кратких повествовательных частей.[244] Эти обрывки повествований включают вступительное обращение к Моисею и заключительные утверждения (Лев. 1, 1; 26, 46; 27, 34), описание посвящения Аарона и служения священников (Лев. 8—9), а также трагическую смерть Надава и Авиуда (Лев. 10). Тем не менее, важен даже этот краткий повествовательный контекст закона. Ведь, как мы увидим, он напоминает нам, что даже эта обширная группа законов должна рассматриваться в особенном контексте Синайского завета и всего, что ему предшествовало.
Первые семь глав содержат предписания о различных жертвоприношениях, тогда как главы 11—15 перечисляют чистую и нечистую пищу и дают подробные правила гигиены и чистоты, как персональной, так и бытовой. Обязанности священника в Израиле, судя по всему, объединяли навыки мясника, врача, учителя и инспектора здравоохранения. В центре книги находится шестнадцатая глава с предписаниями о Дне искупления.
Раздел Лев. 17—26 уже на протяжении более ста лет считается учеными отдельным собранием законов, которое названо Кодексом святости (кратко обозначается латинской Н) из–за постоянного упоминания и требования святости. Был ли он когда–либо отдельным документом или нет, доказать невозможно, но его сосредоточенность на святости абсолютно очевидна. Однако, как мы видели в первой главе, святость для Израиля не была всего лишь обрядовой или религиозной. В этих главах множество очень практичных законов для упорядочения сексуальной семейной жизни (Лев. 18 и Лев. 20) и общественной жизни в целом (особенно Лев. 19), а также дополнительные правила служения священников и постановления о различных праздниках (Лев. 21—24). Двадцать пятая глава содержит важные законы о субботнем и юбилейном годе, процедурах выкупа и общем экономическом сострадании, в то время как двадцать шестая глава завершает собрание характерными обетованиями благословений и угрозами суда за непослушание, которые также были вполне предсказуемыми. Двадцать седьмая глава с предписаниями о выкупе обетов кажется приложением. Таким образом, святость на самом деле является всеобъемлющим концептом. Она является не только религиозным стремлением или просто нравственным кодексом. Скорее, святость — это способ быть: способ быть с Богом в заветных отношениях, способ быть подобными Богу в чистой и нравственной жизни, способ быть Божьим народом среди нечестивого и нечистого мира. Сохранение этой святой чистоты среди народа Божьего — обрядово, нравственно, физически, социально, символически — это главная цель законов в Книге Левит.
Свод Второзакония
Контекст Книги Второзакония, описанный в ее начальных стихах, изображает Израиль на равнинах Моава через приблизительно сорок лет после великих событий исхода и Синая, когда народ наконец–то должен был войти в Ханаан. Поэтому ее можно назвать «книгой на границе»: исторически и географически. И, конечно, она помещает Израиль на рубежи выбора, который им теперь необходимо сделать: будут ли они продвигаться вперед в вере и послушании Богу или нет? Останутся ли они верными Господу, уникальному Богу, с которым никто не сравнится (Втор. 4, 35.39), когда им противостанет окружающее и притягательное идолопоклонничество Ханаана или нет?
Вся книга имеет форму документа обновления завета (см. Втор. 29, 1). Завет был утвержден непосредственно на Синае (Исх. 24). Теперь Второзаконие изображает Моисея, который обновляет завет со следующим поколением до того, как они смогут войти в землю обетованную. Как принято в подобных документах, сначала идет исторический пролог, в котором вспоминаются наиболее яркие события Израиля, чтобы пробудить их стыд и укрепить веру и послушание (Втор. 1—3). За ним следует потрясающий раздел, призывающий к благодарности, верности, всецелому послушанию и полному отрицанию идолопоклонства, который расширяется заявлением о благословениях и проклятиях (Втор. 4–11). Затем следует центральная часть, в которой находится большинство подробных законов (Втор. 12—26). После этого приводится обычное перечисление благословений и проклятий (Втор. 27—28; как в Лев. 26). Далее следуют обновленные призывы соблюдать завет, вместе с предостережениями о том, каким будет будущее, если Израиль не устоит (Втор. 29–31). Наконец, кульминацией и завершением книги служит Песнь Моисея (Втор. 32), благословение им колен (Втор. 33), и описание его смерти (Втор. 34). Поэтому, когда мы говорим о своде законов Второзакония, речь идет, главным образом, о Втор. 12—26.
Слово «Второзаконие» — это греческая конструкция, означающая «второй закон». Хоть это и не очень точно передает стих Втор. 17, 18, содержащий на иврите слова «копия этого закона» (в Синодальном переводе «список закона сего». — Прим. ред.), название книги неплохо сочетается с правовым разделом книги (Втор. 12–26). Здесь речь идет не о новом законе, а о том, что он повторяет и развивает ранние законы. Таким образом, мы видим, что многие законы из Книги завета в Исх. 21–23 встречаются вновь во Второзаконии. Однако мы будем замечать небольшие изменения, дополнения, пояснения или добавленную мотивацию. Практически в любом случае, когда закон общий для Исхода и Второзакония, вариант Второзакония обширнее. О Второзаконии говорят как о «проповеданном законе», и, конечно, Втор. 1, 5 говорит, что именно это делал Моисей: «начал Моисей изъяснять закон сей и сказал». Поэтому, в характерном для проповеди стиле, Книга Второзакония использует множество повторов, схематических структур, призывов, прошений, упрашиваний, побуждений и предупреждений. Совершенно ясно, что в страстной риторике Второзакония закон был намного больше, чем просто затвердевший сухарь законничества: он был самим хлебом жизни. «Ибо это законы Господа не пустое для вас, но это жизнь ваша» (Втор. 32, 47).
Различные виды права
Когда пытаются определить применимость ветхозаветного закона в целом, то традиционная надежда выявить особую категорию «морального закона» в противовес «гражданскому» или «культовому» не очень полезна. В своем экзегетическом и нравственном анализе Лев. 19 Элмер Мартене (Elmer Martens) отмечает:
Следует заключить, что отличия культовых, нравственных и гражданских предписаний если и не искусственны, то, несомненно, чужды еврейскому мышлению. В этой единой речи постановления о воздержании от изготовления образов (культовое), необходимости говорить правду (нравственное), и предписании сострадательного отношения к пришельцам (гражданское) соединены в хаотичной смеси. В качестве схемы, которая поможет определить отношение христиан к Ветхому Завету, подобная классификация «культовый, нравственный, гражданский» бесполезна[245].
Напротив, нам необходимо изучать и классифицировать законы Ветхого Завета на фоне их социального окружения в древнем Израиле, и затем обсуждать, какие важные нравственные особенности или принципы возникают в каждом из видов закона. Таким образом, предложенная ниже классификация израильских законов не дает ответа на вопрос: «Какие законы все еще обязательны (или хотя бы важны в этическом смысле) для нас, а какие нет?» Скорее, такая классификация поможет распознать этическую важность всего закона Израиля, поняв его функцию и цель в его собственном контексте. Это на самом деле не более чем применение фундаментального принципа библейской герменевтики, то есть: первый шаг к пониманию любого библейского текста — спросить, что он означал в своем историческом контексте, настолько, насколько мы можем определить его.
Одна из самых известных классификаций ветхозаветного закона среди ученых критической школы — это двойное деление, предложенное Альбрехтом Альтом (Albrecht Alt).[246] Альт отличает «аподиктический закон» (законы, которые обычно начинаются фразой «не делай» и образуют абсолютное повеление или запрет, как правило, не указывая конкретного наказания) и «казуистический закон» (законы, описывающие прецеденты, которые начинаются с «если…» или «когда…», после чего следуют инструкции, что должно быть сделано, какие наказания, если такие есть, применяются, и прочее). Хотя эта классификация полезна и широко используется, она, по всей видимости, слишком проста, чтобы охватить все разнообразие законов, которые мы встречаем в Пятикнижии. Более подробную классификацию предложил Энтони Филипс (Anthony Phillips).[247] Хотя классификация Филипсом уголовного права имеет свои слабости,[248] в целом предложенное им функциональное деление законов представляется убедительным, и я развил его далее в представленном ниже обсуждении.
Уголовное право
Преступлением является любой проступок, который определенное государство считает противоречащим интересам всего общества. Конкретное правовое определение специфических преступлений будет, следовательно, отличаться в разных государствах согласно историческим, социальным и культурным тенденциям и ракурсам. Соответственно, преступник наказывается ради всего общества во имя высшей власти в государстве. Поэтому уголовное право отличается от гражданского права. Гражданское право касается частных споров граждан, в которых можно апеллировать к публичной власти о вынесении решения, или же она даже может вмешиваться в судебном порядке. Однако в гражданских делах государство или национальное сообщество само не является потерпевшей стороной. Поэтому может быть множество гражданских дел, в которых не совершено преступление.
В ветхозаветное время Израиль был государством.[249] Израильтяне верили, что обязаны своим национальным существованием исторической искупительной деятельности Яхве, Господа. Именно Господь вызвал их к существованию посредством призвания Авраама, Господь освободил их из Египта, Господь сделал их собственным народом благодаря завету у Синая, Господь дал конституцию и законы, согласно которым им следовало жить, Господь даровал им землю Ханаанскую. По этой причине, а также в согласии с требованиями завета между Господом, Великим Царем, и израильтянами, вассальным народом, верховная власть в государстве принадлежала Господу.
Это значение теократии в ее ветхозаветной форме завета. Все ключевые функции социальной власти передавались в руки Господа: Господь был верховным законодателем, верховным судьей, главным землевладельцем, верховным главнокомандующим армий. Господь, иначе говоря, был царем в Израиле.[250]
Также Израиль верил, что его отношения с Господом были ихraison d'etre; то есть они существовали как народ только благодаря этим отношениям, так что выживание и безопасность были связаны с сохранением их. По этой причине любое действие, которое было фундаментальным нарушением этих отношений, являлось угрозой безопасности всей нации. Проступок против Бога был проступком против государства, зависящего от Бога. Проступок против Бога и заветных отношений грозил навлечь гнев Господа на все сообщество (и несколько повествований описывают примечательные случаи подобных бедствий). Подобные проступки считались поэтому преступлениями, и к ним относились очень серьезно. Поскольку Израиль счотал Господа царем и хотел, чтобы царствование было воплощено во всех аспектах национальной жизни, социальная и богословская сфера придерживались единого мнения в вопросе понимания сущности того, чем было преступление в Израиле.
В свете этого понимания мы можем вновь увидеть центральную важность Декалога для Израиля. Он был обобщением основных видов отношений, которые либо требовались, либо запрещались властью Бога, благодаря благодати и силе которого Израиль существовал как народ. Я не хочу сказать, что Декалог по сути был кодексом уголовного права в моем понимании этой фразы. Для начала, он не содержит конкретных наказаний в списке десяти слов. Однако он устанавливает границы и обязательства завета и тем самым определяет характер и степень того, что для Израиля будет серьезным преступлением — преступлением против Господа, против завета и против всей общины завета. Другие законы растолковывают правовые детали и последствия в связи с конкретными прецедентами нарушения различных заповедей.
Знаменательно то, что все проступки, за которые в ветхозаветном законе установлена смертная казнь, могут быть отнесены, прямо или косвенно, к конкретной заповеди из Декалога.[251] В свете характера преступления, как оно описано выше, эти случаи смертной казни не должны считаться примитивными или фанатичными. Они красноречиво свидетельствуют о серьезном отношении к завету, особенно там, где нарушение последнего подвергает опасности все сообщество. Целью высшей меры наказания было сохранение жизни сообщества при помощи удержания народа от совершения подобных проступков и очищения его от тех, кто их совершил.[252]
С другой стороны, хотя все преступления, подлежащие смертной казни, можно связать с Декалогом, однако это не вполне верно: не для всех десяти заповедей была санкционирована смертная казнь. Десятая заповедь (запрет зависти) по своей сути не подвергалась какому–либо судебному наказанию, тем более смерти. Однако это говорит о том, что человек может считаться морально виновным перед Богом, не совершив внешнего, наказуемого юридически проступка. Иисус применил тот же принцип к прочим заповедям (Мф. 5, 21–24.27–28). Восьмая заповедь (запрет воровства) касается собственности, а никакое преступление против собственности не влекло за собой смертной казни в обычных израильских судебных процедурах (см. ниже). Тем не менее, из–за важности семейной земли и имущества кража все же была серьезным проступком, и поэтому включена в ядро завета.
Прецедентное право
Очень многие законы в Пятикнижии начинаются с «если» или «когда», после чего в них описывается ситуация, а завершаются они постановлениями или наказаниями, касающимися описанной ситуации. Это прецедентное право, которое иногда называют казуистическим законом. Наилучшие примеры находятся в Книге завета, среди которых прецеденты вреда, небрежности, изнасилования, случайного увечья, споры о взятом взаймы или внаем имуществе и тому подобном (прочтите, например список типичных прецедентных законов в Исх. 21, 8 — 22, 15). Этот вид гражданского права, охватывающий споры граждан, конечно же, является особенностью большинства обществ, и существует много схожего между израильским правом и прочими древними ближневосточными сводами законов, особенно из Месопотамии (например, Кодекс законов Хаммурапи).
Но все же существуют существенные отличия между израильскими законами и законами других народов. Одно поразительное отличие израильского гражданского права можно увидеть в законах о рабах. Три ветхозаветных гражданских закона действительно не имеют параллелей в каком–либо из древних ближневосточных сводов законов. Исх. 21, 20–21 и 21, 26–27 обсуждают дело нанесения увечья или убийства раба их собственными господами, а Втор. 23, 15–16 предоставляет убежище беглому рабу.[253] Не был найден ни один древний ближневосточный закон, который делал бы господина ответственным за его отношение к собственным рабам (в отличие от увечья, нанесенного рабу другого господина), напротив, универсальный закон о беглых рабах предписывал, что они должны быть отосланы назад, обещая строго наказать тех, кто нарушал его.
Не вызывает сомнения, что эта «попытка плыть против течения» в израильских законах о рабах является результатом богословского влияния собственного исторического опыта Израиля. То, как Бог поступил по отношению к ним, когда они находились в рабстве, изменило их отношение к рабству, и потому оно радикально отличалось от общепринятого. Это еще раз показывает неадекватность деления на категории нравственный—гражданский. Иногда утверждают, что это деление основывается на предпосылке, что так называемый нравственный закон отображает неизменный нравственный характер Бога, тогда как гражданский закон полностью зависел от исторического контекста Израиля и является нравственно не актуальным для нас. Однако в данном случае благодаря внимательному изучению гражданского права мы открываем действие мощных богословских сил, применяющих характер и действие Бога к гражданской сфере. Мы не находим раздела нравственного закона, осуждающего рабство, даже в Десяти заповедях. Но мы находим действие нравственного принципа в гражданском праве, который, если его сравнить с другими ветхозаветными отрывками по данной теме (например, Лев. 25, 42; Неем. 5, 1–12; Иов 31, 15; Иер. 34; Ам. 2, 6), ставил под вопрос весь институт рабства и сеял семена, которые в конечном итоге принесут плоды радикального отрицания рабства как такового.
Семейное право
Главную судебную функцию в древнем Израиле исполняло семейство. Подробнее о центральной роли семьи в жизни общества будет сказано в десятой главе. На главу семейства была возложена главная ответственность — он представлял судебную власть для всех своих домочадцев, включая его женатых сыновей и их семьи, пока они проживают на одной родовой собственности. Вспомним Гедеона, семейного человека с женой и уже не малыми сыновьями (Суд. 8, 20), который все же боялся «дома отца своего» (Суд. 6, 27) и даже был защищен своим отцом Иоасом (Суд. 6, 30–31) от вероятного самосуда. Гедеон жил в сфере судебной власти и защиты своей расширенной семьи, и в особенности ее главы Иоаса.
Многие обыденные вопросы (и некоторые более значимые) глава семейства мог разрешать самостоятельно, не обращаясь к гражданскому праву или авторитету суда старейшин. В некоторых вопросах семейное право имело преимущественное значение по отношению к гражданскому праву. Подобные вопросы включали родительское наказание, даже для тех, кто вышел из детского возраста. Такое наказание, тем не менее, не касалось права над жизнью или смертью члена семьи (иногда называемое в римском правеpatria potestas).[254] Если обстоятельства становились угрожающими, тогда семейное право уступало гражданскому праву, и от обоих родителей требовалось представить дело суду старейшин (см. Втор. 21, 18–21). Браки также заключались в рамках семейного права и не требовали привлечения общественных властей, разве что в случае предшествующего оскорбления: например, интимная связь с необрученной дочерью другого мужчины, в случае чего гражданское право определяло ясные обязательства (Исх. 22, 16–17, измененные во Втор. 22, 28–29), или же в случае спора мужа и отца невесты относительно ее добрачного целомудрия (Втор. 22, 13–21). Развод также находился в семейной юрисдикции. Гражданское право в отношении развода (Втор. 24, 1–4) касалось только урегулирования обстоятельств после развода; сам развод осуществлялся по семейному праву, хотя, по всей видимости (как в позднем еврейском законе), перед несколькими свидетелями. Мы уже видели, что гражданское право защищало интересы рабов, однако церемония, посредством которой по истечении шести лет службы раб мог добровольно отказаться от свободы и остаться в семействе, по всей видимости, была домашней — еще одним прецедентом внутреннего семейного права (Исх. 21, 5–6;[255] Втор. 15, 16–17).
Заодно с этими домашними вопросами (брак и развод, наказание детей, некоторые аспекты рабства) существовали законы и установления, цель которых — защитить семью и ее наследственную землю. Среди них левиратный брак (Втор. 25, 5–10), законы о наследстве (Втор. 21,15–16), выкуп земли и людей, юбилей (Лев. 25). Также нам необходимо помнить, что семья была главным образовательным учреждением, в котором обучали всем законам и толкованию их (Втор. 6, 7–9. 20–25).
Согласно старой схеме «нравственный — гражданский — обрядовый» все семейное право, вероятно, было бы включено в гражданское право, но оно явно нуждается в отдельной категории, ведь социологи чески это был иной вид права. Оно отличается потому, что эта категория судебной власти и деятельности не требовала участия публичного гражданского суда старейшин. Семейное право важно тем, что с точки зрения закона за семьей признается центральное место в социальной, экономической и богословской сферах. Об этом более подробно пойдет речь в десятой главе. Изучение нами этих аспектов израильского семейного права, демонстрирующего важную роль семьи в сообществе, придает глубину и структуру нашему собственному нравственному размышлению о семье, которое иногда основывается исключительно на пятой заповеди о почитании родителей.
Культовое право
Здесь я использую понятие «культовый» в техническом значении, говорящем о внешних формах и ритуалах религиозной жизни —cultus. Его не следует путать с более современным употреблением понятия в отношении «культов», то есть религиозных сект, использующих зачастую подавляющую и завуалированную власть над своими адептами. Слово «культовый» используется здесь как нейтральное слово, которое просто относится к видимым формам религиозных обычаев. В рамках старого, троичного деления считалось, что эта «культовая» или (в старых вариантах) «церемониальная» категория служила прообразом дела Христа и, следовательно, была исполнена и более не нужна. По этой причине представление многих людей об обрядовом праве Ветхого Завета определяется Посланием к Евреям и ограничивается жертвоприношениями, обязанностями священников и ритуалом Дня искупления. Все это, без сомнения, были важные части израильского культового права, но это далеко не все право. Для израильтянина обрядовая жизнь включала и предписания о питании с делением на чистых и нечистых животных, и священный календарь суббот и ежегодных праздников, субботних и юбилейных лет; а также целый спектр практических, материальных требований, имевших важное социальное значение, вроде десятины, приношений первых плодов и остатков после жатвы. Хотя для израильтянина все это было частью целостной системы, выражавшей их веру и мировоззрение, для нас будет полезно отметить три главные сферы культового права и ритуала.
Законы о жертвоприношениях
Под культовым правом подразумеваются главным образом эти законы. Вся система поклонения Израиля вращалась вокруг широкого спектра жертвоприношений, которые приносились по ряду причин и для разных целей. Мы не будем рассматривать их подробно, поскольку по этому вопросу уже существует масса исследований. Совершенно ясно, что для христиан в свете смерти Иисуса и того, что она истолковывается в Новом Завете как полное и окончательное жертвоприношение за грех, больше не существует искупительной значимости этих ветхозаветных обрядов. Тем не менее, даже утверждая, что законы о жертвоприношениях не имеют к нам отношения, а только указывают на значение креста, мы можем увидеть и другие особенности еврейских законов о жертвоприношениях, которые воплощают нравственные принципы, достойные последующего размышления.
Например, в отношении к жертвоприношению среди израильтян существовало поразительное равенство. Не существовало градации ценности жертвоприношения в зависимости от статуса верующего. Жертва царя была столь же действенна, как и жертва обычного крестьянина. К тому же Давид, ставший прелюбодеем и убийцей, знал, что, несмотря на его положение, никакой жертвы не будет довольно, чтобы загладить грех; все, что ему оставалось — это уповать на милость Божью. С другой стороны, занимавшие руководящие посты должны были приносить большие жертвы, что говорило о большей ответственности (Лев. 4). Но в то же самое время для тех, кто беден, были сделаны уступки, позволявшие им приносить предписанные жертвоприношения. Жертва повинности могла быть принесена в соответствии с тем, что человек мог себе позволить: если бедный человек не мог принести животное или птицу, он мог принести «десятую часть ефы пшеничной муки», которая все равно считалась кровной жертвой — жертвой повинности (Лев. 5, 5–13). Это было свидетельством того, что объявляемое священником искупление зависело от милости Бога, а не от ценности самого жертвоприношения. Израильтянин, приходивший в нищете духа, приносил Богу не больше двух пригоршней муки, и все же уходил, слыша слова прощения от священника, и узнавал нечто о благодати Бога и нравственной силе покаяния.
Законы о религиозном календаре
В религиозной жизни Израиля присутствовала определенная цикличность. Во–первых, была еженедельная суббота (Исх. 20, 8–11; Втор. 5, 12–15), потом повторяющиеся ежегодные праздники в разные времена года (Исх. 34, 22–23; Втор. 16, 1–17). Ежегодно праздновали День искупления (Лев. 16). Также отмечались ежегодные приношения первых плодов и десятин, и особенная десятина каждый третий год (Втор. 14, 22–29). Был субботний (седьмой) год, который имел разнообразные социальные и экономические аспекты (Исх. 23, 10–11; Лев. 25, 3–7; Втор. 15, 1–6). И, наконец, — юбилейный год (после семи субботних лет — Лев. 25, 8–55). Все они по–разному возвещали всевластие Господа над временем и его власть над распределением времени Израиля. Все эти события или установления были священными в том смысле, что соблюдение их было обязанностью каждого израильтянина. Некоторые из установлений имели четкие социальные и экономические измерения, а также нравственное значение.
Например, субботний день должен соблюдаться как знамение завета, один из наиболее важных знаков, определяющих принадлежность к Израилю. Но непосредственная польза от еженедельного дня субботнего отдыха была для рабочего населения на любом социальном уровне. В Израиле работа не разделялась горизонтально, так чтобы рабы и крестьяне выполняли всю работу, а более привилегированные классы наслаждались отдыхом. Скорее она разделялась вертикально во времени периодичностью суббот.[256] Все должны работать и все должны наслаждаться отдыхом, включая рабов. Это было формой защиты наемных работников. Пророки ясно говорят, что пренебрежение или преднамеренное игнорирование субботы следовало рука об руку с вопиющей эксплуатацией нищих (Ам. 8, 4–6; Ис. 58).
Подобным образом, главное экономическое установление субботнего года, включающее предписания оставлять землю невозделанной (Исх. 23, 10–11) и позднее, согласно закону Второзакония, освобождающее от залогов по займам (Втор. 15, 1–2), имело культовое обоснование. Постановление основывалось на идее принадлежности земли Богу (Лев. 25, 23) и называлось «субботой Господней» (Лев. 25, 4; курсив автора) и «прощением ради Господа» (Втор. 15, 2; курсив автора). Таким образом, материальные обязательства, связанные с соблюдением этого субботнего установления, считались обязательствами перед самим Богом. Тем не менее, их ожидаемый практический результат был гуманитарной помощью обнищавшим и должнику. Это прямо поясняется в каждом из трех упоминаний закона (ср. Исх. 23, 11; Лев. 25, 6; Втор. 15, 2.7–11). Суть была в том, что почтение к Богу, выражаемое в соблюдении закона, приносит благо самым бедным. Следовательно, здесь вновь в рамках культового права мы сталкиваемся с базовым нравственным принципом, который пронизывает библейскую этику: служение Богу и забота о других людях неразрывно связаны между собой. Поклонение тех, кто пренебрегает справедливостью и состраданием, не может быть приемлемым для Бога. Это древнее израильское субботнее установление, которое могли назвать абсолютно устаревшим и неуместным в культурном (даже в сельскохозяйственном) смысле, представляет нам конкретный экономический образец фундаментального принципа библейской этики — принципа, согласно которому нам следует проявлять ответственную, внимательную и жертвенную заботу о нашем собрате. Отголоски этого можно найти во многих местах Ветхого Завета.[257]
Наконец, следует обратить внимание, что израильтяне должны были хорошо понимать, что праздники предназначены для всех социальных классов. Главные ежегодные праздники Израиля были, главным образом, семейными торжествами, связанными с плодами земли. А как же дело обстояло с теми, у кого не было семьи или земли? О них также не следовало забывать в этом празднике, поддерживая их десятиной. Это характерная особенность щедрой благотворительности Второзакония (см. Втор. 14, 27–29; 16, 11.14).
Символические законы
Существует еще одна категория законов в древнем Израиле, которая кажется более сложной для понимания современного человека, особенно западного (хотя более традиционным культурам легче понять мир Израиля в данном пункте). Это предписания, выражающие символический мир Израиля, делающие осязаемым понимание разнообразия многоуровневых отношений с Богом самими израильтянами, прочими народами и всем остальным творением. В израильском мышлении вся реальность разделялась на святое и обыденное (или «мирское» — слово, которое в Библии не обязательно означает греховное или кощунственное, а просто обыкновенное). Бог, конечно же, был высшей святой реальностью, и все люди или вещи, посвященные Богу, в некотором смысле были причастны его святости. Большая часть жизни относилась к сфере обыденного, где также существовало разделение на чистое и нечистое. Большинство вещей в их обычном состоянии были чистыми. Однако грех, различного рода осквернение, болезнь, некоторые физиологические особенности и, что хуже всего, смерть, делали вещи или людей нечистыми. Кроме Бога (абсолютно святого на одном конце спектра) и смерти (абсолютно нечистой на другом конце), большая часть реальности посредине могла быть в состоянии постоянного движения в любом направлении. Грех и осквернение превращали священное в мирское и чистое в нечистое. Но посредством крови жертвоприношения и разных ритуалов, связанных с ним, нечистое могло очиститься, а чистое могло быть освящено, и стать священным. Огромная часть обрядовой деятельности Израиля вращалась в этой постоянной динамике взаимодействия оскверняющих последствий повседневной жизни с очищающей и освящающей силой жертвенной крови.[258]
Тем не менее, существовал еще одни аспект этого символического мира. Также как в самом Израиле священники (будучи святыми) отличались от прочих израильтян (бывших обыденными), существовало дальнейшее отличие Израиля как народа (который, как единый народ, должен быть свят и чист перед Богом) и остальных народов (которые не были в завете с Господом и считались ритуально нечистыми). Быть святым призванным народом завета — это коренное отличие Израиля от остальных народов, которые (пока) не занимали данного положения. Такое отличие должно было отражаться символически во всей сложной структуре законов о чистых и нечистых животных и пище. Подобно тому, как Господь выбрал Израиль среди всех народов, так и Израиль должен соблюдать Божий выбор чистых животных среди всех остальных. Этот кажущийся произвольным выбор (в обоих случаях) не делал нечистых животных менее благим творением благого Творца, либо не избранные народы менее достойными человеческими существами, созданными по образу Божьему. Разделение на чистое и нечистое было символическим отличием Израиля от остальных народов.
Это наиболее ясно выражено в Лев. 20, 24–26:
Я Господь, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил Я, как нечистое. Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои(выделено автором).
И если мы усвоили сугубо символический характер этих законов, это даст нам следующее. Во–первых, это поясняет, почему данные законы больше не имеют отношения к христианам. Причина проста: Христос положил конец различию, которое сохранялось в Ветхом Завете, между этническим Израилем и народами. Оно отменено посредством креста, и путь открыт для примирения с Богом новому искупленному сообществу верующих евреев и язычников (Еф. 2). Видение Петра привело к этому ошеломляющему прозрению (Деян. 10, 9–15), и Павел классически истолковал его в Гал. 3, 26–19. Итак, поскольку во Христе больше не существует различия между евреем и язычником, христианам больше нет необходимости сохранять пищевые отличия, которые символизировали его.
Во–вторых, это наводит на мысль, что прочие законы и предписания в Ветхом Завете также могут относиться к данной категории. То есть они могли иметь символическое значение в связи со специфической верой Израиля, даже если некоторые аспекты их символизма могут быть сейчас нам непонятны из–за весьма отличающегося мировоззрения и символического мира. Вероятно, именно это стоит за теми законами, которые запрещают смешивать семена, ткани и животных (Лев. 19, 19). Подобным образом, некоторые законы о странных формах стрижки волос или бороды, нанесении знаков на тело могут иметь отношение к обычаям прочих народов и религий, чего следовало избегать (Лев. 19, 27–28).
Итак, мы увидели, что эти символические законы, отличающие Израиль, больше не применимы к нам. Тем не менее, концепция отличия Божьего народа от остального мира и необходимость стремиться к святости и чистоте в мире, где господствует нечестие и нравственное разложение, вовсе не является неуместной или устаревшей. Напротив, Новый Завет побуждает верующих к еще большей нравственной ответственности в отношении этих вещей, несмотря на то, что символика и внешнее выражение изменились:
Чему христиане могут научиться из этих законов? Во–первых, необходимости быть особым народом в мире. Даже для ветхозаветного Израиля ритуальная чистота, от кухни до святилища, должна была означать Божьи требования нравственной цельности, социальной справедливости и верности завету. По сути, как ревностно указывали пророки (и Иисус), если этих последних позиций не доставало, тогда даже самая доскональная ритуальная чистота на всех уровнях была бесполезной. Если бы христиане так же серьезно относились к нравственному отличию, как Израиль относился к ритуальной чистоте, тогда наши «соль» и «свет» имели бы большее влияние в мире.[259]
Сострадательный закон
Есть еще одна категория, которую мы вовсе не будем считать строго законом в юридическом смысле. В самом деле, предписания, которые мы можем собрать под данным заголовком, в Израиле также не считались бы законами, имеющими исковую силу. Это неудивительно, так как мы наблюдаем сострадательную тенденцию в других категориях закона как такового и степень проникновения богословских верований Израиля в практику судебной жизни, а также наличие массы подобных благотворительных и гуманитарных инструкций, которые рассеяны по сводам законов.
Широта ситуаций, охваченных этой категорией закона, очень впечатляет. Он включает защиту слабых, особенно тех, у кого нет семьи и земли (то есть вдовы, сироты, левиты, мигранты и пришельцы); справедливость к нищим; беспристрастность в судах; щедрость во время жатвы и в общей экономической жизни; уважение к личности и собственности, даже врага; внимание к достоинству, даже должника; особенная забота о пришельцах и мигрантах; внимательное отношение к инвалидам; своевременная выплата заработка наемным работникам; внимательное отношение к взятым в качестве залога вещам; забота о только что вступивших в брак или перенесших утрату; забота о животных, домашних или диких, и даже плодовых деревьях. К тому же было бы полезно остановиться, чтобы прочесть отрывки в Библии, указанные в примечании, и ощутить пульс биения всего этого материала.[260]
Практический результат этого материала, как я уже говорил, — гуманитарный. Но происхождение и мотивация — богословская, и это наиболее важно для этики. Здесь мы видим самую ясную иллюстрацию тезиса, выдвинутого в первой главе: безраздельная преданность Богу требует, чтобы народ Божий отображал Божий характер, как он явлен в действиях Бога ради них. Почему израильтяне должны сочувствовать слабым, угнетенным и обнищавшим? Ответ неизменен: потому что Бог поступил так с ними, когда они были в похожих обстоятельствах. «Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие» (Втор. 24, 18; курсив мой).
Итак, просмотрев различные виды закона в древнем Израиле, можно увидеть, насколько бесполезно пробовать выделить отдельные категории нравственного закона. Напротив, совершенно ясно, что нравственные принципы встречаются в различных категориях закона. Таким образом, задача истолкования законов для нашего нравственного наставления требует внимания и вдумчивости. Нам следует увидеть, как любой отдельно взятый закон функционировал в собственном контексте, и какие нравственные принципы он воплощал или демонстрировал. Затем мы можем перейти от специфики израильских законов к специфике собственной конструктивной этики. Ниже, после дальнейших размышлений о судебной системе Израиля, я предложу некоторые направления того, как мы могли бы делать это.
Свершение правосудия
Иметь превосходные законы — одно, но на самом деле важным в повседневной жизни обычного человека является то, как данные законы в действительности применяются. Процесс установления справедливости — это постоянная забота человека во все времена и в каждом обществе. Следовательно, любопытно поразмышлять о том, что Ветхий Завет может сказать о применении права, а также о действительном содержании законов.[261]
Правосудие в рамках семьи
В древнем Израиле, как я упоминал выше и буду подробнее обсуждать в десятой главе, семья играла важную роль в решении правовых вопросов. Это относится не только к тем видам правовых действий, которые осуществлялись в рамках семейного права, но также к тому факту, что члены семей сами признавали правовые обязанности в широком сообществе. Например, в случаях убийства ответственность за наказание преступника возлагалась наgo"el — «мстителя за кровь», родственника семьи потерпевшего, — а не на прокурора. Старейшины деревни или города служили только помощникамиgo'el (Втор. 19, 1–13), чтобы помочь ему выполнить его законный долг. Следовательно, в подобной ситуации семья имела первостепенную обязанность осуществить правосудие. Старейшины города действовали независимо только в том случае, если преступник не мог быть определен и привлечен к правосудию; их задача состояла в проведении церемонии, которая очищала их город от крови (Втор. 21, 1–9). Эта родственная ответственность также переходила на уровень клана, как демонстрирует пример, описанный во 2 Цар. 14, 5–11. Этот случай также показывает, что апелляционная жалоба может выйти за пределы юрисдикции клана и адресоваться гражданским властям, вплоть до царя. Таким образом, система правосудия была подвижной среди семей и гражданских властей. И, в любом случае, вполне вероятно, что общественные власти (старейшины) осуществляли эту роль благодаря тому, что были самыми пожилыми членами семей, из которых состояла конкретная деревня или поселение.
Этот семейный характер процесса правосудия в древнем Израиле имел несколько значимых результатов, которые следует учесть, если мы хотим связать израильскую модель правосудия с современными этическими проблемами в данной сфере. Во–первых, он способствовал обстановке, в которой ожидалось, что закон знают. Основным обучением ребенка было обучениеtora. И, как я уже говорил,tora включала все повествования и поэзию, которые встречаются в этих книгах, а не только законы. Тем не менее, от благочестивого и строго соблюдающего религиозные предписания израильского дома ожидалось, что там детей будут учить Божьему закону (Втор. 4, 9–10; 6, 6–9) так, что вопросы будут естественно возникать, а ответы на них будут находиться в понятиях великой истории искупления (Втор. 6, 20–25). К этому прилагалось обучение закону, которое было обязанностью священников (Лев. 10, 8–11; Втор. 33, 10; Мал. 2, 6–7). Они были своего рода консультантами населения. Выше этого располагалось публичное чтение закона, во время которого должны были присутствовать все, даже дети (Втор. 31, 10–13). В свете сказанного становится понятной горькая жалоба Осии на то, что нравственный упадок народа является результатом недостатка ведения (Ос. 4, 1–6), за который он обвинял священников.
Поместное правосудие
Как правило, правосудие было поместным. Большинство споров, обвинений, тяжб и разбирательств происходило в городском собрании, буквально «у ворот» (площадь, где решались все общественные вопросы).[262] Суд вершился старейшинами. Справедливость не была чем–то удаленным, бюрократическим, навязанным сверху. Напротив, она имела местный, почти демократический характер благодаря множеству старейшин. Даже реформы Иосафата, в результате которых судей назначал сам царь, относились исключительно к укрепленным городам и поэтому, вероятно, не коснулись поместных судов (2 Пар. 19, 5). Подобная система отлично работала в условиях широкого социального равенства семей и широкого распределения земли и богатства, что предполагается в текстах, говорящих о распределении земли, а также прочих законах. Учитывая, что большинство семей было экономически жизнеспособными (обладали собственной земельной вотчиной), можно полагать, что представители от каждой семьи входили в совет старейшин, что обеспечивало основу социальной справедливости. Но когда семьи теряли свой надел и попадали долговое рабство, контроль над судами и прочими формами социальной власти переходил в руки небольшой группы богатых землевладельцев. Таким образом, система правосудия могла быть коррумпированной и несправедливой. Пророки ясно видели эту связь между смещением равновесия в экономической власти и усилением коррупции и отвержением справедливости. Это началось со времени правления Соломона и далее, и вызвало основной пророческий протест в VIII веке до P. X. Тем не менее, идеалом было местное правосудие, осуществляемое через местных старейшин, которые действовали в интересах даже самых слабых (вдовы и сироты). Такой идеал хорошо представлен в описании Иовом того, как он поступал, являясь старейшиной в суде в то время, когда у него была семья и состояние, прежде чем он утратил их и стал изгоем общества (Иов 29,7–17).
Этот местный характер правосудия в Израиле также означал, что инициатива в судебных процедурах была, главным образом, частной. Как мы видели, она зарождалась в рамках семьи. Любой спор или проблему начинали решать собственными силами, а к суду прибегали в случае необходимости. Не существовало генерального прокурора, полицейских сил или официальной посреднической профессии адвокатов или юрисконсультов. Это означало, что судья или группа старейшин, разбиравших спор, гораздо больше, чем в нашем обществе, знали как про истца, так и про ответчика. Это могло быть так, даже если судьей был царь (как в случае, описанном в 1 Цар. 14). А в деревенском сообществе судьи могли быть родственниками или товарищами по работе тех людей, которые разрешали спор или тяжбу (как в Руф. 4).
Процессуальные требования
На этом фоне становятся еще более уместными точные предписания о честном применении закона и предостережения против взяточничества и лицеприятия. В нашем распоряжении есть такой список инструкций в Исх. 23, 1–9. Похоже, он был составлен в системном порядке, по очереди обращаясь ко всем трем категориям людей, вовлеченных в судебное разбирательство:
1. Свидетели должны поступать последовательно, честно и независимо:
Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды; и бедному не потворствуй в тяжбе его.
(Исх. 23, 1–3)
2. Истец и ответчик. Слово «враг» в этом контексте означает соперника в суде. Даже когда израильтянам приходится выполнять роли истца и ответчика, они не должны пренебрегать обычными братскими обязательствами друг перед другом.
Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе с ним.
(Исх. 23, 4–5)
3. Судьи. Те, кто должен разрешать вопрос в суде, должны делать это беспристрастно и неподкупно, но в то же время с должным пониманием и состраданием.
Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской.
(Исх. 23, 6–9)
Если эти строки сравнить с похожими предписаниями в Лев. 19, 15; Втор. 16, 18–20 и восхитительной речью Иосафата к назначенным им судьям во 2 Пар. 19, 4–11, становится ясно, насколько важно было в Ветхом Завете, чтобы система правосудия соответствовала стандарту самого закона. Существует постоянное требование, что процессы юридической системы должны быть справедливыми, и необходимо было следить, чтобы они были справедливыми. Это созвучно с растущим пониманием в наши дни, что людей, особенно бесправных, бедных, неграмотных, мигрантов, ищущих убежища, зачастую ранит громоздкий и сложный процесс правосудия, даже хорошего правосудия, потому что они чувствуют себя жертвами плохого правосудия или намеренной несправедливости. Судебные процессы, которые откладываются, являются унизительными или дискриминационными, либо просто не по средствам бедным, столь же плохи, как и активная несправедливость и угнетение. И в этом случае Ветхий Завет опередил нас, рекомендуя поощрять христиан, активно озабоченных справедливостью в процедурном аспекте наших юридических систем. Это, в конце концов, всего лишь применение девятой заповеди — «не лжесвидетельствуй», к сфере, к которой она изначально относилась — защите честности судебных процедур.
Шкала ценностей Израиля
Выше мы видели, что в законе Ветхого Завета существует переплетение и разнообразие различных видов законов. Не все законы одинаковы в смысле их социальной функции; существует разница, связанная с разными социальными контекстами, видами прецедентов, уровнями серьезности и тому подобным. Это же справедливо, когда мы размышляем об относительной нравственной ценности, выраженной в большом разнообразии закона. Не все законы столь же важны в смысле их нравственной ценности. Однако это не означает, что некоторые законы не важны, Второзаконие особенно обращает внимание (отображенное, по–видимому, в Пс. 118), на скрупулезное соблюдение всех Божьих законов. Тем не менее, даже Второзаконие говорит, что центральные и самые важные требования Бога к Израилю могут быть сведены к нескольким ключевым фразам: бояться Господа, ходить путями его, любить его, служить и повиноваться ему (Втор. 10, 12–13). Михей свел их к трем: творить правду, любить милосердие и смиренномудренно ходить пред Богом (Мих. 6, 8). Таким образом, представляется разумным не рассматривать закон как единый цельный пласт различных обязанностей. Скорее мы можем стремиться определить, каковы главные ценности в законе. Каковы его центральные приоритеты? Присуща ли этому многообразию шкала ценностей?
Это вопрос занимал умы некоторых раввинских школ во времена Иисуса, как это показано в евангельской истории, когда учитель закона спросил Иисуса о его личном взгляде на вопрос: «Какая из всех заповедей наибольшая?» Знаменитым ответом Иисуса была двойная заповедь: одна из Втор. 6, 4–5 (безраздельная любовь к Богу), вторая из Лев. 19,18 (любовь к ближнему, как к самому себе), а в конце он добавил: «большей этих нет заповеди». Другими словами, это главные ценности, важнейшие приоритеты, определяющие остальные законы.
В описании Марком спора интересен (и явно похвален в глазах Иисуса) ответ законоучителя: «Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его (Втор. 6,4); и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжении и жертв» (Мк. 12, 32–33; курсив автора). Несомненно, это не новая мысль. Напротив, это подлинно библейская (ветхозаветная) точка зрения. Подобное выражение нравственных приоритетов встречается, например, в словах Самуила Саулу «послушание лучше жертвы» (1 Цар. 15, 22), или Бога к Израилю через Осию «Милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, чем всесожжения» (Ос. 6, 6), или голос мудрости «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва» (Притч. 21,3). Итак, учитывая эти утверждения о нравственных приоритетах из самого Ветхого Завета, какую шкалу ценностей мы можем увидеть?
Бог превыше всего
Нашим отправным пунктом должны быть слова самого Иисуса о том, что Господь важнее всего. Ни один нравственный императив не стоит выше повеления любить Бога всем своим естеством. Этот фундаментальный принцип, помещенный в Шма («Слушай, Израиль…»), далее развит в порядке Десяти заповедей, которые начинаются с запрета поклоняться какому–либо иному богу перед (буквально, «пред лицом») Господом. Он обретает еще более строгое социальное влияние в резких и бескомпромиссных предписаниях Втор. 13. Текст признает, что искушение поклоняться другим богам может прийти от религиозных знаменитостей, доверие к которым может быть вызвано сверхъестественными силами (Втор. 13, 1–5), или же оно может прийти из семьи или от близких друзей (Втор. 13, 6–11), или под давлением неких влиятельных голосов в местном сообществе (Втор. 13, 12–18). Но каким бы ни был источник, ответ должен быть неизменным: безжалостное отвержение всякой альтернативы поклонения единому истинному живому Богу. Все прочие дороги ведут к идолопоклонству, несправедливости, и, в конечном итоге, к смерти и – уничтожению. Та высшая ценность и здравый выбор, который предлагает Втор. 13, представлены так же бескомпромиссно в учении Иисуса о высшем приоритете подчинения правлению Бога посредством следования за Господом Иисусом (см. Лк. 14, 25–27).
Вновь рассмотрев Десять заповедей, мы можем обнаружить шкалу ценностей в их порядке. Они начинаются с Бога и заканчиваются внутренними мыслями сердца человека. В некотором смысле десятая (против любостяжания) и первая заповедь (против поклонения какому–либо богу, кроме Господа) соотносятся между собой. Это потому, что любостяжание, в сущности, ставит других людей или вещи на место, которое должен занимать только Бог: «любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол. 3,5). Далее, после личности Бога, Божьего имени и уникального признания всевластия Бога, выраженного в соблюдении субботы, следует семья (через почитание родителей), жизнь человека, чистота сексуальных отношений и брака, собственность и честность системы правосудия. Поскольку отголоски заповедей в других местах не всегда точно следуют данному порядку (напр., Иер. 7, 9; Ос. 4, 2), нам не следует придавать этому слишком большого значения. Но, безусловно, существует ясный переход от тех, которые главным образом сконцентрированы на Боге (по крайней мере, первые три, а также четвертая в своей устремленности к Богу), к тем, что сосредоточены на межчеловеческих отношениях (социальные последствия четвертой, и оставшиеся шесть).
Хотя каждая заповедь является словом Бога, и нарушение любой из них — серьезный проступок (приравнивающийся в некотором смысле к преступлению, как мы видели выше), этот порядок не случайный: наиболее важные требования стоят первыми. Эта, по всей видимости, продуманная шкала ценностей подтверждается уголовным законом Израиля. Вопиющее пренебрежение первыми шестью заповедями влекло за собой обязательное наказание смертной казнью. За нарушение седьмой заповеди (прелюбодеяние) также была смертная казнь, но не существует данных о каком–либо случае, когда она была приведена в исполнение, и некоторые ученые полагают, что оскорбленному супругу предоставлялись другие возможности. Восьмая заповедь не влекла за собой смертную казнь в обычном законе (кроме случаев похищения людей, Исх. 21, 16; Втор. 24, 7). Нарушение девятой заповеди (лжесвидетельство) только тогда наказывалось смертью, если подтверждалось, что человек ложно свидетельствовал, и обвиняемый должен был понести наказание за преступление (Втор. 19, 16–21). И вряд ли нарушение десятой заповеди когда–либо подвергалось судебному процессу. Таким образом, порядок заповедей дает некоторое понимание иерархии ценностей Израиля. Грубо говоря, порядок был таким: Бог, семья, жизнь, секс, собственность. Отрезвляет то, что, если посмотреть на современное общество (особенно западное), мы практически полностью поменяли этот порядок ценностей. Деньги и секс значат намного больше человеческой жизни, семья презирается в теории и на практике, а Бог занимает последнее место в мышлении большинства людей, не говоря уже о приоритетах.
Еще три особенности шкалы ценностей Израиля достойны дальнейшего обсуждения: приоритет жизни над собственностью, личности над наказанием, и потребностей над правами.
Жизнь и собственность
Святость человеческой жизни — одна из самых ранних непосредственных ценностей в Ветхом Завете, основанных на сотворении людей по образу Божьему. Слова Бога Ною ясно это показывают:
Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его.
Кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека:
ибо человек создан
по образу Божию.
(Быт 9, 5–6)
Последствие этой уникальной ценности человеческой жизни можно видеть в некоторых практически идентичных особенностях некоторых израильских законов. Когда, например, вол забодает человека до смерти, закон требует, чтобы вол был побит камнями. Эта уникальная деталь в законе достаточно распространена в других древних ближневосточных сводах закона. Она вполне согласуется со словами Быт. 9, 5 о том, что Бог взыщет даже с животных за кровь человека.[263]
Но наиболее ярким свидетельством приоритета жизни над собственностью является отсутствие в израильском законе их уравнивания. То есть никакое преступление против собственности в обычной судебной процедуре не наказывалось смертью.[264] Следовательно, хотя эмоциональной реакцией Давида на притчу Нафана (о которой Давид, вероятно, подумал, как о реальной ситуации, представленной Нафаном на царский суд, 2 Цар. 12, 1–6) была гневная вспышка и слова о том, что богатый человек достоин смерти, юридически единственным наказанием, которое Давид мог огласить, было четырехкратное возмещение, предписываемое законом (Исх. 22, 1). Эта особенность израильского закона выступает ярким контрастом по сравнению со многими древними кодексами закона, в которых некоторые кражи определенными людьми наказывались смертью. Более того, она контрастирует с британским законом в относительно недавние времена (в Британии за кражу овец людей казнили через повешение до XIX века). С другой стороны, как упоминалось выше, похищение человека с целью выкупа в Израиле каралось смертной казнью (Исх. 21, 16; Втор. 24, 7). Между похищением человеческой жизни и похищением собственности была большая разница.
Другой стороной данного принципа является то, что если человек совершил преступление, караемое смертной казнью, то он не может избежать наказания, выплатив взамен деньги. Если жизнь потеряна, деньги не помогут. Одно не может измеряться другим (см. Чис. 35, 31–34). Это контрастирует с некоторыми древними ближневосточными кодексами, в которых многие проступки, караемые смертной казнью, могут быть заменены штрафами. В их системе предпочтение отдавалось тем, кто был достаточно богат, чтобы заплатить за свое преступление. В Ветхом Завете единственным исключением из этого правила был случай с забодавшим до смерти волом. Хозяин виновного вола мог выкупить свою жизнь, если была согласна семья жертвы вола, поскольку убийство было случайным и непреднамеренным (Исх. 21, 30). Даже жизнь раба оберегалась подобным образом, несмотря на то, что в других случаях он был собственностью своего хозяина (Исх. 21, 20–21).
Следовательно, жизнь человека и материальное имущество были несопоставимы. Они отличались качественно, не могли уравниваться между собой в судебном процессе. Как говорит старая пословица — люди важнее вещей.
Преступление и наказание
Ветхозаветное убеждение в особой ценности человеческой жизни не только создает иерархию серьезных проступков и отличает наказание смертной казнью от прочих наказаний, оно также распространяется на самого нарушителя, а также на характер и масштаб совершаемого наказания. Когда мы позволяем себе заглянуть дальше камня преткновения, которым для некоторых представляется обязательная смертная казнь, то видим гуманитарный характер израильского уголовного закона, признаваемого всяким, кто сравнивал его с современными ему древними ближневосточными сводами законов.
Первым примером заботы Бога о правах преступника является случай с Каином. Во многих отношениях это любопытный случай, ведь сам Бог отказывается от смертного приговора за смерть Авеля. Однако Бог отвечает на страхи Каина о том, как другие будут относиться к нему, убийце, ясно показав, что прочие люди будут отвечать пред Богом за свое отношение к Каину (Быт. 4, 15).
То, что преступники остаются людьми с правами, которые защищает Бог, встречается в постановлениях Втор. 25, 2–3. Если телесное наказание является приговором определенного суда, тогда оно должно осуществляться под надзором судьи (а не где–нибудь в тайном, садистском каземате). Более того, наказание должно быть четко определено в связи с серьезностью проступка («смотря по вине его, по счету»), а не просто взбучка. И, важнее всего, наказание должно иметь определенные ограничения («сорок ударов можно дать ему, а не более»), чтобы провинившийся («брат твой») не был обезображен. Он все еще брат, хотя и провинившийся. Это касается и любого осужденного преступника в наше время, — наказание должно быть за конкретное преступление, и тяжесть его должна быть пропорциональна тяжести преступления; наказание не должно быть спонтанным, и оно не должно длиться вечно. Это элементарная забота о правах и достоинстве человека.
Кроме смертной казни посредством побития камнями, бичевание кажется единственным типичным физическим наказанием в израильском законе. В отличие от прочих древних ближневосточных кодексов, которые предписывали отсечения конечностей и сажание на кол в качестве наказания за ряд преступлений (особенно сексуальных), физическое увечье в качестве наказания не встречается в ветхозаветном законе, кроме достаточно странных и относительно нехарактерных обстоятельств (Втор. 25, 11–12).[265]
Израильский закон не предписывает никакой формы заключения, хотя это было особенностью позднего монархического обычая. Когда подумаешь о некоторых ужасных особенностях и долгосрочных последствиях нашей собственной цивилизованной тюремной системы, то, по крайней мере, можно доказать, что принудительный труд, предписанный Ветхим Заветом за некоторые проступки (например, невозмещаемая кража или долг) был, исходя из гуманных оснований, предпочтительнее заключения. По крайней мере, раб все еще был свободен наслаждаться своей семейной жизнью, оставался в общине, участвовал в сезонных праздниках, жил нормальной полезной жизнью наряду с остальной общиной, что невозможно в заключении.
Также в ветхозаветном законе нет намека на какую–либо градацию наказаний согласно социальному классу и рангу пострадавшей стороны. В месопотамском законе оскорбление вельможи обычно влекло за собой более тяжелое наказание, чем идентичное оскорбление простолюдина или раба. В Израиле, напротив, равенство перед законом всех социальных групп, включая пришельцев и иммигрантов, ясно выражено в Исх. 12, 49, Лев. 19, 34 и Чис. 15, 16. Согласно кодекса Хаммурапи, если рухнул дом и раздавил насмерть сына хозяина дома, тогда должен быть предан казни сын строителя дома (а не сам строитель). Текст же Втор. 24, 16 запрещал это принципиально, а в законе о бодливом воле (опять!) ясно сказано, что наказание должно быть неизменно, даже если вол убил сына или дочь (Исх. 21,31).
Изучение уголовных наказаний, в особенности в Книге Второзакония, демонстрирует некие ясные и позитивные принципы, исходя из которых действовали израильские наказания. Если взять в качестве основных примеров Втор. 19, 18–20 и 25, 1–3, можно увидеть следующие компоненты наказания:
• Воздаяние. Ответчик должен понести справедливое наказание. Это значение и оправдание принципаlex talionis («око за око» и пр.). Вопреки распространенному и достаточно ошибочному употреблению фразы в значении неограниченной мести, это был простой, почти метафорический, способ установления пропорциональности наказания. Это был закон ограничения, предотвращающий чрезмерные или мстительные наказания. Это был доступный способ сказать, что наказание должно соответствовать преступлению.
• Очищение. Вина должна быть «смыта», удалена от взора Божьего.
• Удержание. «Услышит весь Израиль и убоится»; то есть будет бояться поступать так же.
• Восстановление. Нарушитель оставался братом и не должен был быть унижен.
• Компенсация. Возмещение приносилось потерпевшей стороне, а не государству в виде штрафа.
Как иллюстрацию некоторых из этих пунктов, и способ, в котором внимательное изучение законов (как противостоящее опрометчивому отклонению их странности) может вывести на свет ценности и принципы, имеющие непреходящую важность, возьмем пример, который с первого взгляда кажется крайне бесполезным — закон, предписывающий наказание непокорного сына во Втор. 21, 18–21. Если мы внимательно изучим текст и контекст, можно заметить следующие положения:
1. Предшествующие стихи говорят о праве первородного сына, защищая его от прихоти отца, который мог демонстрировать расположение к другому ребенку. Этот закон является своего рода балансом, демонстрирующим, что сыновья несут взаимную ответственность перед своим отцом и семьей. Существует баланс прав родителей и детей в отношении друг друга. Сыновья не должны страдать от предпочтений отца; однако родители не должны страдать от мятежной расточительности сына.
2. Закон предполагает необходимость семейного наказания, потому что дело представляется старейшинам только после того, как продолжительное время родительское наказание игнорировалось. Тем не менее, закон показывает, что иногда даже наиболее усердное родительское наказание разбивается о скалы непослушания.
3. Закон является ограничением сферы семейного права. То есть отец не имел власти над жизнью и смертью своих собственных детей: столь серьезный случай должен быть представлен всему сообществу согласно гражданского права. Родители могут и обязаны разрешать некоторые вопросы, но жизнь детей была вне сферы данной им законной власти.
4. Таким образом, закон признает важную роль гражданского права и общественных властей в семейных делах, когда они достаточно серьезны, чтобы угрожать всему остальному сообществу.
5. Дальнейшая защита сына, несмотря на его вину, требует, чтобы оба родителя выдвинули обвинение; сын не пострадает от злого умысла одного родителя. «Его отец и мать» упоминается дважды.
6. Описанный проступок серьезен. Это не просто случай непокорного, резкого ребенка, но почти нет сомнений, что это неконтролируемый молодой взрослый человек. Закон уточняет несколько проступков, включая упрямство, непокорность,[266] продолжающееся непослушание, пьянство и асоциальное поведение. Подобное поведение способствовало расточению имущества семьи, и было заразительно плохим примером. Если сын в этом законе был первородным (как в непосредственно предшествующем законе), тогда его неисправимое сумасбродство подвергало опасности всю семью и ее будущее. Ведь если он ведет себя так, будучи младшим, что станет с имуществом семьи, если он унаследует его? Как раскрывает ветхозаветный закон в других местах, благополучие каждой семьи было заботой всего сообщества. Вот почему этот случай становится проблемой сообщества, а не просто внутренним семейным вопросом. Подобное поведение угрожало израильской семье, а если на него не обращали внимания, то оно угрожало и всему сообществу.
7. Наказание отображает серьезность проступка для Израиля. Это было преступление против завета (нарушение пятой заповеди) и поэтому против самого Бога. Оно грозило навести суд на все общество завета и, следовательно, должно быть искоренено. Конечно, мы осознаем, что ни одно государство в настоящее время не находится в таких же теократических или заветных отношениях с Богом, как Израиль. Поэтому форма наказания и уголовная ответственность, безусловно, не может быть оправдана для такого же поведения сегодня. Тем не менее, законное наказание описанного проступка в Израиле тех времен сигнализирует о серьезности его характера (закоренелое, расточительное и разрушительное асоциальное поведение) и предполагает, что есть все основания для определенной степени суровости и устрашения в предписаниях закона на серьезные преступления взрослых детей.
Права и обязанности
Еще одна особенность израильского закона в Ветхом Завете, которую стоит отметить — это то, как он отдает приоритет человеческим правам перед строгими юридическими правами и притязаниями. Это еще одни аспект общего принципа, гласящего, что люди важнее вещей, но он более утонченный. Он утверждает, что некоторые права людей и обстоятельства важнее (порождают большую нравственную неотложность), чем законные претензии других людей. Несколько примеров проиллюстрируют данный пункт:
1. Права беглого раба в противовес претензиям его господина (Втор. 23у 15–16). Как отмечалось в разных местах, это в высшей степени контркультурный закон. Во всех остальных сообществах, в которых существовало рабство, приоритет отдавался законным правам и притязаниям владельца раба. Бегство и укрывательство раба рассматривалось как правонарушение. Тем не менее, Израиль не только запрещает отсылку рабов назад, но повелевает, чтобы рабу было разрешено найти убежище там, где он выберет.[267] Отдается приоритет потребностям слабого перед законным правом более сильного.
2. Права пленной женщины в противовес правам воина (Втор. 21,10–14). Вот еще один закон, который при первом чтении заставляет нас поморщиться. Мы хотим сказать, что войн не должно быть, также не должно быть военнопленных, и женщин не должны захватывать. Вне всякого сомнения, так и должно быть. Однако мир Второзакония таков, что подобное было в нем действительностью, поэтому благодаря пастырскому характеру закона, условия человека, которого настигала неудача, смягчались. Следовательно, закон позволял победившему воину выбрать из пленников женщину, но прежде всего он должен взять ее как законную жену со всеми обязанностями и правами, которые это возлагало на них. Это могло заставить его остановиться и серьезно подумать о последствиях своих действий. Насилие или рабство исключались. Даже сделав ее своей женой, он должен был дать ей целый месяц на адаптацию после психологической травмы, прежде чем он сможет осуществить обычное сексуальное право жениха. Среди ужасов войны закон отдает предпочтение потребностям ранимых (женщины, пришельца, пленника) перед обычными правами могущественных (мужчины, воина, победителя, мужа).
3. Права должника в противовес законным притязаниям заимодавца (Втор. 24, 6.10–13). Ветхий Завет поощряет предоставление займов бедным. И предоставление займа требует гарантий. То есть заемщики должны предоставить равные залоги по займам, которые им выдаются. Такова экономическая реальность, которая также принималась в Израиле. Однако похоже, что закон снова ассоциирует себя со слабой стороной, требуя от заимодавца уважать потребности должника. С одной стороны, должник нуждается в хлебе насущном, так что заимодавец не должен лишать его средств для приготовления пищи (домашний жернов). С другой стороны, у должника есть потребность в крове и тепле, поэтому заимодавец не должен брать в качестве гарантии основную одежду. И даже потребность нищего в уважении к его частной жизни должна соблюдаться: заимодавец не должен вторгаться в жилище должника, но должен оставаться вне дома и позволить должнику выбрать, что он даст в качестве залога. Подобные законы могут казаться не очень значительными, однако они учитывают потребности человека и смягчают осуществление законных прав и притязаний.
4. Права безземельных в противовес законной собственности землевладельца (Втор. 24, 19–22). Закон об остатках на полях, в оливковых рощах, виноградниках также встречается в Лев. 19, 9–10. Те, кто владел землей и закончил всю тяжелую работу по очистке, вспахиванию, посеву и уборке урожая, чувствовали, что достойны 100% результатов своего труда. Однако эти предписания нейтрализуют подобное отношение и напоминают израильскому землевладельцу, что Господь является верховным землевладельцем и может требовать, чтобы все израильтяне могли «есть и насыщаться». Таким образом, потребности безземельных нищих удовлетворяются посредством предоставления им свободы собирать остатки того, что оставляют жнецы, собирая урожай. И вновь потребность человека выходит на передний план в качестве нравственного приоритета, который низводит личные блага землевладения. К этим законам можно было бы добавить похожие постановления, которые ставят потребности голодных людей выше прав частной собственности, позволяя им утолить голод в поле или винограднике ближнего, не выходя за определенные рамки (Втор. 23, 24–25).
Не вызывает сомнения, что все эти установления были~подвер:жены злоупотреблениям: то ли сами нищие выходили за рамки, то ли состоятельные их просто игнорировали. Однако отношение и принцип, лежащий в их основе, представляется ясным и важным: закон создает такой дух в обществе, где даже сам он со всеми правами и привилегиями, которыми он наделяет людей, должен отойти на второй план там, где на первый выходит человеческая нужда. В израильской шкале ценностей действует ситуационная динамика, которая отражается в их сводах законов. Это, несомненно, отражает именно то, что мы признали истинным в последней главе в связи с пониманием Израилем праведности и справедливости.
Богословские размышления
В начале этой главы я настаивал на необходимости разработать понимание ветхозаветного закона в историческом контексте, а не навязывать ему догматические рамки, выкованные в спорах новозаветной эпохи, или поздние формулировки христианских традиций. Однако теперь, закончив свою, далекую от совершенства, попытку сделать обзор некоторых аспектов закона, функционировавшего в израильском обществе, сделаем шаг назад и поразмышляем богословски о значимости этого материала в отношении ко всему канону Писания, включая Новый Завет. Какие богословские предпосылки лежат в основе использования ветхозаветного закона в христианской этике? Сложно найти вопрос, который был бы более открыт для многих взаимно противоречащих ответов. Простое перечисление вариантов потребовало бы еще одной главы (и действительно, двенадцатая и тринадцатая главы ниже предлагают некоторые из них). Поэтому все, что я могу сделать, это представить то, что мне кажется руководящими предпосылками способа, с помощью которого, как я думаю, христианин может использовать ветхозаветный закон для своей миссии и этики в Божьем мире. Таким образом, ниже следует личный взгляд, представленный в надежде, что читатель будет подражать примеру верующих из Верии, серьезно разбирая Писания, чтобы увидеть, истинно ли это (Деян. 17, 11). Вот какие вопросы следует поставить: согласуется ли данный подход со свидетельством всего канона? Будет ли полезно и плодотворно позволить ветхозаветному закону влиять на наши нравственные споры и дилеммы? Я привожу некоторые базовые предпосылки, которые направляют меня, как христианина, обращающегося к ветхозаветному закону. Этот список обобщает некоторые из ключевых взглядов, которые уже были сформулированы в других частях книги, в частности, в первой и второй главе.
Герменевтика и канонический контекст
1. Авторитет и важность Ветхого Завета для христиан. Я принимаю 2 Тим. 3,15–17 в качестве аксиоматического отправного пункта для канонического размышления о законе: «ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Этот текст заявляет, что Писания (под которыми подразумеваются Писания Ветхого Завета, включающие, несомненноtora) являются «богодухновенными». Из–за этого божественного происхождения они являются спасительно действенными и этически уместными. Этот новозаветный текст соглашается с неявным утверждением двойного авторства закона (божественного и человеческого), которое встречается в Ездр. 7, 6: «в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев». Поэтому вопрос не в том, имеет ли Ветхий Завет авторитет и важность для нас, христиан, но как этот данный авторитет должен применяться. Вопрос о том, как нам следует понимать значение авторитета в отношении Ветхого Завета, обсуждается более подробно ниже, в четырнадцатой главе.
2. Единство Писания. Я не пытаюсь категорично утвердить единство двух заветов или не заметить разнообразие в заветах и важных событиях между ними. Напротив, я верю, что органическое единство и непрерывность Божьего откровения и искупительной деятельности в истории, от призвания Авраама до пришествия Христа, является фундаментальным ключом к пониманию всего великого повествования библейского канона. Это всеобъемлющее единство повествования — более великая реальность, чем исторические эпохи, заветные формулировки и изменение культурных контекстов на каждой стадии его осуществления. Поэтому распознание единства повествования имеет герменевтический приоритет над изолированием его частей. По аналогии можно указать на единство и непрерывность отдельной человеческой жизни. Попытка понять человека, ту уникальную, объединяющую непрерывность живого существа важнее, чем множественные отличия контекста, понимания, мотивов, поведения и тому подобного, что отмечает каждый период жизни человека: младенчество, детство, отрочество, зрелость, старость. Несомненно, имеют место существенные отличия каждой стадии повествования. Но именно цельность и единство всего повествования моей жизни делает меня тем, кто я есть.
Более того, важно подчеркнуть, что этот рассказ является нашим рассказом. Быть христианином — значит помещать себя верою в повествование Библии, одновременно с благодарностью оглядываясь на все, совершенное Богом для нашего спасения, и с верой глядеть вперед на все то, что, как утверждает рассказ, ожидает впереди Божий народ и Божье творение. Таким образом, сказанное и совершенное Богом в ветхозаветном Израиле имеет значение для нас, христиан, потому что это часть того, как мы были спасены. Это часть нашей истории, истории спасения человечества и самого творения. Следовательно, подобным образом то, что Бог требовал от Израиля этически, должно также говорить к нам, по причине нравственной последовательности Бога и единства народа Божьего, к которому мы принадлежим вместе с ним.
Признав базовое единство и непрерывность, мы также должны признать некоторые отличия, и рассматривать их в должной перспективе. Мне представляется, что в библейской этике существует прерывность и непрерывность в отношении закона, который аналогичны прерывности и непрерывности в библейском богословии в отношении искупления. В связи с историей искупления мы можем увидеть связь между новым во Христе и прежним. Мы можем сказать вместе с Петром: «Это (события Пасхи и Пятидесятницы) есть то (о чем говорили пророки)» (Деян. 2, 16, курсив автора). Также мы знаем, что ни мы, ни наши предки не были непосредственно освобождены из египетского рабства (прерывность), но мы признаем искупительную цель того же Бога, победе которого через крест и воскресение Иисуса мы приписываем свое собственное искупление (непрерывность). Следовательно, мы можем использовать историю и метафоры исхода, чтобы описать свой опыт спасения. Мы не причастны к рассказу исторически (прерывность), но мы точно причастны к нему духовно и еще полнее во Христе (непрерывность).
Подобным образом, в связи с законом и этикой, мы можем не иметь вола, молотящего кукурузу у нас во дворе, поэтому мы не чувствуем, что буква Втор. 25, 4 адресована к нам и обязывает нас (прерывность). Тем не менее, мы можем понять цель этого закона и принять действующий в нем нравственный принцип: работающему животному следует позволить питаться тем, что оно производит для вашего стола. Поэтому мы можем понять христианское применение, сделанное Павлом в определенной ситуации в 1 Кор. 9, 7–12, относящего принцип закона к трудящимся миссионерам. «Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано… Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо…» Герменевтическая посылка Павла состоит в том, что мы можем распознать нравственную волю того же Бога за конкретным, культурно обусловленным израильским предписанием и принципом, который он применяет к практическим правам и обязанностям в христианской церкви (непрерывность).
3. Приоритет благодати. Основанием библейской веры и этики в обоих заветах является Божья благодать и искупительная инициатива. Закон не был дан как средство спасения, но как дар благодати тем, кого Бог уже избавил.[268] Это отсылает нас обратно к важности повествовательного контекста, в котором дан закон (или, более точно, повествовательная структура всего, что Израиль считал Торой). Потому что это повествование в основе является повествованием благодати — благодати верности Господа своему обетованию, сострадания Господа к своему страдающему народу, его праведного суда над их угнетателями, а также поддержки и защиты силой Господа в пустыне. Как я подчеркивал в первой главе, важно размещать любое исследование ветхозаветной этики (включая закон) в этих рамках. В противном случае неизбежны искажения. В предписаниях отцу о том, как следует отвечать на вопрос своего сына о значении закона во Втор. 6, 20–25, суть значения закона кроется в евангелии — древней истории о Яхве и его любви.
Другой способ сказать об этом — отметить, что ветхозаветный закон был заветом. То есть заветные отношения лежали в основании и предшествовали самому закону. Весь закон, особенно обобщение в Книге Второзакония, вмещает и вертикальное, и горизонтальное измерения, неотъемлемые для завета: искупительная инициатива Бога и ответное послушание Израиля, выраженное в любви к Богу и друг к другу.
Это заветное отношение также становится мостом между статусом закона в Ветхом Завете и его использованием (особенно Декалога) в Новом. Мы имеем дело не с некой универсальной нравственностью, навязанной Израилю и церкви извне. Скорее непрерывность отношений Бога и Божьего народа, и характер этих отношений, являются неизменным фактором. Хотя мы говорим о Ветхом и Новом Заветах, в обоих случаях первичное действие одного и того же Бога в искупительной благодати требует нашего ответа любви и нравственного послушания.
Во Христе нам дарованы близкие заветные отношения с Богом, на которые указывал ветхозаветный закон. Даже опыт подобных отношений до Христа наполнял набожного израильтянина радостью. Нам необходимо вновь напоминать себе (как в начале данной главы), что древний израильтянин смотрел на закон не как на бремя, а как на дар благодати, удовольствие, именно из–за теплых и личных отношений с Господом (см. Пс. 18; 118). Но также во Христе эта часть обетования нового завета, связанного с законом, исполнилась в нас:
вложу закон Мой во внутренность их
и на сердцах их напишу его.
(Иер. 31, 33)
Таким образом, хотя мы, христиане, больше «не под законом» (Рим. 3, 19; 6, 14) (мы не связаны законом старого завета как определяющим знаком нашей принадлежности к этническому обществу древнего Израиля), все же мы не «чужды закона» (1 Кор. 9, 21) (как будто закону нечего сказать нам о нашем поведении). Скорее сила пребывающего Духа делает возможным, «чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих … по духу» (Рим. 8, 4; курсив автора). Пребывание Духа вместо того, чтобы лишить нас всякой связи с законом, на самом деле делает способными жить так, как закон изначально предназначал жить израильтянам. И главным плодом Духа является любовь, исполняющая закон, особенно Десять заповедей (Рим. 13, 8–10). Ведь любить Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя, составляет саму суть закона и пророков. Однако и то, и другое, в конечном счете, возможно только в рамках свободы новых заветных отношений во Христе и в силе Духа; другими словами, только на основании Божьей благодати. Таким образом, закон имеет пребывающую богословскую и этическую значимость, как заявил сам Христос (Мф. 5, 17–20). Это происходит не из–за того, чем в сущности является закон, а из–за того, выражением и ответом на что он был — искупительные, заветные отношения с Богом, основанные на его инициирующей благодати.[269]
4. Миссия Израиля. Было использовано немало чернил (и нужно добавить также: много крови, пота и слез) в попытках ответить на вопрос (с христианской точки зрения): «Зачем закон?» Ответ был бы более прямым, если бы мы остановились, чтобы прежде задать вопрос: «Зачем Израиль?» Ведь чтобы понять цель закона, важно прежде задаться вопросом о роли Израиля в божественном плане. Ведь Бог дал этот закон именно Израилю. Это возвращает нас обратно к аргументации о миссии Израиля, развитой во второй главе. Бог создал и призвал Израиль с целью осуществить свою цель благословения народов. Это и есть кульминация завета с Авраамом в Быт. 12, 1–3, и фраза неоднократно повторяется в Книге Бытия. Существовала вселенская цель самого существования Израиля. Преданность Бога завету с Израилем зависела от Божьей преданности всему остальному человечеству и была также ее выражением. Следовательно, что Бог сделал в Израиле, для него и через него, в конечном счете было направлено на благо всех народов. И более того, что Бог требовал этически от Израиля, имело такую же вселенскую связь. Быт. 18, 19 ясно говорит об этом, связывая воедино в одном предложении Божье избрание Авраама, этическое требование ходить путем Господним, творя правду и суд, и высшую миссионерскую цель — благословить все народы, как было обещано. Другими словами, избрание Израиля со всеми его специфическими особенностями не только имеет вселенскую цель, но также ведет к ясной и особенной нравственной задаче Божьего народа в мире как части условия, чтобы эта цель осуществилась.
Если предыдущий пункт имел ретроспективный взгляд (что закон должен быть помещен в контекст повествования о Божьих исторических деяниях избавления ради Израиля), этот пункт имеет перспективу (что закон должен быть помещен в контекст Божьей эсхатологической миссии благословения народов).
5. Функция закона в связи с миссией Израиля. Следовательно, если такова была цель Бога в призвании Израиля (чтобы он стал инструментом его намерений в отношении народов), дарование закона следует рассматривать как то, что послужит этой широкой цели. Исх. 19, 1–6 служит ключевым текстом этого пункта. Приходясь на переломный момент между исходом, а также дарованием закона и заключением завета, он одновременно обращается и в прошлое, и в будущее. Он указывает в прошлое на инициативу Божьей искупительной благодати («вы видели, что Я сделал…») как важный контекст послушания закону (что также делает Декалог). Но далее он также указывает в будущее, наделяя Израиль идентичностью и ролью священников и святого народа среди всех народов на всей земле. Послушание закону завета должно было, таким образом, дать Израилю способность быть святым, то есть другим, отличным от народов. Но в то же самое время, как священник Бога, Израиль должен быть учителем, образцом и посредником для народов. Следовательно, соблюдение закона не было для Израиля самоцелью, но было связано с самой причиной их существования — Божьей заботой о народах. Втор. 4, 5–8 помещает социальную справедливость Израиля на открытую сцену мира народов, где этическая система Израиля была бы видимой всем прочим народам и вызывала бы у них восхищение и вопросы.
Итак, если мы спросим, был ли ветхозаветный закон дан непосредственно Израилю и исключительно для них, или он должен был в некотором смысле относиться также и к другим народам, ответом будет: и то, и другое. Но здесь необходимо осторожное уточнение: закон не применялся к иным народам прямо, однако это не означает, что он не имел к ним вообще никакого отношения. Напротив, закон был дан Израилю, чтобы сделать его способным жить в качестве образца, как свет для народов, чтобы в пророческом видении закон дошел до народов, или народы пришли научиться ему от Господа посредством Израиля (Ис. 2, 2–5). Бога, который как искупитель даровал закон Израилю — своему «роду избранному», также знали как Творца и Владыку всех народов. Закон основывается на предпосылке ответственности Израиля перед Господом, его сюзереном согласно завету. Однако за этим стоит аксиома ветхозаветной веры в сотворение, что все народы нравственно подотчетны Господу как единому живому Богу всего творения и истории (см. Пс. 33, 8–15).[270]
6. Израиль и его закон как парадигма. Таким образом, учитывая, с одной стороны, роль Израиля в связи с Божьей целью в отношении народов и, с другой стороны, функцию закона в связи с этой миссией Израиля, мы можем увидеть, что закон был задуман (наряду со многими другими аспектами исторического опыта Израиля), чтобы переплавить и сформировать Израиль в определенных, четко сформулированных направлениях в их собственном историческом и культурном контексте. Этот всеобъемлющий социальный облик с его судебными и организационными структурами, этическими нормами и ценностями, а также богословским обоснованием становится моделью или парадигмой, которая должна была иметь значимость и применение за географическими, историческими и культурными рамками Израиля.[271] Следовательно, особенность Израиля становится не преградой широкому применению, но на самом деле служит ему. Нет нужды повторять объяснение моего понимания «парадигмы» (см. вторую главу). Мой тезис здесь состоит в том, что парадигматический характер Израиля не просто герменевтический инструмент, изобретенный нами ретроспективно, но, говоря богословски, был изначально частью Божьего замысла создания и формирования Израиля.
Таким образом, в самом Ветхом Завете присутствует понимание, что закон, уникальным образом данный Израилю как особенному народу, имел широкое применение к остальному человечеству. То есть мы полагаем, что если Бог дал Израилю специфические установления и законы, они основывались на принципах, которые имеют универсальное значение. Это не означает, что христиане попытаются навязать при помощи закона в светском государстве постановления, взятые непосредственно из законов Моисея. В действительности это означает, что они будут действовать, чтобы привести свое общество в соответствие со всеобъемлющими принципами, лежащими в основании конкретных законов ветхозаветного общества, потому что они считают, что один и тот же Бог был избавителем и законодателем Израиля, а также Творцом и Владыкой всех людей. Следовательно, этот подход сосредоточен на значении, а не просто применении ветхозаветного закона. Он высвобождает этический потенциал закона, не уходя от задачи выработать современные применения в различных культурных контекстах. Он не гарантирует и не предопределяет результаты подобной деятельности, однако оправдывает и даже делает необходимой саму задачу.
Этика и современный контекст
Как же нам теперь подойти к этой задаче? Какие шаги нам следует предпринять в поисках перехода от мира ветхозаветного закона к миру современных этических задач и решений? В соответствии с путем, которым мы шли до сих пор в этой главе, первые три шага, описанные ниже, относятся к миру ветхозаветного Израиля с целью понять закон, который мы изучаем изнутри. Только затем, в четвертом шаге, мы намеренно выходим из того мира в наш мир, чтобы раздумывать над современной значимостью.
1. Определите различные виды закона в тексте. Здесь мы возвращаемся ко второму основному разделу, описанному выше, и пытаемся классифицировать любой данный закон или группу законов, которые мы изучаем, согласно различным видам законов, существовавших в израильской культуре. Это не всегда может быть понятным, более того, может казаться, что некоторые законы соответствуют более чем одной категории. Но это не имеет большого значения. Сама задача поможет нам обрести лучшее понимание закона в его контексте. Важно то, что для использования Ветхого Завета в этике мы должны сначала войти в него и понять закон с социальной перспективы Израиля. Совершенно ясно, что мы не найдем отдельную, текстуально изолированную категорию нравственного закона как такового. Но мы встретим нравственную мотивацию, обоснование, задачи и ценности, иногда выраженные, иногда подразумеваемые, в каждой категории распознанных нами законов.
2. Проанализируйте социальную функцию и относительный статус определенных законов и установлений. Имея дело с любым конкретным законом, мы должны задаться вопросом, как он связан с общей социальной системой Израиля и функционировал в ней. Занимает ли он центральное или периферийное место в связи с главными темами и социальными задачами, которые мы находим в остальном материале? Является ли он первичным выражением ключевых ценностей и приоритетов, или он усиливает другой подобный закон? Это модификация или вторичное применение? Здесь нужно учитывать понимание всего социального облика Израиля. Он также обозначает важность признания израильской шкалы ценностей, которая обсуждалась выше. Подобное исследование оберегает нас от бездумно одинакового рассмотрения любого текста и помогает выделить те законы или ценности, которые имели больший приоритет в самом Израиле. Это должно обеспечить нас некоторыми правилами в нашей собственной шкале относительных нравственных ценностей. Это поможет нам организовать и расставить приоритеты тех этических заключений, которые мы хотели бы сделать из конкретных текстов. Это также поможет избежать склонности перескакивать непосредственно от отдельно взятого текста закона к вопросу «Как этот текст (изолированный) применяется к современному обществу?»
Подобная аналитическая и описательная работа не дается легко. Она требует понимания ветхозаветной экономики, политики, социологии, истории права и тому подобного. Однако не существует легкого пути к правильному пониманию исторического контекста израильского закона, если мы серьезно относимся к тому способу, которым Бог даровал нам свое слово.[272] В этой связи ветхозаветная этика должна учитывать весь социальный мир Израиля таким же образом, как новозаветная этика рассматривает не только библейский текст, но весь социальный, экономический и политический контекст первых христиан.[273]
3. Определите цель (цели) закона в израильском обществе. Законы в любом обществе создаются с определенной целью. Законы защищают интересы. Законы ограничивают власть. Законы пытаются сбалансировать права различных — и, возможно, конкурентных — групп в обществе. Законы продвигают социальные цели согласно представлению законодателей о том, каким они желают видеть идеальное общество. Итак, в свете понимания израильского общества нам следует максимально точно сформулировать задачу отдельно взятого закона. Другими словами, мы пытаемся понять, почему этот закон был там? Лучше всего это сделать, поставив ряд вопросов к изучаемым законам, и попытаться отождествить и сформулировать вероятные ответы. Не забывая древний библейский Израиль, подобные вопросы могли бы включать следующее:
• Какого рода ситуации этот закон пытался помочь или воспрепятствовать?
• Чьи интересы стремился защитить этот закон?
• Кто получил бы преимущества от этого закона и почему?
• Чью власть пытался ограничить этот закон и как он это делал?
• Какие права и обязанности были воплощены в этом законе?
• Какого рода поведение поощрял или порицал этот закон?
• Какое представление об обществе стимулировал этот закон?
• Какие нравственные принципы, ценности или приоритеты воплощал или иллюстрировал данный закон?
• К какой мотивации апеллировал данный закон?
• Какие санкции или наказания (если таковые есть) связаны с этим законом, и что это показывает в отношении его относительной важности или нравственного приоритета?
Конечно, бывает, что неясность некоторых законов ставит в тупик подобную постановку вопросов. Мы можем продолжать сомневаться, действительно ли поняли задачи и обоснование некоторых законов. Однако это происходит, как правило, в относительно немногих случаях. Чаще простая постановка подобных вопросов и размышление о возможных ответах порождает более утонченное понимание цели израильских законов в их контексте, а затем делает возможным более целенаправленное применение этих законов, когда мы переходим к заключительному шагу.
4. Сохраните задачу, но смените контекст. Наконец, переходя от ветхозаветного мира обратно к нашему миру, мы можем задать параллельную группу вопросов о нашем контексте. В свете проблем, которые мы наблюдали в социальном контексте древнего Израиля, и того, как законы решали их, мы можем пытаться отождествить похожие ситуации, интересы, потребности, силы, права, поведение и тому подобное, к которым следует обратиться в нашем обществе. Затем в этом новом контексте (современный нам мир) мы спрашиваем, как можно исполнить задачи Ветхого Завета или как можно сделать, чтобы наши социальные этические задачи могли указывать в том же направлении. На данном этапе мы, конечно, не сможем избежать вхождения в сферу конкретной политики и действия в нашем мире. Также будет оставаться пространство для различных мнений и разнообразных политических выборов и нравственных решений. Тем не менее, теперь мы подходим к нашему контексту, вооруженные не просто крайне обобщенными и абстрактными принципами, но более остро сформулированными задачами, взятыми из той модели общества, к которой Бог призвал Израиль.
Подобная процедура может помочь преодолеть, с одной стороны, пропасть между авторитетным библейским текстом, который, как мы часто видим, не может быть непосредственно применен, так как был обращен к чуждому для нас контексту; с другой стороны, пропасть между общими нравственными принципами, которые мы хотели бы называть библейскими, но которые не имеют внутреннего авторитета библейского текста. Авторитет Писания дает нам власть развивать наши этические позиции, политические предпочтения, а также позволяет принимать решения в новых контекстах, к которым Библия не обращается непосредственно. Авторитет Ветхого Завета для этики не предопределяет каждое решение, которое мы должны принять. Но чем точнее мы сможем подчеркнуть особенность Израиля и понять причины тех законов, которые у них были, тем увереннее мы можем принимать санкционированные этические решения, которые правомочны в пределах данного нам Богом образца.
Ограничения закона для этики
Наше последнее размышление о нравственной значимости закона является предостерегающим. Там, где есть решительное стремление избежать требований закона, последний уже не может охранять справедливость и праведность общества. Об этом было известно и в Ветхом Завете. Это привносит долю отрезвляющего реализма для тех, кто считает, что забота о социальной справедливости заключается исключительно в законодательной реформе, как будто отменить тот или иной закон закон или издать новый было бы достаточно для этики. Но это ни в коей мере не отвергает ценность деятельности христиан в сфере законодательной реформы. Мы видели глубину Божьей заботы, засвидетельствованной в Ветхом Завете, о том, чтобы законы любого общества отражали справедливость и сострадание. Я хочу подчеркнуть, что сохранить или реформировать общество силой одного закона — невозможно. У Гордона Уэнхема (Gordon Wenham) есть полезное размышление о том отличии, которое нам следует проводить между этическими идеалами и социальным законодательством.
Во многих странах разница между тем, что требует закон, и тем, чего желает большая часть населения, — огромна. Между нравственными идеалами и законом существует некая связь, однако закон имеет тенденцию представлять собой компромисс между идеалами законодателей и тем, что может быть реально осуществлено на практике. Закон проводит в жизнь минимальные стандарты поведения… этика — больше, чем простое соблюдение закона. Если сформулировать это библейским языком — праведность больше, чем просто жизнь согласно Декалогу и другим законам в Пятикнижии?[274]
В Ветхом Завете существует три аспекта данного понимания. Во–первых, справедливые законы могут использоваться несправедливо, или просто игнорироваться. Ам. 2, 6 обвинял беспринципных заимодавцев в действиях, которые, по всей видимости, были законными в техническом смысле. Люди попадали в некую форму долгового рабства в качестве залога за неоплаченные долги. Закон разрешал это. Однако, похоже, это также применялось и к мелким долгам, с черствым равнодушием по отношению к бедным и их семьям. Подобным образом заимодавцы, с которыми спорил Неемия (Неем. 5, 1–13), вероятно, алчно использовали судебную процедуру выкупа земли у обнищавших родственников для своей пользы. Неемия взывал к их совести, а не к суду или какому–либо судебному постановлению (которое, кроме того, запрещало давать в рост, что еще более отягчало бремя и быстрее ввергало народ в долговое рабство).
Во–вторых, те, кто обладал достаточной властью и влиянием, могли принимать несправедливые законы в свою пользу. Угнетение может обрести вид законности благодаря беспринципным законодателям. Исайя наблюдал это чрезвычайно горькое бремя, которое несли угнетенные люди его времени:
Псалмопевец выражает похожую жалобу об узаконенном угнетении со стороны развращенных правителей:
В–третьих, простое изменение закона или решение начать исполнять уже существующий недостаточно, если несправедливость успела пустить глубокий корень и стала чувствовать себя как дома во всех общественных институтах. В Иер. 34, например, богатые и власть имущие оказались неспособными выполнить данное ими обещание повиноваться древнему закону об освобождении рабов, даже после неоднократных пророческих призывов и неудавшейся попытки сделать это. По всей видимости, все предприятие оказалось слишком дорогостоящим, чтобы продолжать его, и их экономически настроенные умы заставили замолчать ставшие на мгновение благотворительными (и послушными) сердца. Это единственный случай, когда пророк стал на сторону осуществления определенного положения закона в обстоятельствах социального и экономического угнетения. По большей части пророки видели для народа только две возможности: либо прямой суд Бога над развращенным и неисправимым обществом, либо духовная перемена сердца, которую мог дать только Бог (Иез. 18, 31; 36, 26–27).
Итак, мы вновь видим первичную необходимость познания Божьей благодати, искупительной или восстанавливающей, для того, чтобы утвердилась, поддерживалась или была восстановлена подлинная социальная справедливость. Сам по себе закон не может достичь этих целей. Справедливость исходит от познания Бога, а не просто от познания закона.
Дополнительная литература
Barr, James, 'Biblical Law and the Question of Natural Theology', in Timo Veijola (ed.), The Law in the Bible and in Its Environment (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990), pp. 1 — 22.
Bruckner, James K., 'The Creational Context of Law before Sinai: Law and Liberty in Рге–Sinai Narratives and Romans 7',ExAuditu 11 (1995), pp. 91 — 110.
Clements, R. E. (ed.). The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
Gemser, В., 'The Importance of the Motive Clause in Old Testament Law', in Congress Volume in Memoriam Aage Bentzen, Supplements to Vetus Testamentum, vol. 1 (Leiden: E.J. Brill, 1953), pp. 50 — 66.
Gerstenberger, Erhard, "'… He/They Shall Be Put to Death": Life–Preserving Divine Threats in Old Testament Law', ExAuditu 11 (1995), pp. 43 — 61.
Greidanus, Sidney, 'The Universal Dimension of Law in the Hebrew Scriptures', Studies in Religion 14 (1985), pp. 39 — 51.
Hays, J. Daniel, 'Applying the Old Testament Law Today', Bibliotheca Sacra 158 (2001), pp. 21 — 35.
Hesselink, 1. John, 'John Calvin on the Law and Christian Freedom', Ex Auditu 11 (1995), pp. 77–89.
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach (Louisville, KY:Westminster John Knox, 1994).
Kaiser Jr, Walter C, Toward Old Testament Ethics (Grand Rapids: Zondervan, 1983).
Martens, Elmer Б., 'How Is the Christian to Construe Old Testament Law?' Bulletin for Biblical Research 12 (2002), pp. 199 — 216.
McBride Jr, S. Dean, The Yoke of Torah', ExAuditu 11 (1995), pp. 1 — 15.
Patrick, Dale, Old Testament Law (Atlanta: John Knox, 1985).
Taylor, Robert D, and Ricci, Ronald J., 'Three Biblical Models of Liberty and SomeRepresentative Laws', ExAuditu 11 (1995), pp. Ill — 127.
Tucker, Gene M., The Law in the Eighth–Century Prophets', in Tucker, Petersen andWilson, Canon, Theology and Old Testament Interpretation, pp. 201 — 216.
Wright, Christopher J. H., Deuteronomy, New International Biblical Commentary, OldTestament Series (Peabody: Hendrickson; Carlisle: Paternoster, 1996).
10. Культура и семья
Несмотря на то, что Израиль призван быть святым народом, и Валаам их видел как «народ живущий отдельно и между народами не числящимся» (Чис. 23, 9), важно помнить, что они не были «чистым листом». Израиль не жил в вакууме, отгороженный от остального человечества. Напротив, они были древним народом в мире народов. Они находились на географических перекрестках древних цивилизаций Нила и Месопотамии, влияние которых ощущалось на протяжении всей истории. Кроме того, они жили среди особенной ханаанской, или западно–семитской, культуры, распространенной на восточном Средиземноморье. Поэтому у Израиля и его современников было много общего в культуре, социальных нормах и обычаях. В нашем исследовании нас будет интересовать следующий вопрос: «Как религиозная вера Израиля была связана и взаимодействовала с социальной и культурной сферой жизни?» Этот же вопрос волнует многих миссиологов (к сожалению, он чаще рассматривается в Новом Завете, чем в Ветхом, хотя проблемы, в сущности, те же). Каковы отношения между евангелием (повествованием о спасительном деянии Бога, и всем, что оно означает) и культурой (постоянно изменяющейся системой исторического человеческого существования)?[275]
Простые ответы в столь сложной области чреваты последствиями, однако можно попытаться определить широкий спектр ответов Израиля на окружающую его современную культуру. В одних случаях мы увидим откровенное отрицание и запрет некоторых обычаев, в других — терпимость с аккуратными предписаниями, в третьих — критическую оценку с «добавленной стоимостью» богословского толкования. Мы рассмотрим каждый из этих трех ответов в его ветхозаветном контексте и затем попытаемся определить их важность для христианской этики. Попутно мы подробнее рассмотрим одну особенность человеческой жизни, характерную для всех культур — родство и семью, чтобы увидеть, как Израиль строил богословие и этику вокруг семьи, которая была в центре их общества, и как такие ветхозаветные взгляды соотносятся с Новым Заветом и христианской этикой.
Обычаи под запретом
Некоторые обычаи древних культур, современных Израилю, изображены как мерзкие для Бога и, соответственно, они были запрещены для Израиля. Наиболее ясной формулировкой требования к Израилю отличаться от остальных является двойной запрет в Лев. 18, 3: «По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите».
Большинство этих культурных обычаев, конкретно запрещенных законом, были прямо или косвенно связаны с ханаанской религией, и запреты касались не только их внутренней порочности, но также их связи с идолопоклонством и иными богами. Принятие каких–либо деталей религии Ханаана запрещалось с бескомпромиссной строгостью. Тем не менее, непрекращающаяся борьба пророков с этой проблемой показывает, как сложно было Израилю противиться поклонению древним богам земли.
Отражение ханаанской религии в социальной сфере подвергается такому же осуждению. Практика культовой проституции была вне закона вместе с различными сексуальными извращениями. Все виды оккультной деятельности были запрещены, включая спиритизм, колдовство, некромантию и ворожбу. Вероятно, основание запрета некоторых культурных обычаев, которые кажутся столь странными для нас, находится в их связи с извращенными ханаанскими религиозными культами (например, некоторые формы стрижки волос или бороды, ритуальное членовредительство, ношение одежды противоположного пола и пр.). Наибольший ужас вызывала практика детских жертвоприношений, которые Книга Второзакония считала наихудшим проявлением этого мерзкого поклонения (Втор. 12, 31). Спектр запрещенных обычаев и глубину чувств, направленных против них, можно оценить, прочитав приведенные в подстрочном примечании библейские ссылки.[276]
Во–первых, если бы Израиль впитал эти особенности своего культурного окружения, вместо того чтобы воспротивиться и уничтожить их, он перестал бы быть особенным. А это было бы потерей главной цели их избрания. Как ясно дает понять Втор. 7, 1–10 — заповедь отвергнуть и уничтожить религиозную культуру Ханаана — прежде всего основывалась на том, кем они были — народом, призванным быть святым у Господа (Втор. 7,6). Но это, в свою очередь, основывалось на том, что Бог совершил для них — он избавил их от рабства (Втор. 7, 8). А этот акт Бога, в конечном счете, основывался на необъяснимой любви и верности Бога к ним и их предкам (Втор. 7, 9–10).[277] Они не должны были думать, что произошедшее с ними было благодаря их численному (более того, культурному) превосходству, как раз наоборот. Поэтому, когда в ходе своей истории Израиль действительно шел путем хананеев, со всей его культурной и религиозной деградацией, это было не просто печальным культурным упадком, а фундаментальным богословским отречением. Он отрекался от всего, для чего был избран, призван и избавлен.
Во–вторых, если бы Израиль шел путем хананеев, принимая их мерзкие обычаи, он подверг бы себя такому же божественному осуждению, как и те, кто практиковал их в то время. Земля была готова «извергнуть» хананеев, таким было божественное отвращение к этим аспектам их «культуры» (Лев. 18, 25). Тот же критерий суда относился бы и к Израилю, и земля вполне смогла бы повторить свое очищающее действие (Лев. 18, 28). Святость Израиля и ханаанские обычаи не должны смешиваться.
Ограниченная терпимость
Израиль терпимо относился к некоторым обычаям и обрядам древнего мира, не имея прямого божественного повеления или санкции, но при наличии развивающейся богословской критики считавшей их не соответствующими высшим стандартам Бога. Поэтому обсуждаемые обычаи регулировались юридическими мерами предосторожности так, чтобы смягчить или устранить их наихудшие последствия. В эту категорию для краткого обсуждения можно включить полигамию, развод и рабство. Вероятно, в эту группу можно было бы включить монархию (о которой мы говорили в седьмой главе), как установление позволенное, но не заповеданное Богом, и ограниченное критикой, демонстрировавшей сильное несогласие с тем, как она практиковалась в окружающих культурах.
Полигамия
Полигамия, несомненно, присутствует в Ветхом Завете, но ее масштабы не следует переоценивать. Примеры ограничиваются царями и людьми, которые занимали высокое положение в обществе. Но даже в этих случаях, за исключением некоторых ярких примеров, вроде Соломона, данные свидетельствуют скорее о бигамии, нежели полигамии. Похоже, что все же моногамия была наиболее распространенной среди населения.
Иногда в качестве примеров полигамии приводят патриархов — факт, вызывающий ухмылку у некоторых, когда патриархальные браки приводят в качестве образцов моногамной верности в разделе службы бракосочетания Книги общей молитвы! Все же нам необходимо отличать полигамию (наличие более одной жены) от практики иметь наложниц. Разница может показаться нам несущественной, однако она имела огромное социальное значение в древнем мире. Наложница была рабыней, которую обычно покупали, как и прочих рабов. Отношения наложницы и господина существенно отличались в законодательном и социальном плане от отношений мужа и жены. Помня об этом, мы понимаем, что, строго говоря, на языке древней культуры брак Авраама и Исаака был моногамным. Иаков, по сути, хотел только одну жену, однако в результате ревности и обмана его жизнь была связана с четырьмя женщинами (две жены и две наложницы).
Но «сначала не было так» (Мф. 19, 8). Эти слова, произнесенные Иисусом о разводе, можно в равной степени отнести к полигамии. Ведь повествование о сотворении ясно показывает, что мужчина и женщина должны стать «одной плотью» (Быт. 2, 24). Сюда же можно отнести отрывки из литературы мудрости, которые отстаивают, или, по крайней мере, предполагают верность в моногамном браке (Притч. 5, 15–20; 18, 22; 31, 10–31; Песнь песней). Также моногамия ясно подразумевается, когда брак используется в качестве метафоры исключительных отношений Господа и Израиля. Несмотря на богословское осознание того, что полигамия не соответствует идеалу, в Израиле к ней относились терпимо, как к социальному обычаю. Тем не менее, существовали законы, как мы вскоре увидим, которые стремились ограничить потенциально негативные последствия полигамии для женщин.
Как упоминалось выше, статус наложницы был ниже статуса жены, тем не менее, законные права наложниц были ясно сформулированы в Исх. 21, 7–11. Хозяин не мог перепродать свою наложницу — к ней следовало относиться как к наложнице одного мужчины, а не как к семейной игрушке отца и сына. Если мужчина взял себе другую наложницу, он не мог лишать первую материального обеспечения и сожительства. Если же таковы права наложниц, то права жен в ситуации полигамии не могли быть меньшими. Втор. 21, 10–14 подобным же образом защищает права женщин, взятых в плен во время войны, которые стали женами (первой или второй — не уточняется, однако ясно, что ее должны взять в жены, а не считать рабыней). К этой несчастной женщине следовало относиться гуманно и чутко, а не как к рабыне. Закон о наследстве во Втор. 21, 15–17 неявно признает главное возражение против бигамии, которое состоит в том, что мужчина не может одинаково любить двух женщин, скорее, все кончится тем, что одну из них он не будут любить вовсе. Далее он защищает нелюбимую жену от того, что ее сын будет обесславлен (если он первородный), лишившись своего наследства. Хотя в истории о Елкане и его соперничающих женах (1 Цар. 1) критика двоеженства и не является главной темой, она вполне может быть второстепенной темой. Без сомнения, это яркая иллюстрация того, к каким мукам может привести бигамия. И хотя не это было основной причиной страданий Анны, насмешки другой жены, тем не менее, усугубляли отчаяние.[278]
Развод
Итак, хотя к полигамии относились терпимо, не одобряя ее прямо, но в законе существовали положения, которые были скрытой критикой в ее адрес. С другой стороны, к разводу также относились терпимо, но с последующим явным порицанием. Развод практически вовсе не представлен в ветхозаветном законе по той причине, что в отличие от современного западного обычая ни брак, ни развод не был в древнем Израиле вопросом гражданского права. Они относились к сфере семейного права, которое находилось в юрисдикции главы семейства (см. определения этих категорий права в девятой главе). Мужчине не нужно было идти в суд, чтобы развестись. Законы, которые действительно относятся к разводу, касаются либо тех обстоятельств, при которых развод запрещен, либо регулирования отношений после того, как развод произошел. В обоих случаях представляется, что основная суть закона — защита женщины.
Первый — Втор. 22, 28–29, где мужчине запрещается разводиться с женщиной, на которой он обязан жениться в результате добрачной половой связи. Похоже, закон предполагает, что женщине безопасней будет принадлежать к дому такого мужчины, чем в результате развода оказаться в еще худших обстоятельствах (вероятнее всего, что ее ожидает либо проституция, либо лишения). Второй — установление во Втор. 24, 1–4 — истолкование которого стало предметом спора между Иисусом и фарисеями. Этот закон не предписывает развода, он воспринимает его как данность. Однако закон требует, чтобы мужчина, который разводится, дал жене разводное письмо. Это делалось для защиты женщины — своего рода документальное подтверждение того, что она разведена, поэтому ни ее, ни будущего мужа нельзя обвинить в прелюбодеянии, если она вновь выйдет замуж. Также этот закон запрещал возвращать жену первому мужу, если второй муж тоже разведется с ней или умрет. Вероятно, для таких запретов существовали ритуальное или культурное ограничения,[279] однако их социальное и личное влияние должно было помочь женщине не стать жертвой сексуальной передачи между безответственными мужчинами. Также можно было бы упомянуть случай женщины–военнопленной, которую солдат–израильтянин решил взять в жены. Если позже мужчина, который захватил ее в плен, разочаруется в своем решении, женщина должна получить достойный развод, а не быть проданной как рабыня. Он не должен наживаться на своем положении. В данном случае развод является меньшим злом для женщины. По крайней мере, развод сохраняет хоть какие–то крупицы достоинства и свободы будущего выбора для нее, которых она была бы лишена, если бы ее продали в рабство (Втор. 21, 14).
Таким образом, к разводу также относились терпимо в рамках закона. Но он отходит от Божьего идеала еще дальше, чем полигамия. Малахия бескомпромиссно выступает против развода (Мал. 2, 13–16). Кульминацией этого отрывка является прямое осуждение: «„Я ненавижу развод", говорит Господь Бог Израилев».[280] Против полигамии не выдвигалось подобных безапелляционных суждений, тем более с такой развернутой богословской аргументацией. По всей видимости, это произошло из–за того, что полигамия является своего рода расширением брака за пределы моногамных границ, задуманных Богом, тогда как развод приводит к разрушению брака. Развод покрывает себя обидой, как выражается Малахия. Полигамия умножает связи там, где Бог ожидал моногамных отношений, а развод вовсе уничтожает их.[281]
Рабство
В адрес Ветхого Завета, как и в адрес апостола Павла, было направлено немало критики за терпимое отношение к рабству. Рабство было настолько неотъемлемой частью социальной и экономической жизни древнего мира, современного ветхозаветному Израилю, что сложно понять, как Израиль мог исключить его или отменить. Тем не менее, сразу же следует сказать две вещи.
Во–первых, рабство в относительно небольших сообществах, вроде Израиля, существенно отличалось от рабства в больших имперских цивилизациях — тогдашних древних ближневосточных империях, и особенно в более поздних империях греков и римлян. Там невольничьи рынки были перенасыщены пленниками и переселенцами, а рабов принуждали к унизительной и непосильной работе. И, конечно же, израильское рабство еще существенней отличалось от масштабной работорговли арабов, европейцев и американцев на африканском континенте. Когда мы встречаем слово «раб» в Ветхом Завете, нам следует исключить образы римских рабов на галерах из фильма «Бен–Гур» или образы металлических ошейников, невольничьих суден и сахарных плантаций менее удаленного от нас по времени негритянского рабства. По сути, это не совсем удачный перевод словаcebed, которое в основном означало рабочего–невольника, а в некоторых случаях могло обозначать высокий пост, когда относилось к царским слугам.
В пастушеском и сельскохозяйственном обществе Израиля рабы были, главным образом, постоянными домашними рабочими. Во многих случаях они были должниками, отрабатывающими свой долг невольничьим трудом у своего заимодавца. Они дополняли, но не заменяли труд свободных членов семейства. Глава семейства, его дети, прочие работники и рабы — все трудились вместе. Другими словами, труд рабов не освобождал от физического труда свободных израильтян, как, например, в классической Греции. При условии, что к ним относились гуманно (как требовал закон), о подобном рабстве можно сказать, что оно эмпирически мало отличалось от многих видов наемного труда в экономике с наличным расчетом. Данные свидетельствуют, как мы увидим ниже, что рабы в Израиле имели больше законных прав и защиты, чем в любом современном обществе. Более того, рабы пользовались большей юридической и экономической безопасностью, чем свободные в техническом смысле, но безземельные наемные работники и ремесленники.
Во–вторых, не следует полагать, что к рабству в Ветхом Завете относились терпимо и без критического рассуждения. Отдельные аспекты ветхозаветной мысли и практики в этой сфере практически нейтрализовали рабство как институт и посеяли семена его радикального отвержения, которые проросли в поздней христианской мысли. Несомненно, эти аспекты, к которым мы сейчас обратимся, сделали Израиль явно уникальным в древнем мире в его отношении к рабству. Этот факт единогласно признан учеными, изучающими древний Ближний Восток. Следует особенно отметить три пункта:
1. История рабства Израиля. Первым и наиболее влиятельным фактором богословского и правового отношения Израиля к рабству была его история. Израильтяне никогда не забывали, что начинали они, в смысле национальных истоков, как толпа освобожденных рабов. Это само по себе является необычным, если не уникальным, среди эпосов о национальном происхождении. Большинство этнических мифов прославляют славное древнее прошлое своей нации. Израиль, напротив, оглядывался на четыреста лет рабства в чужой стране, которое становилось все более угнетающим, бесчеловечным и невыносимым. Этот опыт оказал сильное влияние на их последующее отношение к рабству. С одной стороны, ожидалось, что израильтяне не будут порабощать друг друга и угнетать невыносимыми условиям труда. Подобное действие не сочеталось с равенством искупленных братьев, которые являются рабами только Господа (см. Лев. 25, 42–43.46.53.55). С другой стороны, их отношение к пришельцам в собственном обществе (будь то те, кто были в техническом смысле свободными, но безземельными наемными работниками, или действительно приобретенными рабами) должно быть отмечено состраданием, рожденным воспоминанием о Египте, в котором они сами лишены были милосердия. Этот принцип ясно изложен в самом раннем своде законов Ветхого Завета — Кодексе завета в Книге Исхода 21 — 23: «Пришельца не обижай и не притесняй его: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх. 23, 9; ср. 25, 21; Втор. 15, 15).
2. Законы Израиля о рабах. Во–вторых, эти порожденные исторически отношения отразились в конкретных законах, которые предоставляли рабам в Израиле определенный статус, права и защиту, ранее неслыханные.
Рабы были включены в религиозную жизнь общества. Они могли обрезываться и участвовать в празднике Пасхи (Исх. 12, 44). Им позволялось торжествовать и радоваться во время великих праздников (Втор. 16, 11–14; см. 12 ст.). По всей видимости, наиболее уместной из всех, ввиду их занятий, была заповедь, о том, что на рабов, мужчин, женщин и даже на домашних животных распространялся еженедельный субботний отдых (Исх. 20, 10). Более того, говорилось, что это сделано главным образом ради их блага (Исх. 23, 12).
Такое социальное и религиозное включение рабов распространялось и на сферу защиты гражданского права. Два закона в Кодексе завета Книги Исхода касаются отношения господина к своим рабам[282]. Уже это делает их уникальными в древнем ближневосточном праве. В прочих сводах законов было множество законов о насилии или убийстве рабов другого человека, но не собственных. Как человек относится к своим рабам, было исключительно его делом, поскольку они — только его собственность. Не так было в Израиле. В Исх. 21, 20–21, если хозяин настолько жестоко избил раба, что это привело к фатальным последствиям, раб должен был быть отмщен. Это буквальное значение используемого глагола, который в любом другом контексте означал бы, что виновный сам подлежит смерти от рук семьи жертвы. Хотя некоторые толкователи не спешат соглашаться с этим, явное значение этого закона таково, что дурной хозяин должен быть наказан сообществом за преступление от имени раба, у которого нет семьи, чтобы отомстить за него. Исх 21, 26–27 защищал раба от телесных повреждений. Если такое случалось, то раба следовало освободить.[283] Упоминание зуба демонстрирует, что освобождение не является следствием потери рабом работоспособности. Здесь более глубокая забота о гуманности и здоровье раба, который подвергся насилию. Следует подчеркнуть, что это были гражданские законы, а не филантропические призывы. В подобных обстоятельствах раб мог апеллировать к суду старейшин против своего собственного хозяина. Это также было уникальным правом в древнем мире. Однако, похоже, именно такое обращение раба имеет в виду Иов, когда утверждает, что никогда не лишал справедливости кого–либо из своих рабов в судебной жалобе, которую они имели против него (Иов 31, 14).[284]
После шести лет работы еврейскому рабу должны были предоставить возможность освободиться на седьмой год. Поскольку у него — или у нее — все еще не было земли,[285]маловероятно, что подобная свобода означала нечто большее, чем смену работодателя. Втор. 15, 13–14 расширяет первоначальный закон с помощью щедрого дара, который был примитивной формой пособия по безработице. О том, что рабство не обязательно было угнетающим, говорит закон, позволяющий рабам предпочесть безопасность их нынешнего местопребывания незащищенности свободы и потенциально менее благосклонного хозяина (Втор. 15, 16–17). Выбор остаться или уйти, тем не менее, всегда оставался за рабом, а не хозяином.
Но наиболее поразительным в законодательстве о рабах в Ветхом Завете является закон об убежище во Втор. 23, 15–16. Беглые рабы вместо того, чтобы быть пойманными и возвращенными обратно, получали свободу проживания в выбранном ими селении. Всеобщий закон всех прочих тогдашних сообществ (как и более современных сообществ до отмены рабства) не только наказывал беглых рабов, но также налагал серьезные наказания на всякого, кто давал им убежище. Израильский закон был диаметрально противоположным, одним из наиболее .контркультурных примеров ветхозаветного законодательства, которые можно найти. Израильский закон не только предоставлял беглым рабам свободу, он делал больше — повелевал защищать их:
Разве это не замечательно, чтобы не сказать — забавно, что единственным обществом на древнем Ближнем Востоке, которое имело закон, защищающий беглых рабов, было общество, основанное группой беглых рабов из Египта ? Суть в том, что Израиль познал Бога как того, кто покровительствует беглым рабам. Поэтому данный закон — не просто этический или юридический принцип, защищающий права человека, но отображение собственного религиозного опыта Израиля — фундаментальной характеристики библейской этики.[286]
Этот закон настолько оригинален, что некоторые ученые полагали, будто он относится только к чужеземным рабам, которые ищут убежища в Израиле. Однако закон не говорит об этом. Но даже если это так, закон останется уникальным и демонстрирует, что Израиль был привлекательным сообществом для раба, ищущего в нем убежища. Если же, с другой стороны, этот закон об убежище относился к рабам в Израиле, которые убежали от своих жестоких хозяев, тогда он представляет радикальный подрыв самого института рабства. В израильском праве рабство не является неприкасаемым. Подобный закон, по всей видимости, предполагает, что беглые рабы будут исключением, а не правилом. Это еще более явно свидетельствует, что обычно рабство в Израиле не было тягостным и жестоким, если на практике соблюдался дух законов о рабах из Исхода и Второзакония.
3. Сотворенное равенство рабов. В–третьих, следует сказать, что рабство в Ветхом Завете не является неприкасаемым. Из этой ремарки следует, что оно никогда не рассматривалось как естественный порядок. Другими словами, оно не считалось божественно установленной частью самого творения, как будто раб и свободный находились на разных уровнях человечества. Старая аккадская пословица: «Человек — тень бога; раб — тень человека» — не прижилась бы в Израиле. В Библии раб и рабство впервые упоминается в контексте проклятия. В Быт. 9, 25–27 будущее положение раба Ханаана связывается с проклятием Ноя. Здесь рабство считается чем–то противоестественным, падшим и проклятым. Оно не является частью сотворенного Богом порядка жизни человека. Оно также не является важной и неизменной частью природы вещей. Напротив, рабы также человеческие существа, и они имеют одинаковый с прочими людьми статус перед Богом.
Кульминация ветхозаветной этической критики рабства вновь слетает с уст Иова, когда он утверждает сотворенное равенство господина и раба. Говоря о своих рабах, Иов заявляет:
Эта жемчужина из этики творения ближе всего утверждению Павла о том, что раб и свободный — одно во Христе (Гал. 3, 28). И если в свете последнего текста отмена рабства не могла осуществиться в христианском мире на протяжении веков, не говоря уже о новозаветной церкви, мы вряд ли можем осуждать ветхозаветный Израиль за терпимое отношение к нему.[287]
Критическая оценка. Семья в Ветхом Завете
Самым ярким примером социокультурного образца, общего для Израиля и окружающих его народов, была важность родства и ряд прав и обязанностей, которые оно давало человеку. Семья, без сомнения, — важнейшая основная ячейка всего человеческого общества. В древней семитской культуре она приняла форму расширенной семьи, включающей в себя несколько поколений и несколько семейств, плюс рабов и постоянных работников. Эта семейная группа имела важнейшее значение в социальной структуре и спаянности.
В подобной семейной жизни семитской культуры выделяются две особенности. Во–первых, были сильны родственные связи и обязанности по отношению к ним. Это было справедливо не только в смысле горизонтального родства — требования братства. Оно также имело вертикальное измерение в двух направлениях. С одной стороны, было сильное уважение к своим предкам. В некоторых культурах это приводило не только к фактическому поклонению, но и к культу. В любом случае, сиюминутные действия человека были либо честью, либо поношением для него, а степень подчинения власти живых родителей, а также деда и бабки, была гораздо выше. С другой стороны, было чрезвычайно важно сохранять род в будущем, благодаря рождению детей, особенной сыновей. Человек в определенном смысле выживал, благодаря своим потомкам, или же отсекался в результате бездетности, смерти или уничтожения его потомства.
Во–вторых, существовала святость родовой земли. Сохранение наследия предков было особенно важным по двум причинам, которые соответствовали двум направлениям вертикальной линии родства. С одной стороны, это было место, где были погребены предки человека, и где человек сам, в конце концов, также прилагался к ним. С другой стороны, сохранение земли в семействе было необходимо для экономического выживания последующих поколений. Родство и земля, таким образом, были тесно связаны друг с другом в этой культурной матрице.[288] Эти особенности родства и земли в древнем мире встречаются и сегодня во многих традиционных сообществах, в которых кислота западного индивидуализма не разъела крепкие и широкие семейные связи.
Переходя теперь непосредственно к Израилю, мы видим, что израильская структура родства имеет три уровня, каждый из которых отражен в том, как записывались имена израильтян. Из них первые два имели более важное социальное и экономическое значение в повседневной жизни обычных израильтян.
1. Дом отца (bet-'ab). Это была наименьшая единица, но все же достаточно большая группа людей. Она состояла из всех тех, кто принадлежал к семейству одного живого мужчины–предка, известного как глава «дома отца». Она включала его жену, или жен, его сыновей и их жен, и их сыновей и жен вместе с незамужними дочерьми. Обычно это было сообщество из трех поколений, в котором люди вступали в брак в достаточно юном возрасте. Оно также включало слуг и пришельцев, которые были частью семейства, населявшего небольшую группу жилищ на наделе земли.
2. Клан {mispaha). Это была группа связанных семейств, носящих имя одного из внуков Иакова (т. е. имена сыновей глав колен Израиля). Похоже, что клан часто также имел территориальную идентичность, а названия деревень и кланов иногда были одинаковыми. Клан функционировал как защитная ассоциация семей, имевшая различные экономические, социальные, юридические и военные обязанности.
3. Племя (sebet — matteh). Племя было самым большим родственным объединением, носившим имя одного из сыновей Иакова (с Иосифом, разделенным на Ефрема и Манассию), а главное значение племени — территориальное землевладение.
Подобный вид социально–экономической модели семейной жизни, или нечто подобное этому, был бы справедлив в отношении Израиля как древнего семитского народа в макрокультуре того времени в любом случае, невзирая на то, считали бы они себя или не считали народом Яхве. Но учитывая тот факт, что они действительно считали, что у них есть уникальные отношения завета с Яхве, и то, что сохранение национальных отношений с Яхве имело чрезвычайную важность, роль родственно–земельной основы общества обретала еще большее значение. Короче говоря, родственно–земельная единица была центром в треугольнике отношений Бога, Израиля и земли, очерченного в первой части. Здесь будет полезно оживить в памяти изначальную диаграмму и добавить в ее центр семью.
Если читатель помнит, внешний треугольник изображает три основных взаимоотношения, на которых зиждется самоопределение Израиля. Были главные отношения в завете Бога и Израиля (АВ), Бог был главным хозяином земли (АС), и земля была дана Израилю в наследие (СВ). Семья же, которая представляет нечто вроде условного обозначения того, что я назвал «расширенная–семья–плюс–ее–земля»(bet-'ab), была базовой, центральной единицей каждого из этих аспектов. Во–первых, она была основной единицей социальной и родовой структуры Израиля (BD), которая имеет важные военные и судебные функции. Во–вторых, она была важной экономической единицей израильского землевладения (CD). Мы видели некоторые следствия этого, изложенные языком прав и обязанностей в третьей главе. В–третьих, она имела центральную важность в опыте заветных отношений (AD). Благодаря принадлежности к подобной семье человек мог претендовать на членство в народе завета, будь то по рождению или (как в случае рабов или пришельцев) по местожительству. Благодаря долгу родителей учить (см. Втор. 6,6–9.20–25; 11, 18–21), знание о завете и обязанностей по отношению к нему сохранялось из поколения в поколение. И именно в семье проходили некоторые главные обряды, наподобие обрезания, Пасхи и искупления первородных сыновей (Исх. 12; 13). Таким образом, все три сферы — социальная, экономическая, и богословская — были тесно связаны между собой, и все три сосредоточивались на семье.[289] Больше о центральной роли семьи в завете будет сказано ниже.
Следовательно, можно сразу уловить, что все, что грозило разбить «нижний треугольник» (BCD), социально–экономическую структуру народа, тем самым подвергало опасности национальные отношения с Богом. Такая угроза подрывала бы корни и почву завета — союз свободных землевладельческих семей. В свете всего этого вовсе не удивительно обнаружить глубокую заинтересованность Ветхого Завета в защите семьи как через утверждение богословской поддержки тех обычаев, которые уже были частью родовой культуры, так и особенными предохраняющими законами.
Однако в то же самое время Ветхий Завет не слеп к испорченности всех человеческих социальных форм. Семья причастна испорченности в той же мере, что и любой человек. Отсюда осознание, что семьи, несмотря на их центральное место для целей Божьего завета, могут быть пронизаны злом и стать очагами угнетения. Отсюда фраза «критическая оценка» в заголовке этого раздела. Следовательно, в обзоре, который последует ниже, мы отметим как отрицательные, так и положительные слова о семье в различных частях ветхозаветного канона: законе и повествованиях, пророках и традиции мудрости.
Семья в законе и повествованиях
Верность завету и социальная стабильность
Обрезание. Фундаментальным знаком завета между Господом и Израилем было обрезание, акт, совершаемый в семье со всеми мальчиками. Поэтому совершенно уместно, что семья — центр этой заветной церемонии — была также главным местом обучения вере, истории, законам и традициям Израиля, а само обрезание стало метафорой послушания завету — «обрежьте крайнюю плоть сердца вашего» (Втор. 10, 16).
Избавление. Основной частью страданий израильтян на поздних этапах их рабства в Египте был геноцид — вторжение в их семьи. Поддерживаемая государством кампания по сокращению населения при помощи истребления новорожденных мальчиков была частью угнетения, которое, в конце концов, привело к вмешательству Господа. Кульминацией же египетских казней, вполне поэтически провозглашая справедливость Господа, становится смерть первенцев. И в контексте этого события в Израиле было учреждено два установления, касающихся семьи как ключевого места познания и празднования избавления:
• Пасха (Исх. 12). Этот ежегодный семейный обряд прославляет и повторяет исход, и особенно тот факт, что Господь сохранил первенцев израильских семей в ночь последней казни. Его социальная открытость с некоторыми ограничениями основывается на составе обычного израильского семейства (Исх. 12, 43–49).
• Посвящение первенцев (Исх. 13, 1–16). То, что Господь избавил от смерти, принадлежало ему. Но, претендуя на первородного сына в каждой семье, Господь, в сущности, претендовал на все последующие поколения. Так символизировалась преемственность заветных отношений на протяжении поколений.
Декалог. В контексте великого освобождения Декалог образует хартию свободы и ответственности для искупленного народа. Защита семьи — важный аспект его второй скрижали, которая включала сохранение авторитета родителей (пятая заповедь), сексуальную чистоту (седьмая заповедь), и экономическую жизнеспособность (восьмая и десятая заповедь). Каждый из этих центральных принципов далее подкрепляется другими группами законов и установлений:
• Авторитет родителей усиливается наказанием за проклятие или избиение родителей (Исх. 21,15.17; ср. Втор. 27,15) и законом, который делает неисправимое распутство со стороны сына проступком, который родители могут представить в гражданском суде (Втор. 21, 18–21). Тем не менее, авторитет родителей уравновешен ответственностью — в особенности ответственностью не проявлять лицеприятия и не лишать первородного сына в полигамной семье его прав (Втор. 21, 15–17).
• Сексуальная чистота поддерживается не только широким спектром законов о различных сексуальных преступлениях (Втор. 22, 13–30), но также запретом на брак между некоторыми родственниками (Лев. 18, 6–18; 20, 11–14.19–21). Это имело отношение не только к сексуальной этике, но также устанавливало четкие рамки отношений между семьями, принадлежащими к большему дому отца.
• Социальная и экономическая жизнеспособность усиливаются огромным количеством механизмов, задуманных для того, чтобы либо защитить семьи, стоящие на грани серьезного экономического упадка, либо чтобы дать новое начало, если с ними уже случилось подобное. Выше, в пятой главе, я упоминал об этом, но следует повторить еще раз: изначальное разделение земли было специально задумано, чтобы помочь каждой семье получить надел. Тексты о разделе земли в Книге Иисуса Навина 13 и далее уточняют, что земля должна была распределяться «по племенам их». Распределение наследия семьям было затем закреплено законом неотчуждаемости, который запрещал продажу земли за пределы семьи (Лев. 25, 23). Если нищета или долги понуждали семью продать или выставить на продажу свою родовую землю, закон выкупа требовал, чтобы она была выкуплена обратно родственником–искупителем в рамкахmis paha, а юбилейный год предусматривал, что земля и люди, проданные за долги, должны были вернуться в свой bet-`ab (Лев. 25, 24–55). Целью всех этих механизмов было сохранение семей как членов экономического и социального сообщества, чтобы тем самым сберечь их место в общине завета. Ведь, как пояснялось выше, в древнем Израиле род и земля сообща играли главную роль в принадлежности к общине завета, так что потеря или отсутствие либо семьи, либо земли приводили к отчаянному положению.
Общество. Поскольку израильская семья была в центре принадлежности завету, она имела существенные функции в судебной сфере (как внутренне, при отправлении семейного права, так и внешне, в роли семейных старейшин при отправлении местного правосудия). Она также была главным инструментом обучения историческим обычаям и требованиям закона (Втор. 6). Поэтому было важно, чтобы израильские семейства были максимально открыты в социальном плане. Поклонение Господу, будь то на повторяющихся ежегодных праздниках, или во время приносимой раз в три года десятины, или во время торжественного чтения закона на седьмой год, должно было не только собирать вместе членов семьи, но также безземельных (левитов и пришельцев), не имеющих семей (вдов и сирот), а также рабов (Втор. 14, 27–29; 16, 11.14; 29, 10–12). Социальные и нравственные обязанности израильской семьи выходили за рамки непосредственных друзей и родных, чтобы включить нуждающихся в широкое сообщество.
Образец. Семья настолько глубоко вплетена в израильское самоопределение в рамках завета и социорелигиозную практику, что Вальдемар Янцен (Waldemar Janzen) заявляет, что названный им мотив «семейного образца» является доминирующим в этическом сознании Израиля. На примере разнообразных повествований (которые он считает равными законам Торы, если не более значимыми) он перечисляет главные компоненты семейного образца — дар, продолжение и улучшение жизни; обладание землей как изначальное условие семейной жизнеспособности; а также нравственный императив гостеприимства, которое должно было проявляться особенно к тем, кто не принадлежит к родству.[290]
Нарушение завета и социальный распад
Худшая сторона патриархов. Прежде чем мы встречаемся с израильскими семьями в святой земле, Ветхий Завет представляет нам реалистичный портрет отрицательных сторон семей патриархов в Книге Бытия. Ужасает количество пороков и несчастий: обмана, лжи, полуправды, насилия над женщинами, фаворитизма, ревности, конкуренции, неудач и несчастий. И это только отношения в браке. Добавьте сюда соперничество между братьями, родительский фаворитизм, коварное надувательство, убийственную ревность, бессердечный обман, жгучую ненависть и страхи — и вы получите полную картину неблагополучных семей, и это только в Книге Бытия. Главной особенностью Бытия является то, что эта книга не скрывает ужасную испорченность и частые невзгоды и боль, которые преследовали поколения этих прото–еврейских семей. Очевидна чрезвычайная крепость и выносливость этих семей; и хотя подчеркиваются отношения, которые ключевые личности имели с Богом, не вызывает сомнения, что Быт. 12—50 отображает семейную жизнь во всей ее испорченности.
И все же Бог осуществлял свою миссию искупительного благословения народов через таких непокорных представителей. По сути, история Бытия показывает, что Божье решение благословить «все народы земли» рано или поздно осуществится, невзирая на человеческие провалы и неадекватность, а не благодаря человеческому мастерству или успеху. Если Бог хотел, чтобы его знали как Бога Авраама, Исаака и Иакова, а также их неблагополучных семей, Бог, вне всякого сомнения, справится и с нами.
Восставшие семьи. Ряд повествований в Ветхом Завете излагает случаи серьезного конфликта в ключевых семьях, или акты мятежа, включающие целые семьи, которые нарушали отношения Израиля с Богом. Я уже говорил о худшей стороне семей патриархов в Бытии. Другие примеры, которые следовало бы упомянуть, включают Аарона и Мариам, восставших против Моисея (Чис. 12); восстание Корея, Дафана, Авирона и всех их семейств (Чис. 16); нарушение Аханом правила herem у Иерихона (Нав. 7); трагические разделения и жестокость, присутствовавшие в семье Давида в конце его царствования.
Скомпрометированная верность. Иногда преданность семье становится конкурентом верности завету, принадлежащей одному Господу. Семейные узы могут соблазнять к поклонению иным богам, что разрывает главную и наиболее существенную связь израильского заветного единобожия. Брак с неевреями был запрещен не на основании этнической чистоты, потому как сам Моисей взял себе кушитскую жену, и Бог не поддержал неодобрение Аарона и Мариамь. Подобным образом сыновья Елимелеха не осуждаются прямо за то, что взяли женмоавитянок, напротив, Вооз явно одобряется за то, что во исполнение долга родственника взял в жены Руфь, несмотря на то, что она была иностранкой. Тем не менее, брак с женщинами–хананеянками был запрещен из–за угрозы для их заветной веры. Межэтнические браки неизбежно приводили бы к вмешательству чужеземных богов в семейное благочестие (Втор. 7, 1–4). Браки с чужеземками были причиной падения Соломона (3 Цар. 11, 1–6) и основанием жестких реформ Неемии и Ездры (Езд. 9–10; Неем. 10, 30; 13, 23–27).
Потенциальный источник идолопоклонничества. Втор. 13 — одна из глав в Ветхом Завете, касающаяся угрозы уклониться к почитанию иных богов. С большим реализмом и проникновением в ней предчувствуется, что искушение пойти за иными богами может исходить не только от крайне благопристойных, но ложных чудотворцев (Втор. 13, 1–6), не только из–за социального давления всего неверного сообщества (Втор. 13, 12–18), но также из среды ближайших родственников: «Брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя» (Втор. 13, 6–11). Даже в таком случае соблазну следует противиться с несокрушимой твердостью, которая ставит верность единому Господу выше подобных семейных уз. Сам Иисус столкнулся с подобным выбором, не в том смысле, что семья хотела соблазнить его к откровенному идолопоклонству, но, скорее, побуждая его вернуться к своим семейным обязанностям, они бесповоротно уводили его от послушания воле Отца. Иисус прямо указал на непреклонный характер этого решения, когда назвал своей семьей тех, кто подобно ему самому ставил волю Отца превыше всего (Мф. 12, 46–50)
Мрачные династии. Вероятно, наиболее неопределенным из всех основанных на семье институтов в Ветхом Завете был царский династический принцип. Когда он появился впервые, реакцией на него был шок, ужас и сопротивление. Ответ Гедеона на предложение благодарных израильтян, чтобы он и его потомки правили ими, похоже, отвергает династическую монархию как несовместимую с теократическим правлением Господа (Суд. 8, 22–23). Тем не менее, с некой иронией еврейский рассказчик повествует, что Гедеон, несмотря на все свои протесты, вел себя как царь — приняв щедрое подношение золота и взяв себе множество жен (вопреки Втор. 17, 17). Более того, сын Гедеона, по сути, предпринял попытку установить монархию, которая не увенчалась успехом. Тем не менее, это была попытка, связанная с беспощадным уничтожением семидесяти других сыновей Гедеона (Суд. 9) — мало обнадеживающее начало для самой идеи монархии, которая была отложена до следующей книги Библии.
Когда же монархия, в конце концов, успешно утвердилась — после катастрофического правления Саула, династический принцип был одобрен Господом в его обетовании завета Давиду (2 Цар. 7). Этот династический завет затем становится основанием не только для практически непрерывной линии потомков Давида на престоле в Иерусалиме в последующие столетия (Гофолия была единственным исключением), но также для мессианского богословия и эсхатологии, которое мы, христиане, с радостью поддерживаем в личности великого
Сына Давида на основании авторитета Нового Завета. Но все же следует сказать, что, подобно патриархальным семьям, которые одновременно были образцом веры и послушания и ужасающих злоупотреблений и порочности, царские семейства Иуды и Израиля демонстрируют все известные человечеству семейные ужасы: отцеубийство, матереубийство, братоубийство, самоубийство, прелюбодеяние, убийство, кровосмешение, заговор, интригу, предательство, междоусобицу, ненависть и месть. И только благодаря чудесной благодати и всевластию Бога эта история смогла стать историей искупления.
Семья в пророках
Защита семьи от нападок
Позитивное отношение пророков к семье выражалось в жестокой критике современных им обычаев, которые уничтожали семью. Пророки выступали против социально–экономических сил и правовой коррупции, ведущих к обнищанию, долгам и потере участия в завете. Именно эти силы разрушали семьи, тем самым повергая обычных людей не только в материальную нищету и нужду, но также склоняя к общественно–религиозной неопределенности в отношении к завету. Действительно ли эти обнищавшие люди все еще принадлежали к общине завета? Если у них не было семьи и земли, то разве не стоит считать их грешниками и отсеченными? Нет, говорит Амос. Нищие и лишенные имущества являются праведными, в то время как те, чьи земли и семьи процветают за счет такого угнетения, нечестивы.
Пророки осуждали эти злоупотребления, потому что видели в них угрозу заветным отношениям из–за их влияния на богатые семейства. Семья особо подчеркивается в таких текстах, как Mux. 2, 1–3.8–9; 7, 5–6; и Ис. 5, 8–10. Если… опыт отношений с Богом передавался семейным ячейкам Израиля (подобно тому, как земля передавалась в неотчуждаемую собственность), тогда социально–экономические силы, уничтожавшие землю этих семей, неизбежно разрушат и отношения народа с Богом. Богословие Израиля было укоренено в социально–экономической основе их родовой структуры и землевладения, и именно эту основу разъедала коррупция. Тесная связь между социальными и экономическими сферами и богословским самоопределением Израиля направляла протест пророков против этого зла. Этой связью и была семья.[291]
Эсхатологическое ожидание — будущее семьи
В нескольких пророческих видениях будущего мессианского века, которые обычно включают не только восстановление народа Божьего, их безраздельное послушание Богу, наслаждение его благословением, а также обновление творения и его изобилия, семья занимает заметное место. Новое творение, описанное в Ис. 65, 17–25, будет местом, в котором семьи защищены от детской смертности, а плод семейного труда не будет уничтожен, принося чувство разочарования.
Семья в литературе мудрости
Семейные отношения являются одним из главных вопросов, которые беспокоили мудрых мужей и жен Израиля.
Благополучная семья
В Книге Притчей считается, что семейные отношения имеют первостепенную важность для тех, кто желает поступать мудро и жить хорошо. Вступительный совет, сразу после пролога (Притч. 1, 1–7), отражает пятую заповедь о почитании родителей (Притч. 1, 8–9), и развивается вновь и вновь на протяжении всей книги. Подобным образом и отражение седьмой заповеди — чистота брачных отношений — ревностно поддерживается серьезными предостережениями против прелюбодеяния (Притч. 2, 16–19; 5, 1–23; 7, 1–27). Знаменательно, что в случае с прелюбодеянием сутью предостережений является бедствие, которые оно приносит семье человека — не только из–за общественного позора, но также из–за утраты положения в общине завета, которое может быть результатом потери имущества семьи (Притч. 5, 9–14). И наоборот, заметна похвала добродетельной жене. Книга достигает кульминации в похвале мудрости, рисуя портрет не мудрого мужчины, а мудрой женщины — добродетельной жены в Притч. 31, 10–31. Безусловно, описание говорит не только о самой женщине, но и о некоторых чертах идеального израильского дома и семьи. Такой дом, по мнению израильтян, должен быть не только местом благословения и безопасности для мужа и детей, но также источником гостеприимства и щедрости для нуждающихся.
Неблагополучная семья
Особенностью ветхозаветной литературы мудрости является то, что она включает элемент самокритики, своего рода литературную и богословскую деконструкцию некоторых сильных и позитивных утверждений Книги Притчей и, можно было бы добавить, идиллического изображения сексуальной любви в браке в Книге Песни песней Соломона.
Книга Екклесиаста исследует теорию о том, что богатство — добрая вещь, потому что его можно передать своему сыну и наследнику. Но что, если этот наследник — глупец, который промотает все, над чем вы трудились? Да и будет ли честно, если он получит даром то, ради чего вы проливали пот, а лично он не трудился (Екк. 2, 18–23)? Но и быть одержимым работой ради себя самого, не имея наследника, — ничем не лучше (Екк. 4, 7–8). Но ведь даже если вы все еще убеждены, что копить богатство, чтобы передать его дальше, — добрая вещь, несчастный случай может отнять его, так что вы покинете этот мир таким же нагим, каким пришли в него (Екк. 5, 13–15). И хотя радости брака сами по себе ценны и должны почитаться даром от Бога, но действительно ли они имеют высокое значение в виду мрака смерти, ожидающего нас всех (Екк. 9, 7–10)? Опыт отношений автора с противоположным полом, судя по всему, не имеет и такого утешения (Екк. 7, 28).
Книга Иова поднимает еще более острые вопросы перед лицом реального опыта тяжелых утрат — потери детей, богатства и здоровья. С патетической ностальгией он вспоминает о том положении, которое занимал в обществе, когда, будучи старейшиной, окруженным семьей и имуществом, он был оплотом правосудия в своей земле, любимый нищими и уважаемый всеми (Иов 29; особенно 5–6 ст.). Это описание совпадает с описанием уважаемого мужа в Притч. 31, 23, а социальная защищенность уподобляется множеству сыновей, которые, словно стрелы, наполняют колчан (Пс. 126, 3–5). Но что если вы потеряете все — сыновей и имущество? Социальная реальность явно описана Иовом в тридцатой главе — позор, презрение, отчуждение. Сатана пытался доказать, что подобная утрата выявит притворство Иова, когда тот потеряет все свое имущество. Существовал и другой вариант — что Иов докажет, что его вера в Бога действительно сосредоточена на Боге, а не на семье и счастье, дарованных ему Богом. Но даже несмотря на тяжесть отчуждения и молчания Бога, Иов сохранил свое благочестие и, невзирая на обвинения друзей и собственный внутренний протест, сберег веру в Бога и, в конце концов, получил одобрение.
Книга Иова заставляет нас задавать сложные вопросы даже о самых лучших земных дарах, которые наш Бог Творец может дать — благословения семьи, здоровья и изобилия. Если они сами по себе становятся нашей безопасностью, тогда они стремительно превращаются в идолов, и тогда трудно избежать периода потерь. Возможно, именно эта мысль лежит в основании крайне релятивистского взгляда Пс. 126. Хотя этот псалом прославляет детей как наследие и награду от Господа, тем не менее, первый стих: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» — в еврейском и в английском языке имеет двусмысленность: буквальная постройка дома и созидание семьи. Не обращая внимания на генеалогическое дерево и древность рода, откуда исходит ваша подлинная идентичность? Не обращая внимания на все семейное наследие и имущество, откуда исходит подлинная безопасность?
Христиане и культура
Теперь, после проделанного обзора семьи в Ветхом Завете — примере важнейшего утверждения культурной реальности, мы возвращаемся к вступительной проблеме данной главы — оценке культуры в контексте библейской веры. Теперь нам необходимо задаться вопросом, действительно ли ветхозаветный подход к социальным и культурным аспектам того времени может чему–нибудь научить христиан в нашем ответе обществам и культурам, в которых мы живем.
Прежде всего следует сказать, что разнообразие ветхозаветных ответов на различные культурные феномены исключает упрощенный подход с нашей стороны. Мы не должны полностью принимать культуру или общество как благое, либо отвергать его как окончательно испорченное и отвратительное. На самом деле требуется трезвый и критический подход. Вспомним три категории ответов, которые, похоже, предпринимал Израиль: полное отвержение, частичная терпимость и критическая оценка.
Обычаи под запретом
Во–первых, Ветхий Завет приводит нас к пониманию, что некоторые элементы падшего человеческого общества необходимо отвергнуть как мерзкие для Бога. Единственным обоснованным христианским ответом на них будет отказ и отделение от них. Также Ветхий Завет дает некоторые признаки того, как определить подобные черты. Можно определенно сказать, что приведенные ниже четыре категории особо осуждались в израильской судебной и пророческой традициях: (1) идолопоклонничество, (2) извращения, (3) то, что действует разрушительно на людей, и (4) черствость по отношению к нищим. Все это весьма актуально до сих пор. Множество человеческих культур по всему миру отображают некоторые аспекты эти четырех мрачных тенденций падшей человеческой культуры.
Разве мы больше не нуждаемся в суровой критике Ветхого Завета против завуалированного, а также откровенного идолопоклонничества нашего века и культуры? Христиане склонны, подобно Израилю, неосознанно ограничивать Бога заботами о спасении и воскресными богослужениями, в то время как сами служат золотым тельцам и Ваалам материалистической, потребительской культуры в реальной жизни. Борьба с идолопоклонничеством — важная и очень нелегкая задача, пророческая ответственность и в наше время.
Разве нам уже не нужна ясность ветхозаветного обличения извращений, в век, когда любая нравственная ценность подвергается сомнению или выворачивается наизнанку? Примечательно, насколько тесно Павел связывает идолопоклонничество с извращением не только в сфере сексуальной жизни, но также всего интеллектуального климата и в сфере искажения истины (Рим. 1, 18–32).
Быть может, для нас уже неактуально возмущение и нетерпимость Ветхого Завета к уничтожению слабых и невинных во время таких обрядов, как ритуальная проституция и детские жертвоприношения? Порнография содержит в себе оба элемента, перенимая эстафету от экономической эксплуатации женщин и детей на ранних этапах истории, не говоря уже о том, что и ее пока что не искоренили. А что ветхозаветное учение говорит о поставленном на поток уничтожении миллионов нерожденных детей, иногда по понятным медицинским причинам, но большей частью ради простого удобства?
Разве нам больше не нужна бескомпромиссная ветхозаветная критика любого угнетения и тех, кто бессердечно «жаждет, чтобы прах земной был на голове бедных» (Ам. 2, 7; Мих. 3, 2–3)? Если грех Содома состоял «в гордости, пресыщении и праздности» и бессердечном пренебрежении нищими и нуждающимся (Иез. 16,49), тогда огромные сегменты христианской церкви (и особенно на Западе) спокойно живут не в Сионе, а в Содоме.
Вне всякого сомнения, читатель может добавить свои актуальные и местные культурные проблемы к тому, что может считаться идолопоклонническим, извращенным, разрушительным и бессердечным. По крайней мере, это рамки для определения негативного аспекта в нашем культурном анализе. Израиль был призван отвергнуть все негодное. Несомненно, Церковь также должна против этого бороться.
Ограниченная терпимость
Во–вторых, опыт ветхозаветного Израиля подготавливает нас принять тот факт, что общество испорчено. Даже Бог принимает этот факт! Такова суть высказывания Иисуса о браке. Хотя в начале Бог предусмотрел брак на всю жизнь, тем не менее, он «позволил» развод «по жестокосердию вашему» (Мф. 19, 8). Если к разводу относились терпимо в Израиле, хоть и не без критики и не без обучения высшему образцу, мне кажется, что нам необходимо согласиться с терпимым отношением к нему в светском обществе. Это не означает, что его не следует критиковать, более того, нужно стремиться придерживаться высших, абсолютных стандартов и помочь людям приблизиться к ним. Однако закон должен быть терпимым и регулировать ситуации, которые не соответствуют нравственному идеалу.
Как мы видели в предыдущей главе, Гордон Уэнхем (Gordon Wenham) предлагает обсуждение отличий того, что закон предписывает или запрещает и того, что общество считает нравственно желательным или нежелательным:
Во многих странах разница между тем, что требует закон, и тем, чего желает большая часть населения, — огромна. Между нравственными идеалами и законом существует некая связь, однако закон имеет тенденцию представлять собой компромисс между идеалами законодателей и тем, что может быть реально осуществлено на практике. Закон проводит в жизнь минимальные стандарты поведения… этика — больше, чем простое соблюдение закона. Если сформулировать это библейским языком — праведность больше, чем просто жизнь согласно Декалогу и другим законам в Пятикнижии… Как правило, законы только «настилают пол» для поведения в обществе, они не предписывают «нравственный потолок». Следовательно, изучение сводов законов в Библии скорее раскроет не идеалы законодателей, а только пределы их толерантности… множество неправовых наставлений в ветхозаветном законе указывают, что нравственные идеалы законодателей выше, чем буква закона[292].
Этот принцип должен применяться к широким сферам социальной и политической жизни. Христиане обычно находятся в таком положении, когда им приходится жить, работать и справляться с ситуациями и структурами, о которых известно, что они не соответствуют Божьим стандартам. К некоторым вещам следует относиться терпимо, пока мы пытаемся, подобно соли или закваске, произвести перемены.
Например, полигамия уже может не являться актуальной нравственной проблемой на Западе, но в других частях мира христиане все еще сталкиваются с ней, и она требует этического и пасторского отклика. С точки зрения библейской этики нам, конечно же, следует настаивать, что полигамия нравственно ущербна по сравнению с Божьим намерением моногамного брака. Слова Иисуса о том, что тот, кто разводится и женится на другой, прелюбодействует, по сути, не дают христианам обоснованного права брать других жен. Вне всякого сомнения, христианин не может стать многоженцем. Но как быть с ситуацией, когда мужчина в полигамной культуре уже имеет несколько жен, и затем становится христианином? Следует ли нам говорить, что его единственный выбор — развестись со всеми женами, кроме одной? Можно быть уверенным, что Ветхий Завет рассматривал бы такой выбор, как замену меньшего зла большим, с точки зрения жен. Ветхозаветное учение, как мы видели, посчитает большим злом развод, а не полигамию. Израильтянин мог предоставить некоторое прагматическое оправдание терпимого отношения к полигамии. В том обществе, где женщины были лишены независимого доходного занятия, где не было системы социальной защиты для одиноких, разведенных или овдовевших женщин, где бездетность была глубочайшим позором, можно утверждать, что всякая женщина выбрала бы стать женой почти на любых условиях, даже в полигамном браке, чтобы избежать альтернативы — обычно проституции или тяжелой судьбы вдовы. Судя по всему, Ветхий Завет предлагает некоторую терпимость, сопряженную с радикальной и богословской критикой, а также провозглашением более высокого идеала.[293]
Можно также обратить внимание на то, как Павел решает подобную нравственную проблему, обращаясь к вопросу брака и развода. Павел повелевает верующему не вступать в брак с неверующим. Однако если один из супругов в нехристианском браке стал христианином, он — или она — не должен разводиться с неверующим, разве что сам неверующий пожелает развода, в случае чего Павел дает верующему супругу свободу.
Похоже, его принцип состоит в том, что обязательства, взятые до обращения, должны почитаться новообращенной христианской стороной. Остаться в браке с неверующим предпочтительнее развода, инициированного христианской стороной. Можно утверждать, что Павел мог предложить подобный подход и терпимость в отношении обращенного многоженца (ср. 1 Кор. 7, 12–24).
Точно так же, хотя мы официально и упразднили рабство (сомнительное утверждение, если вспомнить о том, что торговля рабами процветает во многих уголках мира), все еще остаются структуры экономической и индустриальной жизни, которые далеки от Божьих стандартов человеческого достоинства. Христиане должны терпеть их в той степени, в которой они способны трудиться в них и реагировать на них. Тем не менее, в то же самое время они должны стремиться бросать им вызов и изменять их в свете ясных ветхозаветных принципов справедливости, честной торговли и сострадания к слабейшим.
Мы даже можем рассмотреть факт израильской терпимости к рабству в том аспекте, было ли оно предпочтительней других альтернатив. Тут же следует сказать, что это вовсе не является попыткой оправдать порабощение человека в обычном значении этого слова. Никто из людей не имеет права владеть другим человеком как собственностью или относиться к нему подобным образом. Но если мы смотрим на проблему израильского общества, в котором рабский труд принимал такие формы, как долговое рабство, возникает вопрос, а нет ли в этом хоть каких–нибудь оправдательных аспектов? Должник брал на себя долговое обязательство. Он был связан с кредитором и отрабатывал свой долг физическим трудом. Если сравнить ситуацию с альтернативами в современном обществе, то можно, по крайней мере, посочувствовать. Современная реакция на неоплаченный долг варьируется от банкротства, где кредитор ничего не получает (что представляется несправедливым), до заключения в тюрьму за долги, от которого никто не выигрывает и которое дорого обходится обществу. Действительно, как мы видели в предыдущей главе, если рассматривать его просто как законное наказание, можно доказать, что ограниченное по времени долговое рабство на израильских условиях было более гуманным, чем заключение на наших условиях. Раб оставался жить дома. Он трудился в окружении людей, в нормальном обществе. Он ходил по Божьей земле и под Божьим небом. Заключение лишает всего этого, и интересно, что заключение никогда и нигде в Торе не предписывалось, хотя и практиковалось в поздней монархии. Конечно же, задачей этого сравнения не является отстоять повторное введение рабства, или же показать, что существуют простые альтернативы заключению в современном обществе. Скорее это предположение, учитывая наше инстинктивное отстранение от рабства и спокойное отношение к заключению, что Ветхий Завет стимулирует нас внимательней продумать нравственные (и не только нравственные) аспекты того и другого. Мы можем обнаружить, что научимся у ветхозаветной модели большему, чем предполагали.
Критическая оценка
В–третьих, Ветхий Завет показывает, что существуют такие аспекты человеческой культурной и социальной жизни, которые можно утверждать позитивно, хотя и с некоторыми оговорками. На протяжении веков церковь делала это многообразно. Например, она использовала искусство, музыку, живопись и театр для собственных целей. Она взяла языческие праздники и наполнила их благотворным христианским содержанием. С того времени, как первые христиане в Новом Завете столкнулись с задачей помочь евангелию укорениться в греческой почве, необходимостью четко сформулировать евангелие на греческом языке и нуждой соотнести его с греческой философией, важнейшей сущностью христианской миссии стало конструктивное и творческое взаимодействие с разнообразными культурами человечества. Поскольку все люди созданы по образу Божьему, в любой культуре будут измерения, отражающие характер Бога, утверждающие благость творения, воплощающие что–то из нравственных стандартов Бога и как–то способствующие процветанию человека. В то же самое время в этих же культурах могут быть измерения, попирающие истину Божью, разрушающие творение, искажающие Божьи стандарты и вступающие в сговор ради обнищания человека. Однако это не должно уменьшать наше восприятие благости культур там, где ее можно найти и одобрить.
Христиане и семья
Вернемся еще раз к ветхозаветному установлению семьи, находящемуся в самом сердце социальной структуры Израиля. Вот уж действительно установление, которое христиане могут одобрить в любой культуре, какие бы ни были их отличительные черты, правда? Ведь мы знаем, что семья дана Богом, и поэтому обязаны прилагать все усилия для ее поддержания. Все это так, но нам следует быть осторожными в том, как и где мы применяем свои библейские прозрения, а также, действительно ли наше понимание учитывает всю библейскую модель.
Как мы только что видели, библейские данные о семье представляют ряд парадоксов и двусмысленностей. Это неизбежно, потому что семья отображает двусмысленность самой человеческой жизни. Это означает, что человеческой семье присуща противоречивость, как и каждому человеку — он сотворен по образу Божьему и в то же время испорчен и грешен.
С одной стороны, семья, состоящая из отдельных личностей, сотворенных по образу Божьему, отражает некоторые аспекты личности Бога, а также является приемлемым контекстом и инструментом поклонения Богу. Масса библейских текстов утверждает высокое представление о семье в таком виде, в каком ее задумал Бог. В ней начинается жизнь человека, его первое познание мира. В семье проходит его воспитание согласно стандартам, угодным Богу. В семье человек учится жизненно важным навыкам общения, которые в будущем будут ему опорой, где бы он ни находился и какое бы он ни занимал социальное положение.
С другой стороны, семья состоит из личностей падших и грешных. Она иногда учит и другим «навыкам»: искусству унижения и угнетения своих собратьев. Если семье отдать высшее положение в обществе, в ней же тогда могут преподаваться и первые уроки идолопоклонства. Как мы уже видели, в Библии есть немало примеров неблагополучных, разбитых или сокрушенных семей, а также семей, совместно восстающих против Бога. Семья как установление открыто признается потенциальным источником идолопоклонства и, конечно, потенциальным «соперником Бога в борьбе за высшую верность», которая принадлежит одному Господу через Христа.
Поэтому нам следует избегать наивного или упрощенного представления о семье и предполагать, что Библия повсеместно и радостно утверждает, что это просто хорошо. Конечно, как и на всем в Божьем творении, на ней стоит знак Божьего одобрения — «весьма хорошо». Но она имеет силу, подобно всему человеческому, искажаться и превращаться в нечто очень плохое. Иногда христиане употребляют слово «семья» с теплотой, похожей по своей эмоциональной привлекательности на слово «сообщество». Мы говорим о семейных ценностях и ценностях сообщества, и думаем, что знаем, что это такое. Но это, вне всякого сомнения, может быть — и на это ясно указывает Библия — сообщество воров и преступников. А также в семейные модели могут проникнуть ужасное угнетение и несправедливость. Нам следует быть проницательными. Нам необходима критическая оценка.
Я полагаю, что ветхозаветное учение о семье может применяться этически в двух направлениях: с одной стороны, с учетом семьи в обычном светском обществе, и с другой стороны, с учетом церкви, особенно поместной церкви, как семьи или семейства Божьего. Если вновь воспользоваться нашими различными уровнями толкования, в первом случае наше толкование должно быть прагматическим, во втором — типологическим.
Семья в обществе
Увидев центральное место семьи в Израиле, проще всего было бы встать на защиту идеи о первостепенной важности семейного института для общего здоровья и блага современного общества. А затем, ожидая от нее слишком многого, взвалить на семью такую ответственность, что она (и в особенности родители) уже будет виновата за все социальные проблемы и болезни. Здесь существует опасность увидеть не всю ветхозаветную модель, действующей частью которой была семья. Нам следует помнить о всей модели, то есть о социальной, экономической и богословской системе Израиля. Ведь мы видели, что в Ветхом Завете семья находилась в центре концептуальной схемы, отводившей ей важнейшее место в социальной и экономической поддержке этой системы. И только как часть большей структуры, семья могла осуществлять свою важную роль в нравственной и религиозной жизни народа. Поэтому, если мы хотим провозглашать важность семьи в обществе согласно подлинно библейским направлениям, нам также следует ставить серьезные критические вопросы о характере самого общества.
Сегодня многие традиционные общества все еще имеют модель родства, напоминающую библейский Израиль. Определенные африканские и азиатские культуры говорят, что у них вовсе не существует трудностей в позитивном отношении ко многим особенностям ветхозаветных семейных обычаев и законов. Этого, однако, нельзя сказать о современном западном обществе и западной культуре, сильно отличающихся от древнеизраильских. Израиль был сравнительно простым обществом, основанным на относительно стабильных родственных связях, в которых родственные узы — и горизонтальные в нынешнем живущем поколении, и вертикальные в генеалогическом потомстве, были чрезвычайно важны. Обычная семья была расширенным семейством. В эту группу, возглавляемую одним человеком, входило несколько семей, насчитывающих до четырех поколений, вместе со слугами и другими наемными работниками. Такая семья была в значительной степени экономически независимой, а с кланом и коленом связывалась соображениями коллективной безопасности. Подобные родственные связи удовлетворяли большую часть социальных и экономических потребностей большинства людей.
Современное западное общество, каким оно стало после индустриальной революции, породило огромное разнообразие прочих социальных связей, вовсе не родственных, связанных с профессией, родом занятий, спортом, региональными объединениями, этнической и религиозной идентичностью в пестром обществе. Размер семьи значительно уменьшился. К одному месту семья уже прикреплена не так прочно, что негативно сказалось на ее собственной крепости. Во многих семьях дети растут без одного родителя, а в некоторых — с двумя, но только одного пола. Разного рода общества, ассоциации, благотворительные общества, правительственные ведомства, школы и больницы, банки, страховые компании и так далее взяли на себя многие социальные функции, которые ранее выполняла расширенная семья.
Это еще одна сфера, в которой серьезное социологическое исследование должно быть сопряжено с библейскими правилами и принципами. Проделанные исследования, как христианские, так и светские, вовсе не свидетельствуют, что родство и семья неуместны и неважны в современном обществе, но, мне кажется, они указывают на неотложную необходимость переосмысления и укрепления роли семьи в обществе.[294]
Предположим, что мы не можем возложить на маленькую семью такие же бремена, как на широкоплечую расширенную семью прошлого. Тем не менее, семья по–прежнему остается таким же фундаментальным фактором в обществе, как и в прошлом, а также основной ячейкой расширенного семейства. Расширенное семейство в Израиле было подобно молекуле, составленной присоединением нескольких родовых ядер. Оно не являлось открытой для всех коммуной. Расширенная семья в Израиле не была, как пишет один автор, общежитием, заполненным двуспальными кроватями. Наоборот, внутренние границы законных и незаконных сексуальных связей в близком родственном окружении определялись очень тщательно, чтобы защитить цельность составляющих семей (см. Лев. 18; 20).
Учитывая также, что ни одно современное общество не является искупленным народом завета, находящимся в таких же троичных отношениях, в каких находился Израиль, мы, тем не менее, можем позволить этой модели функционировать как образец в этом вопросе так же, как и в вопросах, рассмотренных ранее. Применяя его шире, ко всему человеческому обществу, мы все–таки можем устремляться к модели «семьи–в–обществе», которая в некотором смысле отражает ветхозаветный идеал. Это означало бы, что мы трудимся для достижения благих целей в обществе. Мы думаем, что в таком случае
• семьи могли бы знать, что они имеют важное значение и ценность в обществе, вместо того чтобы просто быть статистической пешкой государственной машины (социальный ракурс);
• семьи могли бы пользоваться определенной степенью экономической независимой жизнеспособности, основанной на справедливом распределении национального богатства (экономический ракурс);
• каждая семья могла бы иметь возможность услышать весть о божественном искуплении во всей ее полноте, свободу откликаться на нее и жить в соответствии с ней на протяжении сменяющихся поколений (богословский ракурс).
Идеалистично? Возможно. Но это, по крайней мере, идеализм, основанный на всеобъемлющей библейской модели. Это, может быть, более реалистично, чем стремиться к нравственному оздоровлению общества, призывая к большему семейному единству, в то же самое время не касаясь экономического давления и зла, подрывающего то, к чему призываем. Другими словами, хотя направление «поддержим семью» достойно в определенной мере уважения, оно не отдает должное всей библейской модели, разве что мы стремимся одновременно создать социальные условия, в которых сплоченность семьи становится экономически возможной, социально стоящей и духовно привлекательной.
Еще более бесполезным представляется повторение лозунгов вроде «во всем виноваты родители». Конечно, в целом Библия возлагает большую ответственность на плечи родителей. Это не вызывает сомнений и должно по–новому утверждаться в каждом поколении. Наряду с примерами сыновей Илия (1 Цар. 2, 12 — 3, 18) и Самуила (1 Цар. 8, 1–3), были также законы и наставления мудрости. И закон признает проблему упрямства и неисправимости среди молодежи, ведущей себя антисоциально (Втор. 21, 18–21). Но когда Израиль начал разваливаться нравственно, духовно, экономически и политически в последние столетия монархии, за социальное зло в обществе пророки обличали не семьи. Скорее наоборот, во всех грехах они обвиняли тех, чья жадность, угнетение и несправедливость эти семьи разрушали. Губительное, расщепляющее влияние нищеты, долга и абсолютной бесправности обычных семей перед лицом беспощадной экономической жадности позже нашло острое выражение в обращении отчаявшихся родителей к Неемии: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших… мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники наши у других» (Неем. 5, 4–5; курсив автора). Подобный вопль можно услышать и в наши дни.
Новый Завет и Божья семья
Переходя, наконец, к Новому Завету, мы встречаем подобную же неоднозначность семьи, которая еще острее определена в утверждениях Христа, требованиях царства Божьего и эсхатологической эпохи, в которой мы живем.
Иисус и семья
Из Евангелий ясно, что у Иисуса было положительное восприятие семьи, брака, детей и ответственности родителей.[295] Например, существуют некоторые повествования о рождении и детстве Иисуса в Евангелиях Матфея и Луки. Лука особенно подчеркивает роль Марии, матери Иисуса, как в евангельском повествовании, так и в начале Книги Деяний (1, 14). Лука пишет неоднозначное повествование о маленьком Иисусе в храме, который, судя по всему, поставил дом или дело своего Небесного Отца выше обеспокоенности родителей, но после этого следует наблюдение, что во время взросления в Назарете Иисус был послушен своим земным родителям (Лк. 2, 49–51). Также упоминается о присутствии Иисуса на бракосочетании в Канне, и о его выдающемся подарке смущенной паре (Ин. 2).
Что касается учения Иисуса, то мы не можем не вспомнить его убеждений о благости брака, когда он выступал против развода (Мк. 10, 2–12; Мф. 5, 31–32; 19, 1–9), а также его убеждений об обязанностях перед родителями, о которой говорит пятая заповедь, обличая желающих избежать ее, прикрываясь благочестием (ситуация с корваном, Мк.7,9–13;Мф. 15,3–6).
Более того, Иисус чудесным образом исцелил множество людей в ответ на мольбы об этом их членов семей: детей по просьбе их родителей, или тещу Симона по его просьба. И даже на кресте его сострадание к матери на какой–то момент перевесило собственную агонию (Ин. 19, 26–27).
С другой стороны, Евангелия ясно показывают, что следование за Иисусом означало радикальную переоценку семейных уз. Ученичество могло серьезно подорвать всю социальную и экономическую сферу семьи и семейства. Марк, едва только начиная говорить о служении Иисуса на земле, тут же описывает призвание им первых учеников. Эти мужи сразу оставляют свое семейное дело и следуют за Иисусом. Это отображается во многочисленных христианских проповедях как акт восхитительного, полного посвящения, которому нам следует подражать. Но их поступок также был скандальным в социальном смысле и нравственно безответственным в культуре того времени. Даже Иисусу, в лице которого пришло на землю Божье царство, пришлось пересмотреть устрой собственной семьи и подчинить ее задаче провозглашения царства. Поэтому все, посмевшие последовать за ним и поверить его вести, обязаны ставить царство Божье превыше всего, включая, при необходимости, даже семейные обязанности. Признаки приоритета царства над семьей таковы:
• Слова Иисуса, обращенные к матери и братьям, намеренно удаляют его от их требований и называют подлинной семьей общность людей, исполняющих волю Божью (Мк. 3,31–35). Вопрос «Кто матерь Моя и братья Мои?» был крайне шокирующим ответом на их требования. Они должны были звучать как фактический отказ от своего родства. Мы знаем, что Иисус, конечно же, не делал этого, но довольно резко представил реальность родства с собой в царстве Божьем выше человеческих родственных обязательств.
• Таким же шокирующим был его ответ человеку, который хотел стать учеником, но попросил сначала разрешить пойти и похоронить своего отца. Подобное сыновнее почитание было, и во многих культурах по сей день остается, высочайшим социальным и религиозным приоритетом, ожидаемым от любого сына. Знаменитый ответ Иисуса «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» подразумевает не только то, что требования ученичества и неотложность царства должны предшествовать высочайшим человеческим обязанностям, но также то, что отказывающиеся поступать в согласии с этим приоритетом сами исключили себя из жизни царства и, по сути, мертвы (Лк. 9, 59–60).
• Подобное же резкое столкновение приоритетов выражено в требовании, что в сравнении с любовью к Иисусу любовь ученика к своим родителям и семье должна считаться ненавистью — характерная форма еврейской гиперболы, или сравнительного отрицания (Мф. 10, 37; Лк. 14, 25–26). Оно относится к той же категории, что и требование взять крест и не возлюбить души своей. На фоне подобных радикальных и бескомпромиссных требований вовсе не удивительно мнение Иисуса о том, что его приход принесет на землю вовсе не мир, но прежде всего меч — разделение между его последователями и врагами, которое пройдет через семьи и семейства, а также через остальное общество (Мф. 10, 34–36; Лк. 12, 49–53). Ненависть и преследования ради имени Христова не будут подчиняться правилам семейных связей (Мк. 13, 12–13). История христианских миссий и мученичества на протяжении веков показала, что он прав.
• Столь радикальное обособление от семейной преданности и безопасности ради Христа и царства Божьего, тем не менее, будет компенсировано абсолютно новым опытом семьи, семьи Божьей во Христе. Обещание Иисуса о том, что оставившие дома, или семью, или имущество ради царства получат во сто крат больше благословений, дано в контексте его требования молодому человеку раздать свое имущество и последовать за Иисусом. При этом Петр несколько неуверенно заявил, что он и его собратья–ученики уже сделали это (Мф. 19, 16–30; Мк. 10, 17–31; Лк. 18, 18–31). Так мы естественно подходим в наших рассуждениях к заключительному пункту.
Церковь и Божья семья
Действительно, для ранней церкви было характерно, что новый опыт семьи во Христе, в смысле духовного общения и его социального и материального выражения, замещал для некоторых семейную защищенность, которую они зачастую теряли, исповедовав верность Христу. Но в то же самое время раннее христианское движение не противопоставляло себя обычным нормам семейной жизни общества, но, скорее, стремилось поддерживать и преображать их под господством Христа.
«Дом(oikos) же Его — мы», говорит Послание к Евреям, обращаясь к читателям–христианам (Евр. 3, 2–6). Автор намекает на Чис. 12, 7, где этот термин относится к народу Израиля как к семейству Божьему, главным управляющим которого был Моисей. Это один из многих отрывков в Новом Завете, в котором язык и образы, изначально относившиеся к Израилю, теперь отнесены к христианской церкви, оправданные существовавшими между ними типологическими связями, сфокусированными на Иисусе Мессии. Выражение «дом Израилев» было распространено в Ветхом Завете, как и идея Израиля — «дома Господнего» (по контрасту с их участью, когда они были в Египте, «доме рабства»). «Дом Божий», конечно же, чаще всего относится к Иерусалимскому храму. Но иногда оно употреблялось образно в отношении всего народа и земли, составлявшей Израиль. По сути, они составляли дом, семейство, наследие Божье.[296] Суть метафоры в том, что Израиль был не только народом или собранием отдельных личностей, но также сообществом, имевшим чувство семейного единства, семейством, принадлежавшим Богу.
Контекст и содержание метафоры берет свое начало в израильской семье, которую мы только что подробно рассмотрели. В этом контексте можно подчеркнуть две ее особенности. Во–первых, она была центром поклонения и обучения, и поэтому являлась важным средством, сохраняющим непрерывность традиций веры народа от поколения к поколению. Во–вторых, она была местом принятия, принадлежности и защиты для каждого. Каждый человек обретал в ней свою принадлежность народу завета, в ней испытывал на себе его благословения. Именно поэтому о вдовах, сиротах и пришельцах необходимо было проявлять особую заботу: ведь у них не было своей семьи.
В Новом Завете христианская церковь считала себя наследником титула «дом Израилев», семья Божья. Эта терминология может применяться как в отношении всей Церкви (соответствующей народу Израиля)[297], так и в отношении меньших поместных церковных общин (соответствующих израильскому расширенному семейству). Здесь нас больше интересует второе. Использованию образов семьи и семейства в отношении поместных христианских церквей, вне сомнения, в значительной мере способствовал тот исторический факт, что многие из них произошли из обращенных семейств и собирались по домам:
Идея семьи Божьей может передать то, что уже осуществилось в раннем христианском сообществе благодаря домашним церквям. Семейство как сообщество… составляло наименьшую единицу и основу общины. Домашние церкви, упоминающиеся в НЗ (Деян. 11, 14; 16, 15.31.34; 18, 8; 1 Кор. 1, 16; Флм. 2; 2 Тим. 1, 16; 4, 19), без сомнения, возникли через использование домов как мест собраний.[298]
Соответственно, две упомянутые выше особенности старой израильской семьи действуют в новозаветной поместной церкви. Во–первых, она была местом поклонения и обучения. Дома использовали для проповеди евангелия (Деян. 5, 42; 20, 20). Здесь совершалась Вечеря Господня (Деян. 2, 46) и крещение (1 Кор. 1, 16; Деян. 16, 15). Поэтому послания Павла к этим церквям изображают их живыми, обучающимися и поклоняющимися совместно в семейном духе. Более того, Павел выстраивает в обратном порядке связь церковной и семейной жизни, настаивая, что те, кто пользуется авторитетом в пасторской и назидательной жизни церковной семьи, должны доказать, что способны управлять собственным семейством (1 Тим. 3, 4–5, ср. 3, 15).
Во–вторых, поместная церковь также была местом принадлежности и принятия. Возможно, с этической точки зрения именно эту особенность следует подчеркнуть здесь. Христиане рождаются в семье Божьей и поэтому принадлежат к ней. Следовательно, вместе с другими членами, среди которых Бог нас поместил, мы делим ответственность и права принадлежности семье. К ответственности относится обязанность быть частью семьи в социальных и экономических требованиях подлинногоkoinonia общения, о котором шла речь в шестой главе. Это также распространялось на более общее чувство взаимных обязательств в семье, обобщенных Павлом: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10). Явный новозаветный нравственный акцент на любви к братьям — это еще один способ выразить мотив «прежде всего семья».
Главной же привилегией, конечно же, является полное присоединение к семье Божьей, так что все принадлежащие к церкви через веру в Иисуса Мессию причастны ко всем благословениям обещанного наследия. Верующий–христианин, еврей или нееврей, уже не гость, пришелец или одинокий человек(paroikos), — он уже получил статус кровного родственника (Еф. 2, 19).
Еще одной важной функцией церковной семьи должно быть обеспечение некой духовной и даже физической компенсации, в случаях, где естественные человеческие семейные узы были разорваны в результате принятия евангелия. Этот разрыв естественных семейных отношений также предвиделся в Ветхом Завете, об этом говорил и сам Иисус.
То, как Евангелия воспринимают пророчество Михея о последнем времени (Mux. 7, 6 = Мф. 10, 35 и дал.; Лк. 12, 53) указывает, что изначальная община должна была расплачиваться за разрыв с семьей ради Евангелия. Тем, кто берет это на себя, обещаны «ныне, во время сие» новые «дома, и братья, и сестры, и отцы, и матери, и дети» (Мк. 10, 29 дал.; Мф. 19, 29; Лк. 18, 29 дал.). Место разрушенной семьи занимала семья Божья, христианское сообщество.[299]
Следует задаться вопросом, многие ли поместные церковные семьи вполне осознают эту обязанность, которая является отчасти целью их существования? Обеспечивают ли они социальную заботу и принятие тем, кто, возможно, в результате весьма непростого сознательного выбора пришел к ним в обстоятельствах, схожих с обстоятельствами вдовы, сироты или пришельца в Ветхом Завете?
И вновь мы видим, что социальный, экономический и культурный аспект жизни древнего Израиля типологически формирует наше понимание новозаветного народа Божьего. Но на этом дело не останавливается. Сравнительная типология, в свою очередь, приводит нас к поиску новых нравственных норм для христианской жизни. Следовательно, в этом контексте интересно отметить, что одно из основных благословений, которое открывают церкви, переживающие обновление духовной жизни — это возрождение истинного библейского общения. Происходит новое открытие подлинной социальной природы и функции церкви как семейства Божьего, а также связанных с этим прав и обязанностей. Приятно осознавать, что это благословение имеет глубину и богатство, взращенные на ветхозаветной почве, в которой находятся корни новозаветной церкви и из которой она черпает нравственную поддержку, даже если многие представители современной церкви, пользующиеся этим новым открытием, все еще не осознают его происхождение.
Дополнительная литература
Barton, S. С, 'Family', in J. В. Green and S. McKnight (eds.), Dictionary of Jesus and the Gospels (Downers Grove: InterVarsity Press; Leicester IVP, 1992), pp. 226 — 229.
Bendor, S., The Social Structure of Ancient Israel: The Institution of the Family (Beit 'Ab) from the Settlement to the End of the Monarchy, Jerusalem Biblical Studies, vol. 7, ed. E. Katzenstein (Jerusalem: Simor, 1996).
Brichto, Herbert C, 'Kin, Cult, Land and Afterlife — a Biblical Complex', Hebrew Union College Annual 44 (1973), pp. 1 — 54.
Gitari, David, 'The Church and Polygamy', Transformation 1 (1984), pp. 3 — 10.
Goetzmann, J., 'House', in Colin Brown (ed.), New International Dictionary of New Testament Theology, vol. 2 (Carlisle: Paternoster, 1976), pp. 247 — 251.
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach (Louisville, KY: Westminster John Knox), 1994.
Matthews, V. H., 'Family Relationships', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament Pentateuch, pp. 291 — 299.
Mott, Stephen Charles, A Christian Perspective on Political Thought (Oxford: Oxford University Press), 1993.
Perdue, Leo G, Blenkinsopp, J., and Collins, J. J., Families in Ancient Israel (Louisville, KY: Westminster John Knox), 1997.
Schluter, Michael, and Clements, Roy, Reactivating the Extended Family: From Biblical Norms to Public Policy in Britain (Cambridge: Jubilee Centre), 1986.
Sprinkle, J. M., 'Sexuality, Sexual Ethics', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament Pentateuch, pp. 741 — 753.
Swartley, Willard M., Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Scottdale, PA: Herald), 1983.
Wright, Christopher J. H., 'What Happened Every Seven Years in Israel? Old Testament Sabbatical Institutions for Land, Debts and Slaves', Evangelical Quarterly 56 (1984), pp. 129 — 138, 193 — 201.
_, God's People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1990; Carlisle: Paternoster, rev. ed., 1996).
_, 'Family', in Freedman, Anchor Bible Dictionary, vol. 2, pp. 761 — 769.
11. Образ жизни человека
Человек и общество
Сейчас мы подходим к завершающей главе этого раздела, к тому пункту, с которого, как ожидали некоторые, мы начнем — к области личной этики Ветхого Завета, нравственных требований, предъявляемых Богом к личности в ходе всей его жизни. Такой порядок не случаен. Я убежден, как отмечалось во второй главе, что индивидуальные аспекты ветхозаветного богословия и этики нельзя оценить в отрыве от понимания сообщества Божьего, вызванного к существованию избранием и искуплением. Именно поэтому я посвятил предшествующие главы социальным аспектам Израиля как народа, прежде чем заговорить об отдельных личностях. По сути, различение социальной и личной этики не всегда полезно или приемлемо в Ветхом Завете, потому что индивидуальная этика сформирована общинной.
Те из нас, кто является представителем Запада, должны посмотреть несколько иначе на привычные модели этической мысли по данному вопросу, если мы хотим увидеть все с ветхозаветной перспективы. Мы склонны начинать на уровне одного человека, и далее отталкиваться от этого. Мы сосредотачиваем внимание на том, чтобы убедить людей лично жить в соответствии с тем или иным нравственным стандартом. Если достаточное количество людей будет жить по этим стандартам, тогда, соответственно, само общество улучшится, или, по крайней мере, будет сохранять здоровую, счастливую, безопасную обстановку для отдельных личностей для того, чтобы они стремились к благочестию. Мы говорим: «Ты должен быть таким человеком, и в результате таким будет общество».
Однако в традиционных культурах, еще не затронутых западным индивидуализмом, модель этического мышления начинается с другого уровня. То, как сообщество понимает себя, определяет приемлемое и неприемлемое личное поведение. Именно так в Ветхом Завете, где показано, каким желает Господь видеть общество. Бог хочет видеть народ святым, искупленным и образцовым. Через него Бог может явить прототип нового человечества, которое намеревается создать. Бог хочет видеть сообщество, которое отразит его собственный характер и ценности, особенно справедливость и сострадание. Итак, если Бог хочет видеть таковым это новое общество, то таким должен быть и ты, если принадлежишь к нему. Таким образом, личная этика происходит из богословия искупленного народа Божьего. Другими словами, личная этика Ветхого Завета, также как и социальная этика, — заветная. Завет был заключен между Богом и Израилем как народом, но его нравственные последствия повлияли на каждого входящего в него человека.
Эта особенность ветхозаветной этики полностью созвучна с этическим средоточием Нового Завета. Большая часть новозаветных этических наставлений дана в контексте характера общины, призванной Богом к существованию во Христе. Отдельные люди призваны к нравственному поведению как часть церкви, живя, учась, совместно поклоняясь и служа Христу в мире. Так, например, известные главы Еф. 4—6, посвященные этике, начинаются с призыва «поступать достойно звания, в которое вы призваны». Из предыдущих глав это означает призвание быть членом нового сообщества Божьего — чуда социального и духовного примирения, созданного Богом через Христа. Личные нравственные стандарты заключительных глав провозглашаются на основании принадлежности к искупленному сообществу, описанному в первых главах.
Поэтому один из возможных способов собрать воедино солидное количество нравственных требований Бога к людям — просмотреть предшествующие главы, касающиеся проблем израильского общества, и дописать по каждой из них приложение, содержащее все вытекающие этические последствия для современного человека. Например, если Богу нужно общество, отмеченное экономическим равенством и состраданием, тогда каждый израильтянин должен был бороться с эгоизмом и искушением нечестно нажиться на несчастьях ближнего. Если Богу угодно создать правовое общество, основанное на беспрекословном подчинении законам, тогда судьи должны были действовать нелицеприятно и неподкупно. И так можно перечислить весь спектр социальных характеристик, выводя их следствия для отдельно взятого человека.
Поскольку читатели могут сделать собственные выводы, они могут посчитать утомительным занятием чтение длинных списков вполне очевидных результатов. Единственное, что я хотел бы утвердить здесь — это вопрос перспективы. В библейской этике это природа сообщества, желаемого Богом (и, в эсхатологическом видении, в итоге созданного им), которое определяет то, какую личность одобряет Бог. Социальное и личное неразделимо в ветхозаветной этике.[300]
Личная ответственность
Тем не менее, мое заявление не означает, будто подобная, ориентированная на сообщество этика каким–либо образом замещает, или же подрывает нравственную ответственность человека. Обязанность отдельного гребца нести свое бремя не становится меньше из–за того, что вся команда должна выиграть гонку и оправдать ожидания своего тренера. Подобным же образом, несмотря на утверждение корпоративных аспектов Божьего нравственного требования, Ветхий Завет никогда не упускает из виду и не отменяет обязанность человека жить праведно пред Богом. Первые вопросы в Библии, обращенные к Адаму и Еве, подразумевают личную ответственность: «Где ты?.. Кто сказал тебе?.. Что ты это сделала?..» (Быт. 3, 9–13). Те же вопросы обращены к каждому человеку, которых представляли Адам и Ева. Также вопрос Бога к Каину: «Где брат твой?» (Быт. 4, 9) обращен к каждому человеку, потому мы все ответственны перед Богом за своего собрата. Подобная ответственность перед Богом за свое поведение и отношение друг к другу — это суть человеческого бытия. Человек отличается от других созданий тем, что он отвечает перед Богом за свои поступки. Так как каждый из нас сотворен по образу Божьему, Бог может обращаться к нам, и мы подотчетны ему. Это фундаментальное измерение, которое означает, что такое быть человеком, личностью, индивидуальностью.
По ходу развития ветхозаветной истории мы находим, что поведению человека уделяется большое внимание. Рассказ начинается с веры и послушания отдельно взятого человека — Авраама. Более того, послушание Авраама становится причиной продления завета. Когда Бог обновляет его с Исааком, то говорит, что делает это «за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. 26, 5). Патриархальные (родовые) повествования служат моделью власти, провидения и терпения Бога в жизни личностей, которые в свое время будут столь очевидны и необходимы в истории народа.
У Синая завет, заключенный с одним Авраамом ради его потомков, обновляется и расширяется на весь народ, его потомков. Но тогда он применяется к каждому человеку. Заветные отношения принадлежат всему обществу: «Я буду вашим Богом; вы будете Моим народом». Здесь местоимения «вы» и «вашим» множественного числа. Но главное требование обращено к отдельному человеку с помощью единственного числа: «Да не будет у тебя иных богов предо Мной».
Тот же индивидуальный акцент характерен для оставшейся части Десяти заповедей, да и для значительного количества подробных законов Пятикнижия. Самый ранний свод законов, «Книга завета» (Исх. 21 — 23), действует юридически на безошибочном основании личной ответственности и обязательства перед законом. Более того, как мы видели в девятой главе, искупительные или коллективные формы наказания, прощавшие или подрывавшие личное обязательство, были законодательно исключены из сферы нормальной судебной процедуры (Исх. 21, 31; Втор. 24, 16). Среди ученых хорошо известно, что еврейский текст Книги Второзакония колеблется между обращением к Израилю во втором лице множественного и единственного числа. Это уже не считается указанием на различные документы или авторов в тексте, но стилистическим способом показать, что нравственные требования Бога к поведению его народа обращены как ко всему сообществу, так и к каждому из них в отдельности.
Перейдя от закона к пророкам, становится совершенно ясно, что главным призванием пророков было обращение к народу или личностям, занимавшим высокие посты — царям и другим руководителям. Тем не менее, наряду с этой социальной, общей задачей пророки, не колеблясь, обращали нравственный призыв Божьего слова на личные поступки: Девора обличала Варака за его бездействие (Суд. 4, 8–9); Самуил бросал вызов Саулу из–за его непослушания (1 Цар. 15, 22–23); Нафан обличал Давида за прелюбодеяние и убийство (2 Цар. 12, 1–10); Илия осудил Ахава за несправедливость и убийство (3 Цар. 21,17 и дал.); Исайя, не сумев убедить Ахаза довериться Богу, обличил его за маловерие и непослушание (Ис. 7, 1–13); Иеремия выступал против лжепророков, обращаясь как к группе (Иер. 23, 9–40), так и лично (Иер. 28), и немилосердно разоблачал личную жадность и притеснения царя Иоакима (Иер. 22, 13–19).
Иезекиилю часто приписывают то, что он первый заговорил о личной ответственности, как будто это было чем–то новым в этическом мышлении Израиля (Иез. 18). Все потому, что он осуждает попытку поколения израильтян в изгнании переложить вину за все свои страдания на грехи своих отцов, и выдвигает в качестве контраргумента знаменитые слова: «Душа согрешающая та умрет» (Иез. 18, 4). Однако мнение, что Иезекииль изобрел доктрину личной ответственности, было отвергнуто теми, кто внимательнее изучил тесную связь между общим и личным в израильской мысли, а также то, что на самом деле хотел сказать Иезекииль.
С одной стороны то, что у Израиля была сильная концепция коллективной солидарности, не означало, как полагали некоторые ученые в прошлом, что в Израиле вовсе не было представления о личной ответственности до периода пленения. Акцент на индивидуальности в ранних юридических текстах (например, Книге завета, как мы видели) за столетия до Иезекииля показывает это. Совершенно ясно, что в израильских судах каждый человек нес личную ответственность за свои действия, и наказывался или оправдывался соответственным образом.[301]
С другой стороны, Иезекииль занимался благовестием (см. окончание Иез. 18). Ради этой цели ему было необходимо разоблачить ложные оправдания и попытки народа снять с себя ответственность. Изгнанники обвиняли в своей участи прежние поколения. Они пытались обвинить Бога в несправедливости по той причине, что он заставляет страдать их поколение, после того как многие поколения до них оставили следы греха и порока. Они были возмущены тем, что их заставили страдать безвинно за грехи других. Но Иезекииль отрицает это предположение. Они не были невинными детьми порочных родителей. Они несут полную ответственность за свое поведение, которое было настолько откровенно порочным, что они сами заслужили суд Божий. Они должны признать собственную вину и ответственность. Поэтому Иезекииль начинает с отрицания распространенной пословицы (Иез. 18, 2), и затем предлагает сложное, относящееся к этому поколению рассуждение, которое воплощает доктрину личной этики, соответствующей Втор. 24, 16. Главный пункт в рассуждениях Иезекииля должен был показать, что каждое поколение уцелеет или погибнет в соответствии со своим нравственным откликом на Божий закон, так же будет и с каждым человеком. Обратиться от праведности к беззаконию — накликать несчастье. Но в этой главе есть также чудная радостная весть: когда беззаконники обратятся от своего беззакония и продемонстрируют свое покаяние радикальной нравственной переменой жизни, тогда они обретут прощение, и их жизнь будет сохранена. Несомненно, проповедь Иезекииля несет новую глубину и вызов личной ответственности, и он, конечно же, ясно раскрывает вопросы жизни и смерти, связанные с нравственным выбором и привычками. Однако его аргументация — это развитие глубоко укорененной ветхозаветной веры, а не радикальное нововведение.
Модели нравственности
Теперь мы переходим от общих размышлений двух последних разделов к более конкретным вещам. Ведь Ветхий Завет представляет нам ряд моделей такой личной нравственной жизни, которая либо угодна Богу, либо нет. Я имею в виду не множество реальных персонажей, которые наполняют страницы ветхозаветной истории, хотя они демонстрируют богатый кладезь личных нравственных уроков, что известно каждому учителю воскресной школы. Скорее меня интересуют портреты персонажей, встречающиеся в различных формах, которые дают фоторобот характерных качеств праведной личности. Вальдемар Янцен (Waldemar Janzen) называет это классическими «образцами (paradigm)» поведения в древнем Израиле.[302] Янцен использует понятие несколько иначе, чем я. В то время как я использую его, чтобы описать главным образом всю структуру Израиля, представленную нам в Ветхом Завете, Янцен его использует, чтобы говорить о моделях идеального поведения, которое, как он полагает, направляло принятие этических решений израильтян. И эти образцы, или портреты, идеальной семьи, священника, царя, пророка, были в основном сформированы повествованиями.
Гордон Уэнхем (Gordon Wenham) в своем занимательном исследовании риторической стратегии Книги Бытия также приходит к выводу, что образцовое нравственное поведение представлено в различных повествованиях:
Таким образом, из повествований Бытия мы можем создать каталог добродетелей, как их воспринимал автор, или фоторобот праведника. Он, или она, благочестив, то есть молится и зависит от Бога. Сильный и смелый, но неагрессивный или жестокий. Он, или она, щедрый, правдивый, верный, особенно по отношению к другим членам семьи. Праведный человек не боится проявлять эмоции радости, печали или гнева, но гнев не должен выливаться в непомерную месть, скорее праведник должен быть готов простить. Наконец, праведность не требует аскетизма: следует пользоваться радостями жизни, но не становиться их рабом.[303]
Чтобы завершить мысль, предложенную здесь Янценом и Уэнхемом, нам следует подумать о ряде подобных портретов образцового поведения в Ветхом Завете. Во–первых, существует мир мудрецов, который обращает серьезное внимание на примеры (и последствия) человеческих решений. Затем мы рассмотрим несколько героев, которые представляют собой прецедент нравственного и безнравственного поведения, будь то в нравственной самозащите или для широкой апологетики. Наконец, мы перейдем к поклонению древнего Израиля и посмотрим, какие этические критерии выдвигались, чтобы бросить вызов тем, кто хотел прийти во дворы Святого Израилева.
Мудрый человек
Ветхозаветная литература мудрости, несмотря на все свои международные связи и ассимиляции, твердо занимает центральное место в потоке яхвистской веры Израиля. Как утверждает мудрец, выражая тем самым главную тему этой литературы: «Начало мудрости (или главный принцип) — страх Господень» (Притч. 9, 10).[304] Литература мудрости содержит глубокую социальную заинтересованность, подобно закону и пророкам, но большая часть ее высказываний обращена к личности. Эти притчи собраны, чтобы показать, предостеречь, исправить и направить отдельного израильтянина по тому пути жизни, который угоден Богу, и наилучшим образом служит его личным интересам.
Хотя преобладающий интерес Книги Притчей представляется антропоцентричным (сосредоточенным на человеческой жизни), в ее основе присутствует любопытная и непрямая сосредоточенность на Боге. Огромное множество человеческих черт характера, моделей поведения и нравственных ценностей, одобряемых в текстах мудрости, на самом деле отображают известный характер Бога, описанный в других отрывках Ветхого Завета. В этой связи личная этика Притчей поддерживает высказанный в первой главе тезис о том, что ветхозаветная этика основана на подражании путям самого Бога. В нескольких примерах ниже я набросаю очерк этой уникальной модели. Я начну каждый из примеров с некоторых особенностей Господа как Бога, а затем рассмотрю, как это отображает модель мудрости для человеческой жизни:
«Сотворил Бог человека по образу Своему. Мужчину и женщину сотворил их». Сексуальность человека отражает одно из измерений образа Божьего в человеке и поэтому является безгранично драгоценной. Поэтому мудрый человек избегает всякого неправильного использования ее, особенно разрушительных последствий обольщения и прелюбодеяния (Притч. 2, 16–22; 5; 6, 20–35; 7). Мудрый выбор — обрести постоянное, чистое наслаждение и радость в верном браке (Притч. 5, 15–19; 31, 10–31; ср. Песнь Песней).
Бог — божественный родитель (ср. Втор. 32, 6.18). Отношения детей с родителями используются в качестве метафоры отношений Бога с его народом. Поэтому мы видим, что большая часть учения в Притчах представлена в форме «от–отца–к–сыну», которое содержит в себе божественно–человеческую двойственность. То есть на поверхности оно говорит об этих человеческих отношениях (хотя и может отражать другие формы авторитета в образах родителей — царя или судьи), но голос отца в тексте также ясно отражает голос Бога в предлагаемых предупреждениях и советах. Но нет ничего двойственного во власти, ожидаемой от человеческих отцов и матерей, или воспитания и наказания, которое является функцией, а не отрицанием отцовской любви (Притч. 13, 24; 15, 5; 19, 18; 22, 15). И наоборот, от мудрого сына требуются смирение и послушание (Притч. 13, 1.18). Мудрец испытывает радости и боль отцовства столь же ярко, как Бог в отношении своего капризного народа (Притч. 10, 1; 17, 21; 19, 26; 23, 24–25).
Бог — праведный царь и судья. Поэтому у Книги Притчей есть что сказать царям и судьям вообще. Политическая и судебная справедливость для мудреца важна так же, как для законодателя или пророка (Притч. 16,10.12–15; 17, 15; 18, 5; 20, 8.26; 22, 22; 28,3.16; 29, 14; 31, 1–9). Это сфера, в которой социальное и нравственное здоровье всего общества главным образом зависит от честности и преданности отдельных людей, а также принимаемых ими решений.
Бог есть любовь. Незаслуженная милость Бога и бесконечная верность были ключевыми мыслями в хвалениях Израиля. Подобные качества должны отображаться в человеческой дружбе. Одной из наиболее привлекательных черт мудрого человека, которые одобряет Книга Притчей, является дружелюбие, тактичность и зрелость во взаимодействии с людьми. Мудрому человеку известны ценности такта (Притч. 15, 1), конфиденциальности (Притч. 11, 13), терпения (Притч. 14, 29), честности (Притч. 15, 31–32; 27, 6), прощения (Притч. 17, 9), верности (Притч. 17, 17; 18, 24), обдуманного поведения (Притч. 25, 17; 27, 14) и практической помощи (Притч. 27, 10). Кроме того, мудрый человек знает об опасностях купленной дружбы (Притч. 19, 4), сплетен (Притч. 20, 19), гнева (Притч. 22, 24–25), лести (Притч. 27, 21) и неуместной симпатии (Притч. 25, 20). Все это практические способы, при помощи которых заповедь закона «возлюби ближнего своего как самого себя», служащая отображением любви Бога к нам и нашей любви к Богу, облачается в повседневные одежды личной этики.
Бог сострадателен и щедр. История Израиля, включая освобождение из рабства и дарование земли, доказала это. Действительно, в результате исхода Бог возвестил определение своего имени и характера: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый…» (Исх. 34, 6). Поэтому на плечи каждого израильтянина была возложена практическая забота о нищих. Многие высказывания мудреца о богатстве, бедности и экономической справедливости вполне актуальны сегодня (Притч. 11, 24–25; 14, 31; 17, 5; 19, 17; 21, 13; 22, 9.16).[305]
Бог — работник. Бог передал часть своих безграничных творческих навыков (см. Притч. 8) в ограниченной форме людям, сотворенным по его образу. Следовательно, люди также по своей природе и замыслу являются работниками. Соответственно, Книга Притчей представляет отдельному человеку добродетели и награды труда. Этому позитиву противопоставляется леность ленивца. Этот образ ярко представлен в трагикомических красках. Но он не только предмет насмешек, его сознательная, привычная и абсурдно рационализированная лень является отрицанием его человеческой природы и оскорблением его Творца (Притч. 12, 11; 14, 23; 18,9; 22, 13; 24, 30–34; 26, 13–26; 28, 19).
Бог говорит. Это одна из основных и отличительных особенностей живого Бога Израиля. И, несомненно, одним из величайших даров человечеству является безграничная сила коммуникации. Слова имеют глубокое значение для авторов Книги Притчей, потому что они их считают мощным инструментом добра или зла, таким же мощным, как и поступки. Поэтому мудрому человеку предлагается множество советов и предостережений в отношении использования слов и злоупотребления ими (Притч. 12, 19.22; 13, 3; 14, 5; 15, 2.23; 18, 6–8.20–21).
Бог полновластен. Бог предоставил каждому человеку свободу и ответственность в его нравственных решениях и выборе, но в итоге значение будет иметь только Божья воля (Притч. 16, 1–2.9; 19, 21; 21, 1–2.30–31). Поэтому сущность мудрости в том, чтобы принять парадокс этой крайне непостижимой истины, и искать Божьего руководства в смирении, преданности и послушании (Притч. 3, 5 и дал.; 16, 3). В разных формах это и есть значение всеобъемлющей вести — «ищи мудрости». И наоборот, глупец в Книге Притчей не является интеллектуально ущербным (на самом деле он может быть очень умным). Скорее глупец — это человек, который проводит свою жизнь намеренно, кичась — даже насмехаясь над Богом, не думая о нем. Мудрость и глупость в Ветхом Завете не являются интеллектуальными концепциями, но в большей мере нравственными и духовными. Мудрость — это решение жить согласно воле и руководству суверенного Бога. Глупость — думать, что можно жить, пренебрегая и тем, и другим.
Прежде чем оставить модель мудрого человека, рассмотрим прекрасный портрет, который подводит Книгу Притчей к завершению и кульминации, суммируя все эти характеристики в женском образе «добродетельной жены» (Притч. 31, 10–31). Она служит примером сексуальной чистоты (Притч. 31, 11–12), родительской заботы (Притч. 31,15), продуктивного и прибыльного труда (Притч. 31,16–19), сострадания и щедрости (Притч. 31, 20), поддержки своего мужа (Притч. 31, 23), здравой речи (Притч. 31, 26) и страха Господнего (Притч. 31, 30). Другими словами, она отображает Господа, которому поклоняется.
Нравственная апология
Иов
Книгу Иова также относят к литературе мудрости. Размышление о связи между личной нравственностью и незаслуженным страданием предоставляет нам еще один образец личной этики — нравственную апологию, или самозащиту. Несомненно, Иов защищает свою нравственную непорочность на протяжении всей книги. Все его доводы говорят о том, что страдание не было результатом его испорченности. Он противится все более усиливающимся манипулятивным попыткам своих друзей заставить его признать грехи (хотя он знает, что не совершал их), чтобы избежать боли страдания (хотя он знает, что не заслужил его). Он заявляет, что чист, и от этого никогда не откажется.
Но кульминация доводов Иова приходится на Иов 31 — главу, великолепную как с точки зрения поэзии, так и этики. В ней Иов призывает на себя серию проклятий в доказательство своего притязания на то, что он вел непорочную жизнь. Из–за формулы проклятия в речи этические моменты представлены в форме отрицания. Иов перечисляет преступления, в совершении которых он не был виновен, а также рассказывает, каким человеком он не был, и призывает Бога навести на него различные бедствия, если он лжет. Таков характер формулы проклятия самого себя в этой главе. Но отрицательные формы могут быть легко преобразованы в положительные образы, отражения того, каким человеком на самом деле был Иов — или утверждал, что был таким. Защищая себя, Иов утверждает, что он:
• дисциплинировал себя против похоти (1 ст.);
• уклонялся от прелюбодеяния (9–12 ст.);
• был честным в торговле (5–6 ст.);
• поступал справедливо в отношении своих рабов (13–15 ст.);
• был щедр и сострадателен ко всем классам нищих (16–23 ст.);
• избегал идолопоклонничества, будь то в форме материализма или астрологии (24–28 ст.);
• контролировал свои мысли и язык (29–30 ст.);
• проявлял гостеприимство (31–32 ст.);
• был готов открыто признавать свой грех (33–34 ст.);
• правильно относился к земле и работникам, включая справедливую оплату (38–40 ст.).
Кое на что хочется обратить особое внимание. Во–первых, на уровень нравственности поведения из этого поразительного списка, которая простирается от мыслей сердца, через слова, личные поступки, сексуальные и семейные дела к экономическому, социальному и общественному поведению. Совершенно ясно, что личная этика, согласно мысли автора этой книги, охватывала широкий спектр жизни: внутреннее и внешнее, частное и общественное, видимое и невидимое. Еще один важный момент — это роль, которую играет Бог в нравственном умозаключении. Бог всевидящий (Иов 31, 4), и оценивает каждое действие (Иов 31, 6, 14). Бог — Создатель всего человечества, и поэтому защищает равные права каждого, включая рабов (Иов 31, 15). Бог наводит суд на беззаконие (Иов 31, 23), особенно идолопоклонничество, которое является неверностью по отношению к нему (28). От Бога не скроешься, и вся жизнь проходит перед его лицом и под его нравственным надзором. Как сказал другой мудрец:
Самуил
Второй пример подобной нравственной самозащиты встречается в словах Самуила во время его прощальной речи, когда он передавал политическую власть Саулу (1 Цар. 12, 2–5). Она намного короче, и касается только сферы общественной морали, что соответствовало случаю. Самуил возвращался в речи к своему общественному служению. Поэтому он попросил открыто засвидетельствовать о его честном осуществлении своего служения. Список вопросов Самуила и ответ народа освободил его от обвинений в
• воровстве или вымогательстве (личная выгода от общественного служения), и
• взяточничестве (личная выгода от судебной власти).
Этот короткий отрывок обращает внимание на честность в общественном служении. Более того, именно неспособность сыновей Самуила следовать его нравственным критериям привела к введению царской власти (1 Цар. 8, 1–5).
Иезекииль
Третий список добродетелей и пороков, который можно привести здесь, — это список, повторяющийся в Иез. 18. Это не столько нравственная апология личности, сколько схема типичных особенностей праведности и нечестия, как они проявлялись на протяжении ряда поколений. Она представлена как дело, изученное Иезекиилем, который использует всю свою священническую подготовку, чтобы показать нравственно–юридический аспект. И снова список конкретный, и совпадает со списками Иова и Самуила в некоторых моментах. Согласно Иезекиилю, праведный человек избегает грехов из следующего списка:
• идолопоклонничество (Иез. 18, 6а);
• прелюбодеяние и прочие сексуальные проступки (Иез. 18,66);
• угнетение нищих, такое как невозвращение залогов, взятых за долги (Иез. 18, 7а);
• грабеж (Иез. 18, 76);
• отказ кормить голодных и одевать нагих (Иез. 18, 7в);
• ссуды ради чрезмерной прибыли посредством ростовщичества (Иез. 18, 8а);
• неспособность справедливо вести судебные дела (Иез. 18, 86);
• жестокость и убийство (Иез. 18, 10).
И вновь мы отмечаем, насколько тесно переплетает Ветхий Завет то, что мы склонны держать в отдельных категориях личной и общественной морали. Иезекииль не смирился бы с забавной современной мыслью о том, что личная половая жизнь и неверность людей не имеет влияния на их общественную чистоту и надежность. Также достоин внимания тезис, что отказ делать добро также является грехом. Иезекииль резко отверг бы самодовольную позицию, с которой борется каждый пастор: «Конечно, я христианин, я никогда никому не делал зла». Для определения праведного человека недостаточно сказать: «Он никого не ограбил» (Иез. 18, 7), не добавив: «Но отдает свою пищу голодным и одевает нагих» (Иез. 18, 16). Здесь явное предвосхищение нравственного учения Иисуса, которое еще яснее отзывается у Павла: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28).
Приемлемое поклонение
Прочие списки добродетелей и пороков в писаниях пророков встречаются в тех контекстах, где пророки обращают внимание на вопросы поклонения и этики. Слишком часто пророкам приходилось видеть, что люди, в жизни которых недоставало нравственной чистоты, приходили на поклонение, совершали ритуал и вместе с тем жили в откровенном нечестии. Но для пророков неприемлемо было мирное сосуществование священных обрядов и социального зла. В дни Амоса не было недостатка в религиозности и соблюдении ритуалов, но необузданная социальная несправедливость богохульно исказила все это. Амос сказал об этом и был выброшен вон (Ам. 4, 4–5; 5, 21–27; 8, 5–6). Исайя сделал такое же обращение (Ис. 1, 10–17). Оба пророка добавили в свои доводы короткие списки положительной социальной этики:
перестаньте делать зло;
научитесь делать добро,
ищите правды,
спасайте угнетенного,
защищайте сироту,
вступайтесь за вдову.
(Ис. 1, 16–17)
Ищите добра, а не зла,
чтобы вам остаться в живых,
и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами,
как вы говорите.
Возненавидьте зло и возлюбите добро,
и восстановите у ворот правосудие;
(Ам. 5, 14–15)
Самый короткий, но полный список положительных качеств встречается в Мих. 6 и вновь в контексте размышления о приемлемом поклонении. Услышав обвинение в адрес своего народа (Мих. 6, 1–5), Михей задается вопросом, что будет приемлемым жертвоприношением для покаяния: «С чем предстать мне пред Господом?» Подвергнув сомнению любое из жертвоприношений, даже своего первенца, он произносит знаменательные слова, которые являются вызовом каждому человеку:
О, человек! сказано тебе, что — добро
и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
(Mux. 6, 8)
Иеремия был послан к самим воротам храма, чтобы там представить приходящим на поклонение нравственные требования Бога завета, ведь они заявляли, что поклоняются ему и уповают на его защиту. Иеремия говорит о таком практическом поведении, которое будет подтверждением подлинного покаяния, и противопоставляет его тому, что они делали на самом деле. Подробности этого приговора, учитывая типичные характеристики неправедного, включают (Иер. 7, 1–11)
• угнетение пришельца, сироты и вдовы
• пролитие невинной крови
• идолопоклонничество
• самонадеянная ложная безопасность и самодовольство
• воровство
• прелюбодеяние
• лжесвидетельство
Ис. 58 противопоставляет просто обрядовый пост этике подлинного покаяния. Подлинное покаяние принесет практический плод в следующих действиях:
Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма,
и угнетенных отпусти на свободу,
и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой,
и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся.
(Ис.58,6–7)
В этих отрывках несложно увидеть отголоски Декалога (также и в Ос. 4, 1–2). Более того, некоторые ученые полагают, что Десять заповедей использовались в общей литургии как предварительные условия для тех, кто приходил на поклонение. Если Декалог действительно использовался в поклонении, тогда Иеремия снова обращал внимание на требования, без которых оно превратится в бессмысленный обряд. Использовался Декалог подобным образом или нет, неизвестно, но у нас есть еще два ясных примера предварительных условий для участия в литургии в Пс. 14 и 23.
Далее псалом дает описание истинно поклоняющегося человека, который
• говорит истину в сердце;
• избегает пагубного действия, слов и мыслей;
• умеет отличить добро от зла в отношениях с людьми;
• верен своему слову, даже себе во вред;
• не испорчен жаждой денег, будь то через ростовщичество или судебные взятки.
Пс. 24 более лаконичен и ставит в один ряд внешние действия и внутренний мотив в знаменательной фразе: «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто» (Пс. 24, 4).[306]
Это только самые яркие примеры той темы, что проходит через весь Псалтырь, да и многие части Ветхого Завета: достойное поклонение неразрывно связано с достойной жизнью. Литургия Израиля пронизана нравственными контрастами. Тон задается в самом начале псалма. Несмотря на всю глубину корпоративного сознания Псалтыри, межа праведности и беззакония, блаженства и суда встречается на пути каждого человека, даже в тайниках сердца и в отношении грехов, сокрытых от всеобщего обозрения или выявления.
Обличение даже скрытых грехов отдельных людей было, по всей видимости, функцией списка проклятий Втор. 27, 14–26. Этот список не оставлял лазейки для распространенного извинения: «Все в порядке, пока никто не знает». Содержание этого списка важно, поскольку связывает воедино другие списки, только что отмеченные нами, как в общем замысле, так и в некоторых конкретных деталях. Втор. 27 призывает проклятие на:
• идолопоклонничество;
• непочтение к родителям;
• передвижение межевых камней (экономическое жульничество);
• сбивание слепого с пути (социальное бессердечие);
• лишение справедливого суда пришельца, сироты или вдовы;
• сексуальные проступки, включая прелюбодеяние, скотоложество и инцест;
• тайное убийство;
• взятку за «убийство по суду»;
• общее несоблюдение закона.
Именно в поклонении нравственные перспективы обостряются и привыкают к взгляду на вещи с точки зрения Бога, а не через неясную и мутную призму внешнего облика. Этот опыт ярко описан в Пс. 72. Поэт едва способен твердо придерживаться личной нравственной чистоты и верить в нравственную справедливость Бога перед лицом успеха нечестивых и страданий праведных (Пс. 72, 1–16). Но когда он отправился поклониться в святилище (Пс. 72, 17), его мышление и нравственная уверенность были восстановлены благодаря новому пониманию высших целей Бога. Поклонение и этика связаны неразрывно в вере и мировоззрении Израиля.
Еще один способ признать важность поклонения в формировании этического мировоззрения Израиля — это вспомнить, что великие истории из прошлого Израиля пересказывались в контексте поклонения. Это повествования, которые постоянно повторяли и подчеркивали характер Господа. Они вошли в сознание Израиля как сильная формирующая и поддерживающая этическая сила. Мы склонны обращать больше внимания, чем следовало бы, на ветхозаветный закон, тогда как в повседневном опыте народа их нравственный опыт чаще направлялся регулярным переживанием повествования–в–поклонении, и именно оно обеспечивало внутренние и подтверждаемые общиной ценности и директивы.[307]
Падение и прощение
Видеть все с точки зрения Бога намного неприятнее, если ваш взгляд обращен на вас самих, потому что тогда осознание личного греха, падения и неадекватности становится резким. Это приводит нас к наиболее ярко выраженной и важной этической особенности Ветхого Завета, а также одного из его центральных вкладов в веру и этику библейской религии, иудейской и христианской, — осознанию человеческой этической несостоятельности наряду с поразительной благодатью божественного прощения.
У нас была возможность рассмотреть последствия грехопадения во всех сферах социальной этики, рассмотренных в предыдущих главах книги. Грех оставил свой уродливый след в социальной сфере, а также аккумулировался в процессах истории. Теперь мы видим, что Ветхий Завет не менее радикален и всеобъемлющ также в описании влияния греха на каждый аспект человеческой жизни. Вряд ли приговор Книги Бытия человечеству может быть более полным: «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6, 5); «помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 8, 12). Правдивость этих утверждений является всеобщей (все люди без исключения – грешники) и конкретной (любой аспект личности человека поражен грехом).
Поэтому мудрец задает риторический вопрос, не ожидая, что кто–то подымет руку в ответ:
Таким образом, ветхозаветная этика стоит на фундаменте реализма. Не умаляя великих нравственных Божьих абсолютов, она полностью осознает моральное состояние человека, варьирующегося от явной хрупкости и слабости до открытого и упрямого бунта. Иеремия, который, вероятно, более всех остальных видел порочность и беззаконие, показывает проникновение зла в глубину всего человеческого естества:
Он также видел, что грех невозможно устранить личными усилиями человека:
Но этот реализм не приводил к отчаянию. Осознание греха и несостоятельности не парализовало этику в Ветхом Завете. Осознание своей греховности не останавливает вас от следования по пути Господнему; это просто говорит, с чего следует начать, прежде чем стать на этот путь. Этим отправным пунктом было объективное Божье искупление и субъективный опыт прощения. Как в Ветхом, так и в Новом завете евангелие предшествует этике. Поэтому мы можем видеть, что подробные постановления развитой левитской системы жертвоприношений имели этическое значение. Она не только помогала израильтянину очиститься от прошлых проступков при помощи искупительной крови жертвы, но и давала уверенность верующему в продолжающейся принадлежности к народу завета. А это единственное положение, в котором можно познавать и повиноваться слову и воле Господа в будущем.
Но Израиль также знал, что искупительная сила Бога превосходила обряды жертвоприношений. Сущность природы Господа как спасающего и прощающего Бога — это та реальность, к которой можно было апеллировать, даже если в руках не было жертвы, или ее было невозможно принести. Даже жесткий приговор Бытия, приведенный выше, произнесен в контексте чудесного спасения Ноя, прообразе избавления. Иеремия, несмотря на весь свой пессимизм, ожидал новый завет, когда Бог пообещал:
Я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
(Иер. 31, 34)
Иезекииль также видел, что изменяющая сила Бога заменит каменные сердца, зачерствевшие во зле, сердцами из плоти, возрожденными и исполненными Духом его (Иез. 36, 25–27; 37, 1–14).
И вновь именно псалмопевец наиболее глубоко раскрывает значение покаяния, прощения, а также нравственной свободы и радости, которые являются его результатом. Автор Пс. 24 и 31 молит о прощении грехов, во втором случае после серьезного обличения и исповеди. Оба псалма связывают опыт прощения с надеждой на нравственные личные изменения и этическое руководство со стороны Бога. Именно раскаявшегося и прощенного грешника Бог делает способным жить согласно его воле:
Возможно, никто не знал этого лучше Давида. Хотя Давида можно назвать «мужем по сердцу Бога»,[308] он, тем не менее, опустился до обмана, жестокости, похоти и зла. Как царь, он должен был служить нравственным руководителем своего народа, подавая пример и наставление. Но как такая испорченная личность могла вести других? Только благодаря сверхъестественной благодати прощающего, очищающего, обновляющего Бога:
Нравственную силу прощения обсуждал Стэнли Хауэрвас (Stanley Hauerwas), еще один ученый, подчеркивающий важность повествовательной традиции в Библии для формирования этической жизни общины и, в то же самое время, этической жизни человека:
Нравственное использование Писания содержится исключительно в силе Бога помочь нам помнить его истории для постоянного руководства в жизни нашего сообщества и жизни людей… Повествование Писания не только «показывает характер» (Бога), но показывает общину, которая способна организовать свое существование в соответствии с подобными историями. Иудеи и христиане верят, что это повествование делает не что иное, как показывает характер Бога, и тем самым помогает нам быть народом, который соответствует данному характеру…
Вопрос нравственной значимости Писания, таким образом, превращается в вопрос о том, каким сообществом должна быть церковь, чтобы быть способной сделать повествование Писания центром своей жизни…
Писание обладает авторитетом для христиан, потому что они как прощенный народ узнали, что должны быть способными прощать (что отделяет нас от мира, живущего жаждой власти, и не нуждающегося в прощении)… Быть сообществом прощенных означает быть тесно связанным с общиной, которая поддерживается повествованиями из Писаний, поскольку эти повествования делают не что иное, как являют Бога, природе которого свойственно прощать[309].
Но давайте предоставим заключительное слово Исайе. Ведь именно тому народу, который он обвинял в том, что он исполнен кровью беззакония и угнетения, народу, чье поклонение наводило тоску и вызывало отвращение Бога, пророк сделал удивительное приглашение прийти к Божьей спасительной рассудительности:
Но за этим спасительным словом евангелия сразу же следует неотвратимый нравственный вызов
В той же Книге Исайи мы находим великое видение о том, что в конечном итоге сутью искупления будет не место или объект, а личность, слуга Господень. Мы встречаем эту таинственную личность в кульминационном описании его отвержения и триумфа (Ис. 52, 13 — 53, 12), переживающего искупительные страдания не за свои грехи, а за наши. И эти страдания не будут напрасны, потому что
Это ветхозаветная Голгофа. Здесь же важнейшее основание для единства евангелия и этики, веры и жизни в обоих Заветах; а именно — суверенная благодать и милость Бога. Ведь крест Мессии — это врата не только в жизнь, но и к образу жизни.
Дополнительная литература
Birch, Bruce С, Old Testament Narrative and Moral Address', in Tucker, Petersen and Wilson, Canon, Theology and Old Testament Interpretation, pp. 75 — 91.
_, 'Moral Agency, Community, and the Character of God in the Hebrew Bible',
Semeia 66 (1994), pp. 23 — 41.
Blocher, Henri, The Fear of the Lord as the "Principle" of Wisdom', Tyndale Bulletin 28 (1977) pp. 3–28.
Clements, R. E., 'Worship and Ethics: A Re–examination of Psalm 15', in Graham, Marrs and McKenzie, Worship and the Hebrew Bible, pp. 78 — 94.
Hauerwas, Stanley, A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic (Notre Dame: University of Notre Dame Press), 1981.
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1994).
Mendenhall, George E., 'The Relation of the Individual to Political Society in Ancient Israel', in J. M. Myers, O. Reimherr and H. N. Bream (eds.), Biblical Studies in Memory of З CAlleman (Locus Valley, NY: J. J. Augustin, i960), pp. 89 — 108.
Muilenburg, J., The Way of Israel: Biblical Faith and Ethics (New York: Harper, 1961).
Porter, J. Roy, 'The Legal Aspects of the Concept of "Corporate Personality" in the Old Testament', Vetus Testamentum 15 (1965), pp. 361 — 380.
Rogerson, John W., 'The Hebrew Conception of Corporate Personality: A Re–examination', Journal of Theological Studies New Series 21 (1970), pp. 1 — 16.
Wenham, Gordon J., Story as Torah: Reading the Old Testament Ethically (Edinburgh: T.& T.Clark, 2000).
Часть III. Изучение ветхозаветной этики
12. Обзор исторических подходов
Вопрос о том, имеет ли еврейская Библия авторитет для христиан, и как ее следует использовать в этике, был и остается сложным и спорным. Хотя нравственные проблемы современности в некотором смысле являются беспрецедентными, на самом деле за два тысячелетия в христианском сообществе остались принципиально не затронутыми только немногие вопросы. Поучительно (и иногда это смиряет) подумать о великом потоке традиции, к которому мы принадлежим, вместо того чтобы наивно полагать, будто мы первое поколение, столкнувшееся с вызовом, брошенным нам, христианам, Ветхим Заветом. То, что мы изобрели слово «герменевтика», вовсе не означает, что мы первые ломали голову над герменевтическими проблемами.
Эта глава предлагает краткий очерк некоторых ключевых моментов из истории христианского толкования Ветхого Завета. Обширные трактаты ученых древности, средневековья и раннего модерна упущены. Я кратко коснусь некоторых стандартных подходов этического использования Ветхого Завета в ранней церкви, церкви времен европейской Реформации и некоторых современных конфессиональных подходов к библейскому толкованию. В следующей главе я рассмотрю разнообразные подходы к ветхозаветной этике в мире современной науки, особенно те, которые обсуждались в последней четверти XX века.
Ранняя церковь
В своей краткой, но занимательной статье Ричард Лонгнекер (Richard Longenecker) показывает три основных подхода, или традиции, библейской герменевтики (главным образом касаясь Ветхого Завета) в первые столетия церкви, а также влияние этих подходов на протяжении всей христианской истории.[310]
Маркион
Ни одно из произведений Маркиона не сохранилось, поэтому он известен нам только благодаря его оппонентам, таким как Ириней и Тертуллиан. Маркион писал во II веке от P. X., и его отправным пунктом было Послание к Галатам, которое он считал направленным против иудаизма и всего иудейского. Откровение Бога в Иисусе, как он считал, полностью отличалось от иудейского Бога Творца. Таким образом, он видел радикальный разрыв между иудейскими писаниями и христианским Новым Заветом. Еврейская Библия не имеет значимости и авторитета для христиан и должна быть исключена из христианских Писаний, вместе с некоторыми частями Нового Завета, которые он считал серьезно пропитанными иудейскими интересами. Неудивительно, что любой нравственный авторитет Ветхого Завета для христиан отвергался априори. Радикальное отвержение еврейских писаний Маркионом было отринуто церковью. Его нападки, тем не менее, были одним из факторов, что привел к формированию и определению канона христианских писаний, в который вошел и Ветхий Завет.
Александрийские отцы
Христианская академия в Александрии процветала с конца II до середины III века. Самыми заметными фигурами были Климент и Ориген. Ориген, написавший много трудов, имел большое влияние. Он различал букву и дух Ветхого Завета, выявляя духовное значение и намерение текста. Он не отрицал историческое и буквальное значение Ветхого Завета, но доказывал, что зачастую буквальное значение рассказа или заповеди было просто невозможным, и приходил к заключению, что желание Духа состоит в том, чтобы читатель искал скрытый духовный смысл. Бог мог использовать исторические рассказы, чтобы учить духовным истинам, а также мог вкладывать в повествование то, чего не происходило в действительности, или в закон то, что не было исполнено. Таким образом читатель был вынужден искать высший божественный смысл.[311]
Ориген также говорил о различии двух законов — церемониального и нравственного (хотя в своем комментарии на Послание к Римлянам он перечисляет шесть способов использования Павлом понятия «закон»!). Первый был исполнен во Христе, а второй остался и был усилен Христом. Это различие, впоследствии расширенное введением третьей категории, гражданского или судебного права Израиля, остается основным герменевтическим подходом к ветхозаветному закону до настоящего времени.
Поскольку главной характеристикой Александрийской школы было убеждение, что духовный смысл уже находился в тексте Ветхого Завета, заложенный туда Духом, им надо было найти способ добраться до этого скрытого значения и раскрыть его. Предложенным решением стал аллегорический метод толкования. Хотя именно этот метод и прославил Александрийскую школу, не следует забывать, что метод был всего лишь инструментом, который позднее забраковывали и корректировали наследники этой же традиции. Самым важным наследием Александрии в отношении ветхозаветной герменевтики была предпосылка преемственности и слаженности двух заветов. Ввиду того, что еврейские писания вдохновлялись тем же Духом что и новозаветные писания, они также имеют христианскую духовную значимость. Это привело к достаточно статичному восприятию Библии, и, как результат, историческому развитию заветов уделялось мало внимания.
Антиохийские отцы
Соперничающая школа Антиохии процветала в IV и V вв. от P. X. Она знаменита такими личностями, как Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский, Феодрит и Диодор Тарский.
В то время как Александрия подчиняла буквальный, исторический смысл Ветхого Завета высшему, нравственному и духовному смыслу (allegoria), Антиохия отдавала предпочтение истории, а поиск высших принципов ставила на второе место. В отношении подобных вторичных принципов они использовали понятиеtheoria илиanagoge. Они настойчиво противостояли аллегорическим методам Александрии, а также подвергали сомнению александрийское разделение закона.
Златоуст доказывал, что с приходом евангелия Христова в мир явилась абсолютно новая реальность. В свете этого он не соглашался, что ветхозаветный закон имел продолжающийся нравственный авторитет для христиан. Даже то, что позволял закон в Ветхом Завете, могло быть отвергнуто христианами из–за новизны жизни во Христе. Он применял этот тезис к рабству, будучи первым, кто предположил, что, хотя Ветхий Завет допускал рабство, христиане должны отвергнуть его, учитывая Гал. 3, 28.[312]
Тем не менее, Диодор Тарский в своем комментарии на Псалтырь отмечал нравственную значимость Ветхого Завета, если она основывается на исторической реальности и буквальном прочтении текста. Он отрицал всякую аллегорию.[313] Феодор Мопсуэстийский в своем комментарии на Послание к Галатам делает особый упор на значение двух заветов, через Моисея и через Христа, и устанавливает четкую разницу и контраст между законом и евангелием.[314]
Таким образом, Антиохийская школа придавала большое значение историческому развитию в Писании и важности искупительного исполнения Ветхого Завета в Новом. Это привело к более гибкому пониманию учения об авторитете Писания, — ветхозаветные воззрения рассматривались в свете воплощения, прихода с Божьим царством во Христе всего нового. И Александрия, и Антиохия верили в преемственность между заветами, но Александрия видела схожесть и трактовала так, что Ветхий Завет говорил по–христиански, а Антиохия видела развитие и позволяла Новому Завету превосходить Ветхий Завет там, где это было необходимо.
Далее, Лонгнекер утверждает, что с того времени эти три подхода к Ветхому Завету проявлялись в разных церковных традициях. Дух Маркиона, хотя он и был официально отвержен церковью, витал в герменевтических традициях на протяжении веков, проявляясь в антиномистских тенденциях радикального крыла Реформации, антиисторическом экзистенциализме Бультмана (Bultmann) и его соратников, а также (по совершенно другим богословским причинам) в современном диспенсационализме. И это только богословские движения. Многие церкви на практике являются маркионистскими в своем абсолютном пренебрежении писаниями (которые использовал сам Иисус), отказываясь читать их во время богослужения, даже когда этого требует богослужебная книга. И неудивительно, что существует такая неразбериха в отношении того, что и как Ветхий Завет может дать христианам для практической жизни.
Влияние Александрии живет в Кальвине и реформатской традиции, но не в аллегорическом рассмотрении еврейской Библии, которое Кальвин напрочь отрицал в пользу скрупулезной историко–грамматической экзегезы. Скорее оно видно в приверженности единству и преемственности Заветов, так что Ветхий Завет читается как бесспорное христианское Писание, которое следует истолковывать и исполнять в свете Христа. Ее влияние можно увидеть в акценте пуритан на «третьем (нравственном) применении» закона в христианской жизни. Статичное единство доведено до этической крайности в движении теономистов (см. ниже), которое заявляет, что нравственный авторитет Ветхого Завета применим к христианам в той же мере, как и закон к Израилю, поскольку Божий закон вневременной и универсальный. В то время как александрийцы утверждали значимость еврейского закона при помощи его аллегоризации, теономисты применяют его настолько буквально, насколько это возможно.
Антиохийская антипатия к аллегории вновь проявилась в резком отвержении Лютером средневекового схоластического богословия. Лютер также был в большей мере антиохийцем, чем Кальвин, предполагая, что новое вино евангелия обойдется без старых мехов Ветхого Завета там, где чувствовал конфликт. Там, где Кальвин искал последовательность и гармонию, Лютер довольствовался достаточно свободным и иногда непоследовательным использованием Ветхого Завета в этике, что было следствием его явного подчеркивания превосходства евангелия над законом. Что касается современных примеров антиохийского духа, думаю, что могу указать на наследников Реформации, таких как меннониты, которые обеспокоены и активно занимаются социальными проблемами. Они отмечают радикальное ученичество и имеют сильную новозаветную, мессианскую ориентацию как в богословии, так и в этике, в то же самое время подчеркивая важность отличия народа Божьего, а именно эта ценность сильно насаждается в еврейских писаниях. Итак, теперь мы обратимся к великим умам Реформации.
Эпоха Реформации
Лютер
Как библейский толкователь, Мартин Лютер унаследовал средневековый инструментарий экзегезы, который включал среди прочего аллегорический метод, развившийся в Западной церкви, особенно в Северной Африке. Ранние издания его комментария на Послание к Галатам выдают это александрийское влияние. Тем не менее, он пришел к полному отвержению (если не на практике, то в принципе) аллегорического метода, и использовал более антиохийский подход, как в богословии, так и в экзегезе. Это, несомненно, было тесно связано с его собственным опытом открытия новозаветного евангелия. Потрясающий опыт освобождения евангелием от мук совести, которые, как считал Лютер, на него навлек закон и гнев Божий, привели его к фундаментально христоцентричному подходу во всем, включая библейскую герменевтику. Это вылилось в динамичное, исторически дифференцированное использование Ветхого Завета. С одной стороны, Лютер никогда не отказывался от Ветхого Завета как от важного для христианской веры, но, с другой стороны, он определенно подчинил его Новому Завету и своему собственному пониманию благодати и спасения. Это привело к непоследовательному использованию Ветхого Завета. Иногда он мог учить некоторым обязанностям, основываясь на ветхозаветном законе и историях; в другое же время он призывал христиан быть свободными от излишней скрупулезности (например, в отношении к монашеским обетам) именно потому, что они находятся в Ветхом Завете, а христианин не должен вести себя, как иудей![315]
Лютер считал, что ветхозаветный закон имел гражданское применение, подобно ограде, он функционировал как ограничение человеческого греха в израильском обществе. Он также видел его духовное применение: подобно зеркалу, он обличает грех и таким образом приводит нас через ужас и осуждение к покаянию и евангелию. Это второе использование для Лютера является главной целью закона с точки зрения христиан. В отношении того, принимал ли Лютер когда–либо «третье применение» закона — как нравственное руководство для живущих ныне христиан, нравственный авторитет для верующих — ведутся споры. Похоже, он отрицал подобный нравственный авторитет закона, в том смысле, что христиане обязаны повиноваться ему. Но в то же самое время на практике он широко использовал Ветхий Завет в своих катехизисах, когда рассматривал требования к христианскому поведению. Большая часть его учения основывается на Декалоге. Лютер лишает заповеди иудейского колорита и истолковывает их свободно в христианских терминах, но основывается на четкой предпосылке, что Десять заповедей все еще авторитетны направлять христианское поведение, несмотря на то, что он относит их к естественному закону. То есть в тех случаях, когда христианин нравственно связан авторитетом закона, речь идет не о законе, данном через Моисея, но о том законе, который просто отображает широкую нравственную волю Бога в творении.
Чрезвычайно важно то, что для Лютера закон предшествует евангелию, и решительно отличается от него (это с тех пор остается характерным для лютеранского богословия и этики). Здесь присутствует антиохийская модель: новые события истории спасения во Христе перевешивают и вытесняют все, что было прежде. Таким образом, Лютер может быть свободен не только от рассмотрения законов, но также и повествований Ветхого Завета. Он может участвовать в любопытной защите нравственно сомнительных поступков великих героев Ветхого Завета (например, ложь Авраама Авимелеху о Сарре), если может показать, что они действовали по вере в Божье обетование. В этом смысле благодать многообразно покрывает множество грехов.
Кальвин
Воззрения Кальвина представляются как движение маятника в сторону более александрийского подхода к Ветхому Завету, но не в смысле аллегорической экзегезы (которую Кальвин отрицал так же, как и Лютер), а в понимании единства и преемственности заветов. Кальвин подчеркивал единый завет благодати, обетование Аврааму, которое проходит через всю Библию. Поэтому он видел евангелие благодати также и в Ветхом Завете, и делал все, чтобы продемонстрировать полную гармонию и единство между законом и евангелием.
Кальвин серьезно отнесся к заявлению Христа о неизменной важности закона и пророков (Мф. 5, 17 дал.), поэтому он не только принимал «третье применение» закона, но по сути считал его самым важным. Закон функционирует как практическое руководство христианского поведения, чтобы формировать и готовить нас к добрым делам в ответ на спасительную благодать. Поэтому в то время как Лютер, хотя он и осознавал тройственное применение закона, заявлял, что принципиальным применением является второе (т. е. обвинять, обличать и приводить нас в ужас, чтобы мы обратились к Христу), Кальвин обращал внимание на третье применение (руководство в нравственной жизни):
Третье, основное применение нравственного закона относится к цели, ради которой он нам был дан, и адресовано верующим, в чьих сердцах уже утвердил свое царство Божий Дух… Это превосходный инструмент для верующих, чтобы день ото дня все лучше и уверенней понимать волю Господа, исполнять которую они стремятся, и углубляться в познании ее… Поскольку мы нуждаемся не только в учении, но также в увещании и наставлении, служитель Бога получит еще и иную пользу от закона: благодаря частым размышлениям над ним он будет подвигнут на неукоснительное послушание Богу и удален от скользкого пути греха.[316]
Закон, по сути, дал совершенный путь праведности, который применим во все века, не только к израильтянам. Его историческую и контекстуальную особенность следовало, конечно же, учитывать, но это не уничтожало его значения для народа Божьего во все времена. Даже Христос не прибавлял к закону, но скорее только утвердил его совершенство.[317]
Исходя из этой более позитивной точки зрения, Кальвин доказывает, что извлечь пользу из закона (а он главным образом поясняет Декалог) можно при помощи способа, который определяет цель каждой заповеди. Он постоянно ищет позитивное применение, немного напоминающее то, как Иисус схватывал суть дела, видя цель закона, для чего и для чьей пользы он был дан. Также и Кальвин считает оправданным расширить силу буквальных слов, предполагая, что любой закон запрещает противоположное тому, что повелевает, или повелевает противоположное тому, что запрещает.
Таким образом, можно обнаружить, что разница отношения к закону у Лютера и Кальвина скорее психологическая, чем богословская. В то время как Лютер часто замечает то, что закон запрещает, для того чтобы подчеркнуть его роль убийцы, от которого все должны бежать к благодати евангелия, Кальвин ищет то, что закон поддерживает, используя его как модель или учебник, который применим ко всякого рода проблемам христианской жизни в современном мире. Когда каждый из этих подходов (оба могут заявлять о новозаветном прецеденте) доведен до крайности, они, без сомнения, могут утратить баланс, и каждый в противоположном направлении. Следовательно, опасность лютеранства — это уклонение в практический маркионизм или антиномизм, в то время как опасностью кальвинизма всегда было соскальзывание в законничество. Но ни Лютера, ни Кальвина нельзя обвинить ни в одной из этих крайностей.
В «Наставлениях в христианской вере» Кальвин главным образом истолковывает Декалог. Однако в своих «Комментариях на последние четыре книги Моисеевы» он трактует не только Десять заповедей, но и прочие законы, которые связывает с Десятью заповедями.[318] Он далее проводит различие в этих последних законах между «пояснением» (законы, который просто уточняют или применяют главные темы заповедей Декалога и поэтому относятся к сути закона, и причастны к непреходящей нравственной значимости Декалога) и «политическими дополнениями» (гражданские или обрядовые установления, применимые к Израилю). Последняя категория законов не должна навязываться в других сообществах, за исключением тех случаев, когда сохраняется основная цель Декалога. Таким образом, рассматривая восьмую заповедь (направленную против воровства), он включает в «пояснения» следующее:
• своевременную выплату заработной платы (Лев. 19, 11.13; Втор. 24, 14–15; 25, 4);
• заботу и нелицеприятное отношение к пришельцам (Исх. 22, 21–24; Лев. 19, 33–34; Втор. 10, 17–19);
• честный вес и меру (Лев. 19, 35–36; Втор. 25, 13–16);
• запрет передвигать межевые камни (Втор. 19, 14);
• обязанности в отношении залога под ссуду (Исх. 22, 26–27; Втор. 24, 6. 10–13.17–18);
• законы, запрещающие ростовщичество (Исх. 22, 25; Лев. 25, 35–38; Втор. 23, 19–20);
• возвращение потерянного имущества (Исх. 23, 4; Втор. 22, 1–3);
• возмещение украденного (Чис. 5, 5–7);
• осуждение взяточничества и коррупции (Исх. 23, 8; Лев. 19, 15; Втор. 16, 19–20);
• запрет лицеприятия в пользу или против нищих (Исх. 23, 3.6).
Далее он включает в категорию «политические дополнения»:
• остатки урожая для нищих (Лев. 19, 9–10; 23, 22; Втор. 24, 19–22);
• субботний год (Исх. 21, 1–6; Втор. 15, 1–18);
• установления юбилея и Дня искупления (Лев. 25);
• запрет уничтожать плодовые деревья во время войны (Втор. 20, 19–20);
• освобождение от военной службы некоторых категорий людей (Втор. 20, 5–8);
• долг левиратного брака (Втор. 25, 5–10).
Напрашивается вопрос: как и почему Кальвин некоторые законы приписывает двум подкатегориям Декалога? И на него непросто ответить. Суть в том, что Кальвин не соглашается с тем, что только Десять заповедей имеют значение для христиан. Принципы, которые они выражают, также могут быть найдены в других законах, которые в большей или меньшей степени связаны с Десятью заповедями.
Следовательно, хотя гражданские и политические установления современного государства могут существенно отличаться от специфических законов Израиля, это не имеет значения, при условии, что современные законы служат той же цели и защищают те же основные принципы. Имеет значение то, что «общая объективность» (фраза Кальвина), характеризующая гражданское право Израиля, должна сохраняться, даже если буквальная форма больше не обязательна. Если основные принципы Декалога восприняты всерьез, тогда вопросы практической справедливости, честного отношения к нищим, защита границ и тому подобное займут должное место в соответствующем законе, как это было в Израиле.[319] Следовательно, Кальвин относился к авторитету ветхозаветного закона очень серьезно и стремился показать его значимость с более широкой перспективы, чем просто Десять заповедей. Тем не менее, он не был теономистом в современном смысле, стремясь применить весь ветхозаветный закон в его завершенном виде к постбиблейским сообществам. Современное движение теономистов, поскольку оно ближе всего находится к реформатскому богословскому мировоззрению, часто заявляет, что Кальвин — их святой покровитель. Но не вызывает сомнений, что Кальвин не поддержал бы заявление теономистов о буквальном применении ветхозаветного закона в современном обществе, поскольку он открыто различал неизменный нравственный и естественный закон от временных политических законов.[320]
Анабаптисты
Радикальное крыло Реформации породило невероятное разнообразие взглядов, принимая во внимание давление и предрассудки, с которыми столкнулись его представители. Их точку зрения по какому–либо вопросу обобщить сложнее, чем одного реформатора, например Лютера или Кальвина, но у них есть некоторые общие особенности. В вопросе библейского толкования и специфике использования Ветхого Завета в этике мы можем указать на некоторые пункты общего согласия между анабаптистами и основными реформаторами, прежде чем указать ключевые пункты несогласия.[321]
Анабаптисты полностью соглашались с другими реформаторами, что Библия была авторитетным словом Божьим; что ее может ясно понять простой человек; что толкование должно быть свободно от церковной традиции; что для разрешения некоторых сложностей необходимы особенные герменевтические приемы; и что, в конечном итоге, Библия предназначалась для исполнения ее предписаний в жизни верующих людей. Тем не менее, различия сосредоточились на трех основных вопросах:
1. Масштаб применимости библейского учения. Вопрос касался того, должна ли Библия в целом (Ветхий и Новый Завет) применяться к публичной, гражданской жизни, или же Новый Завет применим только к личному поведению, но не к гражданским вопросам. Общая позиция реформаторов состояла в том, что ветхозаветный закон может быть соотнесен с делами гражданскими (таким образом позволяя им применять санкции и наказания Ветхого Завета в судебных и военных вопросах), тогда как учение Христа было главным образом для личных отношений между христианами. Анабаптисты настаивали, что владычество Христа должно охватывать всю жизнь христиан, включая также гражданскую жизнь. Поэтому для анабаптистов, поскольку Новый Завет (с их точки зрения) руководил гражданской жизнью и заместил Ветхий Завет, это имело эффект отвержения, или, по крайней мере, умаления авторитета Ветхого Завета для гражданской жизни и правительства. Таким образом, анабаптисты не могли принять широкое (и зачастую тираническое) применение ветхозаветных санкций, а также оправдание государственных мер, которые одобряли основные реформаторы.
2. Природа церкви и ее отношение к государству. Основных реформаторов иногда называли магистериальными или судейскими из–за их убеждения, что церковь и государство преследуют одни Божьи цели, и что реформация церкви была частью ответственности гражданского магистрата. Хотя они и отстаивали различные модели того, как эти отношения должны работать, основные реформаторы были в целом преданы широкому теократическому пониманию «христианского мира». Анабаптисты, с другой стороны, считали церковь отделенным и собранным сообществом истинных верующих, явно и видимо отделенных от всяких светских учреждений и точно не являющихся частью государства. Они отрицали идею «христианского мира», а с ней и теократические предпосылки, заимствованные из Ветхого Завета. Церковь точно не была национальным государством вроде Израиля в Ветхом Завете, и поэтому не должна действовать так, будто она является им. Это отличие видно в двух фундаментальных анабаптистских убеждениях:
a. Крещение. Для реформаторов крещение младенцев было частью христианского гражданства в христианском государстве и оправдывалось посредством утверждения его равноценности ветхозаветному обрезанию. Отказаться от него, или отрицать его законность перекрещиванием, приравнивалось в религиозно–политическом контексте Европы XVI века к подстрекательству и мятежу или бунту против основ самого государства. Для анабаптистов крещение было четко заповедано в Новом Завете только верующим и не имело никакого отношения к гражданству, и поэтому Ветхий Завет к этому вопросу не имеет отношения. Убежденность анабаптистов в данном вопросе, наряду с крайне горячими и чрезвычайно важными спорами, по всей видимости, привели к более резкому обесцениванию Ветхого Завета, чем могло бы быть, сложись обстоятельства иначе. То есть поскольку протестанты в основном оправдывали крещение младенцев на основании Ветхого Завета, и затем жестоко преследовали и убивали анабаптистов за то, что они отрицали его (опять же, оправдывая свои действия на основании Ветхого Завета), то неудивительно, что анабаптисты пытались подорвать ветхозаветные основания агрессивной политики их врагов.
b. Пацифизм. Реформаторы утверждали: поскольку гражданская власть установлена Богом, христиане обязаны повиноваться правительству государства, что включало в себя службу в армии в интересах государства во время войны. И вновь Ветхий Завет широко использовался, чтобы аргументировать оправданность войны в некоторых обстоятельствах. Основная традиция анабаптистов (хотя некоторые группы придерживались противоположного и крайнего взгляда) абсолютно серьезно воспринимала учение Иисуса об отказе от насилия и поэтому доказывала, что христиане не могут участвовать в насилии или войне. К тому же, поскольку этот вопрос был чрезвычайно ценен для них и являлся проклятием для их оппонентов, это влияло на герменевтическую аргументацию. Чтобы подчеркнуть отказ Иисуса от применения насильственных методов, им приходилось отодвинуть Ветхий Завет и его войны в тень, то ли старательно умаляя его по отношению ко Христу, то ли отрицая авторитет Ветхого Завета, что в некоторых случая* приводило к обвинению в маркионизме.
Итак, мы видим, что в эпоху Реформации вопрос нравственного авторитета Ветхого Завета был тесно связан с экклесиологией, в частности с вопросами отношений церкви и государства. Сегодня также можно указать на похожую динамику. То, до какой степени христианские группы готовы использовать Ветхий Завет, и то, где они готовы использовать его, зависит от их понимания природы церкви и ее роли в обществе.
Интересно также отметить, что умаление Ветхого Завета было отчасти реакцией на то, что они считали продолжающимся законничеством и «эрастианством»[322] основного протестантского движения. Ниже будет видно, что это также касается происхождения диспенсационализма, хотя и в совершенно ином церковном климате.
3. Абсолютный приоритет послушания Христу. Это, вероятно, во многих отношениях считается руководящим принципом анабаптизма. Христианство было личным, духовным опытом спасения через Иисуса, после чего требовалось простое преданное ученичество. То, что Иисус сказал, следовало исполнять. Иногда это могло приводить к новым видам буквализма и законничества, и на деле означало, что Ветхий Завет в нравственном значении занимает второстепенное место по отношению к Новому (однако были исключения вроде Томаса Мюнцера и Яна Лейденского, прибегавших к ветхозаветной апокалиптике для оправдания насилия и прочих крайностей). Иногда предпочтение Иисуса и Нового Завета приводило, по сути, к маркионизму. Более того, соединенное с притязаниями на непосредственные современные откровения Духа, оно могло привести даже к отрицанию Нового Завета среди некоторых представителей наиболее радикального спиритуалистского крыла в движении. Но среди самых важных экзегетов и лидеров явно доминирующей позицией было то, что пришествие Христа и появление Нового Завета умалило Ветхий Завет.
Менно Симоне (Menno Simons) — анабаптистский лидер, наследие которого наиболее сильное в меннонитском сообществе, высоко ценил Ветхий Завет, но полагал, что Христос делает христиан способными намного превосходить его.
Менно считает, что Иисус Христос действительно принес нечто новое. Ветхий Завет был замещен радикальной новизной царства Христова. Основные реформаторы подчеркивали преемственность двух заветов; для них, по сути, существовал только один завет в двух диспенсациях. Этот принцип помог им оправдать крещение младенцев при помощи аналогии с его ветхозаветным двойником — обрезанием. Они также обнаружили в Ветхом Завете модель отношений церкви и государства. Анабаптисты отрицали правомочность этой апелляции к Ветхому Завету, указывая на нормативный статус Нового Завета.[323]
Более высокая оценка Нового Завета у Менно была не чем иным, как следствием его базового утверждения христоцентричности… Когда Христос пришел, Он исполнил закон и сделал человека способным «исполнить» то, что Бог от него ожидал. Менно утверждает, что теперь люди могут превзойти ветхозаветный закон, потому что они устремлены ко Христу. Моисей послужил своему времени, теперь Христос дал новую заповедь… Менно полностью отдавал себе отчет в этических проблемах, вытекавших из его богословских интересов. Его заявления о войне и применении оружия выросли из представления о разнице между Ветхим и Новым Заветом. Любой карательный подход к личности исключается, потому что Новый Завет запрещает месть, а верующим должен двигать закон любви. Заповедь Христа слишком ясна, чтобы игнорировать ее, и там, где ветхозаветные установления не созвучны с учением Иисуса и апостолов, они должны отойти на второй план)[324]
Менно, подобно некоторым другим анабаптистам (например, Пилграму Марпеку),[325] настаивал, что Ветхий Завет все же был частью христианских писаний, и широко использовал его для назидательных и духовных наставлений. Но Новому Завету отводилось главное место, как руководству для этики.
Эти герменевтические споры эпохи Реформации об авторитете и использовании Ветхого Завета живы и сегодня, но, к счастью, лишены злобы и кровопролития, которые сопровождали их в XVI веке.
Следует ли нам приписывать Ветхому Завету такой же нравственный авторитет, как и Новому? Или же он должен занимать второе место по отношению к Новому? Послушание Христу поддерживает или отменяет Ветхий Завет? Эти вопросы продолжают жить в избранных современных подходах, к которым мы сейчас обратимся.
Некоторые современные подходы
Диспенсационализм
Своими корнями диспенсационализм уходит в Англию XIX века, к Дж. Н. Дарби (J. N. Darby, 1800–1882), хотя премилленаризм, который он также поддерживает, имеет более глубокие корни в истории церкви. Дарби был разочарован и подавлен бесплодным законничеством англиканской церковной жизни своего времени. Хотя в теории она была глубоко моралистической, на практике она была крайне распущенной. Опыт обращения привел Дарби к переживанию благодати Божьей и осознанию полноты евангелия во Христе. Это одновременно породило сильную антипатию к делам и к стремлению опираться на Ветхий Завет в церковном поучении.[326]
Дарби начал развивать систему библейского понимания, которая была движима его желанием сохранить высший приоритет благодати над законом. Самый простой способ сделать это, в определенном смысле, — вовсе отделить их. Дарби и его последователи[327] проделали это, доказывая, что отношения Бога с людьми в ходе истории искупления развивались в абсолютно разных диспенсациях. Точное их количество варьируется в различных школах диспенсационализма, но самое распространенное — разделение между диспенсацией закона через Моисея и диспенсацией благодати (нынешний век) через Христа. Следующей, наиболее важной диспенсацией, будет тысячелетнее земное правление Христа. Это также приводит к полному разделению национального (этнического) Израиля и церкви. Бог по–разному обходится с ними, и это различие будет сохраняться вечно. Нравственное учение ветхозаветного закона предназначалось и относилось только к диспенсации до Христа и снова будет стандартом во время тысячелетнего царства, когда Христос будет править на земле среди обращенного еврейского народа. Но в эпоху церкви оно не имеет абсолютного авторитета. В XX веке диспенсационализм немного смягчился в результате нападок так называемого богословия завета и смог признать, что в Ветхом Завете также была благодать, а спасение никогда не было результатом простого соблюдения закона. Но его герменевтическая и эсхатологическая система в целом осталась неизменной.
Норман Гайслер (Norman Geisler) подготовил полезное изложение диспенсационалистского подхода к библейской этике.[328] Он отмечает, что все христиане, включая теономистов, знают, что христиане не обязаны повиноваться каждому отдельному закону в Пятикнижии, они не делают этого на практике и не призывают к этому других. «Поэтому даже те, кто утверждает, что христиане все еще находятся под ветхозаветным законом, не соглашаются с тем, что каждый пункт до сих пор применим. Следовательно, вопрос заключается не в том, действенен ли по–прежнему закон Моисеев, но какая его часть все еще обязательна для христиан» (с. 7). Гайслер отбрасывает попытку сберечь некоторые части закона в качестве авторитета при помощи различения нравственных, гражданских и обрядовых категорий, доказывая, что такое различие не поддерживается Новым Заветом. Он приводит ряд новозаветных отрывков, в которых говорится, что закон в целом исчерпан или что христиане больше не под его властью:[329] «Согласно Павлу, закон важен либо весь, либо же целиком потерял свое значение. Поэтому, с одной стороны, если хоть какая–то часть закона обязательна для христиан, тогда обязателен весь закон, но даже теономисты поморщатся от такого предложения. С другой стороны, если что–то из закона Моисеева не применимо к христианам, тогда не применимо ничего из него. Именно об этом пишет Павел в Послании к Галатам» (с. 9).
Гайслер отлично осознает, что многие ветхозаветные законы приводятся в Новом Завете вместе с прочим использованием Ветхого Завета в нем. Но он настаивает, что при этом важность ветхозаветных текстов как авторитетного закона не переносится автоматически. Скорее применяются принципы, иногда (как в случае с субботой и прелюбодеянием) с существенным изменением фактического закона: «Как в Ветхом, так и в Новом Завете существует множество похожих нравственных принципов, но из этого вовсе не следует, что существуют те же законы» (с. 10), и, конечно, те же наказания. Итак, Ветхий Завет может предоставить руководство в общественной святости и личной праведности, но сегодня его нельзя применять теократически или теономически. Никогда не ожидалось, что закон Моисеев будет руководством для какого–либо гражданского правительства помимо древнего Израиля. Гражданскому правительству других народов Бог дал неписаный естественный закон общего откровения: «Из этой дискуссии также должно быть ясно, что закон Божий (божественное откровение) не является сегодня основой гражданского закона. В настоящее время Бог не руководит правительствами мира при помощи божественного закона. Он желает, чтоб они руководствовались гражданским законом, который основывается на естественном законе. Божественный закон предназначен только для церкви. Естественный закон — для всего мира (Рим. 2, 12–14)» (с. 10).
Из обсуждения Гайслера в данной главе ясно, что главной целью его нападок являются теономисты и их настойчивость и строгость в применении законов Ветхого Завета (включая наказания) — насколько это возможно в современном обществе.[330] Он не отрицает важности нравственных принципов, представленных в Ветхом Завете, но отрицает его авторитетную нормативность в качестве закона. Это ясно из его более поздней монографии о христианской этике, анализирующей различные этические точки зрения по отношению к конкретным современным проблемам.[331] В этой книге Гайслер приводит множество ветхозаветных текстов, чтобы очертить то, что считает приемлемыми христианскими откликами. Итак, на практике он, судя по всему, допускает нравственную важность Ветхого Завета, в то же самое время отказываясь предоставить ему нормативный авторитет по богословским причинам.
Оценивая диспенсационалистский подход к ветхозаветной этике, следует отметить позитивные стороны: важность благодати и должная настойчивость в отношении христоцентричности, а также богословия исполнения, которые встречаются в Новом Завете и в любом христианском толковании Ветхого Завета.
Тем не менее, я думаю, что этот подход ущербен из–за общей сомнительности диспенсационалистской схемы. Я считаю диспенсационализм крайне неадекватным из–за разрыва Ветхого и Нового Завета в искупительном значении, отрицании органической духовной преемственности между Израилем и церковью через Мессию, чрезмерном подчеркивании контраста между законом и благодатью. Эти основные особенности богословия диспенсационализма, судя по всему, настолько умаляют Ветхий Завет, что делают его этическое использование излишним. У меня такое впечатление, что сам Гайслер является неким исключением, поскольку обращает внимание на нравственную ценность Ветхого Завета. В целом же учение о том, что Ветхий Завет не имеет значимости для нынешней диспенсации церкви, приводит к своеобразному практическому маркионизму. Если закон не будет вновь актуален до тысячелетнего царства, тогда нет смысла вообще задаваться вопросом, что он означает для нас сейчас. При таком подходе Нового Завета как нравственного авторитета и руководства для жизни достаточно, и нет никакой необходимости в Ветхом Завете. Мне также кажется, что премилленаристская эсхатология диспенсационализма серьезно ослабляет влияние важности Ветхого Завета для социальной этики в современном контексте. Поскольку осуществление справедливости и мира будет особенностью тысячелетнего царствования Христа на земле, они не должны быть в центре внимания христиан здесь и сейчас. Главная (если не единственная) задача церкви — благовестие, которое понимается как спасение душ в гибнущем мире. Это неизбежно порождает скептическую (а иногда враждебную) оценку значимости христианского участия в социальных, экономических, политических, образовательных и судебных структурах нынешнего мирового порядка. Таким образом пренебрегается Ветхий Завет, с его нескрываемым интересом к подобным вопросам. Диспенсационалисты отдают себе отчет в этой критике, но некоторые настаивают, что подобный негативный пиетизм не присущ системе диспенсационализма. Христианскому социальному участию есть место, но не в той мере и не с теми ожиданиями, которые характерны для реконструкционистской повестки дня. Подобное социальное участие диспенсационалистов черпает свой авторитет и форму в Новом Завете и великом поручении, а не в Ветхом.
Диспенсационализм часто обвиняют в капитуляции и просто пассивном ожидании восхищения. К сожалению, пиетизм заразил многих представителей диспенсационалистского лагеря. Тем не менее, социальное и культурное бессилие не являются органической особенностью диспенсационализма. Верующий призван к служению разоблачения зла среди ночи (Еф. 5,11)… Если диспенсационалисты и не участвуют надлежащим образом в современных проблемах, это не результат их богословия; скорее, это их неверность своему призванию[332].
Теономизм
На противоположном полюсе диспенсационалистского умаления этического авторитета Ветхого Завета находится теономистское возвеличение его как вневременного выражения нравственной воли Бога для всех обществ. Проще всего показать разницу, сказав, что в то время как диспенсационалисты говорят, что никакая часть ветхозаветного закона не является обязательной по причине пришествия Христа, если только это не повелевается и поддерживается Новым Заветом, теономисты доказывают, что весь ветхозаветный закон нравственно обязателен для всех, разве только что–то полностью аннулировано Новым Заветом. У теономистов тот же подход «все–или–ничего» к закону, как и у диспенсационалистов, разве что на вопрос: «Какая часть ветхозаветного закона непререкаемо обязательна для христиан?», диспенсационалисты отвечают: «Никакая», а теономисты отвечают: «Весь, и не только для христиан».
Теономистское движение возникло в реформатском крыле церкви и притязает на законное происхождение от учения Кальвина, Вестминстерского вероисповедания и пуритан. Против этих притязаний строго выступают прочие реформатские ученые, не принимающие обоснованность как теономистской герменевтики, так и реконструкционистских социальных и политических предписаний, и утверждающие, что ни Кальвин, ни классические реформатские богословы ни в коей мере не были теономистами в современном значении слова.[333]
Движение подчеркивает неотъемлемое единство и преемственность Ветхого и Нового Завета, и придерживается одной из форм богословия завета. Основываясь на этом, они утверждают, что Моисеев закон был дан Богом как божественное откровение не просто для руководства Израиля, но чтобы дать совершенную модель справедливости для всех обществ — древних и современных. Церемониальные аспекты закона были исполнены Христом и поэтому не обязательны для христиан, хотя теономисты заявляют, что они были бы обязательны, если бы Христос не исполнил их ради нас (это та степень, до которой теономисты принимают различия в рамках закона). Но остальная часть закона обязательна, включая его наказания. Законы, которые более древняя традиция считала гражданскими и отличала от нравственных законов, включены теономистами в категорию нравственного и обязательного. Гражданские власти во всех обществах обязаны проводить в жизнь законы и наказания закона Моисеева. Соответственно, современные государства находятся в состоянии греха и мятежа в той мере, в какой они не соблюдают закон. Проведение в жизнь закона Моисеева для теономистов включает обязательную смертную казнь за некоторые сексуальные преступления, против мятежных молодых людей и так далее. Что касается наказания за нарушение субботы, то здесь мнения разделились.
«Христианский реконструкционизм» — это название выбрано руководителями движения, в котором верят, что церковь должна готовиться реконструировать общество и вершить законное владычество (dominion, — еще одно излюбленное понятие в теономистском словаре). Подобное владычество означало бы установление теократического правления, которое воплотит господство Христа во всех сферах общества. Оптимизм этой мечты легко скатывается до триумфализма. В богословском смысле он очень близок постмилленаристской эсхатологии. Постмилленаризм характеризует и формирует реконструкционизм в той же мере, в которой премилленаризм характеризует и формирует диспенсационализм. Отец–основатель движения — Рузас Рашдуни (Rousas Rushdoony), но он стал известен в основном из–за богословских произведений своего ученика Грега Бансена (Greg Bahnsen) и его популяризаторов, а также произведений и выступлений Гэри Норта (Gary North) с более экономическим уклоном.[334]
Полезным отправным пунктом рассмотрения теономистского подхода к ветхозаветной этике будет статья Бансена, сопровождающая статью Гайслера в христианском журнале о миссии и этике «Трансформэйшн»{Transformation).[335] В этой статье он излагает свою позицию, что общая преемственность нравственных стандартов Ветхого Завета обоснованно применяется как в общественно–политической сфере, так и в личной, семейной или церковной этике. Бансен утверждает, Что действующее гражданское законодательство (standing civil laws) Ветхого Завета — Божье откровение совершенной модели общества (хотя автор и допускает необходимые изменения в приспособлении к изменяющимся культурам).[336] Он оправдывает неприменимость законов, которые отличали Израиль символически от прочих народов, на том основании, что Новый Завет по–новому определяет народ Божий, чтобы он включал как язычников, так и евреев, так что старые признаки разделения уже больше не нужны, хотя их суть (отделение от нечестия) все еще касается христиан. Он подчеркивает важность Мф. 5, 17 и других новозаветных текстов, указывающих на непреходящую актуальность закона, также как диспенсационалисты указывают на тексты, говорящие о его цели.
Оценивая теономистский подход к этическому авторитету Ветхого Завета, можно начать анализ, как и в случае с диспенсационализмом, с нескольких положительных сторон. Я могу только приветствовать желание теономистов восстановить важность и авторитет Ветхого Завета как неотъемлемую часть всего канона христианского писания для жизни и свидетельства Церкви. Не вызывает сомнения, что содействующим фактором социальной бездейственности и нравственного замешательства современной церкви является практический маркионизм. Все, что устраняет эту потерю баланса, должно приветствоваться, но стоит опасаться, что ощутимый экстремизм реконструкционистской позиции может скорее усилить, чем изменить популярную недооценку Ветхого Завета.
Во–вторых, я соглашаюсь с предпосылкой теономистов, что ветхозаветный закон был дан Богом с более широкой целью, чем просто формирование Израиля. Ничто меньшее не соответствует утверждению 2 Тим. 3, 16 о том, что «все Писание богодухновенно и полезно». Такое широкое применение я отстаивал на протяжении всей этой книги.
В–третьих, я считаю, что реформатское понимание единства заветов, а также исполненной, по–новому сформулированной природы Израиля в Новом Завете,[337] является более адекватной системой библейского толкования, чем диспенсационализм, поэтому я снова соглашаюсь с одной из богословских предпосылок теономизма.
В–четвертых, нельзя не оценить желание увидеть распространение господства Христа по всей земле, во всей его полноте. Тем не менее, с богословской точки зрения, автор не может согласиться с постмилленаристской картиной распространения царства, а уже в более субъективном ключе — и с торжественно–победоносными настроениями этого течения.
Тем не менее, несмотря на согласие с некоторыми аспектами теономистского богословия, следует высказать некоторую критику:[338]
1. Чрезмерное внимание к статутному праву. С точки зрения социологии права можно сказать, что теономисты неверно понимают функцию права, особенно в древних сообществах. В древнем библейском Израиле и современных ему культурах право не всегда было записано в законодательных актах, которые должны были буквально применяться в официальных судах. Похоже, скорее судьи поступали более неформально, опираясь на прецеденты и примеры, руководствуясьtora (которая означала руководство, или наставление) и собственной мудростью, опытом и честностью. Основа судебной системы Израиля включала местных старейшин, священников из колена Левия, отдельных окружных судей вроде Самуила. После реформы Иосафата также появились судьи, назначенные царем в укрепленных городах, а также апелляционный суд в Иерусалиме (2 Пар. 19), но большая часть судебной деятельности по–прежнему осуществлялась на деревенском уровне. Отмечалось повеление творить справедливость и поступать честно без взяточничества и фаворитизма, но многое зависело от рассудительности и суждения ответственных людей (Втор. 16, 18–20; 17, 8–13).[339]
2. Одержимость наказанием. Желание теономистов возродить наказания ветхозаветного закона за (предположительно) равные современные проступки, придает слишком большое значение буквальной форме библейских наказаний и не учитывает два важных пункта. Во–первых, возможно, что во многих случаях упомянутое наказание было максимальным наказанием, которое можно было сократить на усмотрение старейшин или судей, рассматривающих дело. Это ясно видно в законе, регулирующем наказание плетью (Втор. 25, 1–3). Сорок ударов было максимальным наказанием; закон предполагает, что нормой было меньшее количество ударов, по усмотрению старейшин. Тот факт, что в нескольких конкретных случаях закон запрещает всякое уменьшение наказания (за преднамеренное убийство, Чис. 35, 31; идолопоклонничество, Втор. 13,8; и лжесвидетельство в суде, Втор. 19,19–21), позволяет предположить, что в других случаях были допустимы меньшие наказания. Уэнхем (Wenham) предположил, что смертная казнь за прелюбодеяние могла заменяться денежной компенсацией, хотя потенциальные блудники не должны были рассчитывать на это (Притч. 6, 32–35).[340]
Во–вторых, в системе наказаний израильского закона важна шкала ценностей, которую он отражал, а не сами буквальные предписания. Как было видно выше, в девятой главе, внимательное изучение израильской системы наказаний демонстрирует, что спектр преступлений, за которые выносилась смертная казнь, касался непосредственно защиты отношений завета и семейства, в котором эти отношения существовали. Градация наказаний также демонстрирует, что человеческая жизнь была выше собственности, а потребности выше прав, а также других ценностей, которые иногда бросают вызов искаженным ценностям наших современных судебных систем. Конечно, можно сравнить шкалу нравственных ценностей, отображенных в израильских наказаниях, с ценностями нашего общества, затем отметить недостатки и предложить реформы, чтобы привести нашу систему права и справедливости в большее соответствие с библейскими особенностями. Однако это не должно выглядеть, как попытка навязать ветхозаветные наказания в данных условиях, как это осуществляется в программе теономистов. Похоже, что этот пункт подкрепляется тем, что в Новом Завете ни Иисус, ни Павел не желали в полной мере применять ветхозаветную систему наказания за прелюбодеяние или лжеучение.
3. Чрезмерная сосредоточенность на важности закона. Мне кажется, что теономия переоценивает важность законов Пятикнижия в общей системе ветхозаветного канона. Ведь очевидно, что Тора как целое (никогда не следует забывать, что Тора включает в себя как законы, так и повествования) играет фундаментальную роль и воспета в Псалмах, а также цитируется пророками для обличения народа Израиля. Тем не менее, существенно то, что исторические повествования и пророческие тексты (и, конечно же, литература мудрости) не часто цитируют конкретные законы, призывают к их исполнению или же к тому, чтобы приводились в жизнь конкретные наказания. То есть не так часто, как следовало бы ожидать, если бы записанный, фиксированный закон имел центральную важность в повседневных общественных делах Израиля, как предполагают теономисты. На самом деле, если бы закон был настолько решающим, как они утверждают, тогда повествования отображали бы явную непоследовательность, самыми яркими случаями были бы отсутствие наказания Каина или Давида. Нужно еще доказать, что по–настоящему пророческий отклик на нужды общества будет делать упор на закон и наказание в той же мере, как это делает теономия. Судя по всему, Ветхий Завет осознает ограничения подхода.[341]
4. Политические и экономические предрассудки. Программа теономистов представляется избирательной — например, что, по их мнению, современные гражданские правители должны применять и проводить в жизнь из ветхозаветного закона, а чего не должны. Бансен полагает, что сфера экономики выходит за рамки влияния правителей, как законодательно, так и принудительно, на том основании, что Ветхий Завет не предписывает подобное вмешательство: «Вне тех сфер, в которых Божий закон предписывает их вмешательство и применение карательных мер, гражданские власти не имеют права узаконивать или применять принуждение (например, в экономике)».[342]
Несомненно, закон Пятикнижия во всех отношениях глубоко озабочен экономикой и предписывает огромную массу механизмов, цель которых сохранить или восстановить экономическую справедливость: в отношении распределения земли, оплаты работникам, займов и долга, смягчение нищеты и тому подобного (см. пятую главу выше). Кто, как не гражданские власти (старейшины), должны были воплощать эти экономические законы и механизмы в Израиле? Кто, как не гражданские власти, должны были принудить тех, кто пытался игнорировать эти законы? Что делал Неемия, правитель, когда выступал против незаконного обогащения знати за счет обложения процентами обнищавших крестьян, если не вмешивался в экономическую сферу (Неем. 5)? Попытки доказать, будто из–за отсутствия предписанных ветхозаветным законом непосредственных наказаний, связанных с нарушением его экономических постановлений, современные гражданские власти лишены любой формы вмешательства в экономику, выдают неадекватность озабоченности теономистов наказаниями, а также, на мой взгляд, его идеологическую склонность к неконтролируемой свободной капиталистической рыночной экономике.
Христианская общественная организация «Юбилейный центр»
С богословской и социологической точек зрения, теономизм – это главным образом североамериканский феномен. Он не очень–то прижился на Британских островах. Тем не менее, это не означает, что в Британии недостает христиан, преданных библейской социальной программе с мощными ветхозаветными корнями. Христианская общественная организация «Юбилейный центр» в Кембридже осуществляет свою деятельность в течение двадцати с лишним лет, знакомя широкую аудиторию с библейским взглядом на социальную политику, законодательство и реформу. Ее работа признана как в Парламенте, так и в светских средствах массовой информации. Хотя она придерживается некоторых герменевтических основ, представленных теономизмом, «Юбилейный центр» не является теономистским в своей богословской основе, а также в том, как он пытается влиять на политику. Он явно не следует реконструкционистской программе, и не отстаивает ветхозаветные наказания в современном законодательстве. Директор центра Майкл Шлутер (Michael Schluter) изначально в сотрудничестве с Роем Клементсом (Roy Clements), а позже при поддержке большой команды, разработал богословское и библейское основание для различных программ, которые нацелены на социальную реформу в Британии.[343]
Яркое место в их богословской позиции занимает использование Ветхого Завета в качестве нормативного авторитета для христианской социальной этики. Опираясь на такие новозаветные тексты, как Мф. 5, 17–20 и 2 Тим. 3, 16–17, они доказывают, что христиане обязаны исследовать писания Ветхого Завета для этического руководства, а также, что ограничение ветхозаветного закона Израиля до Рождества Христова является фундаментальным заблуждением. Тем не менее, они не довольствуются предложением, что единственным способом перейти от ветхозаветных текстов к современному контексту является смешанный список производных переходных принципов. Проблемы, которые они видят в подобном подходе списка принципов, следующие: как человек определит правильный принцип, когда различные толкователи извлекают из одного и того же текста разные принципы? Извлечение принципов связано с процессом абстракции и обобщения, потому насколько высоко должен подняться человек по лестнице абстрактных утверждений, и какие шаги приемлемы для того, чтобы вновь спуститься к конкретным предложениям в нашем современном контексте? Как нам организовать или выстроить по важности производные принципы, если они вступают в конфликт между собой в сложной этической ситуации? Как нам избежать избрания производных принципов, которые основываются исключительно на субъективном изложении наших предубеждений, вскользь связанных с библейским текстом?
Шлутер и Клементе убеждены, что целостный подход — это единственный способ избежать эти трудности (или хотя бы смягчить их), так как он учитывает всю социальную систему Израиля в качестве нормативной модели.[344] То есть вместо того, чтобы брать отдельные законы и пытаться извлечь из них нравственные принципы, нам необходимо понять, как отдельные законы и категории права, а также множество социальных, экономических и политических институтов Израиля, функционировали вместе. Бог не просто дал произвольные законы нейтральному сообществу; Бог создал это сообщество, сформировал его из безнадежной толпы беглых рабов в народ с особенными структурами общественной жизни, связанными с историческим и культурным контекстом, в котором они жили. Именно это целостное сообщество должно было служить Божьей моделью для народов. Следовательно, любые принципы, выведенные нами из различных частей модели, должны быть интегрированы в целое и соответствовать ему. Поэтому, например, закон, запрещающий ростовщичество, не будет обобщен просто до абстрактного принципа отказа от жадности, но будет пониматься в связи с израильской системой землевладения и экономических задач. Эти задачи, в свою очередь, связаны с важностью и ролью расширенных семей, а они — с прочими особенностями израильской судебной и общественной жизни. Поскольку большая часть израильского закона имеет отношение к созданию и восстановлению сообщества справедливости и сострадания в семье и общественной жизни, команда «Юбилейного центра» использует понятие «реляционизм» (relationism) для описания социальной этической системы, которую пытается построить на этом библейском основании.[345]
Отстаивая этот метод, они заявляют, что уходят от некоторых проблем, внутренне присущих для позиции, берущей в качестве отправной точки для христианской социальной этики либо поручение творения, либо подход царства Божьего, в то же самое время сохраняя важнейшие истины обоих подходов.[346] В своей работе они поддерживают и развивают концепцию, изложенную мною в первом издании данной книги, об Израиле и его законе как модели. Именно эта всеобъемлющая модель, социальный образ Израиля во всех его измерениях, действует как руководящий, организующий и определяющий предпочтения контроль нашего выражения и применения производных принципов. Таким образом, хотя они и придерживаются теономистской позиции в отношении значимости и нормативности Ветхого Завета и его закона, они не разделяют задачу реконструкционистов проводить в жизнь ветхозаветные законы и наказания при помощи современного законодательства. То есть они готовы не только подняться по лестнице абстрактных утверждений, но вновь спуститься по ней с конкретными предложениями в общественной сфере. Не все согласятся с конкретными деталями всей их программы. Они тем более не ожидают такого согласия, и не собираются никого принуждать к этому. Суть в том, что наступает время переходить от принципов к практике, от вопросов к ответам, от споров к действию, и «Юбилейный центр» стремится делать это при помощи ясно сформулированного герменевтического подхода к библейскому тексту.
Мессианский иудаизм
Наконец, стоит отметить подход уникальной и растущей христианской группы, которой часто пренебрегают, но которая, благодаря своей уникальности, кое–что может предложить христианскому подходу к ветхозаветному закону. Речь идет о мессианских евреях — движении, берущем свое начало у еврейских верующих в Иисуса как Мессию еще во времена Нового Завета. В Рим. 9—11 Павел придает огромное богословское значение их существованию (включая самого себя) как остатку верных, о котором пророчествовало Писание. На протяжении столетий сохранялась тенденция, что становившиеся христианами евреи просто вливались в церкви, состоящие главным образом из неевреев. На самом деле не существовало других вариантов. Тем не менее, после Второй мировой войны не только существенно увеличилось количество евреев, верящих в Иисуса как в Мессию, но также появилось движение, известное как мессианский иудаизм. Насчитывая около ста тысяч последователей в Америке и несколько тысяч в других частях мира (включая современное государство Израиль), мессианские евреи — это христиане, желающие сберечь и подчеркнуть свою еврейскую принадлежность, чтобы жить и поклоняться по еврейским обычаям.[347]
Можно было бы предположить, что верующие евреи, желающие сохранить свое еврейское наследие и решившие жить максимально в соответствии с Торой, примут более или менее теономистский подход к еврейской Библии. Но это вовсе не так. В отношении Торы (которая понимается так же, как в ортодоксальном иудаизме — записанный закон Танаха [еврейская Библия, Ветхий Завет] и устный раввинистический закон) позиция мессианских евреев заключается в том, что каждый вправе решать сам, соблюдать ее или нет.[348] Таким образом, они могут соблюдатьkasrut (закон о еде), субботу и ежегодные праздники, обрезать своих детей и так далее. Можно спросить, на каком основании делается выбор? Это может быть вопросом этнического и культурного самоопределения. Мессианский еврей говорит: «Я — еврей, поэтому позвольте мне жить, как еврею». Или же это может быть вопросом евангельской жизни в определенном окружении. Тогда человек решает, наподобие Павлу (1 Кор. 9, 20), вести еврейский образ жизни в еврейском контексте, чтобы избежать ненужных обид во время свидетельства об Иисусе. Но подобные законы не являются обязательными. Мессианский еврей может принять решение соблюдать подобные законы и обряды и делать это с энтузиазмом, но он не обязан делать это; исполнение законов также не связано с его спасением, которое полностью основано на жертве Мессии на кресте.
Тем не менее, мессианский иудаизм заявляет, что в свете Нового Завета сама идея Торы должна быть переформулирована. Она не может ограничиваться ветхозаветной Торой (хотя по–прежнему включает ее), но теперь для христиан включает «Тору Мессии».[349] Она включает не только конкретные заповеди Иисуса, но также весь образ послушания и святости, к которому христиан призывает Новый Завет. Но тогда ведь полное понимание новозаветного нравственного учения на самом деле требует знания ветхозаветного закона, который служит основанием для большей его части. Таким образом, мессианский иудаизм соглашается, что ветхозаветный закон сохраняет свой нравственный авторитет для верующих, но он должен быть помещен в общем христианском каноническом контексте как часть новой мессианской Торы Нового Завета.[350] Что касается применения в социальной этике ветхозаветных законов, мессианские иудеи считают, что они представляют собой главный пример того образа жизни, какой ожидает от своего народа Бог, хотя эти законы и не обязательны для исполнения. Другими словами, каждый ветхозаветный пример продолжает содержать в себе то или иное нравственное учение, если смотреть на него в свете культурных и исторических изменений.42
Жалуясь на недостаток интереса к закону среди христиан в целом, он продолжает: «Это означает, прежде всего, что большинство христиан имеют крайне упрощенное представление о том, чем является закон; и, во–вторых, что христианство не имеет практически ничего существенного, чтобы сказать евреям об одной из трех наиболее важных статей их веры. Короче говоря,Torah — это огромная неисследованная территория,terra incognita христианского богословия» (с. 126).
Дополнительная литература
Anderson, J. N. D., Morality, Law and Grace (London: Tyndale, 1972).
Bahnsen, Greg, Theonomy in Christian Ethics, rev. ed. (Phillipsburg: Presbyterian & Reformed, 1984).
_, By This Standard: The Authority of God's Law Today (Tyler: Institute forChristian Economics, 1985).
_, 'Christ and the Role of Civil Government: The Theonomic Perspective',Transformation 5.2, 5.3 (1988), part 1, pp. 24 — 31; part 2, pp. 24 — 28.
Barker, William. S., and Godfrey, W. Robert (eds.), Theonomy: A Reformed Critique (Grand Rapids: Academie, 1990).
Bloesch, D. G, Freedom for Obedience: Evangelical Ethics in Contemporary Times (New York: Harper & Row, 1987).
Forde, G. O., 'Law and Gospel in Luther's Hermeneutic', Interpretation 37 (1983), pp. 240 — 252.
Froehlich, K., Biblical Interpretation in the Early Church (Philadelphia: Fortress, 1984).
Fuller, Daniel P., Gospel and Law, Contrast or Continuum ? The Hermeneutics of Dispensational and Covenant Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1980).
Geisler, Norman L., 'Dispensationalism and Ethics', Transformation 6.1 (1989), pp. 7 — 14.
_, Christian Ethics: Options and Issues (Grand Rapids: Baker; Leicester: I VP, 1989, 1990).
George, Timothy, Theology of the Reformers (Nashville: Broadman; Leicester: Apollos, 1988).
Glasser, Arthur F, 'Messianic Jews — What They Represent', Themelios 16.2 (1991), pp. 13 — 14.
House, H. Wayne, and Ice, Thomas (eds.), Dominion Theology: Blessing or Curse? (Portland: Multnomah, 1988).
Juster, Daniel, Jewish Roots: A Foundation of Biblical Theology for Messianic Judaism (Rockville: Davar, 1986).
Klassen, H. W, 'The Relation of the Old and New Covenants in Pilgram Marpeck's Theology', in Swartley, Essays on Biblical Interpretation, pp. 91 — 105.
Longenecker, R. N., 'Three Ways of Understanding Relations between the Testaments: Historically and Today', in G. F. Hawthorne and O. Betz (eds.), Tradition and Interpretation in the New Testament: Essays in Honor of E. Earle Ellis for His Sixtieth Birthday (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), pp. 22 — 32.
Poettker, H., 'Menno Simons' Encounter with the Bible', in Swartley, Essays on Biblical Interpretation, pp. 62 — 76.
Riggans, Walter, The Covenant with the Jews: What's so Unique about the Jewish People? (Eastbourne: Monarch), 1992.
Rushdoony, Rousas, Institutes of Biblical Law (Phillipsburg: Presbyterian-& Reformed, 1973).
Schluter, Michael, and Clements, Roy, Reactivating the Extended Family: From Biblical Norms to Public Policy in Britain (Cambridge: Jubilee Centre, 1986).
_, 'Jubilee Institutional Norms: A Middle Way between Creation Ethics and
Kingdom Ethics as the Basis for Christian Political Action', Evangelical Quarterly 62 (1990), pp. 37–62.
Schluter, Michael, and Lee, David, The R Factor (London: Hodder & Stoughton, 1993).
Stern, David H., Messianic Jewish Manifesto (Jerusalem: Jewish New Testament Publications, 1988).
Swartley, Willard (ed.), Essays on Biblical Interpretation: Anabaptist–Mennonite Perspectives (Elkhart, IN: Institute of Mennonite Studies, 1984).
Townsend, C, and Ashcroft, J., Political Christians in a Plural Society: A New Strategy for a Biblical Contribution (Cambridge: Jubilee Centre, 1994).
Wenham, Gordon J., 'Law and the Legal System in the Old Testament', in Kaye and Wenham, Law, Morality and the Bible, pp. 24 — 52.
Wright, D. R, The Ethical Use of the Old Testament in Luther and Calvin: A Comparison', Scottish Journal of Theology 36 (1983), pp. 463 — 485.
_, 'Calvin's Pentateuchal Criticism: Equity, Hardness of Heart and Divine Accommodation in the Mosaic Harmony Commentary', Calvin Theological Journal 21 (1986),рр. 33–50.
13. Современное состояние ветхозаветной этики. Библиографическое эссе
Как я отмечал в предисловии, через двадцать лет после выхода в 1983 году из печати книги «Образ жизни народа Божьего»(Living as the People of God) отмечен поразительный всплеск интереса к этике Ветхого Завета, хотя для пересмотра данной темы было достаточно причин еще в 1970–х годах. Цель этой главы — представить избирательное руководство к литературе по этому предмету за последнюю четверть века. Конечно, это мой личный выбор того, что мне показалось интересным или полезным, и я не могу претендовать на исчерпывающую библиографию по данной теме. По крайней мере это даст людям, серьезно настроенным изучать данный предмет, некоторое направление в их личных исследованиях. Содержание организовано в хронологической последовательности, отмеченной датами, выделенными жирным шрифтом, но в тех случаях, когда труд отдельных ученых охватывает несколько лет, он обычно обсуждается одновременно в одном месте.
Уолтер Брюггеман (Walter Brueggemann). Внушительный труд Уолтера Брюггемана, одного из наиболее влиятельных сторонников актуальности этической голоса Ветхого Завета, охватывает более четверти века. Его работа с текстом являет керигматическую силу, так как он постоянно стремится понять, как великие темы библейского богословия касаются современных проблем. Он находит в повествованиях Израиля, в вести пророков, в жажде справедливости на земле мощный материал, обнажающий динамику человеческих отношений (личных, общественных и международных), и призывает к новым способам приведения Слова Божьего к миссионерскому участию в современных реалиях. Практически невозможно в данных рамках обозреть огромнейший и невероятно обогащающий вклад Брюггемана, хотя следует заметить, что он так и не написал книгу, непосредственно посвященную ветхозаветной этике. Предыдущие главы настоящей книги показывают, что я обязан его исследованиям. Среди его ранних, наиболее важных книг — «Земля»(The Land, 1977) и «Пророческое воображение» (The Prophetic Imagination, 1978). Полезный сборник разнообразных статей, косвенно касающихся ветхозаветной социальной этики, собран Патриком Д. Миллером (Patrick D. Miller Jr.) в 1999 году под названием «Социальное прочтение Ветхого Завета»(A Social Reading of the Old Testament). И, конечно же, множество этических открытий и выводов можно встретить в особом подходе егоmagnum opus — «Богословие Ветхого Завета»{Theology of the Old Testament, 1997).
Помимо собственных произведений Брюггемана, его интерес к предмету, который можно назвать «прикладным ветхозаветным богословием», виден в серии монографий «Увертюры к библейскому богословию» (Overtures to Biblical Theology), изданных издательством «Фортресс Пресс», редактором которого Брюггеман стал после опубликования его собственной книги, первой в серии(The Land, 1977). Многие из них хоть и не касаются ветхозаветной этики напрямую, весьма полезны и способствуют развитию мысли в различных этических направлениях. В 1980–х годах были изданы несколько отличных томов этой серии.[351]
Джон Бартон (John Barton).Бартон сделал существенный вклад в область ветхозаветной этики за последнюю четверть века. Он вновь возродил интерес к этой области в 1978 году[352] с некоторых критических размышлений о более ранних попытках создать системное и синхронное описание ветхозаветной этики в ранних трудах по ветхозаветному богословию. Классическая модель Вальтера Айхродта (Walther Eichrodt), при помощи которой структурировалось ветхозаветное богословие, включала один из главных разделов об этическом учении Ветхого Завета.[353] Также Йоганнес Гемпель (Johannes Hempel), один из немногих писавших о ветхозаветной этике в середине XX столетия, хотя и осознавал историко–критические проблемы библейских исследований, стремился изложить обзор того, что можно считать целостной ветхозаветной этикой.[354] Бартон ссылается на обоих (Айхродта и Гемпеля), а также на подход, который они представляли, в двух критических статьях «Понимание ветхозаветной этики» ('Understanding Old Testament Ethics' 1978) и «Подходы к этике Ветхого Завета» ('Approaches to Ethics in the Old Testament', 1983).[355] Бартон утверждает, что в противовес системному, синхронному подходу, мы только в том случае сможем сделать успехи в дисциплине ветхозаветной этики, если учтем всю глубину и нюансы материала в социологическом, хронологическом ракурсе, а также в свете анализа традиций. Следует отличать три сферы исследований: (1) во что некоторые израильтяне исторически верили и как жили в разные времена; (2) каких взглядов некоторые ветхозаветные авторы и традиции придерживались в отношении должной веры и поведения израильтян; и (3) о какого рода поведении можно сказать, что Ветхий Завет, считающийся каноном Писания, осуждает его или поддерживает. Мы не можем считать, что наша реконструкция последнего из этих пунктов (официальная каноническая этика) совпала бы с народной этикой в Израиле — в теории или на практике — в какое либо время. Тем не менее, мы не можем свести ветхозаветную этику к простой описательной задаче истории жизни Израиля, как и ветхозаветное богословие не может быть сведено к истории религии Израиля. Мы можем разглядеть «дух» или «общее направление» нравственного мировоззрения древнего Израиля. Похоже, что израильтяне верили в существование образца жизни, которому нужно следовать в присутствии Бога и который угоден Богу, и эта модель жизни имела ряд неизменных составляющих на протяжении всего периода. «[Ветхозаветный] закон дает понимание контуров личной идеальной воли Бога для Его народа и всего человечества».[356] Бартон перечисляет по крайней мере три фундаментальных элемента этого «духа»: (1) послушание божественной воле, (2) подчинение образцу естественного порядка и (3) подражание Богу. Особый подход Бартона к естественному закону и значение, в котором он использует эту фразу в отношении Ветхого Завета, было развито в статье «Естественный закон и поэтическая справедливость» ('Natural Law and Poetic Justice', 1979).
Бартон вернулся к разгорающемуся спору о ветхозаветной этике, сделав свой методологический вклад на симпозиуме по данной теме, состоявшемся в 1994–1995 годах.[357] Наконец, в 1998 году он издает небольшую книгу по данной теме — «Этика и Ветхий Завет»(Ethics and the Old Testament), обобщающую его мысли и те взгляды, что были развиты в нескольких статьях на протяжении двадцати лет. Бартон утверждает, что существенный объем этического материала в Ветхом Завете относится к тому, что он называет «естественным законом», не в специальном значении, которое развилось в философской этике со времен Аристотеля, но в значении общего понимания для человека — что такое хорошо и что такое плохо. Это фундаментальное нравственное чувство основывается на том, как функционирует мир. Оно обнаруживалось по всему древнему миру и разделялось Израилем. В дополнение к этому естественному закону существовали этические ценности, лежащие в основе конкретных заповедей Яхве, которым следовало повиноваться. Утверждались эти ценности и заповеди тем, что связывались с подражанием характеру и прошлым деяниям Яхве, а также включали будущие последствия, будь то естественные или божественные благословения или наказания. Бартон включает главу, содержащую размышления о вкладе Ветхого Завета в этику экологии, половых отношений и собственности. Самой интересной особенностью книги является анализ Бартоном проблем ветхозаветной этики (ее конкретность и разнообразие), которые поднимают многие комментаторы. Он, наоборот, считает эти особенности этического материала в Ветхом Завете главным фактором его жизнеспособности и долговечности. Именно ветхозаветная жажда конкретных практических принципов (особенно через истории), в противовес философским, придает книге подобную нравственную силу. Развивая этот подход, Бартон основывается на труде Марты Нусбаум (Martha Nussbaum) о греческой трагедии. В 2003 году появилось полезное переиздание ранней работы Джона Бартона в данной области с введением: «Понимание этики: подходы и исследования» (Understanding Ethics: Approaches and Explorations [Louisville: Westminster John Knox, 2003]).
Помимо этих нескольких статей Флетчера, Бартона и Макитинга, а также сборника Креншоу, 70–е годы XX столетия были бесплодной декадой для ветхозаветной этики. Это совпало с распадом Движения библейского богословия и его последствиями для библейской этики. Казалось, на библейское богословие нашло состояние неуверенности и самоанализа, а ученые постоянно задавались вопросом, существует ли вообще подобная вещь, и если существует, как ее следует определять. Точно так же, и предположительно по тем же причинам, только немногие были склонны предложить какое–либо описание библейской этики как таковой, или описание ветхозаветной и новозаветной этики. В то время входили в моду социологические подходы к Ветхому Завету, принося результат, который, с одной стороны, был обильно пропитан идеологией, а с другой (если пользоваться им аккуратно) — способствовал развитию этики.
Норман Готвальд (Normann Gottwald). Одна из первых личностей в современном всплеске социологических исследований Ветхого Завета, и вместе с тем — наиболее спорная. Откровенно марксистское прочтение еврейской Библии Норманом Готвальдом в книге «Племена Яхве»(The Tribes of Yahweh, 1979) подверглось массированной критике за насыщенность идеологической теорией, хотя можно было бы привести и другие примеры различных либерационистских или пропагандистских точек зрения. Готвальд видит этическую значимость Ветхого Завета, но не в том смысле, что существует какое–то Божье откровение с этическими нормами, присущее такой литературе, как Писание, но, скорее, в его отображении исторической борьбы Израиля. Согласно социологической теории Готвальда, Израиль — это удивительный исторический эксперимент социальной свободы, равенства и справедливости. Этот эксперимент породил поддерживающую и санкционирующую религию — моно–Яхвизм. Любой этический авторитет, которым может обладать литературный вклад этого исторического феномена, лежит в области исторического прецедента и современного вызова, а не в духовном идеализме утверждения Яхве своим собственным Богом. Социологический позитивизм и критическая методология Готвальда не осталась без критики в широком мире ветхозаветной науки, и они точно неприемлемы для тех, кто предан идее о божественном авторитете Писания. Но я считаю (как отмечалось выше во второй главе), что он сделал два важных вклада в ветхозаветную этику: во–первых, утвердив важность изучения Израиля как целостного социального организма, чтобы мы больше не пытались просто выискивать наши этические «самоцветы» в изолированных текстах, но скорее видели важность всего, чем Израиль пытался быть и к чему стремился в своем историческом контексте; и, во–вторых, достаточно глубоко и подробно показав степень, до которой Израиль отличался от окружающей ханаанской культуры в социальном, экономическом, политическом и религиозном смысле (хотя эта точка зрения также подвергается сомнению в одной из современных школ ветхозаветной историографии).
Джон Голдингей (John Goldingay). Голдингей начал новое десятилетие своей книгой «Подходы к толкованию Ветхого Завета»(Approaches to Old Testament Interpretation, 1981). Эта фундаментальная книга (которая была пересмотрена и дополнена еще более обширной библиографией в 1991 году) не сосредоточена непосредственно на ветхозаветной этике. Однако в ней есть глава «Ветхий Завет как образ жизни» (The Old Testament as a Way of Life'), касающаяся некоторых проблем, присущих ветхозаветной этике, и предлагающая полезные взгляды на то, как Ветхий Завет может быть актуальной книгой по этике для христианских читателей. Голдингей желает утвердить нормативный авторитет Ветхого Завета в христианской этике как неотъемлемой части канона Писания. Но он также видит важность формулировки производных или промежуточных принципов (которые иногда называют «срединными аксиомами») как способа перехода от специфики древнего текста к специфике современного контекста. В противном случае «специфичность» (specificness) (его понятие) ветхозаветных заповедей (не говоря уже о его повествованиях и прочих жанрах) могла привести к своего рода состоянию этического паралича, в котором исследователь настолько осознает историческую уникальность израильских законов, что вовсе отчаивается найти какую–либо применимость, не говоря уже о нормативной этике. Вопреки подобному негативному взгляду, Голдингей указывает, что даже применительно к обычной светской жизни привязанность заповеди к ее конкретному контексту не говорит о бесполезности в других контекстах. Она может быть конкретным выражением некого общего принципа, который применен в контексте изначальной заповеди и будет уместным также и в других контекстах. Также существуют человеческие константы, которые сохраняются в культурной неоднородности, а также нравственная последовательность самого Бога. Наряду с обсуждением проблемы конкретности ветхозаветных заповедей, Голдингей касается многообразия и явной ограниченности ветхозаветных нравственных стандартов. Эти особенности также требуют использования более широких производных принципов в качестве одной из форм моста, связывающего сами тексты с миром, в котором нам необходимо принимать нравственные решения.
Тем не менее, анализируя необходимость подобных процедур, Голдингей предостерегает против того, чтобы относится к производным принципам как к авторитетному источнику. Именно сам текст Писания остается нормативным:
Если нас интересует толкование самой Библии, тогда все же не эти гипотетические принципы являются нормативными или каноническими.
Сама Библия остается нормой. Принципы, которые мы находим в ней, — это только часть нашего толкования, а не его единственная цель. Они ограничены нашими возможностями и вместо того, чтобы направлять нас в послушании Писанию, иногда могут даже стать причиной для его искажения или неправильного понимания[358].
Это важное предостережение. Но, похоже, оно может поставить нас перед дилеммой: с одной стороны, у нас есть авторитетный текст, который мы не можем применять прямо, или который не обращен к конкретным современным нравственным проблемам, что стоят перед нами, в то время как, с другой стороны, у нас есть производные моральные принципы, которые определенно полезны, но не имеют внутренне присущего авторитета. Тем не менее, мне кажется, что у нас нет другой альтернативы, как только выводить разного рода промежуточные построения, в противном случае Библия нам ничего не скажет в плане этики. В этой книге (во второй и в девятой главах о ветхозаветном законе) я обосновывал необходимость признания конструктивного характера библейской модели как той, что связывает в единой структуре различные принципы и аксиомы, которые мы находим в тексте. Тем не менее, важно то, чтобы мы постоянно подвергали эти промежуточные построения — называйте их образцами, принципами, аксиомами или как угодно — пересмотру в свете самого библейского текста. Текст остается высшим авторитетом, в свете которого наши этические заявления должны бытьsemper reformanda (постоянно реформируемы), как наша экклесиология или богословие.
В более поздней работе «Богословское многообразие и авторитет Ветхого Завета»(Theological Diversity and the Authority of the Old Testament, 1987) Голдингей исследует важность исторического контекста для понимания и связи ветхозаветных законов и повествований. Сама Библия показывает, как изменяющиеся контексты требуют различных откликов и ценностей, и нам не следует просто низводить все это многообразие к предполагаемым вневременным истинам, кроме тех случаев, когда сама Библия явно предлагает непреходящую истину или императив на основании исторического инцидента. Голдингей предлагает проследить, как идея народа Божьего проходит через долгое историческое странствование израильтян в Ветхом Завете. Он показывает, как в каждом историческом периоде народ Божий встречался и сталкивался — порой в совершенно иной форме — с новыми проблемами и этическими задачами. Они двигались от прародительского странствующего клана, через теократический народ, организованное государство, страдающий остаток, к послепленной общине обетования. Налицо как преемственность, так и явная прерывность, и этические принципы, выведенные из данных текстов, должны учитывать сложное переплетение всего этого исторического гобелена. Анализируя эту преемственность в разнообразии, Голдингей ясно показывает, что видит определенные этические вызовы и ценности для христианской церкви в подобном изучении всего одной темы еврейского канона.[359]
В той же книге(Theological Diversity), в пятой главе, Голдингей предлагает то, что называет «пасторской стратегией» Второзакония. После обзора нравственных ценностей и богословских взглядов книги он отмечает, что явное нравственное несоответствие между высокими этическими идеалами, с одной стороны, и некоторыми законами, которые нам кажутся не слишком моральными, с другой стороны, может быть разрешено, если мы признаем эту «пасторскую стратегию». Нам следует ценить то, что законодатель желал установить не только максимально высокие стандарты верности завету, но и учесть реальность грешного, мятежного народа и окружающей его культуры. Необходимо начать с того места, где находится народ — здесь и сейчас. Таким образом, закон обязательно шел на уступки, учитывая человеческую греховность и нежелательные аспекты исторической культуры. Отмечая это, Голдингей заимствует прием из спора Иисуса о разводе. Христос противопоставил идеалу творения заповедь, позволенную Моисеем. Тем не менее оба текста, которые он процитировал, конечно же, были частью одной и той же Торы. Следовательно, сама Библия дает нам прецедент нравственной оценки и нивелирования одних текстов в свете других. Но только текст Библии может претендовать на это, а не наши притязания на некую более высокую этическую позицию.
Поэтому, по мнению Голдингея, авторитет Ветхого Завета не является однородным и одинаковым в каждом тексте. Хотя весь текст обладает своим каноническим авторитетом, некоторые его части явно являются предписаниями, которые стремительно находят современное применение, в то время как другие больше напоминают прецеденты взаимодействия Бога с Израилем в ситуациях большего или меньшего послушания воле Божьей:
Таким образом, либо утверждения Библии скажут нам, как жить, либо (когда они не делают этого) эти фактические утверждения являются моделью и мерилом наших попыток сформулировать, как нам следует жить. Это означает, что мы не игнорируем конкретность библейских заповедей (и применяем их к нашему времени, как если бы они были вневременными универсалиями). В то же самое время их конкретность не парализует нас (тем самым делая нас неспособными применять их к своему времени вообще). Мы радуемся их конкретности потому, что она показывает, как выражалась воля Божья в том контексте, и мы берем их в качестве модели для собственной этической конструкции.[360]
Джон Роджерсон (John Rogerson). Подобно Джону Бартону, Джон Роджерсон также связывает ветхозаветную нравственность с естественным порядком в статье «Ветхозаветный закон и социальные и нравственные вопросы» (The Old Testament Law and Social and Moral Questions', 1982). Он находит много общего между израильским законом и прочими нравственными текстами тогдашних древних ближневосточных сообществ и, следовательно, считает моральные нормы Израиля отражением естественной нравственности того времени. Это не тождественно естественному закону в догматическом или философском смысле, поскольку он явно исторически обусловлен. Однако современный христианин (или нехристианин) все еще может поучиться у этих древних текстов, наблюдая за их нравственными уроками и оценивая их в историческом контексте. Принципы есть, но они не являются вневременными или уникальными для Израиля. Тем не менее, если мы хотим относиться к нравственным требованиям Ветхого Завета всерьез, как христиане, нам следует делать это в свете ветхозаветных императивов искупления. Они напоминают нам о нашей полной зависимости от Бога, постоянной нужде в его благодати и в видении его царства, которое дает только Библия.
Томас Оглтри (Thomas Ogletree). В 1983 году Оглтри написал свою книгу «Использование Библии в христианской этике» (The Use of the Bible in Christian Ethics). Как предполагает название, Оглтри не собирался исчерпывающе описывать библейскую этику, но открывал диалог между библейским текстом и современным пониманием моральной жизни. Он делает обзор консеквенциалистской, деонтологической и перфекционистской концепций этики и приходит к выводу, что ни одна из них не является сама по себе достаточной, чтобы учесть сложность человеческой нравственной реальности. Он предлагает синтез, коренящийся в исторической контекстуализации, и видит поддержку этого синтеза в том, как представлены классические библейские темы в обоих заветах. Он ограничивает свой библейский обзор Пятикнижием и пророками VIII века в Ветхом Завете, а также синоптическими Евангелиями и посланиями Павла в Новом Завете. Избегая недооценки богатого многообразия библейского материала, он находит широкое тематическое единство в Библии, единство, находящееся в раскрытии сущности народа Божьего. Это дает ему возможность перейти от конкретности их исторического контекста к нашему современному контексту, поскольку «значимость библейских текстов не может ограничиваться прошлыми, изначальными намерениями авторов, или первичными контекстами их произведений» (с. 9). Оглтри, следовательно, твердо помещает ветхозаветную этику (или ту часть материала, которую он решил обсудить) в рамки широкого поля канонической библейской этики. И хотя он не придает такую же степень нормативного авторитета библейскому тексту, как Голдингей или Кайзер (Kaiser), Райт (Wright) и Янцен (Janzen) (см. ниже), он, безусловно, утверждает центральное место, которое Библия должна занимать в формировании христианской этики и принятии решений.
Уолтер Кайзер (Walter С. Kaiser Jr.). Первое издание моей книги «Образ жизни народа Божьего»(Living as the People of God), вышедшее в США под другим названием «Око за око»(Eye for an Eye), появилось в 1983 году. Это своего рода интуитивная попытка представить способ понимания этической основы Ветхого Завета в общих понятиях и затем проиллюстрировать предложенный метод в нескольких прикладных сферах. В том же году Уолтер Кайзер издал свою более фундаментальную книгу «На пути к ветхозаветной этике»(Towards Old Testament Ethics). На то время мы оба не знали об интересе и работе друг друга в данной области.
Кайзер посвящает первый, главный раздел своей работы обзору самой области, ее определению, масштабу и методологическим проблемам, а также классификации подходов, которые основывались на трудах различных богословов. После экзегетического обзора основных разделов закона он организовывает свой материал вокруг центральной темы святости, а затем переходит к толкованию второй скрижали Декалога. Наконец, он касается некоторых нравственных трудностей, которые часто поднимают читатели Ветхого Завета.
Таким образом, Кайзер относится к тем, кто говорит о Ветхом Завете две вещи: во–первых, что его можно прорабатывать системно, комплексно, несмотря на явное многообразие; и, во–вторых, что он по–прежнему сохраняет нравственный авторитет для христиан. Он считает, что по обоим пунктам недостает современной литературы. В статье 1992 года «Новые подходы к ветхозаветной этике» ('New Approaches to Old Testament Ethcis') Кайзер сожалеет об отсутствии ощущения связности, или центрального принципа, в трудах по ветхозаветной этике за последнее десятилетие или два, в частности, в трудах Айхродта. Кайзер хорошо понимает причины, которые уже высказали многие критики Айхродта, и Джон Бартон в отношении ветхозаветной этики в частности. Но Кайзер отмечает, что даже там, где ученые, подобные Бартону, готовы видеть несколько доминирующих мотивов (вроде подчинения естественному порядку, послушания божественной воле, подражания Богу), он (Бартон) не считает их для нас нормативными или предписывающими. То есть, утверждает Кайзер, существует явное противление деонтологическому пониманию этики в исследованиях Ветхого Завета.
В той же статье Кайзер сожалеет о влиянии на этику смены парадигм в ветхозаветной герменевтике, от авторского намерения к теориям читательского отклика. Хотя у новой литературной критики большой потенциал и есть чему поучиться, она может подорвать всякий объективный авторитет, который, как считалось, воплощался в тексте для нормативной этики. Некоторые ученые, практикующие подход читательского отклика к тексту, конечно же, скажут, что такой вещи, как объективность, не существует в любом случае. Несомненно, произошел переход от попыток вывести своего рода объективное, когнитивное понимание текста, к более субъективной, интуитивной позиции: «Все больше и больше Библия действует в современном мышлении как катализатор, предлагающий способы, при помощи которых прежние сообщества решали проблемы, но не навязывающий собственные категории, нормы или принципы, особенно объективным, когнитивным или регулятивным образом».[361] Здесь мало простора для авторитета, основывающегося на откровении в принятии этических решений.
Сам Кайзер желает настоять на авторитете Ветхого Завета, и делает это, призывая к новому пониманию классического разделения закона на категории морального, гражданского и обрядового.[362] Эта древняя схема, впервые предложенная Оригеном и разработанная Кальвином, «впала в немилость». Несмотря на то, что ее бережно лелеяли англикане в Седьмой статье «Тридцати девяти статей» и реформаты в Вестминстерском вероисповедании. Несмотря на то, что она оставалась влиятельной до сравнительно недавнего времени.[363] Главная критика в ее адрес, во–первых, в том, что она не служит никакой экзегетической цели и что невозможно провести ясную границу между данными категориями во время практического изучения ветхозаветных правовых текстов; и, во–вторых, что она чужда мысли как Ветхого, так и Нового Заветов.[364] Против первого пункта можно возразить, что схема задумывалась не как экзегетический инструмент, но как осознанно постбиблейское герменевтическое средство применения закона в христианском контексте. В отношении второго пункта Кайзер показывает, что в сознании новозаветных авторов намного больше свидетельств понимания подобного различия, чем можно было бы предположить. Более того, сам Ветхий Завет подготавливает путь таким различиям, когда некоторые из пророков проводят четкую границу между жертвенными и прочими обрядовыми законами, с одной стороны, и требованиями социальной справедливости, с другой (и не только пророки: Притч. 21, 3). Призывая к новому пониманию и применению этого способа, Кайзер инициирует полемику против лозунга теономистско–реконструкционистской школы «все–или–ничего»: то есть либо сегодня применяется весь закон, либо ни одна из его частей. Эта позиция подвергается критике в двенадцатой главе.
Восстановив в правах идею нравственного закона, Кайзер готов не ограничивать ее только Десятью заповедями, как часто поступают другие. Скорее, существует широкий спектр моральных принципов, наполняющих все ядро Торы, которые могут быть использованы, когда мы стремимся применить их к современным проблемам. Закон был дан не одному Израилю, а с той целью, чтобы он имел нравственную значимость для народов, как об этом косвенно говорят пророки в своей моральной оценке поведения народов. Кайзер отстаивает подход «лестницы абстрактных утверждений»,[365] в котором прецеденты ветхозаветного закона применяются к современной ситуации при помощи промежуточных моральных принципов.[366]
Утверждая моральный авторитет Ветхого Завета посредством выведенных из текста моральных принципов, Кайзер, тем не менее, отказывается считать Израиль моделью для народов.[367] И вновь он поступает так из–за того, что сопротивляется теономистской схеме, особенно в формулировке Грэга Бансена (Greg Bahnsen), в которой фраза «Израиль как модель» используется в значении достаточно буквального и полного применения израильского закона в гражданской сфере, включая его наказания. Однако, на мой взгляд, это выражение не должно восприниматься в теономистском ключе, но может быть полезным средством определения значимости Израиля как целостного сообщества для современной этики. Именно Израиль как сообщество должен был служить светом для народов. Израиль как святой народ должен был выполнять функцию священника среди народов. Как было описано во второй и девятой главах, существуют способы использования Израиля как модели. Таким же образом нужно применять ветхозаветный закон и установления, чтобы избежать теономистской крайности и в то же самое время сохранить достойное похвалы стремление к непреходящей этической значимости закона.
Р. Е. Клементс (R. Е. Clements). Подобно нескольким уже упомянутым ученым, Рональд Клементе в своей статье «Христианская этика и Ветхий Завет» ('Christian Ethics and the Old Testament', 1984) также признает исторические контекстуальные ограничения этического материала Ветхого Завета. Он отмечает, что даже фразы, ставшие фундаментальными для христианской этической традиции (вроде «возлюби ближнего твоего как самого себя»), возникают в контекстах, которые являются «окказиональными» и иногда синтаксически второстепенными. По мнению Клементса, сомнительно, дает ли нам Ветхий Завет в своих собственных словах и по своему намерению какие–либо вневременные моральные принципы. Тем не менее, Клементса впечатляет широта и долговечность ветхозаветных нравственных открытий. «В общем и целом ветхозаветная литература, судя по всему, пробирается ощупью к формулировке универсальных принципов нравственности» (с. 17). Некоторые нравственные ценности и требования столь явны, что получают «чувство 'превосходства' в отношении универсальной применимости» (с. 17). Клементе также обращает внимание на то, как длинная история Израиля в ветхозаветный период дала хорошую возможность проверить фундаментальные открытия и ценности их общества в поразительном многообразии исторических ситуаций. Поскольку Израиль, многократно адаптируясь к новому окружению, должен был суметь сохранить самое главное, это отражено в гибкое ти норм и ценностей, выраженных в законе, пророчествах-, повествованиях, поклонениях и мудрости: «Ветхий Завет обеспечил систему „mono–наставлений", которая оказалась легко адаптируемой к широкому спектру человеческих социальных и политических систем. Другие общества, с совершенно иными экономическими, политическими и культурными представлениями смогли найти в Ветхом Завете богатый источник социального и нравственного учения» (с. 22).
Р. Э. Клементс также является редактором важного сборника научных статей о социальном мире Ветхого Завета «Мир древнего Израиля»(The World of Ancient Israel, 1989). Хотя в нем и не затрагиваются напрямую этические вопросы, сборник является богатым источником материала для смелого исследователя ветхозаветной этики. Это также один из наиболее полезных источников подробной библиографической информации.
Ричард Бокэм (Richard Bauckham). Более известный как исследователь Нового Завета, Бокэм добавил к изучению библейской этики краткий, но весьма полезный томик с сильным акцентом на Ветхом Завете — «Библия в политике»(Bible in Politics, 1989). Он предлагает полезное герменевтическое руководство по этическому прочтению Ветхого Завета (и Нового), уделяя особое внимание общественно–политической сфере. Он предлагает рассматривать древние тексты как модель для современности, и его подход очень напоминает мой. Его книга также включает прекрасное исследование этики Лев. 19.
Роберт Уилсон (Robert R.Wilson). В противовес попыткам Голдингея и Кайзера (и моим) обосновать возможность извлечения универсальных нравственных норм из ветхозаветного материала, Роберт Уилсон утверждает, что этот материал не может иметь подобное значение. В своей статье в юбилейном сборнике в честь Бреварда Чайлдса (Brevard Childs) «Подходы к ветхозаветной этике» ('Apporaches to Old Testament Ethics', 1988) Уилсон указывает, как повествования историка–девтерономиста оказываются не вполне последовательными в применении норм Торы к некоторым центральным персонажам истории Израиля (например, к Давиду). Итак, задается вопросом Уилсон, если законы Пятикнижия не были исключительным руководством этической оценки даже у библейских авторов, то почему их следует считать обязательными для нас? Уилсон более известен своим социологическим исследованием Ветхого Завета (особенно пророков). Позже, в статье «Конфликт этики» ('Ethics in Conflict', 1990), он применил свои социологические открытия к тому, что он считал конфликтующими этическими программами израильского общества. Он также опубликовал дополнительную методологическую статью «Источники и методы изучения этики древнего Израиля» ('Sources and Methods in the Study of Ancient Israelite Ethics') в сборнике научных статей журнала «Семея»(Semeia) в 1994 году.
Брюс Бирч (Bruce С. Birch). В том же самом юбилейном сборнике в честь Бреварда Чайлдса (1988) Бирч в своей статье «Ветхозаветное повествование и нравственное обращение» ('Old Testament Narrative and Moral Address') занимает более позитивную позицию. Бирч, в частности, подчеркивает силу библейского повествования. Хотя оно не может функционировать как предписание или норма для христиан, но может помочь сформировать христианскую нравственную идентичность и характер. Ветхозаветные повествования обладают силой, которая разоблачает реальность, подрывает или преображает мировоззрения и бросает читателю вызов, на который он должен ответить. Поэтому их следует читать в их каноническом контексте, а не просто изучать при помощи методов исторической критики. Этот взгляд развивает более раннюю работу Бирча в соавторстве с Лари Расмуссеном(Larry Rasmussen)(1978; пересмотренное издание 1989).[368] И опять доказывая, что Ветхий Завет не может быть предписывающим или нормативным для христиан, Бирч также утверждает, что он разделяет значимость всей Библии как нравственного источника для принятия решений христианами и для нравственного ответа церкви миру.
Канонический подход также лежит в основе монографии Бирча «Пусть справедливость течет как вода»(Let Justice Roll Down, 1991). Бирч заявляет, что эта книга не является книгой строго по ветхозаветной этике, она скорее о той роли, которую Ветхий Завет может играть, и ресурсах, которые он может предоставить для формирования христианского этического поведения и решений. Это, конечно же, поднимает вопрос определения (что подразумевается под «ветхозаветной этикой»?), к которому мы вновь обратимся в четырнадцатой главе. Бирч проделывает обзор каждой основной части ветхозаветного канона по очереди, суммирует основные богословские темы, которые находит в каждой из них, и затем оценивает, что эта часть может предложить этической задаче, стоящей перед христианами и церковью в современном мире. Материал является исчерпывающим, информативным, открывает новые горизонты и, особенно учитывая богатые библиографические ссылки, весьма полезен для изучающих предмет ветхозаветной этики, несмотря на то, что из работы так и не понятно, какой же нравственный авторитет имеет для христиан Ветхий Завет. Он имеет силу, но не авторитет:
Авторитет не является внутренне присущей особенностью самой Библии… это признание христианского сообщества на протяжении веков. Писание является источником силы для нравственной жизни в мире… Зачастую авторитет Писания проявляется как в моделировании процесса, так и в передаче содержания. Уделяя внимание познанию воли Божьей библейскими сообществами, мы становимся более чувствительными к Божьей воле в наше время.[369]
Это так. Но мы можем сделать больше при помощи герменевтических шагов, которые помогают нам переходить от одного к другому.
В последующее десятилетие, уже подчеркнув важность библейского повествования и библейского канона в формировании христианской этики, Бирч добавил еще один важный элемент — роль сообщества народа Божьего. В рамках этого сообщества развилось то особенное понимание идентичности, характера и действий Яхве, которое сформировало нравственную позицию, убеждения и жизнь Израиля. Бирч исследовал эти измерения ветхозаветной этики, уделяя особенное внимание Книге Исхода, в двух прекрасных статьях: «Нравственная сила, сообщество и характер Бога в еврейской Библии» ('Moral Agency, Community, and the Character of God in the Hebrew Bible, 1994) и «Божественный характер и формирование нравственного сообщества» ('Divine Character and the Formation of Moral Community, 1995).
Стэнли Хауэрвас (Stanley Hauerwas). Своим вниманием к канону, повествованию и сообществу Бирч обязан, с одной стороны, традиции Бреварда Чайлдса и его каноническому подходу к Ветхому Завету и, с другой стороны, Стэнли Хауэрвасу и его подчеркиванию роли повествований в формировании сообществ. Продуктивная работа Хауэрваса в 1980–х годах, особенно книг «Сообщество с характером», «Мирное царство» и «Пришельцы»(A Community of Character, 1981;Peaceable Kingdom, 1983;Resident Aliens, 1989), повлияла на многих в последующее десятилетие, включая, например, Вальдемара Янцена (Waldemar Janzen) и Мэри Милз (Mary Е. Mills).
Хауэрвас также подчеркивал важность сообщества как источника формирования нравственного характера и поведения. Ни в древнем Израиле, ни для современных христиан этика не является просто вопросом нравственных решений, которые принимаются отдельной разумной личностью — своеобразной абстракцией модерна эпохи Просвещения. Личность формируются в сообществе, а сообщество формируются своими историями (как в смысле действительной истории, так и повествования, которое они рассказывают, чтобы утвердить свою идентичность и ожидания). Бирч и прочие, последовавшие за Хауэрвасом в признании места повествования и сообщества в этике, все же пошли дальше его в изучении фактического текста и традиций Израиля. Одно из двусторонних возражений в адрес труда Хауэрваса состоит в том, что, несмотря на его вдохновляющее и пророческое качество, в нем наличествует, с одной стороны, несколько идеализированное представление о христианском сообществе, к которому большинство поместных церквей не стремятся. С другой стороны, ему недостает подробного экзегетического анализа текстов Писания, чьи повествования он так высоко ценит.
Кристофер Райт (Chritopher J. З. Wright). В 1990 году плод моего докторского исследования, завершивший тринадцать лет предыдущих исследований, наконец–то был опубликован под названием «Божий народ в Божьей земле»(God's People in God's Land, 1990; пересмотренное издание в 1996). Это исследование экономической этики древнего Израиля основывается на конструктивной работе Герхарда фон Рада (Gerhard von Rad) об израильском богословии земли.[370]В ней были установлены сильные богословские связи между землей, заветом и семьей в экономических структурах Израиля; сделан обзор связанных тем божественного дара и божественной принадлежности земли; проанализирована этика прав и обязанностей собственности; и дана критическая оценка распространенного взгляда, согласно которому жена, дети и рабы считались в Израиле просто невольниками. Итоговые рассуждения в конце каждой из основных частей касаются применимости материала к христианской социальной этике так, как это представлено более широко в настоящей книге, особенно в третьей, пятой и шестой главах.
В последующие годы после издания книги «Жизнь народа Божьего»(Living as the People of God, 1983) мой интерес и работа в области ветхозаветной этики воплотились в нескольких статьях, развивавших мой метод в различных областях. Они были изданы в 1995 году как сборник статей под названием «Следуя по Божьему пути»(Walking in the Ways of the Lord). Большая часть содержания книги «Следуя по Божьему пути» включена в настоящую книгу.
Теренс Фретхайм (Terence Е. Fretheim). В 1991 году Фретхайм сделал полезный вклад в книге «Исправление творения» ('Reclamation of Creation'). Фретхайм желает бросить вызов традиционному взгляду ветхозаветных ученых прочитывать Книгу Бытия в свете исхода; то есть пониманию, что предания о творении в Бытии возникли в Израиле, который уже соприкоснулся с Яхве в своей искупительной истории. Фретхайм приводит доводы в пользу канонической и богословской важности того факта, что Книга Бытия прежде утверждает важность приоритета Божьей деятельности в мире и среди народов, еще до появления Израиля. Это означает, что цель Божьей искупительной деятельности не ограничивается Израилем, но имеет вселенские масштабы. Песнь Моисея в Исх. 15 прославляет Божье искупление в истории, преодолевающее противоборствующие творению силы хаоса (историческим символом которых является Египет). Он подчеркивает миссиологическую интеграцию завета Авраама и Синайского завета. Ожидалось, что Синай сделает Израиль способным осуществить свое призвание народа Божьего в служении и восстановлении творения. Следовательно, закон берет свое начало в первозданной вере сотворения, а не в событии исхода, хотя последнее во многом повлияло на законодательство. «Отныне Израиль присоединяется к Богу в стремлении сохранить то, что Бог сделал правильным, и распространить эту правильность на каждую сферу повседневной жизни… Синай повторяет искупленному народу требования творения».[371]
Меня воодушевляет предложенная Фретхаймом комбинация миссиологического и этического акцентов Ветхого Завета. Он в равной степени уделяет внимание теме универсальности творения и уникальности избрания, искупления и призвания Израиля среди народов. Как демонстрирует структура многих глав данной книги, я также убежден, что мы должны постоянно связывать воедино этические ценности творения и искупления при рассмотрении любой темы, связанной с Писаниями Ветхого Завета.
Бревард Чайлдс (Brevard Childs). В 1992году Чайлдс в свою книгу «Библейское богословие Ветхого и Нового Завета»(Biblical Theology of the Old and New Testaments) включил раздел о библейской этике под названием «Образ послушной жизни» ('The Shape of the Obedient Life', pp. 658—716). Он делает обзор методологических проблем, связанных с задачей создания дисциплины ветхозаветной этики (некоторые из них анализируются в четырнадцатой главе). Он особенно язвительно отзывается о попытках свести тему исключительно к социологическому изучению Израиля (или, что чаще, Израиля, реконструированного социологом), и приводит доводы в пользу широкого канонического подхода:
Вместо того чтобы предполагать, будто путь ветхозаветной этики стремится более радикально применять социологию для реконструкции небольших сфер израильской культуры, я утверждаю, что задача ветхозаветной этики — признать этот канонический корпус богословской конструкцией, которая только косвенно связана с историческим и эмпирическим Израилем, народом Божьим… Путь радикального социологического подхода никогда не приведет к нормативной этике христианской веры, но только подтвердит изначальные предпосылки культурного и богословского релятивизма.[372]
Вальдемар Янцен (Waldemar Janzen) был следующим, кто попытался написать монографию непосредственно по нашей теме «Ветхозаветная этика»(Old Testament Ethics, 1994). Идя по следам Хауэрваса, Бирча и других, Янцен приводит доводы в пользу того, что повествование является намного более созидательным жанром для этики, чем закон. Янцен оспаривает общепринятую мысль о том, что в самом законе Декалог должен был служить исчерпывающим обобщением необходимого поведения. Он считает его скорее иллюстрацией и образом основных сфер. Янцен выдвигает предположение о существовании в библейском Израиле определенных нормативных моделей поведения, сформированных повествованиями и прочими жанрами (включая заповеди). Янцен использует понятие «модель» (paradigm) немного в ином значении, чем я. Тогда как я использую его для описания либо общей концептуальной матрицы убеждений Израиля, либо как конкретную модель, с помощью которой Израиль должен был служить примером для народов, Янцен использует его в более субъективном значении. Израильтяне принимали нравственные решения и направляли свое этическое поведение под влиянием известных портретов идеального поведения. Эти умозрительные модели в результате влияния многих сложных факторов — не исключая законы, хотя большее влияние оказали повествования — соединились в гармоничную картину того, что означает быть хорошим израильтянином в различных обстоятельствах. Янцен делает набросок того, что считает главными этическими моделями Ветхого Завета: царская модель, священническая модель, пророческая модель, модель мудрости и модель семьи. Последняя лежит в основании всех предыдущих, связывая их вместе общей ударением на темах жизни, земли и гостеприимства.
Год 1995–й был по–особенному богатым для ценителей ветхозаветной этики. Меню состояло из трех книг, написанных в соавторстве, и нескольких монографий по библейской этике, которые внесли значительный вклад в изучение Ветхого Завета:
1. Журнал «Семея»(Semeia) полностью посвятил 66–й выпуск теме «Этика и политика в Еврейской Библии»(Ethics and Politics in the Hebrew Bible, 1994–1995). В методологическом разделе, в статье «Основание этики в Еврейской Библии» ('The Basis of Ethics in the Hebrew Bible'), Джон Бартон (John Barton) повторил и усилил свою классификацию ветхозаветной этики как комбинацию послушания воле Божьей, естественного закона и подражания Богу, — взгляды, которые он впервые предложил еще в 1978 и 1983 годах. Как отмечалось выше, это, в свою очередь подготовило путь его монографии «Этика и Ветхий Завет»(Ethics and the Old Testament), изданной в 1998 году. Другие методологические статьи были написаны Эрилом Дейвисом (Eryl W. Davies, «Этика еврейской Библии» ['Ethics of the Hebrew Bible']) и Робертом Уилсоном (Robert Wilson, «Источники и методы» ['Sources and Methods']). На мой взгляд, обе статьи весьма фрагментарные и разочаровывающие. Более интересна статья Брюса Бирча (Bruce Birch) «Нравственная сила, сообщество и характер Бога в еврейской Библии» ('Moral Agency, Community, and the Character of God in the Hebrew Bible), упомянутая выше.
2. Результатом Шеффилдского коллоквиума стал том «Библия в этике»(Bible in Ethics, 1995).[373] И вновь Брюс Бирч (Bruce Birch) представил важную статью об этических аспектах богословия Книги Исхода (которая упоминалась выше). Тем не менее, в своей статье «Этика и Ветхий Завет» ('Ethics and the Old Testament')Филипп Дейвис (Philip R. Davies) предлагает весьма негативные утверждения. Основной элемент ветхозаветной этики, которым он считает слепое послушание заповедям божества (само по себе спорное предположение, как мы увидим в четырнадцатой главе ниже), неприемлем для Дейвиса на том основании, что оно вообще не является по–настоящему этическим.
Дейвис считает, что использовать Библию для этики означает во многих случаях сопротивляться ей (с. 173). Подобная же враждебная оценка этических ценностей Ветхого Завета встречается в статье Шерил Экзам (Cheryl Exum) «Этика библейской жестокости против женщин» (The Ethics of Biblical Violence against Women'). Подробнее они обсуждаются в четырнадцатой главе.
3. Также в 1995 году Сирил Родд (Cyril Rodd) выступил редактором–составителем сборника статей «Новые события — новые обязанности?» (New Occasions Teach New Duties?). Его глубокая статья «Использование Ветхого Завета в христианской этике» (The Use of the Old Testament in Christian Ethics') (название случайно перекликается с такой же полезной статьей Говарда Маршала «Использование Нового Завета в христианской этике» [Howard Marshall The Use of the New Testament in Christian Ethics']) делает обзор трудностей, с которыми мы сталкиваемся при этическом подходе к Ветхому Завету. Родд утверждает, что мы часто бываем весьма непоследовательны в том, что одобряем; иногда мы игнорируем то, что не одобряем или не можем одобрить; в иных ситуациях навязываем Ветхому Завету ряд этических вопросов, которые являются скорее современными, чем библейскими. Родд дает оценку четырем типичным попыткам разрешить эти проблемы (Джона Роджерсона, Ричарда Бокэма, Джона Голдингея и мою). Он приходит к выводу, что, в конечном счете, никто не преуспел, хотя эти точки зрения являются приемлемыми для ученых, разделяющих соответствующие предпосылки или конфессиональные позиции. Эта статья явно служит подготовкой для важной работы Родда «Знакомство с неизвестной страной»(Glimpses of a Strange Land), изданной шестью годами позже (2001, смотри ниже).
Уильям Споун (William С. Spohn). Изобилие 1995 года продолжила книга Споуна «Что говорят о Писании и этике?»(What Are They Saying About Scripture and Ethics?). Подобно другим книгам в серии, эта монография делает обзор современного состояния области и уделяет много внимания герменевтическим и методологическим вопросам. Однако в последней главе Споун предлагает собственный взгляд, согласно которому важнейшим аспектом библейской этики он считает «ответную любовь». Иисуса он называет «конкретной универсалией» и, обсуждая путь нашего перехода от этой модели (Иисуса) как образца к выборам и решениям, которые нам необходимо принимать в своем мире, утверждает позицию на основе библейских моделей, сравнимую с моей.
Моше Вайнфельд (Moshe Weinfeld). Еще одной важной монографией в 1995 году была книга Вайнфельда «Социальная справедливость в древнем Израиле и на древнем Ближнем Востоке»(Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East). Сначала Вайнфельд пересматривает уже изученную область, определяя данные понятия. Затем он связывает их с историческими царями Израиля, эсхатологическим царем и затем с концепцией субботы и юбилея. Он также анализирует влияние восприятия Израилем себя слугами Яхве, а земли — землей Яхве. Этот обширный, информативный, полезный труд не раз упоминается в восьмой главе.
Норманн Хабель (Norman Habel). Еще одна монография 1995 года переходит от социальной справедливости к экономическому конфликту. Норманн Хабель вернулся к теме земли, по–разному рассмотренной Брюггеманом, а также мной в книге «Божий народ в Божьей земле» (God's People in God's Land). Хабель находился под сильным влиянием более современных социологических подходов к Ветхому Завету, которые претендуют на раскрытие всепроникающей роли идеологии и классовых интересов в библейских текстах. Он делает обзор темы земли при помощи шести различных блоков предания: земля как источник богатства (царская идеология); земля как условный дар (теократический взгляд левитов); земля как семейные наделы (идеалы семейства, встречающиеся в Книге Иисуса Навина); земля как личный удел Яхве (пророческая идеология, особенно сильно представленная у Иеремии); земля как «субботняя граница» (священническое восприятие); земля как принимающая страна (иммигрантская идеология патриархальных текстов). Хотя его анализ восхитителен и охватывает большое количество соответствующих текстов, мне кажется, что Хабель видит конфликтующие идеологии там, где другие считают их дополняющими взглядами. В этом он предвосхищает книгу Дэвида Плайнса (David Pleins), о которой мы поговорим ниже. Еще одним критическим отзывом может быть то, что Хабель обращает мало внимания на канонический порядок преданий в еврейской Библии (например, он сначала рассматривает царскую идеологию, а патриархальные предания в конце). В результате этого он может считать правомерными такие идеологические и практические отношения к земле, которые критически осуждаются в своем каноническом контексте (такими, несомненно, являются монархические практики, как в исторических, так и в пророческих текстах).
Джеймс Брецке (James Т. Bretzke) опубликовал свой обширный «Библиографический справочник по Писанию и этике»(Bibliography on Scripture and Ethics) в 1997 году. Помимо исчерпывающего охвата, книга полезна тем, что привлекает внимание ко многим трудам католиков о нравственном богословии, включающим библейские дискуссии, но которые нечасто упоминаются в библиографиях по библейским исследованиям. Помимо основных разделов ветхозаветной и новозаветной этики, Брецке включает тематический раздел по таким проблемам, как экология, экономика, справедливость, освобождение, медицина, политика, сексуальные отношения, расизм, война и мир.
Том Дейдун (Tom Deidun). Может ли Библия вообще использоваться для решения современных проблем — вопрос, который рассматривает Дейдун в своей статье «Библия и христианская этика» (The Bible and Christian Ethics', 1998), фактически выливая ушат холодной воды на любые попытки использовать Ветхий Завет как авторитет (или Библию в целом) для христианской этики. Дейдун делает обзор методологических и герменевтических проблем, связанных с задачей (культурная дистанция, разнообразие контекстов Библии, ситуационная конкретность этических утверждений Библии, разнообразие литературных жанров и так далее), очевидно, не учитывая обсуждения именно этих вызовов Джоном Голдингеем в 1981 и 1991 годах. Затем он делает обзор некоторых стандартных попыток разбирать библейскую этику, классифицируя их как описательные подходы: подходы принципов–идеалов и подходы отклика–отношения. Ни один из них не удовлетворяет Дейдуна. В основе каждого из них он находит тоску по авторитету, который, подозревает он, должен быть низложен в принципе и, в конечном итоге, не может быть удовлетворителен на практике. Поэтому в конце Дейдун с готовностью обходится и без метода, и без авторитета вообще и отстаивает вместо этого «рекомендованный не–метод», который означает очень свободное, творческое и не систематическое прочтение библейских текстов. В предложении Дейдуна есть освежающий (или рьяный, в зависимости от вашей позиции) всплеск постмодернизма, но внутренне присущая ему условность заставляет задаваться вопросом: какая вообще может быть ценность в прочтении Ветхого Завета, если отдается предпочтение любому другому собранию религиозных или светских текстов, которые могут питать наше воображение. Тем не менее, статья Дейдуна точно улавливает современное настроение, и подробно и одобрительно цитируется в важной книге Сирила Родда «Знакомство с неизвестной страной»(Glimpses of a Strange Land, 2001; см. ниже).
Дж. Гэри Миллар (J. Gary Millar). Совершенно иное Настроение пронизывает внимательное этическое прочтение Книги Второзакония, предложенное Милларом, — «Избери жизнь»(Now Choose Life, 1998) . Автор делает обзор области ветхозаветной этики, освещая важные достижения прошедшего столетия и привлекая внимание к методологическим сложностям дисциплины, в которых, тем не менее, он не усматривает неприступную крепость. Он показывает, что можно сделать, когда углубленно изучаешь книгу Ветхого Завета через призму этических вопросов, обращая особенное внимание на литературную и богословскую динамику самой книги. Миллар утверждает, что мотив странствия является ключевым для Книги Второзакония — не просто как географическая особенность начальных глав, а как богословская и этическая нить, проходящая через всю книгу. Израиль призван к постоянному решению (еще одна ключевая этическая категория, которую исследует Миллар), будучи народом в движении. Таким образом, Второзаконие в некотором смысле бросает вызов народу Божьему постоянно изменяющимися этическими требованиями, не в смысле изменения нравственного характера Бога, но потому, что заветные отношения с Богом осуществляются в постоянно изменяющихся обстоятельствах и контекстах. Миллар предоставляет полезный экзегетический обзор основных сводов законов Второзакония, а также анализирует в книге темы, которым до этого уделялось мало внимания, такие как «Этика и народы» ('Ethics and the Nations') и «Этика и природа человека» ('Ethics and Human Nature').
Эрил У. Дейвис (Eryl W. Davies). В 1999 году, как раз в начале четвертого тысячелетия (грубо говоря) со времени Авраама, Эрил Дейвис по–новому подчеркнул важность концепции подражания Богу. Это измерение этического размышления и поведения, судя по всему, подразумевается в словах Бога, что Аврааму должно «ходить предо Мною и быть непорочным» (Быт. 17, 1) и что он должен учить свое семейство и потомков «ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт. 18, 19). Статья Дейвиса «Следуя Божьими путями» ('Walking in God's Ways', 1999) предлагает обзор темы в нескольких блоках ветхозаветного канона (не всегда убедительно) и дает полезные подробности в своем обсуждении текстов. Тем не менее, статья была откровенно раскритикована Сирилом Роддом,[374] который слишком горячо, на мой взгляд, отрицает идею подражания Богу, как особенность ветхозаветного благочестия и этики (проблема обсуждалась выше в первой главе, с упоминанием остальных ученых, использовавших выражение «подражание Богу»).
Мэри Э. Миллз (Магу Е. Mills). Даже если мы допускаем подражание или отображение Яхве в качестве одного из измерений ветхозаветной этики, у нас по–прежнему остается вопрос — а какой Бог этот Яхве? Чему следует подражать? Дейвис, Бартон и прочие, включая меня самого, указывают на мотивационные предложения ветхозаветных законов, которые как раз и указывают либо на характер Яхве — милостивый и справедливый, — либо на его искупительные действия по отношению к Израилю. Но у Яхве — неоднозначный характер в ветхозаветных текстах, а его действия множественны и разнообразны. Сама вездесущность Яхве в тексте порождает огромное количество образов и метафор, каждая из которых приписывается ему. Должны ли все эти измерения Яхве быть разложены в данной концепции подражания Богу? Да и хотим ли мы, чтобы все они были разложены? Мэри Миллз в своей книге «Образы Бога в Ветхом Завете»(Images of God in the Old Testament, 1998) перечисляет различные образы и метафоры, считая их конфликтующими и конкурирующими посланиями о сущности Бога. В конечном итоге она делает свои выводы без объяснений и как бы пожимая плечами, что можно трактовать следующим образом: «Вот что есть в вашем распоряжении, делайте свой выбор».
Подход Мэри Миллз к ветхозаветной этике основан на ее, прежде всего, литературном отношении к Ветхому Завету. Не осталась без ее внимания и область новой литературной критики. В книге «Библейская нравственность»(Biblical Morality, 2001) она анализирует девять частей ветхозаветного повествования, три из которых отводятся каждому из главных факторов повествовательного искусства соответственно — персонажу, сюжету и окружению. В каждой части она отмечает нравственные сложности, вплетенные в повествования, и терпимость в их весьма разнообразной этической оценке. Ее книга предлагает множество полезных обобщений взглядов широкого спектра ученых по всем аспектам критического изучения ветхозаветных повествований, но мне хотелось, чтобы она больше поработала с этической глубиной самих текстов.
Дэвид Пенчански (David Penchansky). Возвращаясь к проблеме подражания Богу, мы вновь сталкиваемся с вопросом — какого Бога мы призваны отображать. Дэвид Пенчански весьма провокационен в этом вопросе. В своей книге «Грубый зверь»(What Rough Beast?, 1999) он рассматривает шесть повествований, в которых характер Яхве представляется в лучшем случае загадочным, в худшем — дурным: грехопадение Адама и Евы (Быт. 3); смерть Озы (2 Цар. 6); перепись Давида (2 Цар. 24); наказание сыновей Аарона (Лев. 10); нападение на Моисея (Исх. 4); и проклятие Елисеем дразнивших его детей (4 Цар. 2, 23–25). Что нам делать с подобными повествованиями, и что мы можем сказать о богословии и этике людей, которые рассказали и включили их в Писания? В руках Пенчански рассказы представляют Яхве (по собственным словам Пенчански) как ненадежного, иррационального, мстительного, опасного, недоброжелательного и жестокого. Размышления Пенчански иногда глубоки, но также (на мой взгляд) тенденциозны и спекулятивны. Несомненно, эти истории чрезвычайно важны (и прочие, подобные им), но часть проблемы кроется в выбранном Пенчански методе, состоящем в том, чтобы задавать вопросы своим читателям (говорят, он спрашивал своих студентов: «Если бы вы имели о Боге только информацию из этих отрывков, как бы вы описали это божество?»). Но, несомненно, это не все, что мы знаем о Боге. В библейском каноне присутствует более сложное полотно, в котором эти необычные истории нашли свое место, чтобы рассматривать и объяснять их в свете всего остального, что мы знаем. С каждой из них не просто работать. Но изолировать их и затем пытаться описать характер Бога исключительно на основании этих повествований кажется очень странным подходом к Писаниям.
Уолтер Брюггеман (Walter Brueggemann). Итак, неужели Яхве слишком неоднозначный Бог, чтобы его характер можно было обобщить и тем более подражать ему? Вовсе нет, считает Брюггеман. В 1999 году, в том же сборнике, где находится и реанимация концепции подражания Богу Эрила Дейвиса, Брюггеман утверждает, что, несмотря на многообразие свидетельств Ветхого Завета, Бог Израиля, о котором мы узнаем из «уст Израиля» — последовательная личность с последовательным характером. Брюггеман настаивает на том, что существует
тесное родство всех этих высказываний, когда они сравниваются с альтернативными описаниями реальности, древними или современными… Бог в Ветхом Завете опознаваем, известен по характерным действиям, узнаваемым в том или ином контексте, по прямым высказываниям, что сохранялись и передавались дальше, и проявлениям, которые можно разместить в тексте и устах свидетелей.[375]
Р. Е. Клементе (R. Е. Clements). Фраза Брюггемана об «устах Израиля» привлекает наше внимание к традициям поклонения в Ветхом Завете, ранее упущенному свидетельству о нравственном понимании и ожиданиях Израиля. Поскольку поклонение является откликом на присутствие, характер и действие Бога, уместно здесь связать его с вопросом подражания Богу в библейской этике. В том же году (1999) появились две статьи, сосредоточенные на поклонении Израиля и некоторых интересных этических следствиях этого поклонения. Во–первых, статья Рональда Клементса «Поклонение и этика» ('Worship and Ethics') утверждает строго дидактический характер того псалма, в котором «народ отождествляет себя как группу верных поклонников Господа Бога и провозглашает свою солидарность в принятии осознанного и социально ответственного стандарта поведения» (с. 85). Ценности, которые имеют выражение в поклонении, обращены как на Яхве, так и на них самих. Поклонение и этика неразрывны.
Тимоти М. Уиллис (Timothy М. Willis). Тимоти Уиллис в статье «Насыщайся и радуйся пред Господом» (`Eat and Rejoice before the Lord') отмечает, что отрывки, описывающие круг израильского поклонения и праздников, предполагают переживание благословений Яхве и не являются средствами, благодаря которым благословения могут быть вырваны у сопротивляющегося божества. То есть в Израиле следовало поклоняться Яхве потому, что он благословил вас, а не для того, чтобы заставить его благословить вас. Тем не менее, после получения этих благословений и благодарения за них, должным ответом было не просто прославление, но этическое послушание в горизонтальном векторе отношений. Ответ на Божьи благословения «перетекает в повседневную жизнь поклоняющихся Богу… В частности, они должны «совершать свое благословение и, подражая Яхве, заботиться о тех, кто зависит от них» (с. 292).
Кэрол Дж. Демпси (Carol J. Dempsey). Первое десятилетие двадцать первого столетия началось столь же многообещающе, как и последнее десятилетие двадцатого. В 2000 году Кэрол Демпси опубликовала обзор этических тем у пророков, в книге «Надежда среди руин»(Hope Amid the Ruins). Она исследует сферы творения и завета, Торы и отношений, поклонения и надежды. Демпси утверждает, что не только представит этические взгляды самих пророческих текстов, но также оценит их с точки зрения современной мысли. Таким образом, она находит в пророческих книгах много того, что, по ее мнению, открыто к этическому обсуждению. Это включает, например, пророческую мысль о карающем наказании или использовании насилия (особенно в метафоре сексуального насилия) как божественного ответа на неверность Израиля. К сожалению, большая часть размышлений Демпси просто поднимает подобные вопросы, вместо того чтобы решать их. В своей последней главе она расширяет обзор, чтобы исследовать то, что этика пророков может сказать в отношении экологических и мировых вопросов, будоражащих христианскую и светскую мысль.
Гордон Дж. Уэнхем (Gordon J. Wenham). В 2000 году Гордон Уэнхем присоединил к своим прекрасным комментариям работу об этической силе ветхозаветного повествования. В книге «Рассказ как Тора»(Story as Torah) он использует инструментарий риторического анализа для исследования этических ценностей книг Бытия и Судей и делает далеко идущие выводы об отношениях между законом, повествованиями и этикой.
Дж. Дэвид Плайнс (J. David Pleins). Два тома, вышедшие в 2001 году, подводят этот обзор к завершению, показывая, что область ветхозаветной этики будет продолжать развиваться в дальнейшем будущем. Объемная книга Дэвида Плайнса «Социальные представления еврейской Библии»(Social Visions of the Hebrew Bible) основательно использует социологический подход к Ветхому Завету, история которого насчитывает практически сто лет и сейчас называется «общественно–научным» подходом. Он осознает, что тексты одновременно отображают и скрывают сложную историю социальной борьбы, интересов и публичной защиты, конкурирующих идеологий и альтернативных представлений. Сознавая это, он тем не менее прорабатывает каждую из основных частей еврейского канона — закон, повествование, пророков, поэзию и мудрость — и анализирует социальные и этические представления, которые обнаруживаются в них. Работа амбициозна по своему масштабу и достижениям. Плайнс не умаляет сложности и разнообразия, но заключает, что эта поливалентная природа предлагает «контроль и баланс в библейской этике». Таким образом,
материал законов указывает путь этике долга… пророческие голоса взращивают этику совести и публичной защиты общества в его состоянии разрушения… голос повествования, в свою очередь, производит этику наблюдения… голос мудрости предлагает этику последствия… голос поклонения дает нам этику расположенности.[376]
Это приводит Плайнса к вполне позитивной и оптимистической оценке того вклада, который Ветхий Завет может внести в наши современные этические интересы, несмотря на то, что он, как кажется мне, чаще, чем это желательно или необходимо, приспосабливает разнообразные прихоти ученых по всему спектру методов ветхозаветной критики. Подобно Хабелю (Habel) и прочим, он склонен видеть идеологический конфликт и текстуальные противоречия (название «Социальные представления» преднамеренно и осознанно содержит множественное число) там, где другой более осторожно постулирует дополняющие взгляды. Но все же Плайнс считает, что Ветхому Завету есть что предложить современным христианским этическим размышлениям о социальной этике.
Сирил Родд (Cyril Rodd). Напротив, важная работа Сирила Родда, после длительного интереса и исследований в области ветхозаветной этики, характеризуется подавляюще негативным настроением. Его книга «Знакомство с неизвестной страной»(Glimpses of a Strange Land, 2001) просто грандиозна по своему охвату. Каждая глава содержит исторический обзор исследований ряда вопросов, от подражания Богу до заботы о природе. Они чрезвычайно полезны и информативны для любого исследователя, желающего знать, что многие ученые сказали о ветхозаветных взглядах в отношении прелюбодеяния, убийства, экономики, нищих, войны, животных, природы, женщин и прочего. Представленный Роддом охват тем и соответствующей литературы является исчерпывающим. С другой стороны, книга характеризуется необычайно подрывным и разрушительным настроением в отношении ее главной темы.
Проблема в том, как полагает Родд, что большинство ученых привнесли в Ветхий Завет современные этические интересы, которых на самом деле не было в древнем Израиле; что они были тенденциозны в отношении материала, который извлекали из Ветхого Завета для современной публичной этической защиты; и что они игнорировали некоторые интересы, имевшие первостепенную важность для самого Израиля, таких как честь и ритуальная чистота. Другими словами, мы, считает Родд, недостаточно уделяли внимания тому, что мир ветхозаветного Израиля культурно чужд современному миру (отсюда название книги). Зачастую мы просто недостаточно знаем о культурном мировоззрении Израиля, чтобы делать уверенные заявления об этике, внутренне присущей данному повествованию, закону или пророчеству. Большая часть того, что происходило в Ветхом Завете по повелению или с одобрения изображенного в нем Бога поражает нас, в лучшем случае как странное, а в худшем — как нравственно неоправданное. Те современные этические проблемы, что заботят нас — войны, судьбы нищих, экологический вред и угнетение женщин, утверждает Родд, для древнего Израиля вовсе не были этическими проблемами. Подобные вещи, хоть они сильно беспокоят нас, для них были всего лишь печальными, но приемлемыми проявлениями устройства их мира. Родд считает, что большая часть того, что мы считаем этическими проблемами, не были таковыми в Израиле, а большая часть того, чем страстно интересовались они, будет для нас либо нравственно нейтральным, либо сомнительным. Не вызывает сомнения, что большая часть аргументации Родда действительно эффективно и оправданно обличает ошибки, допущенные некоторыми людьми при использовании Ветхого Завета в христианской этике, и его предостережения следует принять к сведению (хотя я считаю, что Израиль не был столь равнодушен в отношении вопросов нищеты и войн, как полагает Родд).
Это приводит Родда к решению отвергнуть все попытки ученых, пытающихся построить своеобразный мост от Ветхого Завета к современному миру, считая, что Библия является нормативным, раскрытым авторитетом для этики. Род полагает, что эта предпосылка просто не выдерживает веса проблем, исключений и оговорок, которые порождает. Таким образом, хотя Родд подробно и честно обобщает мои труды, а также труды таких ученых, как Бирч, Янцен, Голдингей, Бокэм, которые пытались построить подобный мост, он считает, что наши усилия в конечном итоге обречены на провал. Напротив, в соответствии с Дейдуном (см. выше), которого Родд цитирует в поддержку своей позиции (к которой мы еще вернемся в следующей главе), которая состоит в том, что мы должны вовсе отвергнуть связанные концепции откровения и авторитета: «Первое требование — вовсе отказаться от пропозиционного представления об откровении, а вместе с ним и от веры в Библию как внешний авторитет. Нам следует оставить Ветхий Завет там, где он находится — в его собственном мире, точнее, — мирах, потому что он тянется через различные периоды истории и содержит этику многих разнообразных групп людей. Затем мы можем пойти и посетить его…». В своем беглом ознакомлении с неизвестной землей мы обнаружим, что Библия может «предложить помощь в нашей попытке решить множество сложных моральных вопросов, с которыми мы сталкиваемся сегодня»,[377] хотя как это теперь сделать, или какой ценностью будет обладать подобная помощь, остается тайной.
Подводя итог данной главы, мы вернулись к проблеме, с которой начиналась глава предыдущая. Похоже, что в начале третьего христианского тысячелетия вопрос авторитета Ветхого Завета для христиан остается столь же животрепещущим и спорным, каким он был в начале первого тысячелетия. Поэтому мы неизбежно должны снова обратиться к нему в следующей, заключительной главе.[378]
14. Герменевтика и авторитет в ветхозаветной этике
Выполнима ли стоящая перед нами задача? Несмотря на многочисленные сомнения некоторых ученых, создается впечатление, что дисциплина ветхозаветной этики живет и процветает. Но широкое многообразие подходов, бегло просмотренных в двух последних главах, может заставить нас задаться вопросом о том, можно ли вообще представить некое целостное описание того, что мы подразумеваем под этими двумя словами — «ветхозаветная этика». Но если, даже оценив широкую палитру доступных сейчас исследований, мы рискнем безрассудно устремиться вперед в окружении такого великого облака свидетелей, с намерением внести свой скромный вклад в область ветхозаветной этики, нас ожидают, по крайней мере, три вызова.
Наша первая задача — «отсюда туда», то есть каким–то образом перенестись в мир ветхозаветного Израиля и затем поставить вопросы нравственности, актуальные для нашего контекста. Выполнение поставленной задачи ставит методологические вопросы. Во–вторых, нам необходимо «вернуться оттуда сюда», то есть понять, как мы в своем мире должны реагировать на то, с чем встретились при исследовании библейского мира. На данном этапе нам неизбежно придется столкнуться с некоторыми идеологическими предпосылками. То, что мы решим заимствовать, будет до некоторой степени зависеть от отношения, с которым мы исследовали библейский мир, кто выступал нашим проводником, что, по нашему мнению, мы увидели, что посчитали ценным и каковы наши контекстуальные ценности. Отправляясь в прошлое, мы не можем быть нейтральными наблюдателями и не должны вернуться таковыми. В–третьих, нам следует понять, действительно ли то, что мы выносим из мира ветхозаветного Израиля, имеет этический авторитет для нашего времени. Это неизбежно поднимает вопрос, что мы подразумеваем под авторитетом и как он функционирует в библейской этике.
Проблемы методологии
Намерение исследовать нравственный мир Ветхого Завета ставит перед нами несколько методологических проблем. К настоящему времени они уже достаточно известны, — похоже, что для того чтобы войти в «гильдию специалистов» по ветхозаветной этике, достаточно просто перечислить все присущие этой дисциплине проблемы.[379] Некоторые ученые уже и не пытаются найти какое–либо конструктивное решение. Поэтому я постараюсь не тратить много времени на этот вопрос, но привести список проблем здесь все же надо.
Все сводится к тому, что мы подразумеваем под фразой «ветхозаветная этика». Здесь возможны три различных варианта. Во–первых, она может относиться к исторической задаче описания того, как израильтяне на самом деле жили в ветхозаветные времена. Во–вторых, она может касаться канонической задачи — определения некоего свода законов или правил поведения, содержащихся в ветхозаветных текстах и написанных для древних израильтян. Исполнялись эти законы или нет — вопрос для этой задачи второстепенный. И, в–третьих, фраза «ветхозаветная этика» может относиться к предписательной задаче — определению свода законов или правил поведения, содержащихся в ветхозаветных текстах и актуальных для нас сегодня.
Историческая задача
Это может показаться очень просто — читай Ветхий Завет и отмечай то, как поступали израильтяне. На самом деле все гораздо сложнее. Следует спросить: Какие израильтяне? Где? В какой исторический период? Согласно какому автору (относится как к библейским авторам, так и к современным ученым)? Это ставит перед нами задачу реконструировать историю Израиля в ветхозаветные времена. Как отмечалось в тринадцатой главе, в труде Дэвида Плайнса (David Pleins) упоминается, что в настоящее время пользуются большой популярностью социологические подходы. Поэтому задача извлечь прямую информацию о том, как поступали израильтяне в любое время их пестрой истории, в высшей степени противоречива. И критическая реконструкция рождает свои трудные вопросы. Ведь чем дальше подобная реконструкция уводит нас от повествования самого канонического текста, тем больше мы должны задаваться вопросом: наблюдаем мы реконструированную этику или этику тех, кто реконструировал, и действительно ли каждая из них подлинно отражает этику реальных древних израильтян.
Каноническая задача
И эта задача на первый взгляд может показаться несложной. У нас есть закон, прямо заявляющий, что израильтяне должны и что не должны делать. У нас есть повествования с их тонкими нравственными оценками, иногда непосредственными, но чаще сформированными при помощи разных литературных приемов и взаимодействия читателя со взглядами автора. У нас есть пророки, проливающие яркий свет на нравственные неудачи сменяющихся поколений израильтян, и в процессе этого показывающие альтернативное нравственное поведение на фоне обнажаемой ими отрицательной реальности. У нас есть культ Израиля, полный этических предпосылок и суждений. И также у нас есть мудрость Израиля, по дружески кладущая руку на плечо общества и дающая нравственные предостережения и советы по широкому спектру вопросов, решений и отношений.
Все эти текстуальные традиции следует анализировать в поисках нравственной оценки того общества, в котором они возникли. Но у текстов есть авторы, составители и покровители. И у этих действующих лиц есть контексты, программы действия и конфликты. Поэтому выплывает еще один уровень вопросов. Кто написал или покровительствовал этим конкретным текстам? В чьих интересах они делали это? Какова связь между нравственным увещеванием и социальной, политической или экономической властью? То есть в чьих интересах тексты учили израильтян тому или иному поведению? Какое представление (или представления) об обществе подпитывает каноническое выражение этических ценностей? И опять ученые отвечают на подобные вопросы с приводящим в замешательство разнообразием. Некоторые находят в писаниях Израиля целую политическую программу борьбы за равноправное общество, а также религиозные санкции в ее поддержку (например, Готвальд). Прочие, размышляя с позиции герменевтики подозрения, считают, что большая часть этической риторики Ветхого Завета нацелена на сохранение патриархального и иерархического status quo. Более того, как показывает Плайнс, в каноне существует такое разнообразие, что нам следует задаться вопросом — имеет ли смысл вообще говорить о какой–либо официальной или унитарной позиции, заслуживающей ярлыка «ветхозаветная этика». Мы можем рассчитывать на последовательность канонической этики, но точно не на единообразие.
Предписательная задача
Здесь вопрос таков: когда мы, наконец, добрались «туда» и нашли какие–либо удовлетворительные ответы на первые два вопроса, как много мы захотим взять с собой, когда решим вернуться «сюда»? Какого этического учения Ветхого Завета должны придерживаться христиане? В каком смысле оно функционирует авторитетно для нас сегодня, да и функционирует ли вообще?
На самом деле, как мы видели в обзоре двух последних глав, этот вопрос настолько же стар, как и сам Новый Завет, и с того времени он является предметом серьезных богословских дискуссий. Некоторые из основных сложностей в использовании христианами Ветхого Завета для этики были хорошо обобщены Джоном Голдингеем, как отмечалось в тринадцатой главе.[380] Их можно просто перечислить здесь.
1. У Ветхого Завета и его учений уникальная природа. Они даны нам не в форме вневременных нравственных истин, а в рамках местных культурных контекстов или обращены к определенным людям или группам. Поэтому, если они вообще могут нам что–то сказать об этике, нам необходимо предпринять ряд герменевтических шагов, чтобы попасть оттуда сюда. И даже это предполагает, что подобные особенности были задуманы, чтобы говорить к последующим поколениям, включая наше, хотя это может и не быть верным во всех случаях или, по крайней мере, может быть верным косвенно только в некоторых случаях.[381]
2. Материал разнообразен — не только в смысле своего объема и многих литературных жанров, но также в том смысле, что даже в самом Ветхом Завете есть место различным этическим взглядам, расширенным или измененным законам, допущению, что новые ситуации формируют новые обязанности и так далее. Мы слышим не один голос, даже не один гармоничный хор, но несколько хоров, исполняющих различные песни, и несколько протестующих групп, создающих диссонанс.
3. Материал имеет этические ограничения. Во–первых, Ветхий Завет описывает множество событий, сомнительных с точки зрения этики, и это заставляет нас испытывать чувство нравственного превосходства по отношению к древним израильтянам. Во–вторых, ограниченность Ветхого Завета может быть чисто хронологической: ведь он предшествует более полному откровению Бога в личности Иисуса Христа.
Следовательно, нам необходим метод, который бы учитывал каждый из перечисленных выше вызовов. Во–первых, отвечая на описательный вопрос, следует сказать, что описание ветхозаветной этики должно серьезно учитывать исторические, культурные и социальные реалии миров древнего Израиля. Нам необходимо тем или иным образом быть там, одновременно признавая частичный и непостоянный характер всего исторического знания. В то же самое время, чтобы заняться ветхозаветной этикой, которая отличается от сугубо описательной антропологии или этнографии библейского Израиля, нам необходимо предоставить окончательное слово текстам Писания, выражающим изучаемые нами этические ценности, а не критически реконструированному миру за текстом.[382] Точно так же, например, хотя важно понимать социальный мир древнего Коринфа в среде греко–римской макрокультуры I века, мы заимствуем соответствующую часть нашей новозаветной этики из посланий Павла к церкви в Коринфе, а не из исторической реконструкции ее окружения, хотя последнее поможет нам лучше понять первое.
Во–вторых, в ответ на канонический вопрос мы должны быть чувствительны к чрезвычайному разнообразию текстов еврейских Писаний и множественным контекстам и программам, породившим их. Слушая любой из текстов, мы должны спрашивать: чей это голос? О чем он говорит? И все же, с другой стороны, мы должны уважать сильный этический феномен самого канона. Эти тексты — не разрозненные документы, ведь недаром на протяжении поколений они известны нам как Писание. Существует некое органическое единство, гармония, удержащие вместе всю эту огромную и разнообразную систему. Поэтому задача ветхозаветной этики имеет обоснованное синтетическое и синхронное измерение, а также необходимость осуществить свою аналитическую и диахроническую домашнюю работу.
В–третьих, в ответ на нормативный вопрос, говоря словами Кристофера Зайтца (Christopher Seitz),[383] мы должны с уважением относиться к голосу Ветхого Завета, слышать в нем то, что он говорит, и ничего лишнего. Нам нельзя вносить в древний текст нравственные понятия современности и уж совершенно не стоит делать из ветхозаветных героев приятных глазу святош. Тогда, и только тогда, мы будем читать Ветхий Завет как Библию Иисуса Христа, как Библию его церкви. Поскольку ветхозаветные тексты повествуют о Боге, которого мы признаем и которому поклоняемся как Святому Израиля, Богу и Отцу нашего Господа Иисуса Христа, уже не мы выступаем их судьей, а Ветхий Завет Ветхий Завет судит и учит нас.
Так, во всяком случае, представляется мне. Без сомнения, методологические проблемы ветхозаветной этики обескураживают, но они не должны удерживать нас от поиска решений. За это стоит взяться (что я и делаю в этой книге), а уж право судить о результатах можно смело предоставить другим.
Проблемы идеологии
Задача создания адекватной ветхозаветной этики считается сложной не просто из–за методологической сложности, но также из–за фундаментально отличающихся идеологических, философских или богословских подходов к изучаемому материалу. Это выходит за рамки признания противоречий в самом библейском материале. Подобные противоречия и разнообразные взгляды в рамках канона признаются всеми. Более того, Филипп Уогаман (Philip Wogaman) утверждает, что эта внутренняя напряженность важна для динамичной библейской этики, и что, взаимодействуя с разными взглядами, мы должны не упускать ни один из полюсов напряженности и стараться не прибегать только исключительно к одному или другому.[384] Тем не менее, разные ученые по–разному отвечают на более фундаментальные вопросы (иногда диаметрально противоположно). Эти различные ответы затем приводят к некоторым кажущимся непримиримыми расхождениям в отношении того, какова этическая значимость Ветхого Завета и какой она может быть (или не быть вовсе, согласно некоторым взглядам). Представленный выше обзор исследований указывает на некоторые из этих научных предпосылок, а также на то влияние, которое они оказывают на сделанные выводы. Мой выбор спорных предпосылок можно обобщить, выяснив, какие ответы отдельно взятый ученый (или школа) дает на следующие вопросы: существует библейский Бог или нет? Имеет ли Ветхий Завет какую–либо форму авторитета благодаря божественному откровению или нет? Является ли Ветхий Завет этически значимым для нашего современного мира или нет?
Вопрос о существовании Бога
Имеет ли значение, верит ученый в Бога или нет? Или, если быть точнее, имеет ли значение, верит он в объективную реальность божества, представленного на страницах Ветхого Завета Господом? В теории можно сказать, что это не имеет значения. Считается, что для первых двух задач, упомянутых выше (главным образом описательные задачи изображения социального и этического мира древнего Израиля и анализа их священных канонических Писаний), достаточно критической объективности, чтобы прийти к выводам, которые затем будут одобрены или отвержены учеными. Именно о такой предпосылке идет речь, если я, христианин, предпринимаю попытку исследовать и описать этику, например, некоторых индуистских или буддийских писаний, или Корана. В теории я надеюсь проделать работу прилежно, честно работая с источниками. Но отказываясь разделять вероучение или конфессиональное мировоззрение любого из этих текстов, я стремился бы к информативно полезному и доброжелательному изложению их этического учения, что вызывало бы определенное доверие тех, кто придерживается данных верований.
Тем не менее, на практике вера или неверие в библейского Бога оказывают существенное влияние на подход и результат исследований в данной области. Просто проиллюстрируем это на примере: с одной стороны, мы слышим призыв Кристофера Зайтца читать Ветхий Завет так, как это делают люди, знающие Бога, Святого Израиля, Отца Иисуса Христа и поэтому нашего Бога и Господа.[385] Или же мы слышим риторику Уолтера Брюггемана (Walter Brueggemann), напоминающего нам, что задача богословия Ветхого Завета (и, конечно же, ветхозаветной этики) - «представить определенное описание реальности с живым Богом… Святой Личностью, о которой мы узнали из уст Израиля». Более того, продолжает Брюггеман, ученые, отказывающиеся признавать эту реальность, страдают «глухотой и не слышат голоса текста… потому что, когда Святая Личность удалена из определения смысла, то, что остается после этого, уже не так и важно».[386]
С другой стороны — Филипп Дейвис, довольный атеист, претендующий на объективность академического дискурса.[387] В его понимании, правильное исследование библейских текстов не даст богам беспрепятственно обитать на страницах словарей. И только напрочь отвергнув существование любого божества, особенно ветхозаветного, Дейвис начинает искать нравственные уроки Ветхого Завета. Поскольку он полагает, что предполагаемое нравственное учение Ветхого Завета в сущности является слепым послушанием произвольным божественным заповедям, он считает подобное учение неэтичным в принципе:
Ветхий Завет не очень хороший источник для этики, потому что он обычно прибегает к требованию подчинения заповедям, будь они заповедями божества, пророка или родителя… Я сам лично выступаю против подобной точки зрения. Хотя я не верю в богов, я верю, что они — символы власти, притязающие на абсолютную власть (если точнее — инструменты, при помощи которых другие лица притязают на власть). И я отвергаю подобные символы и подобную власть[388].
Далее Филипп Дейвис утверждает, что в большинстве частей Ветхого Завета находит мало каких–либо нравственных ценностей, если вообще они там есть. Вот что он пишет, например, о пророках:
Именно здесь, где многие библейские ученые видят высокий этический уровень Ветхого Завета, я не могу найти последовательности, там нет даже элементарных этических размышлений. Богословие Сиона, святость бога, ненависть бога, брачный статус бога, месть и непостижимость бога, его монополия, власть и многое другое используются в качестве причины для выполнения того, что говорит пророк: много религии, мало этики и никакой последовательности.[389]
А вот его слова об этике Книги Левит:
У нас перед глазами картина самого безнравственного общества: тоталитарного государства, недалеко откатившееся от породившего его всесвятого, бескомпромиссного, поглощающего жертвы деспота и основателя фашистского кружка. Идеализированное общество Книги Левит — не утопия, разве что для ритуально чистых и во всем послушных, — рай только для правящей верхушки.[390]
Фраза «непредубежденная объективность» вряд ли приходит на ум первой, когда читаешь подобные строки.
Либо можно оставить открытым вопрос о том, существует ли какой–либо объективно реальный Бог, и показать различие между реальным Богом и литературной реконструкцией ветхозаветного божества. Эта схожесть дает полное право человеку подвергнуть библейский текст яростной этической критике. Шерил Экзам (Cheryl Exum) в той же книге, что и Филипп Дейвис, предлагает язвительный обзор насильственных метафор в пророческих изображениях суда Яхве над Израилем, где Бог больше похож на мужа, разозлившегося на неверную жену.[391] Из статьи трудно сделать вывод, верит Экзам в Бога или нет, но ясно одно: в какого бы Бога она ни верила, это не библейский Бог. Она отмечает: «Думаю, что важно признать, что Бог — это персонаж библейского повествования, и поэтому его не следует путать с чьим–либо представлением о реальном боге».[392] Экзам, думаю, согласилась бы с Дейвисом, что наиболее ответственный вид нравственного взаимодействия с Библией — это противостать ей.[393]
Таким образом, мы видим: то, что ты найдешь в Ветхом Завете, когда доберешься туда, сильно зависит от того, кого ты возьмешь с собой, и чьими глазами будешь рассматривать его.
Вопрос об откровении Бога
Совершенно ясно, если вы не верите в существование какого–либо бога, тогда идея какой–либо формы авторитета в тексте на том основании, что он был раскрыт единым живым Богом, является чепухой, если не хуже. Но даже для тех, чья личная вера не проявляется в их трудах, идея канонического авторитета и откровения может быть отвержена как этически проблематичная. Так, Черил Экзам отмечает: «Я предпочитаю вовсе покончить с идеями канона и библейского авторитета. Поскольку Библия — важная часть нашего культурного наследия, будет дерзким предполагать, что мы можем как–нибудь обойтись без нее. Но я не вижу никаких причин наделять ее исключительным авторитетом».[394] Как мы видели в тринадцатой главе, именно к такому заключению приходит Сирил Родд (Cyril Rodd) в конце своего важного обзора этических измерений Ветхого Завета. По его мнению, именно идеи божественного откровения и текстуального авторитета являются настоящей проблемой. Он утверждает, что невозможно одновременно честно и ответственно работать с материалом Ветхого Завета для формирования этики (это означает, что мы избираем и отвергаем законы и повествования на основании этических стандартов, которые считаем правильными, но которые конфликтуют с тем, что мы читаем в тексте) и придерживаться традиционных концепций откровения и авторитета. Поэтому необходимо отвергнуть последнее. Более того, невозможно придерживаться концепций откровения и авторитета и найти полезный метод, который поможет сделать материал уместным для нас, несмотря на попытки, предпринятые в книгах, таких, как эта:
Если вы начинаете с откровения, то не существует способа изобрести последовательный и убедительный метод… До тех пор, пока сохраняется божественное влияние на нравственное учение Ветхого Завета, невозможно пояснить, как Ветхий Завет может предложить авторитетное руководство тем, кто столкнулся с совершенно иными этическими дилеммами современности.
Мы отвергаем некоторые библейские требования. Например, побитие камнями блудников или гомосексуалистов.
Если затем мы решим согласиться, что Ветхий Завет — это божественное откровение и его этика содержит авторитет, данный Богом, мы вновь столкнемся с непреодолимыми проблемами. Это убеждает меня, что начинать с откровения и искать авторитет — это создать проблему, которую можно преодолеть, только если отвергнуть его.[395]
Совершенно неясно, как это отвержение помогает решить проблему. Если не существует божественного влияния в реальности, известной нам как Писание, и если оно не имеет какого–либо авторитета, тогда зачем его вообще читать?
На другом конце спектра находится позиция, отстаиваемая Уолтером Кайзером (Walter Kaiser). Он прочно стоит на консервативной предпосылке раскрытого и авторитетного характера Библии в целом. Кайзер находит основную деонтологическую особенность в ветхозаветной этике; то есть она приходит к нам, как априорные заповеди Бога, и мы должны должным образом отреагировать на них. Соответственно, Кайзер главным образом сосредоточивается на законе как месте, в котором эти заповеди наиболее явно посягают на нас — раскрытые и одобренные Богом. Но мне кажется ошибочной тенденцией слишком тесно связывать понятия «раскрытый» и «авторитетный» с категорией заповеди. Согласно традиционному пониманию библейского откровения, не только заповеди были раскрыты, и не только они обладают божественным авторитетом. Помимо заповедей, Ветхий Завет содержит множество других текстовых жанров, затрагивающих вопросы этики, и нам есть о чем размышлять. И если мы пошли по герменевтическому пути с предпосылкой божественного откровения и авторитета, внутренне присущего всему канону, тогда необходимо задаться вопросом, в каком смысле эти понятия применимы к повествованию и поэзии (и даже генеалогии) в той же мере, как к законам.
Далее Эрил Дейвис (Eryl Davies) вносит то, что мне представляется еще одной путаницей. Положительно отзываясь о концепции естественного закона Джона Бартона (John Barton) в Ветхом Завете, он заявляет, что принятие этой концепции означает, что мы соответственно сокращаем место, отводимое откровению. Это потому, считает он, что естественный закон (в употреблении Бартона) основывается на рациональном подходе к жизни, взятом из всеобщего наблюдения. Если подобное рациональное наблюдение поддерживает часть ветхозаветной этики, тогда, согласно Эрилу Дейвису, место откровения сокращается. Но почему откровение и рациональность должны противопоставляться подобным образом? В библейском мышлении и то, и другое исходит от Бога. Тем не менее, Эрил Дейвис придерживается взгляда, что «склонность рассматривать этику еврейской Библии исходящей исключительно из откровения не следует переосмыслять, потому что вполне может быть, что Писание свидетельствует о принципах правильного поведения, обнаруженных разумом».
Затем он связывает откровение с заповедью при помощи способа, который я только что подверг сомнению, и доказывает, что подход вне рамок откровения более родственен светской эпохе:
В век. все более становящийся светским внешне, акцент на месте разума в принятии моральных суждений будет, вероятно, весьма притягателен. В отличие от раскрытого закона, требующего безусловного послушания божественным заповедям, естественный закон демонстрирует совещательный подход к формированию нравственной нормы и обеспечивает рациональное оправдание этического императива[396].
Но, несомненно, ветхозаветные побудительные мотивы постоянно представляют рациональные и убедительные причины послушания закону. И сам закон, и рациональное оправдание содержатся в библейском откровении. И, конечно же, традиция мудрости соединяет в своей этической конструкции категорию мудрости божественного откровения с благочестивым рациональным размышлением, избегая разногласия между ними. Эрил Дейвис, похоже, создает ненужное (и, конечно, небиблейское) отличие между откровением и рациональностью, с одной стороны, и неполезное (и также небиблейское) уравнивание откровения и заповеди, с другой.
Мне кажется, что мы нуждаемся в более широком понимании откровения, а также в более гибком понимании авторитета. И первым шагом к большей широте и гибкости будет прекращение разговоров о том, что якобы единственной формой авторитета является заповедь. К этому вопросу я вернусь в последнем разделе.
Вопрос об актуальности Бога
«Добравшись туда», в мир ветхозаветного Израиля, и исследовав некоторые этические ценности (реконструированные исторически) поведения израильского народа и их (критически проанализированных, установленных по происхождению, деконструированных и сшитых вновь) Писаний, ожидаем ли мы на самом деле, да и планируем ли, что сможем принести обратно хоть что–то важное для мира, в котором существуем и хотим жить нравственно? Для чего этот материал? Как его могут использовать христиане, живущие в этом мире? И вновь разные идеологические и богословские предпосылки определяют наши ответы.
На одном конце спектра находится позиция, которая обращает внимание на непосредственное божественное откровение Ветхого Завета и его последующую неизменную значимость на все времена. По сути то, что Бог сказал Израилю, он говорит нам. Самым сильным выражением данного убеждения является теономизм (или иногда реконструкционизм, когда он становится социальной или политической программой). В двенадцатой главе я предлагал обзор и критику данной позиции вместе с противоположной ей точкой зрения в консервативных кругах — диспенсационализмом (позиция, согласно которой ничто из Ветхого Завета не имеет власти над христианами, потому что мы живем в другой диспенсации — благодати после пришествия Христа).
Парадоксальный пример совершенно иного вида значимости — это объемное социологическое исследование Нормана К. Готвальда «Племена Яхве» (Norman К. Gottwald, The Tribes of Yahweh). Парадокс в том, что, с одной стороны, Готвальд не думает, что Яхве, Бог Израиля, жив и благоденствует в ближайшей к вам церкви. Он отказывается проводить религиозную линию от Ветхого Завета к современному обществу, считая это «идеалистическими и сверхъестественными отбросами библейского богословия».[397] Религия Израиля главным образом не имеет отношения к нам. Но, с другой стороны, то, что Готвальд считает великим социальным экспериментом раннего Израиля, является чрезвычайно значимым. Согласно социологической реконструкции Готвальда, Израиль возник в результате социальной революции в Палестине раннего Железного века и попытался создать явно равноправное общество с распределением политической власти, экономическими благами, которые стекались к семьям, а не к царям, и принять ряд социальных, судебных и военных мер, цель которых — сохранить это представление. Уникальная религия Яхве была своего рода контуром обратной связи, одобряющей и поддерживающей социальную систему. Личность Яхве отражалась в личности Израиля, если последнюю представить в идеале. В современном обществе мы можем больше не нуждаться в их боге, но по–прежнему можем использовать их социальные идеалы. Поэтому Готвальд видит продолжающийся этический потенциал в израильском обществе, но не видит продолжающегося этического потенциала в религии Израиля.
Две важные работы по ветхозаветной этике, опубликованные в 2001 году и упомянутые в тринадцатой главе, занимают удивительно разные позиции в отношении современного значения изучаемого материала. Как уже отмечалось, Сирил Родд в книге «Знакомство с неизвестной страной» (Cyril Rodd, Glimpses of a Strange Land) скептически относится к большинству попыток сделать Ветхий Завет значимым сегодня. Кроме отрицания откровения и авторитета (описанного выше), его основной аргумент состоит в том, что главные этические проблемы, над которыми мы бьемся сегодня, Израиль просто не воспринимал как этические проблемы. Напротив, обычно получается так, что исследователи тех или иных вопросов (например, защита окружающей среды, прав животных, женщин, нищих и т. п.) формируют свое мнение о них на других (небиблейских) основаниях. Затем они цитируют в поддержку своего мнения избранные ветхозаветные тексты, которые на самом деле означают что–то совсем другое. Между тем проблемы, по–настоящему беспокоившие древний Израиль (святость, честь, стабильность общества в целом), вообще редко появляются в современных дискуссиях об этике. Даже те проблемы, которые на первый взгляд кажутся значимыми для обоих миров (например, прелюбодеяние), на самом деле означали нечто иное в древнем Израиле.
Родд на самом деле убежден, что культурный разрыв между библейским и современным миром настолько велик, что большая часть морального учения вряд ли может быть безопасно и обоснованно перенесена из одного в другой. Я считаю, что многие из предостережений Родда разумны и должны быть учтены. Нам следует понимать, что есть искушение говорить о значимости того или иного вопроса, исходя из отдельно избранных текстов–доказательств. Но я также полагаю, что иногда Родд становится жертвой скоропалительных априорных обобщений о культурной чуждости Израиля, и потому я не могу согласиться с его методологическим несовершенством. Стоит отметить, что между мирами древнего Израиля и Израиля начала христианской эры (миром Нового Завета) существует существенный культурный и исторический разрыв. Тем не менее, авторы новозаветных документов, по всей видимости, подражая самому Иисусу, обращались к этике Ветхого Завета как к авторитету, присущему их древним текстам, несмотря на то, что они, подобно нам, сталкивались со многими герменевтическими трудностями, обращаясь к еврейским Писаниям. Я еще вернусь к Родду в своих заключительных размышлениях о библейском авторитете.
Дж. Дэвид Плайнс в книге «Социальные представления еврейской Библии» (J. David Pleins, The Social Visions of the Hebrew Bible) следует курсу, который близок курсу Родда и Готвальда, но без негативного настроя первого и идеологического настроя второго. Он делает обзор социальных и этических представлений, которые находит запечатленными в каждой из основных частей еврейских Писаний: законе, повествованиях, пророках, поэзии и мудрости. Он использует инструментарий исторической и социологической критики и обнажает то, что считает конфликтующими социальными интересами и программами не только между различными литературными жанрами или историческими эпохами, но даже в рамках отдельных книг или собраний в каноне. Тем не менее, вместо того чтобы считать это разнообразие безнадежно противоречивым, он считает его ценным этическим вкладом в решение современных проблем, «предложенным как основание для отображения тех самых противоречий, повлиявших на сообщества, чьи мысли дошли до нас на страницах еврейских Писаний».[398] Поэтому в конце каждой главы он показывает актуальность своих изысканий, а в заключительной главе — общий нравственный резонанс исследованного им материала.
Идеологический и богословский конфликт также разгорается вокруг вопроса единства: существует ли такая вещь, как «общий нравственный акцент Ветхого Завета»? Или же существуют просто разнообразные, а иногда конкурирующие взгляды? В принципе это тот же вопрос, над которым бьются и те, кто пытается справиться с предметом под названием «богословие Ветхого Завета». И существует значительное идеологическое разделение в отношении того, является ли весть Ветхого Завета доброй или нет. Некоторые стремятся толковать тексты с точки зрения традиции, уважающей этот материал как божественный по своему происхождению и относящейся к Писанию как к канону. Другие столь подавлены особенностями библейского мира и текстов, что их стратегия прочтения явно враждебная и скептичная, что соответствует их собственному мировоззрению.
Я придерживаюсь позиции авторов Нового Завета по отношению к ветхозаветным Писаниям: я верю, что Бог, которого мы встречаем на страницах Ветхого Завета — это Бог и Отец Иисуса Христа, Бог, которому церковь поклоняется как триединому Богу. Я принимаю утверждение 2 Тим. 3, 16 о том, что все Писаниеtheopneustos — вдохновлено этим Богом. Это означает, что ветхозаветные Писания в определенном смысле авторитетны, и в конечном итоге — Божьи. Потому они полезны, то есть значимы и применимы к этическим проблемам нашего мира (так же как и мира Тимофея), а также они могут «умудрить нас во спасение, верою во Христа Иисуса».
Тем не менее, сделать подобные заявления — это одно, а разъяснить их — другое. Если мы собираемся вернуться «оттуда сюда» с чем–то большим, чем захватывающее слайд–шоу отдельных снимков незнакомой земли, мы должны признать, что в текстах, которые мы изучали, есть нечто, что привлекает наше внимание, требует должного ответа, придает законную силу одним поступкам и осуждает другие. На этот вопрос мы и обратим сейчас наше внимание.
Проблема авторитета
Можно ли построить ветхозаветную этику так, чтобы она имела некий авторитет? Каким авторитетом для христиан обладает сам Ветхий Завет? Данный аспект этического авторитета библейских текстов, по моему мнению, недостаточно полно рассматривается в большинстве критических исследований, обзор которых я проделал в тринадцатой главе. Многие ученые готовы говорить о силе текста, не желая по–настоящему заняться вопросом его авторитета. Вопрос состоит в следующем — действительно ли Ветхий Завет обладает для нас, христиан, авторитетом, который требует, чтобы мы прислушивались к его текстам и реагировали на них как на Слово Божье. Да, большинство работ действительно подчеркивают нравственную актуальность Ветхого Завета, но они единодушно скупы на эпитеты, отображающие его предписывающий характер. Если текст Ветхого Завета не говорит нам, что именно мы должны делать (а обычно так и есть), существует ли способ, при помощи которого он вообще указывает нам, что делать? И как нам найти его и сформулировать?
Одна из главных сложностей связана с оттенками значения самого слова «авторитет». Как отмечалось выше, похоже, что в умах людей оно связано с раздачей директив, и основывается на авторитете в военной модели. Конечно, те, кто открыто отрицает идею библейского или ветхозаветного авторитета в сфере морали, обычно делают это на том основании, что повеления и подчинение им являются неадекватными, даже несерьезным основанием этики. Они не желают, чтобы деспотическое божество, которое они видят в Ветхом Завете, плохо обходилось с ними, отдавая произвольные приказы. Поэтому, отрицая повеления, они отрицают авторитет.
Но даже для тех из нас, кто с радостью подтверждает свое согласие с библейским авторитетом, связь авторитета с повелением не уживается комфортно с предоставленным в наше распоряжение материалом. Большая часть Ветхого Завета не является повелением в смысле приказаний ни первым его слушателям, ни будущим поколениям читателей. Большая часть Ветхого Завета — это повествование, поэзия, пророчество, песнь, плач, видения и прочее. Какой авторитет кроется в этих формах высказывания? И, более того, повеления, которые явно присутствуют в Ветхом Завете в значительном количестве, не были изначально адресованы нам. Это были заповеди, данные давным–давно людям в мире, совершенно отличающемся от того, который населяем мы. Поэтому, если мы следуем военной модели авторитета, обращение к Ветхому Завету в поисках решения современных проблем можно сравнить с использованием приказов, отданных Союзным командованием во Второй мировой войне, в качестве руководства для ведения войны против современного терроризма. Наш мир — иной.[399]
Одно очень важное наблюдение сделал Оливер О'Донован (Oliver О'Donovan), проведя разделительную черту между авторитетом и требованием в любом из библейских повелений.[400] Если я иду по переполненной людьми улице и слышу, как полисмен в униформе требует: «Вернитесь назад», я признаю его авторитет отдавать подобный приказ. Его повелительная речь подтверждена авторитетом. Но я также должен решить, обращается ли он ко мне или нет. Если нет, его повеление не требует моего послушания, не потому, что оно не имеет авторитета (оно имеет), но потому, что он обращается не ко мне. Тем не менее, я также признаю, что авторитет повеления мог относиться ко мне, если бы я находился в ситуации, напоминающей ситуацию с тем человеком, к которому он действительно обратился. Таким образом, библейские повеления обладают авторитетом из–за того, кто их отдал, божественный авторитет которого мы признаем. Эти повеления требовали послушания от своих адресатов, получивших их в собственном историческом контексте. Но требуют ли они моего послушания, зависит от многих других факторов.
Авторитет — утверждение бытия
Под авторитетом чаще всего подразумевают военную субординацию, но я убежден, что нам следует существенно расширить свое понимание данного слова. В формировании взгляда на авторитет мне помог Оливер О'Донован. В замечательной апологии евангельской библейской этики «Воскресение и нравственный порядок»(Resurrection and Moral Order) О'Донован пишет, что авторитет — это такое измерение бытия, которое дает достаточные и осмысленные основания для действия. Сам порядок творения, само бытие, предполагает иерархию власти, в рамках которой мы обладаем свободой действий (свободой и как допустимостью, и как спектром альтернатив).[401] Авторитет — это не просто вопрос положительных директив; это также узаконивающее разрешение. Авторитет уполномочивает; авторитет дает свободу действия в установленных рамках. Так, авторитет моих водительских прав (или удостоверение епископа) не приказывает мне каждый день, где мне вести автомобиль (или какие священнодействия совершать). Скорее, авторитет данных документов уполномочивает меня самостоятельно принимать подобные решения. Они дают мне свободу и авторитет вести машину туда, куда я желаю, или совершать служения, проповедовать, крестить и так далее. В этих контекстах я — уполномоченный человек, освобожденный авторитетом реальностей, стоящих за этими документами и в то же самое время подчиненный им (законам страны и дорожного движения; каноническому праву церкви).
Следовательно, авторитет — это утверждение бытия, источник и рамки свободы. Поэтому, как утверждает О'Донован, сам сотворенный порядок бытия также является авторитетным. Например, кирпичная стена одним своим существованием является авторитетной. Вы свободны действовать по эту или по ту сторону стены. Но ваша свобода заканчивается, как только вы пытаетесь проехать сквозь нее на большой скорости. Она осуществит свой авторитет достаточно грубо. Сила притяжения, как закон физического мира, — авторитетна. Она представляет собой часть устройства мира. Для нас, людей, притяжение дает огромную свободу действия на поверхности планеты и над ней. Но оно также ограничивает эту свободу. У вас есть свобода прыгнуть со скалы, но авторитет силы притяжения определит, что это было вашим последним свободным решением в жизни. Вмешивается реальность!
Ну и как же эти размышления помогают нам понять авторитет Ветхого Завета (и всей Библии)? Если авторитет — это утверждение бытия, тогда авторитет канона Писания состоит в том, что он подводит нас к контакту с реальностью, или, точнее, несколькими реальностями, каждая из которых обладает изначальным авторитетом. Чтение и познание Писаний заставляет нас взаимодействовать с реальностью. Это, в свою очередь, действует, чтобы уполномочить и установить границы свободы наших действий в мире. Если это звучит крайне громоздко и абстрактно, то самое время исследовать, о каких реальностях идет речь и какого рода этику они производят. Я имею в виду четыре реальности, о которых нам говорят писания Ветхого Завета. В этих текстах мы сталкиваемся с реальностью конкретного Бога, конкретной истории, конкретного мира и реальностью конкретного народа.[402]
Реальность этого Бога
Становится чрезвычайно важным в любом разговоре о Боге указывать предельно ясно, о ком идет речь. «Бог» — это всего лишь односложное слово, которое изначально чаще использовалось во множественном числе — боги. Этим общим понятием обозначали божеств народов северной Европы. Библия знакомит нас с конкретным Богом, имеющим имя и биографию, известным как Яхве, Святый Израилев (и прочие титулы), тем, кого называл Отцом Иисус Христос и кому поклонялись как Господу израильтяне, и как Отцу, Сыну и Святому Духу–христиане. Это вовсе не общее понятие «бог».
Все зависит от нашего исповедания Бога. Бога Библии не следует понимать при помощи общей категории «бог». Нет необходимости доказывать теоретически, что этот Бог особенный; достаточно отметить, что в Библии этот Бог порывает со всякими культурными определениями и ожиданиями и становится обособленно от прочих богов, озабоченных своим правлением, величием, благополучием в блистательном молчании небес.[403]
Хотя Библия говорит, что этот Бог раскрывает себя с помощью окружающего нас мира (который, по сути, является творением Божьим), фундаментальную важность имеет то, что знание об этом Боге мы получаем через текст канона Писаний обоих заветов. Господь не только Бог, «живущий среди славословий Израиля» (Пс. 21,4); он Бог, о котором нам говорят уста и перо Израиля.[404] Господь — реальность, о которой свидетельствуют писания Ветхого Завета. Поэтому они причастны его авторитету, потому что главный доступ к божественной реальности Господа — через эти Писания. Это изображение Бога в Ветхом Завете включает и его личность, и характер. Все это имеет авторитет и влияние на этику.
Личность Бога
«Тебе дано видеть… исход и опыт Синая», — говорит Моисей в риторике Второзакония, не для того, чтобы ты усвоил философскую концепцию под названием монотеизм, но «чтобы ты знал, что … Яхве есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет кроме Него» (Втор. 4, 35.39). Главной была не просто единственность божества (хотя позже это важно, что отмечено во Втор. 6, 4–50), но личность того Бога, который совершил все эти захватывающие действия. Это было не просто вопросом познания Бога, но познанием того, что Яхве — это Бог, и познанием того, что Бог может быть определен, познан и признан только как Яхве.
Это приводит к важности раскрытия божественного имени. Оно не просто вокабула с загадочным звучанием: «Когда Яхве обнародует Свое имя, он определяет Себя как Бога, уже известного праотцам, и обещает будущее, в котором Его будут продолжать признавать… Личность Яхве такова, что она включает особенную биографию, по которой Его узнают в настоящем и ожидаемом будущем».[405] Он — живой Бог, и правильной реакцией при встрече с ним должны быть смирение, поклонение и послушание, что сделал Моисей, но отвергнул фараон (Исх. 5, 2). Уникальная реальность Яхве как Бога обладает собственным авторитетом, и этот авторитет требует соответствующего отклика. Именно этот вызов Илия бросил Израилю на горе Кармил. Единственный бог, достойный служения — это реальный бог. Поэтому и будем служить богу, который покажет, что он настоящий. «Если Яхве — Бог, то Ему последуйте». Последующее признание реальности и личности Яхве как Бога имело свои последствия.
Подобным образом, в поклонении Израиля признание Яхве имело этический авторитет, потому что невозможно для Яхве жить среди славословий Израиля, но быть игнорируемым действиями израильтян. Они попытались сделать это, но пророки указали, что ужасающий бунт в сфере морали общества равносилен забвению Яхве, то есть отказу признавать его, вне зависимости от горячности их славословий.
Таким образом, реальность личности Яхве подразумевает авторитет этики поклонения и отклика. Насколько мы встречаемся с реальностью этого Бога на страницах Ветхого Завета, настолько же мы встречаемся и с этим авторитетом.
Характер Бога
Без сомнения, Яхве — персонаж,dramatis persona («действующее лицо») в великой драме Ветхого Завета, и это хорошо продемонстрировала работа Дейла Патрика (Dale Patrick). Более того, как реальный персонаж, Яхве изображен с большей глубиной и сложностью, чем любой из людей, просто потому, что на протяжении поколений он участвует в большом количестве сюжетных линий. Учитывая достаточно длинный описываемый временной период (ряд поколений, на протяжении которых создавались писания), удивительно, что личность Яхве изображается с такой последовательностью. Тем не менее, эта последовательность, конечно же, не перестает удивлять. Яхве постоянен, но вместе с тем его действия порой сложно предугадать:
Личность библейского Бога не является негибкой или статичной. Скорее, Он личность, характеризующаяся как динамичная, удивляющая и временами парадоксальная, требующая от читателя диалектического процесса познания. Когда описание граничит с непоследовательностью, толкователь должен воспринимать ее как удивляющее проявление уже известного. Когда описание спорно, толкователь должен признать, что личность Яхве содержит элемент парадокса.[406]
Брюггеман, ссылаясь на труд Патрика, говорит о том, что Ветхий Завет знакомит нас с этой «Святой Личностью, о которой мы узнаем из уст Израиля, проявляющей некоторую последовательность, но такую последовательность, которая временами несвязна и противоречива».[407]
Я мог бы привести здесь длинный список качеств и особенностей, которыми еврейские Писания наделяют Яхве. Чтение подобного перечня было бы очень поучительным и даже интересным. Однако когда Моисей попросил Господа явить ему себя, он перечислил всего лишь несколько личных характеристик из своего «резюме».
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода (Исх. 34, 6–7).
Когда эта самая главная характеристика Яхве встречается в Ветхом Завете, она также выражает авторитет, призывающий отражать его отношение и поведение. Именно здесь идея подражания Богу (все значения этой фразы смотри в первой главе) наиболее уместна. Втор. 10, 14–19 — самый яркий позитивный пример. Если Яхве — Бог, который заботится о слабых и любит пришельцев, то вы должны поступать так же. Парадоксально, но негативная реакция Ионы на положительный ответ Бога покаявшимся ниневитянам иронично контрастирует с приведенной им цитатой из Исхода, служащей основанием его изначального отказа от миссии. «Я знал, что Ты сделаешь, — жаловался Иона, — потому что Ты такой Бог — сострадательный и благой, и усложняешь жизнь нам, пророкам суда» (Иона 4, 1–2; парафраз автора).
Таким образом, реальность характера Яхве подразумевает авторитет для этики подражания и отображения этого характера в поведении человека. Нам следует вести себя определенным образом потому, что именно таков Яхве, и эта реальность является достаточным авторитетом.
Некоторые философски настроенные читатели могут посчитать, что, делая нравственные выводы из бытия Бога, я нарушил принцип Юма, гласящий: «Если что–то есть, еще не значит, что оно должно». Если Бог есть, если его существование — факт, то само по себе это еще не имеет каких–либо нравственных последствий. В ответ на это приведу слова, услышанные мною много лет назад от Кита Уорда, моего преподавателя этики в Кембридже. Итак, Бога нельзя назвать естественным фактом. Скорее, реальность Бога являетсяsui generis (уникальной — лат.), и сущность Божьей трансцендентно уникальной реальности в действительности порождает нравственное долженствование человеческих существ. Реальность библейского Бога неизбежно притязает на нас и требует отклика. Следовательно, Божья реальность обосновывает Божий авторитет.
Это следовало сказать, прежде чем перейти к нашему следующему пункту. Потому что, если вы не можете извлечь долженствование из существования, то насколько нереальней извлечь долженствование из свершившегося. Тем не менее, я собираюсь подтвердить, что сам характер повествования, переданного нам в Библии, поддерживает тот авторитет, на который мы должны откликнуться.
Реальность этой истории
То, что Ветхий Завет рассказывает историю, не требует доказательств. Тем не менее, вопрос весьма значимый. Ветхий Завет рассказывает не просто свою историю, а, скорее, часть основной и универсальной истории, включающей в себя все творение, время и человечество. Другими словами, при прочтении этих текстов нас приглашают принять метаповествование — мировоззрение, которое, подобно всем прочим мировоззрениям, претендует на объяснение того, почему все таково, как оно таким стало и каким оно будет в конечном итоге.
История, с которой мы сталкиваемся в Ветхом Завете, отвечает на фундаментальные вопросы мировоззрения: «Где мы?», «Кто мы?», «Что не так?», «Каково решение?». Ответим на них по порядку. Мы населяем землю, которая является частью творения единого живого Господа Бога. Мы — люди, сотворенные этим живым Богом по его образу, часть созданий Божьих, но в то же самое время мы уникальны, поскольку отличаемся духовными и нравственными отношениями и ответственностью. Все пошло не так как надо из–за мятежа и неповиновения нашему Богу Творцу, в результате чего мы породили тот беспорядок, который видим вокруг на всех уровнях нашей жизни, отношений и окружающей среды. Решение было инициировано Богом при помощи избрания и создания народа Израиля. Через этот народ Бог намеревается в конечном итоге благословить все народы земли и окончательно обновить все свое творение.
Таким образом, реальность этой истории такова, что включает нас в свои рамки, поскольку указывает на вселенское будущее, охватывающее все народы. Это история, история Бога, Израиля и народов, которую подхватывает Новый Завет. Эта история простирается от Бытия до Откровения не просто как хороший рассказ или классика эпической литературы, но главным образом как отображение реальности — описание населяемой нами вселенной и нового творения, для которого мы предназначены. Мы живем во вселенной, вплетенной в Историю.
И вновь подобное отображение реальности обладает собственным внутренним авторитетом. Потому что если вещи действительно таковы, такими они стали именно поэтому и движутся в конкретном направлении, тогда мы видим, как нам следует относиться к ним — и лично, и как общество. Тогда без сомнения можно сказать: если история заканчивается реальностью нравственного суда, совершаемого Богом, — как утверждает библейская история, — то сегодняшний нравственный выбор человека имеет значение.
В понятиях Ветхого Завета история имеет прошлое и будущее; и то, и другое важно для формирования этики.
Прошлое
Прославление Израилем своего прошлого легендарно. Оно было главной опорой их существования, потому что не только формировало их собственную идентичность и миссию, но также идентичность и миссию Господа, их Бога:
Имя, спасение и слава Господа были неразрывно связаны с чудесами его. Господа познавали благодаря тому, что он совершил, и Израиль знал — чтобы сохранить личность Господа, они должны пересказывать историю, как себе, так и другим народам. Потому что в пересказе истории было изображение Бога — ее главного действующего лица. Поэтому они рассказывали историю, чтобы защититься от идолопоклонничества (Втор. 4, 9 и дал.). Они рассказывали историю, чтобы объяснить и побудить к исполнению закона (Втор. 6, 20–25). Они рассказывали историю, как упрек самим себе (Пс. 1; 5; 105; Ам. 2, 9–16; Мих. 6, 1–8), или даже Господу (Пс. 43; 88). Они рассказывали историю, чтобы утешить и дать основание надежде (Иер. 32, 17–25).
Напоминание о прошлом, как мотивация к соблюдению закона, особенно сосредоточивалось на исходе как на великой модели искупительной любви и власти Господа. По существу, оно порождало этику благодарности, которая должна была воплощаться в актах похожей справедливости и сострадания в горизонтальных отношениях израильского сообщества (Исх. 22, 21; 23, 9). Благословения, пережитые в истории — это реалии, которые имеют авторитет. «Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: помни, что и ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие» (Втор. 15, 14–15).
Будущее
Но история, которую рассказывал Израиль, с самого начала была ориентирована на будущее. Призвание Авраама включало обетование, что через его потомков Бог планировал благословить все народы земли. Это видение с разной степенью яркости сияло в различные периоды жизни Израиля. В некоторых текстах отражена мысль, что народы являются наблюдателями: они видят, что Бог сделал в Израиле и для Израиля, и как Израиль ответил на это — положительно или отрицательно (Втор. 4, 5–8; 29, 22–28; Иез. 36, 16–23; см. седьмую главу). В конечном итоге, Израиль существовал ради народов. Поэтому в истории Израиля есть телеологический акцент. Мы видим Бога с миссией и народ с предназначением быть светом народам, чтобы в конечном итоге всякая плоть увидела славу Господа (ср. Ис. 40, 5). Подобное пророческое видение реальности, даже если не осуществленное в истории, вне сомнения, рождало ряд этических откликов. Как будущее, залогом которого является верность Бога, оказывает влияние на образ жизни Израиля в настоящем? (Ис. 2, 1–5; особенно 5 ст.). Этот вопрос остается важным и для нас, потому что мы разделяем такое же видение будущего. Для очей веры это библейское будущее является реальностью, «осуществление ожидаемого», и поэтому также содержит формирующий этику авторитет для тех, кто живет в его свете.
Итак, реальность истории, которая представлена нам на страницах Ветхого Завета, имеет авторитет для этики благодарности по причине Божьих действий ради Израиля в прошлом и этики миссионерского намерения ввиду Божьих целей для человечества в будущем.
Реальность этого слова
Слово–откровение
Ветхозаветные писания претендуют на статус откровения. Конечно, с этим можно и не согласиться. Можно сказать, как это делает Сирил Родд (и многие другие до него), что даже если есть Бог, то Ветхий Завет никак нельзя назвать откровением этого Бога. Или же можно вообще отвергнуть существование Бога, и тогда вопрос об откровении отпадает сам по себе. Тем не менее, для христиан авторитет Ветхого Завета, несомненно, связан с реальностью этого слова от Бога. Мы исповедуем, что в этих текстах реальный Бог реально говорил и продолжает говорить, а реальность личности Бога и слова Божьего составляет авторитет, дарующий свободу и устанавливающий границы, как это с поразительной простотой иллюстрирует первая история встречи Бога с человеком (Быт. 2–3).
Откровение находится в центре веры Израиля:
Тебе дано видеть это… чтобы ты знал…
(Втор. 4, 32–40)
О, человек! сказано тебе, что — добро.
(Mux. 6, 8)
Самая сердцевина веры, исповеданной Израилем, обращена к их ушам (резкая противоположность их глазам — «не видели вы никакого образа») как то, что следует слушать и на что обращать внимание: раскрытие реальности, одновременно пропозициональной и межличностной: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь один; и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею» (Втор. 6, 4–5; перевод автора).
Этот последний текст, хотя и не имеет параллелей, является одним из многих, которые, на мой взгляд, выбивают опору из–под странной идеи, что откровение в Библии личное, но не пропозициональное (подтекст таков, что пропозиции являются холодными и абстрактными, и в меньшей степени — личными или межличностными, что всегда казалось мне весьма нелогичным ввиду достаточно межличностного употребления слова «заявлять» [propose]). Сложно представить себе более пропозициональную форму высказывания, чем Втор. 6, 4, хотя контекст предлагает и других кандидатов (Втор. 4, 39, например, или Втор. 7, 9, или удостоверение личности Господа в Исх. 34, 6–7). Разве псалмы не изобилуют утверждениями откровения, вроде «Господня земля, и все, что наполняет ее» (Пс. 23, 1)? Да и книги пророков значительно оскудели бы, удали из них пропозициональные откровения реальности Господа. Нет, в Ветхом Завете мы слышим слово, которое провозглашает, утверждает, заявляет и постулирует в однозначных понятиях. Но как ясно дает понять плавный ход Втор. 6, 4–5, раскрытие реальности непосредственно обосновывает авторитет, в рамках которого могут процветать отношения и этика: «Господь есть… и люби…». Не существует дихотомии между заявлением и откликом. Это же справедливо в отношении частого повторения простого утверждения «Я Господь» в заповедях Лев. 17 — 26. Банальное наблюдение, что Божье откровение обычно является одновременно и изъявительным, и повелительным, не является менее истинным по причине своей банальности. Это не тот случай, где речь идет «скорее о раскрытой реальности, чем раскрытой моральности», но о раскрытой реальности, которая по своей природе содержит в себе раскрытую межличностную мораль.
Теперь эта знакомая комбинация приводит нас к заветному характеру отношений Израиля с Богом и их авторитетности. Как мы видели раньше, идея авторитетного откровения чаще всего связывается (теми, кому это не очень нравится) с прямыми повелениями Бога. И тогда эта комбинация «откровение—повеление—послушание» часто переводится в низшую разновидность этики, которая называется специальным термином «гетерономия» (послушание закону другого; например, внешнему источнику авторитета). Слова вроде «произвольный», похоже, так и выплывают из подсознания и объединяются с «повелениями», так же как слово «слепой» столь часто ставится рядом с «послушанием». Или, в другой группе участников дискурса, среди запретных слов встречаются «внешний», «своды законов» и «законничество». В противовес столь унизительному окрашиванию всего лексикона заповеди и послушания нам следует противопоставить заветную динамику ветхозаветной веры и этики.[408]
Сущность заветных отношений, отображенная в текстах Ветхого Завета, состоит в том, что они очевидно межличностные, а не механические, произвольные или слепые. Этот Бог действовал в этой истории ради блага этого народа. Отношения в целом основываются на постоянно утверждаемой реальности любви Господа, верности своим обетованиям, искупительной силе, милостивом терпении, провидении и защите. Утверждаемое на подобных реалиях, послушание Израиля заключается в рамки ответа любви, благодарности, хвалы и продолжающегося благословения. Израильтянин должен был чувствовать так: «Я делаю то, что хочет Яхве, потому что я также хочу этого больше всего. Наши отношения делают подобные решения и поведение естественным и радостным». По крайней мере, такова идеальная надежда завета. Более того, поскольку, как мы видели, авторитет — это одновременно источник и рамки свободы, послушание Божьему закону считается исполнением, удовлетворением, удовольствием и, на самом деле, признаком личной свободы:
Заветное послушание во взаимоотношениях такому Богу является просто путем к жизни и повседневному существованию (Втор. 30, 11–20).
Более того, межличностный характер послушания Израиля означает, что оно далеко не слепое. Во–первых, в самом законе часто приводятся побудительные призывы, делающие послушание привлекательным. Согласуясь с моим определением авторитета, эти придаточные предложения обычно указывают на некую реальность (Бога, например, или истории, или жизни на земле) и затем заявляют: «Поскольку это так, вот авторитет, на основании которого вам сказано делать или не делать это». По сути, повествовательный костяк Торы (с ее ориентацией на прошлое и будущее) выдвигает следующий неявный пункт: авторитет всего этого закона покоится на реальности этого Бога и этой истории. И, во–вторых, послушание Израиля не является слепым, потому что оно на самом деле представлено как согласие, по крайней мере, по замыслу. В нескольких отрывках Израиль представлен как принимающий свободный, осмысленный и намеренный выбор подчиниться Богу как Господу завета, даже иногда перед лицом скептических отговорок (Исх. 24, 7; Втор. 5, 27–29; 26, 17; Нав. 24, 14–24). Другими словами, авторитет Господа — это авторитет, который был свободно избран Израилем и которому он добровольно подчинился, и это не слепое или рабское послушание произвольным повелениям. Зная свершившуюся историю, обещание Израиля повиноваться Господу могло быть оптимистическим (а наше не таково?), но оно точно не было слепым, по принуждению, или произвольным.
Мне кажется, это отвечает на категорическое утверждение Сирила Родда (Cyril Rodd) о том, что послушание авторитету не только является неадекватным основанием для этики, но, по сути, невозможно. Человек подчиняется авторитету исключительно добровольно (если только, конечно, авторитет не принимает формы принуждения, что в любом случае является этическим банкротством; и, следовательно, принудительное послушание высшей силе не является добровольным послушанием принятому авторитету). Но, судя по всему, Родд считает, что когда вы решаете подчиниться авторитету, ваш акт выбора учреждает ваш реальный авторитет, или, скорее, на деле ставит вас выше авторитета, которому вы подчиняетесь. Вы становитесь собственным авторитетом, когда избираете повиновение внешнему авторитету:
Я твердо убежден, что для мыслящих человеческих существ невозможен никакой внешний авторитет. Сколько бы они ни заявляли и ни верили, что подчиняются такому авторитету, в конечном итоге они сами принимают решение принять его как авторитет. Они выбирают, несмотря на внутренние нормы и ценности, приходящие из той культуры, в которой они воспитаны и которые повлияли на их решение. В конечном счете, мое собственное решение должно быть для меня решительным… Не может быть внешнего авторитета по отношению ко мне, только власть, которая навязывает себя мне.[409]
Последнее предложение показывает весь солипсизм этики Рода: единственный авторитет для меня — это я сам.
Но я думаю, что ключ к ошибке в слове «мыслящий». Похоже, что первое предложение подразумевает, что индивидуальная рациональная человеческая личность является высшим авторитетом, что соответствует классическому представлению эпохи Просвещения. Здесь человеческий разум — обыкновенная способность, благодаря которой мы признаем и соглашаемся с авторитетом, — ошибочно считается источником этого авторитета, что на самом деле не так. Авторитет объективно отличается от нашей человеческой рациональной способности распознавать его. Когда я решаю принять авторитет Бога как высшей реальности, я тем самым не ставлю себя и рациональность, благодаря которой я принимаю решение, выше реальности и авторитета Бога. Моя рациональность всего лишь средство, при помощи которого я делаю это признание, также как моя воля — это средство соответствующего ответного действия. Сказать, что не существует объективного авторитета вне меня только потому, что я должен рационально выбирать, чтобы принять его, почти то же самое, что сказать, будто не существует объективного мира вне меня, потому что мне необходимо открыть глаза, чтобы увидеть его.
Похоже, существует противоречие между утверждением Родда о том, что не может быть авторитета вне человека, и его согласием, что на решения человека оказывают влияние «усвоенные нормы» воспитывающей культуры. Что это за нормы? Неужели это просто сборник миллионов индивидуальных решений, которые люди принимали на основании своего собственного авторитета? И если это так, почему они зачастую настолько всеобщи и долговечны? И если каждый из нас, в сущности, сам себе авторитет, есть ли смысл вообще говорить о нормах? Не становится ли тогда этика не просто автономной (в отличие от гетерономной), но потенциально анархической?
Более того, могу ли я быть последовательным авторитетом для себя самого, если не существует внешнего авторитета, который в некотором смысле руководит мною и нормирует мои решения и поведение на протяжении времени? Почему какое–то решение, принятое в прошлом, должно обладать нравственным авторитетом для меня в настоящем? В прошлом году я решил дать обещание. Но в этом году я решил его проигнорировать. Кто или что должно подвергать сомнению обоснованность второго решения, если вне меня не существует авторитета, который нормативно учит меня, что исполнение обещаний — это вопрос честности?
Действенное слово
Во–вторых, это слово является не только откровением — оно действенно: Бог производит словами действия.[410] Свежее восприятие этого измерения речевых актов в божественных высказываниях (как, конечно, и во многих формах человеческой речи) приветствуется, но вряд ли является новым. Ис. 55, 10–11 может сказать две вещи о действенной силе этого слова Бога. Поразительная результативность этого слова такова, что оно одновременно говорит о реальности и порождает реальность. Здесь кроется его двойной авторитет. Эти тексты говорят о реальности Бога, Творца вселенной, Искупителя Израиля, уже создающего новое небо и новую землю. Но те же тексты говорят нам и о любви и справедливости, воле и требованиях, суде и обещании этого Бога так, что мы не можем избежать силы их этического силового поля.
Как богато изображает Пс. 32 в своем возвеличении слова Господа, которое преобразует мир и исправляет его (Пс. 32, 4–5). Это созидающее мир слово вызывает его к существованию (Пс. 32, 6–9). Это управляющее миром слово руководит историей мира в соответствии с планом (Пс. 32, 10–11). И это наблюдающее за миром слово призывает его к отчету (Пс. 32, 13–15). Это структура авторитета, переданная нам в тексте Ветхого Завета, которая делает радость, исполненный надеждой страх и терпеливое доверие единственным приемлемым откликом на такое слово (Пс. 32,1–2.18–22); и предостерегает тех, кто уповает на такие пустые вещи, как многочисленные армии, что они просто утратили ощущение реальности (Пс. 32, 16–17).
Итак, реальность этого слова, переданного нам через Писания Израиля, обладает авторитетом для этики послушания в завете, как для нас, так и для Израиля, потому что мы знаем того, кто сказал это (Евр. 10, 30).
Реальность этого народа
Четвертая реальность, которую ветхозаветные писания изображают нам — это реальность народа израильского. Каким бы ни была наша историческая реконструкция процесса их зарождения в конце бронзового — начале железного века в Палестине,[411] факт остается фактом — они появились. Древний Израиль с собственным представлением о своем избрании, истории и отношении к Господу Богу своему является реальностью, имеющей чрезвычайное значение для истории остального человечества. Мы, конечно, в некоторой степени могли бы узнать о них из материальных останков их существования и упоминаниях о них в литературе других современных им народов. Но, в основном, мы получаем информацию об этом народе из еврейской Библии, так же как из нее мы узнаем об этом Боге, Святом Израиля.
Итак, совершенно ясно, что для самих израильтян простая реальность их существования как народа обосновывала авторитет одних форм этического поведения и осуждения других. Быть израильтянином значило принадлежать к сообществу этических норм. В положительном смысле, концепция святости была этикой сообщества с широким спектром обязательств: социальных, экономических, семейных, политических, сельскохозяйственных, судебных, коммерческих, обрядовых и т. п. (что четко видно, например, в Лев. 19). Когда же мы читаем, что то или иное «не делается в Израиле», хотя мы прекрасно знаем, что еще как делается, мы понимаем, что под этим подразумевается, а именно: если ты израильтянин, то так поступать нельзя.
Мы могли бы указать на многие богословские измерения избрания Израиля, такие как миссионерская цель Бога для народов, которая является сутью обетования Аврааму, и мы могли бы указать на их веру, свидетельствовавшую о реальности Бога, которому они поклонялись, и которая завещана нам. Но не в этом дело, а вот в чем: когда мы рассуждаем об авторитете Ветхого Завета, мы не должны забывать о его свидетельстве об исторической реальности этого народа — воистину удивительной реальности. В свою очередь, ветхозаветный Израиль как общество обладал авторитетом над каждым своим гражданином. Но не только это — возложенная на Израиль роль и миссия быть священником среди народов (Исх. 19, 4–6), быть светом для народов (Ис. 42, 6; 49, 6–8), примером социальной справедливости для наблюдающих народов, — все это придавало этике Израиля широкую авторитетную значимость и в их собственном обществе. Как обсуждалось во второй главе, Израиль должен был поступать как образец для других. Как я утверждал, это не герменевтическая уловка, навязанная нами Ветхому Завету ретроспективно, но она была частью изначального избрания Израиля. Уникальность Израиля служит его универсальной значимости: он должен показать такое поведение, которое Бог требует повсеместно в человеческих сообществах.
Итак, реальность этого народа, представленного нам в ветхозаветных Писаниях, порождает этику образца и аналогии, в которой мы видим нравственную последовательность Бога и вопрошаем: «Если Бог требовал этого от них, то что тогда Бог требует от нас в нашем контексте, который разительно отличается от израильского?»
В этой главе я доказывал, что авторитет Ветхого Завета для христиан основывается отчасти на его свидетельстве о некоторых фундаментальных реальностях. Затем эти реальности порождают авторитет, который направляет наш отклик. Подробная разработка этого отклика является задачей герменевтики и нравственного истолкования, подобного объяснению, предпринятому в этой книге, предложившей разбор избранных аспектов. Подводя итог, мы могли бы представить приведенные выше размышления в виде следующей таблицы:
| Реальность | обосновывает авторитет |
| Бога | этики поклонения и отклика (его личности) |
| этики подражания и отображения (его характера) | |
| истории | этики миссии |
| слова | этики заветного послушания |
| народа | этики парадигмы и аналогии |
Заключение
Остается только отметить, что эти четыре реальности Ветхого Завета также утверждаются как реальность для христианских верующих в Новом Завете. Все они отражают реальность Иисуса, и это не только позволяет им оставаться актуальными для тех, кто во Христе, но и украшает и преобразует ветхозаветные реалии.
Ведь в Иисусе мы встречаем этого Бога. Новый Завет обычно рассматривает проблему «Иисус и Бог» не в категориях онтологии, но личности и характера, а также деятельности. Иисус — это тот, кто непосредственно отражает личность и характер Яхве, и кто, в конечном итоге, совершает то, что мог совершать только Яхве.[412] Следовательно, знать Иисуса как Спасителя и Господа означает войти в сферу этического отклика и подражания, которое отображает отклик и подражание Израиля Яхве.
В Иисусе кульминация этой истории и гарантия ее завершения. Эта история также является нашей историей, потому что если мы во Христе, тогда, согласно Павлу, мы также в Аврааме и являемся наследниками обетования. Наше будущее — это будущее, которое Бог обещал Аврааму, которое осуществил Иисус и которым будет наслаждаться все искупленное человечество из всякого народа, колена, племени и языка (Откр. 7, 9–10). Тогда нравственность нашей жизни тоже должна быть сформирована благодарностью за прошлое и стремлением к миссионерскому будущему.
В Иисусе мы услышали окончательное слово Бога, Слово, ставшее плотью. Откровение Бога, представленное нам в Ветхом Завете, теперь завершено откровением, переданным нам через новозаветный портрет Иисуса из Назарета. Конечно же, имеет место прерывность и развитие, но новозаветные авторы не сомневались, что за словом, которое пришло к ним с Иисусом, стоял тот же Бог, слово которого они получили в уже имевшихся Писаниях: «Мы знаем Того, кто сказал…» (Евр. 10, 30; перевод автора), и это слово идентифицирует говорящего и утверждает непреходящую значимость его изначальных слов.
В Иисусе мы стали частью этого народа, разделив их уникальность и ответственность, потому что благодаря кресту и евангелию Мессии Иисуса мы стали гражданами народа Божьего, членами Божьей семьи, местом пребывания Бога (Еф. 2, 11 — 3, 13). Такая принадлежность порождает в церкви и мире этическую ответственность, о которой уже более подробно сказано в Новом Завете.
Итак, описанные выше реалии делают Ветхий Завет авторитетным и для нас. Читая Ветхий Завет в свете Христа, мы призваны откликаться на эти жизнеутверждающие истины в широком спектре всей нашей деятельности. Это Бог, которому мы поклоняемся, история, частью которой мы являемся, это слово, которое мы услышали и народ, к которому принадлежим. Как нам теперь следует жить в свете этих реальностей и авторитета, который они утверждают?
Дополнительная литература
Barton, John, Ethics and the Old Testament (London: SCM, 1998).
Briggs, Richard S., 'Getting Involved: Speech Acts and Biblical Interpretation', Anvil 20 (2003), pp. 25–34.
Brueggemann, Walter, 'The Role of Old Testament Theology in the Old Testament Interpretation', in Ball, True Wisdom, pp. 70 — 80.
Brueggemann, Walter, A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life, ed. Patrick D. Miller Jr. (Minneapolis: Fortress, 1994).
Davies, Eryl W., 'Ethics of the Hebrew Bible: The Problem of Methodology', Semeia 66 (1995), pp. 43 — 53.
Goldingay, John, Approaches to Old Testament Interpretation: Updated Edition (Leicester: Apollos, 1991).
O'Donovan, Oliver М. T, 'Towards an Interpretation of Biblical Ethics', Tyndale Bulletin 27 (1976), pp. 54–78.
Patrick, Dale, The Rendering of God in the Old Testament, Overtures to Biblical Theology, vol. 10 (Philadelphia: Fortress, 1981).
Rodd, Cyril, Glimpses of a Strange Land: Studies in Old Testament Ethics (Edinburgh: T&TClark, 2001).
Seitz, Christopher, Word without End (Grand Rapids: Eerdmans, 1998).
Приложение. Об истреблении хананеев
Постановка проблемы
Из собственного опыта могу сказать, что преподавателю ветхозаветной этики или основ христианского вероучения избежать вопроса об истреблении хананеев невозможно. В конце лекции обязательно тянутся вверх руки. Формулируют этот вопрос по–разному. Если в лекциях преподаватель подчеркивал центральную роль избрания Израиля, а именно, что они должны были стать средством божьего благословения народов, то студент обычно удивляется, каким образом существование израильтян было благословением для хананеев. Разве история о завоевании Ханаана не вступает в противоречие с обетованием окончательного благословения? Если преподаватель обращал внимание на более эмоциональные вопросы, такие как справедливость, сострадание, забота о нищих или нуждающихся, тогда студент удивляется, как это согласуется с повелениями истребить хананеев (эта сложность наиболее явна в Книге Второзакония, содержащей оба акцента буквально бок о бок). Если преподаватель освещал характер Господа как Бога справедливости и сострадания, чье самовластное правление над миром, историей и настоящим, а также будущим, основывается на его характере, тогда студент интересуется, действительно ли этот взгляд был столь самоочевидным для хананеев.
Совершенно ясно, что библейские повествования о завоевании Ханаана больше всего беспокоят чувствительного читателя, и вполне обоснованно.[413] Как нам, христианам, относиться к ним, учитывая веру в то, что Бог хочет благословить народы? Этот вопрос требует тщательного и всестороннего рассмотрения, где будет уделено внимание его библейским, богословским, этическим и миссиологическим граням. Все, что я могу предложить в этом ограниченном приложении — это несколько общих подходов. Я не думаю, что они расставят точки над но считаю, что они помогут, по крайней мере, задать вектор для будущего исследования.
Различные подходы к проблеме
Исторический суд и окончательное благословение
Бог возвестил Аврааму, что он призван стать благословением для всех народов на земле. Это повторяется шесть раз в Книге Бытия, и определенно является центральным пунктом избрания Израиля (как мы видели, особенно во второй главе). Израиль должен был стать средством благословения для народов. Как же тогда Бог мог использовать их, чтобы причинить такое страдание хананеям? Очень важно понимать благословение народов как окончательную (эсхатологическую) цель Бога. Это не означает, что Бог должен быть хорошим для каждого человека или народа, независимо от их поведения. Бог остается моральным судьей всех человеческих действий, и это в равной степени важная часть библейского свидетельства о том, что Бог действует в истории, осуждая нечестивых. Как я покажу более подробно ниже, именно в свете этого следует истолковывать завоевание Ханаана.
Поэтому Божья высшая цель благословения всех народов не противоречит его праву судить определенные народы в истории, также как желание родителей, чтобы их дети процветали, не препятствует необходимым дисциплинарным мерам. Напротив, оно требует подобных действий. Это справедливо и в отношении Израиля. Заветное обязательство, совершенное Богом через Авраама и обновленное на горе Синай, связало Господа с его обещанием Израилю, что он всегда будет их Богом, а они будут его народом, и он осуществит свои цели в отношении них и через них. Но это окончательное и общее обязательство благословить Израиль не мешало Богу предпринимать решительные действия в отношении конкретных поколений израильтян в истории. Нераскаявшиеся нечестивые люди испытывали гнев Бога, это происходило и с народом завета в ветхозаветные времена. Долгосрочное благословение и исторический гнев не противоречат друг другу. Более того, именно из–за таких уникальных заветных отношений, которые были между Богом и Израилем, он действовал, наказывая их грехи (Ам. 3, 2). То же происходило и с человечеством в целом. Божье намерение благословить все народы осуществится (как это предвосхищает Откр. 7), но это не исключает свободу Бога использовать людей и человеческую историю в качестве инструментов своего нравственного суда. Пс. 46 предрекает, что в конечном итоге все народы будут созваны, чтобы прославить и рукоплескать Господу за то, что он совершил — даже в тех событиях, которые включали завоевание народов. В конечном итоге, история Израиля будет предметом хвалы среди народов, ради окончательного блага которых она и совершалась. Втор. 32,43 и его использование в Рим. 15, 7–12 Павлом указывает в том же направлении.
Ограниченность события
Повествования о завоевании описывают один определенный период долгой истории Израиля. Множество других войн, произошедших в ветхозаветном повествовании, не имели божественной санкции, и некоторые явно осуждены как действия гордых и алчных царей или военных противников. Иногда обвиняют весь Ветхий Завет в том, что в нем много разрушительных войн, которые совершались по повелению злого бога, Яхве. Это досадное искажение канона. События, описанные в Книге Иисуса Навина, происходили в течение одного поколения, хотя Книга Судей показывает, что последствия длились достаточно долго. Завоевание можно отнести к категорииherem — особой форме войны, в которой Яхве выступает главным действующим лицом, а враг подчиняется или покоряется ему. Некоторые из поздних войн также имели эту характеристику, но многие явно не названы таковыми.
Риторика войны на древнем Ближнем Востоке
Нам также следует предположить, что язык войны допускал преувеличения. Израиль, подобно другим народам древнего Ближнего Востока, документами которых мы располагаем, использовал риторику войны, которая зачастую преувеличивала реальный ход вещей. Даже в Ветхом Завете признается и принимается этот феномен. Например, хорошо известно, что Книга Иисуса Навина явно риторически преувеличивает масштабы завоевания: вся земля захвачена, все цари побеждены, весь народ уничтожен без остатка (например, Нав. 10, 40–42; 11, 16–20). Тем не менее, Книга Судей (последний редактор которой должен был знать об этих повествованиях в Книге Иисуса Навина) не видит противоречия в том, чтобы говорить, что процесс покорения местных жителей был вовсе не завершен и продолжался достаточно долгое время. Так что даже в самом Ветхом Завете признается наличие риторического обобщения. Следовательно, когда мы читаем некоторые более яркие описания, будь то в повелениях, которые должны быть исполнены или зафиксированы как исполненные, нам необходимо допускать возможность такого риторического приема. Правильно будет не обвинять библейских писателей в обмане, а признавать литературные традиции описания войны.
Наказание порочного народа
Захват не следует изображать как произвольный геноцид или этническую чистку. Неверно также утверждение, что существует непримиримое противоречие между прославлением Израилем своего освобождения от угнетения в Египте и угнетением ханаанских народов спустя поколение.[414] Действие Израиля против хананеев относится не к категории угнетения, а к божественному наказанию посредством людей. Оно постоянно описывается как акт нравственного суда Божьего над деградировавшим сообществом.
Порочность ханаанского сообщества предвосхищается в Быт. 15,16, где Бог говорит Аврааму, что его потомки овладеют землей его временного пребывания, но не сейчас, «ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась». Похоже, здесь идет речь о том, что ханаанское общество в дни Авраама еще не было столь порочным, чтобы оправдать столь масштабный суд Бога над ним (как он это сделал, например, в отношении Содома и Гоморры). Но это время приближалось.
Порочность ханаанского сообщества более определенно описана в нравственных и социальных терминах в Лев. 18, 24–25; 20, 22–24; Втор. 9, 5; 12, 29–31. Она включает половую распущенность и извращения, в особенности связанные с культами плодородия, и безжалостность приношений детей в жертву. Несомненно, важно то, что Книга Левит использует очень яркий способ выражения Божьей реакции на деградацию хананеев. Несколько раз говорится, что сама земля «изблюет» их. Это говорит не просто о мерзости их поведения для Бога, но о чем–то настолько омерзительном и отвратительном, что он более не может «переваривать» это. Это толкование принимается в Новом Завете (например, Евр. 11, 31 говорит о хананеях как о непокорных, подразумевая, что они осознавали свой грех, но упорствовали в нем).
Существует огромное нравственное отличие между произвольной жестокостью и жестокостью в нравственных рамках наказания. Это справедливо как в человеческом сообществе, так и с божественной точки зрения. Какой бы ни была наша позиция в отношении любой формы телесного наказания, существует огромная разница между тем, если отшлепать ребенка в качестве воспитательной меры за недопустимое поведение, на которое ему не раз указывали, и беспричинным или жестоким избиением. Также, каким бы ни было представление человека о смертной казни, существует моральное отличие между казнью преступника, признанного виновным в рамках системы закона, и произвольным убийством невиновного человека. Мы можем не соглашаться со шлепками или смертной казнью, и можно найти убедительные причины, чтобы отвергнуть и то, и другое, но вряд ли найдутся убедительные аргументы, доказывающие, что подобные формы наказания нравственно неотличимы от яростного насилия над ребенком или бесконтрольного убийства.
Поэтому библейское утверждение, что завоевание являлось актом Божьего наказания порочного сообщества, в котором Израиль выступал только как орудие, должно восприниматься серьезно (теми, кто желает воспринимать свидетельство Библии всерьез) и не трактоваться как противоядие против яда внутренней агрессии Израиля.
Пример для устрашения Израиля
Ветхий Завет говорит, что во время завоевания Бог использовал Израиль в качестве посредника для наказания хананеев. Бог предостерег Израиль, что если они будут вести себя так же, как хананеи, он будет рассматривать Израиль как своего врага на том же основании, и это навлечет аналогичное наказание, в котором будут использованы другие народы (Лев. 18, 28; Втор. 28, 25–68). Земля, изблевавшая хананеев, повторит свое действие, если Израиль будет потворствовать тем же омерзительным ханаанским обычаям. Тот же Яхве, который осуществлял нравственный суд над врагами Израиля, будет действовать таким же образом и в отношении самого Израиля.
В ходе долгой истории Израиля в ветхозаветные времена Бог неоднократно поступал так. Тем самым он продемонстрировал свою нравственную последовательность в правосудии по отношению ко всему человечеству. Это не было вопросом предпочтения (отстаивание интересов Израиля во что бы то ни стало). Если уж на то пошло, Ветхий Завет утверждает, что статус Израиля, как избранного народа, был еще большим основанием для Божьего суда и исторического наказания, чем для любого из окружающих народов, включая покоренные им (ср. Ам. 3, 2). Действительно, стоило бы отметить, что от рук своих врагов (в том числе хананеев) гнев Господа испытало на себе гораздо больше поколений израильтян, чем поколений хананеев — от руки израильтян. Будет просто искажением Ветхого Завета сказать (как утверждают многие скептики), что «Бог всегда за Израиль, а все прочие народы не получают ничего, кроме суда». Разве они никогда не читали пророков до рассеяния или историю (особенно 3 и 4 Царств)?
Гибкость понятия справедливости
Был ли Бог справедлив, осудив хананеев подобным образом? С одной стороны, разве список их порочных дел намного длиннее, чем у многих прочих сообществ, древних или современных, на которые Бог никогда не изливал огненный и серный дождь Содома и Гоморры и не насылал захватнические армии в качестве наказания? Почему они, а не другие? И, с другой стороны, было ли справедливым насылать израильтян на это конкретное поколение хананеев, когда, по–видимому, предыдущее поколение было явно более праведным и менее заслуживало наказания?
Это неудобные вопросы, но они действительно подымают проблему любого рода справедливости в рамках человеческой истории в падшем мире. Джон Голдингей (John Goldingay) в обсуждении этого вопроса отмечает[415], что тогда можно считать несправедливой Божью кару отдельного поколения, в то время как предыдущие поколения были не лучше. Именно это обвинение и предъявляли Богу отправленные в плен (см. Иез. 18). Но суд Божий должен был свершиться в определенный исторический час. И кому–то придется отвечать, а кто–то под этот суд не попадет. Возможно, это похоже на предубежденность, но ведь это неизбежно, иначе Богу пришлось бы оставить идею всякого исторического проявления справедливости. Поэтому в Библии и говорится так часто о последнем суде, где все и вся получит по заслугам, справедливость восторжествует во всей Вселенной и эта справедливость будет совершенно беспристрастна, что невозможно сказать о справедливости настоящего времени, со всей его исторической неоднозначностью. До тех же пор, в «предпоследнюю» эпоху истории, Бог «обуздывает пристрастность» (слова Голдингея), используя ее во имя спасения мира.
К интересной дискуссии Голдингея я бы добавил дальнейшее размышление о том, что можно было бы назвать внутренней и внешней природой справедливости. Если я наказан за то, что открыто поступал неправильно, — это внутренне справедливо. Я не могу жаловаться, что это несправедливо, до тех пор, пока это касается только меня. Однако если других не наказывают за то же самое, я чувствую, что это внешне несправедливо. Мое наказание справедливо. Их безнаказанность кажется несправедливой. Библия ясно заявляет, что наказание хананеев во время захвата было внутренне честным и справедливым, до тех пор, пока речь шла только о них. Бог действовал с нравственным оправданием, согласно свидетельству Библии. Она не рассматривает непосредственно вопрос о какой–либо явной несправедливости, если другие народы там, в стороне, остались без такого же наказания. Но что она делает на самом деле, так это утверждает, что в конце истории Бог будет высшим судьей всего человечества — и народов, и каждого в отдельности. Что бы ни произошло в ходе истории, ничто не укроется и не избежит справедливого приговора «Судьи всей земли», который обязательно, как утверждал Авраам, «поступит правосудно», то есть произнесет и осуществит свой собственный приговор (Быт. 18, 25).[416]
Стоило бы отметить любопытный факт, что мы обычно не рассуждаем о справедливости или несправедливости в отношении Божьих благословений, хотя они распределяются столь же произвольно и «нечестно», как и наказания, в этой жизни. Мы не склонны видеть несправедливость, когда пользуемся дарами и благословениями, которых нет у других. С другой стороны, мы склонны протестовать, когда другие получают то, что нам кажется необоснованной щедростью руки Божьей, если мы получили только то, что является «справедливым». Подобное отношение метко обличил Иисус в притче о работниках в винограднике, говоря о «несправедливой» щедрости хозяина. В конечном итоге, мы могли бы быть мудрыми и осторожнее выражать свою оценку справедливого или несправедливого в отношениях Бога и человечества, признавая двусмысленность понятий и собственных достаточно извращенных и искаженных взглядов.
Предвосхищение судного дня
Подобно историям о Содоме и Гоморре, потопе, рассказ о завоевании Ханаана занимает в Библии место прообразного повествования. Библия заявляет, что в конечном итоге во время последнего суда нечестивые столкнутся с ужасной реальностью гнева Божьего в изгнании, наказании и уничтожении. Тогда Божья этическая справедливость окончательно восторжествует. Но в определенных точках истории, таких как захват, Бог демонстрировал силу своего суда. История Раав, помещенная в середину повествования о завоевании, также иллюстрирует силу «покаяния» и веры и Божью готовность пощадить своих врагов, когда они решают отождествиться с народом Божьим. Так, Раав входит в новозаветную галерею славы и веры (Евр. 11,31; Иак. 2, 25).
Я прекрасно понимаю, что эти размышления всего лишь скользят по поверхности чрезвычайно глубоких проблем в отношении повествований о захвате. Более того, захват Ханаана — только один из множества этических вопросов, которые современный читатель адресует Ветхому Завету. Существует много других историй о жестокости. Существуют жестокие формы речи, метафор и символов — некоторые из них особенно беспокоят женщин. Существуют проклятия и молитвы мщения. Библиография внизу поможет разобраться в этих сферах, но остается место для дальнейшего размышления о том, что можно назвать нравственной защитой Ветхого Завета (задача, которую некоторые считают крайне необходимой, а другие — невозможной и не этической в принципе). Если это хоть отчасти звучит как обещание (или угроза) написать новую книгу[417], то, наверное, потому, что я хочу этого.
Дополнительная литература
Craigie, PeterС,The Problem of War in the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1978).
Goldingay, John, 'Justice and Salvation for Israel and Canaan', inWonil et al., Reading the Hebrew Bible for a New Millennium, pp.169 — 187.
Cowles, C. S., Merrill, Е. H., Gard, D. L., Longman III, Т., and Gundry, S. (eds.),Show Them No Mercy: Four Views of God and Canaan Genocide (Grand Rapids:Zondervan, 2003).
Houston, Walter, 'War and the Old Testament', Modern Churchman, 28 (1985), pp. 14–21.
Kaiser Jr, Walter C, Hard Sayings of the Old Testament (Downers Grove: InterVarsity Press, 1988).
Kidner, Derek, Old Testament Perspectives on War', Evangelical Quarterly 57 (1985), pp. 99 — 112.
Knierim, Rolf P., 'On the Subject of War in Old Testament and Biblical Theology',in Wonil et al., Reading the Hebrew Bible for a New Millennium, pp. 73 — 88.
Lind, Millard C, Yahweh Is a Warrior: The Theology of Warfare in Ancient Israel (Scottdale: Herald, 1980).
Longman 111, Tremper, and Reid, Daniel G., God Is a Warrior (Grand Rapids:Zondervan; Carlisle: Paternoster, 1995).
Niditch, Susan, War in the Hebrew Bible: A Study in the Ethics of Violence (Oxford:Oxford University Press, 1993).
Thompson, Alden, Who's Afraid of Old Testament God? (Grand Rapids: Zondervan, 1989).
Waldow, З. E. von, 'The Concept of War in the Old Testament', Horizons of Biblical Theology 6 (1984), pp. 27 — 48.
Wenham, Joohn W, The Enigma of Evil: Can We Believe in the Goodness of God? (Leicester: 1VP, 1985; Carlisle: Paternoster, 1997).