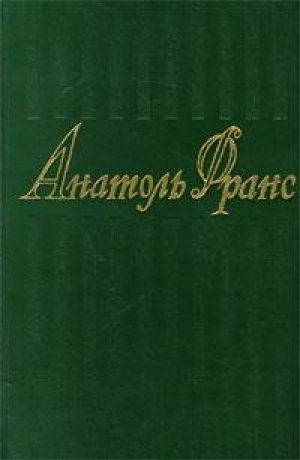
Валтасар
Посвящается
виконту Эжену-Мельхиору де Вогюэ[1]
Magos reges fere habuit Oriens.
Tertull
На Востоке царями были волхвы.
Тертуллиан
I
Во время оно в Эфиопии царствовал Валтасар[2], прозванный греками Сарацином. Он был черен, но красив лицом. Умом он был прост, а сердцем благороден. На третий год своего царствования, который был двадцать вторым годом его жизни, он решил посетить Балкис, царицу Савскую[3]. Волхв Сембобитис и евнух Менкера сопровождали его. За ним следовали семьдесят пять верблюдов, нагруженных корицей, миррой, золотым песком и слоновой костью. В пути Сембобитис объяснял царю влияние планет, а также свойства камней, а Менкера пел псалмы; но царь не слушал их, он развлекался, наблюдая за сидевшими на задних лапах, навострившими уши шакалами, которые виднелись среди песков на горизонте.
Наконец после двенадцати дней пути Валтасар и его спутники вдохнули благоухание роз, и вскоре их взору открылись сады, окружающие город царицы Савской. В садах они увидели девушек, которые плясали под цветущими гранатовыми деревьями.
— Пляска — это та же молитва, — сказал волхв Сембобитис.
— Этих женщин можно было бы продать за дорогую цену, — сказал евнух Менкера.
В городе путников поразили огромные лавки, амбары и лесные склады, а также множество сложенных в них товаров. Они долго шли по улицам, запруженным повозками, носильщиками, ослами и их погонщиками, и вдруг перед ними возникли мраморные стены, пурпурные шатры, золотые купола дворца Балкис.
Царица Савская приняла гостей во дворе, освеженном душистыми фонтанами, струи которых нежно журчали, рассыпаясь бисером. Царица в платье, шитом драгоценными камнями, стояла и улыбалась.
Валтасар при виде ее был охвачен великим смущением. Она показалась ему сладостнее мечты и прекраснее желания.
— Господин, — шепнул царю Сембобитис, — постарайся заключить с царицей выгодный торговый договор.
— Будь осторожен, господин, — прибавил Менкера, — говорят, она прибегает к волшебству, чтоб разжечь в мужчинах любовь.
Затем, павши ниц, волхв и евнух удалились.
Валтасар, оставшись наедине с Балкис, хотел что-то сказать, открыл рот, но не мог выговорить ни слова. Он подумал: «Царица прогневается на меня за молчание».
Но царица улыбалась, и лицо ее не было гневно.
Она первая начала разговор, и голос ее звучал нежнее самой нежной музыки.
— Будь гостем и садись рядом со мной…
И пальцем, подобным светлому лучу, она указала ему на пурпурные подушки, лежащие на земле.
Валтасар сел, глубоко вздохнул и, схватив в каждую руку по подушке, воскликнул:
— Госпожа, я желал бы, чтоб эти две подушки были великанами, твоими врагами, тогда я свернул бы им шею.
И, говоря так, он сжал их с такой силой, что ткань лопнула и взлетело облако белого пуха. Одна пушинка покружилась минутку в воздухе и упала на грудь царицы.
— Государь, — сказала Балкис краснея, — почему ты хочешь сразить великанов?
— Потому, что я люблю тебя! — ответил Валтасар.
— Скажи, — спросила Балкис, — хороша ли вода в колодцах твоей страны?
— Да, хороша, — ответил удивленный Валтасар.
— Я бы хотела еще знать, — продолжала царица, — как приготовляют в Эфиопии засахаренные фрукты?
Царь не знал, что ответить. Она настаивала:
— Скажи, скажи, доставь мне удовольствие!
Тогда, напрягая память, он рассказал об искусстве эфиопских поваров, которые варят айву в меду. Но она не слушала и вдруг перебила его:
— Государь, говорят, что ты любишь царицу Кандакию, твою соседку. Скажи мне без обману: она красивее меня?
— Красивее тебя?! — воскликнул Валтасар, упав к ногам Балкис. — Разве это возможно?
Царица продолжала:
— Какие у нее глаза, рот, цвет лица, грудь?
Валтасар протянул к ней руки и воскликнул:
— Позволь мне взять перышко, которое прильнуло к твоей шее, и я отдам тебе половину моего царства вместе с мудрецом Сембобитисом и евнухом Менкерой.
Но она встала и, звонко рассмеявшись, убежала прочь.
Когда вернулись волхв и евнух, они застали своего господина погруженным в раздумье, что не было ему свойственно.
— Государь, уж не заключил ли ты выгодный торговый договор? — спросил Сембобитис.
В этот вечер Валтасар ужинал с царицей Савской и пил пальмовое вино.
— Так, значит, это правда, — сказала ему Балкис во время пира, — что я краше царицы Кандакии?
— Царица Кандакия черна, — ответил Валтасар.
Балкис быстрым взглядом окинула Валтасара и заметила:
— Можно быть черным — и красивым.
— Балкис!.. — вскрикнул царь.
Больше он ничего не сказал. Он схватил царицу в объятия и прильнул губами к ее челу. Но он увидел, что она плачет. Тогда он стал шептать ей ласковые речи, немного нараспев, как это делают кормилицы. Он называл ее своим цветочком, своей звездочкой.
— О чем ты плачешь? — спросил он. — И что нужно сделать, чтобы ты больше не плакала? Если у тебя есть желание, скажи, и я исполню его.
Она перестала плакать и задумалась. Он долго уговаривал ее поведать ему свое желание. Наконец она сказала:
— Я бы хотела испытать страх.
Валтасар не понял ее, и тогда Балкис объяснила, что уже давно ей хочется пережить неизведанную опасность, но это никак не удается, потому что ее охраняют мужи и боги Савской земли.
— А мне, — прибавила она со вздохом, — так бы хотелось почувствовать ночью, как все мое тело холодеет от упоительного страха. Мне хотелось бы почувствовать, как волосы шевелятся у меня на голове. О, как приятно было бы испытать страх!
Она крепко обняла черного царя и сказала умоляющим детским голосом:
— Вот настала ночь. Давай перерядимся и пойдем вместе в город. Хочешь?
Да, он хотел. Она недолго думая подбежала к окну и посмотрела сквозь решетку на городскую площадь.
— Нищий лежит у стены дворца, — сказала она. — Отдай ему твою одежду, а взамен возьми его тюрбан из верблюжьей шерсти и грубую холстину, которой опоясаны его чресла. Поспеши, я иду переодеваться.
И, хлопая в ладоши от радости, она выбежала из пиршественного зала.
Валтасар снял свою расшитую золотом полотняную тунику и опоясался отрепьем нищего. Он выглядел настоящим рабом. Царица скоро вернулась. На ней была одежда из цельного куска синей ткани, как на женщинах, работающих в поле.
— Идем, — сказала она.
И она повела Валтасара узкими переходами к дверце, выходившей в поле.
II
Ночь была черна. В темноте Балкис казалась совсем маленькой.
Она повела Валтасара в один из тех кабачков, где собираются крючники, носильщики и блудницы. Там они сели вдвоем за стол и смотрели при свете чадящего светильника, в густом от испарений воздухе, на весь этот зловонный сброд; одни пускали в ход кулаки и ножи из-за женщины или из-за чашки хмельного напитка, другие во всю мочь храпели, свалившись под стол. Кабатчик, лежа на мешках, искоса поглядывал на пьяных гостей, наблюдая за их дракой.
Царица, увидев соленую рыбу, подвешенную к балке потолка, сказала своему спутнику:
— Мне хочется отведать этой рыбы с толченым луком.
Валтасар велел подать ей рыбы. Когда она поела, он спохватился, что не взял с собой денег. Это его не смутило, он собрался уйти вместе с Балкис, не расплатившись. Но кабатчик преградил им дорогу, называя его мерзким рабом, а ее дрянью. Валтасар сшиб его с ног ударом кулака. Несколько завсегдатаев бросились на незнакомцев с поднятыми ножами. Но чернокожий, вооружившись громадным пестом для толчения египетского лука, уложил на месте двоих, а остальных нападающих обратил в бегство. Валтасар чувствовал тепло прижавшейся к нему всем телом Балкис и потому был непобедим. Приятели кабатчика, не решаясь подойти ближе, метали в него издали глиняными кувшинами из-под масла, оловянной посудой, зажженными светильниками и даже запустили в него громадным медным котлом, в котором мог уместиться целый баран. Котел с ужасным грохотом обрушился на голову Валтасара и рассек ему череп. Валтасар на минуту оторопел, потом напрягся и отправил котел обратно с такою мощью, что сила удара возросла в десять раз, и звон меди смешался с отчаянными воплями и хрипом умирающих. Пользуясь общей суматохой и боясь, как бы не ранили Балкис, Валтасар подхватил ее на руки и бросился бежать по безлюдным и темным улицам. Тишина ночи объяла землю, и беглецы слышали, как смолкали крики пьяных мужчин и женщин, гнавшихся за ними в темноте. Скоро они слышали уже только, как стекает капля за каплей кровь с чела Валтасара на грудь Балкис.
— Я люблю тебя! — прошептала царица.
И при свете луны, которая вышла из облаков, царь увидел влажный белый блеск полузакрытых глаз Балкис. Они спускались по руслу высохшего потока. Вдруг Валтасар поскользнулся, ступив на мох. Они упали, крепко прижавшись друг к другу. Им казалось, что они погружаются в сладостное небытие и мир живущих уже не существует для них. Они вкушали счастье, забыв о времени и пространстве, до восхода солнца, когда на водопой к каменистым впадинам русла прибежали лани.
В эту минуту проходившие мимо разбойники увидели лежащих на мшистом ложе любовников.
— Они бедны, — сказали разбойники. — Но мы продадим их за хорошую цену, потому что они молоды и красивы.
И тогда они подошли ближе, скрутили им руки и, привязав пленников к хвосту осла, продолжали путь.
Связанный чернолицый угрожал разбойникам смертью. Но Балкис вздрагивала от утренней свежести и улыбалась чему-то, что видела только она.
Они шли в безлюдной глуши, дневной жар все усиливался. Солнце стояло уже высоко, когда разбойники отвязали своих пленников и, приказав сесть в тень скалы, бросили им ломоть заплесневелого хлеба, который Валтасар отверг с презрением, а Балкис с жадностью съела.
Она смеялась и на вопрос главаря шайки, чему она смеется, ответила:
— Я смеюсь при мысли, что прикажу всех вас повесить.
— Неужели, красотка! — воскликнул главарь шайки. — Странные речи в устах судомойки! Уж не твой ли черный дружок поможет тебе нас повесить?
Услыхав такие обидные слова, Валтасар пришел в ярость, бросился на разбойника и так сдавил ему горло, что чуть было не задушил.
Но разбойник вонзил ему в живот нож по самую рукоятку. Несчастный царь повалился наземь, обратив к Балкис тускнеющий взгляд, который вскоре погас.
III
Тут раздались крики, топот копыт, звон оружия, и Балкис узнала смелого Абнера, во главе отряда стражи спешившего на выручку царицы, о таинственном исчезновении коей он узнал накануне.
Он трижды простерся перед Балкис и велел подать приготовленные для нее носилки; тем временем воины скрутили разбойникам руки. Царица приветливо обратилась к предводителю шайки:
— Тебе не придется упрекать меня, дружок, что я не сдержала обещания, я же говорила, что ты будешь повешен.
Волхв Сембобитис и евнух Менкера, которые стояли рядом с Абнером, с громкими воплями бросились к своему повелителю, лежавшему недвижимым на земле с воткнутым в живот ножом. Они осторожно подняли Валтасара; Сембобитис, весьма сведущий в искусство врачевания, заметил, что царь еще дышит. Волхв сделал первую перевязку, а Менкера утирал тем временем пену, выступавшую на устах царя. Затем они привязали его к седлу и осторожно довезли до дворца Балкис.
Две недели Валтасар был во власти бреда. Он без умолку говорил о кипящем котле и мшистом овраге, он громко кричал, призывая Балкис. Наконец на шестнадцатый день он открыл глаза, увидел у своего изголовья Сембобитиса и Менкеру, но не увидел царицы.
— Где она, что она делает?
— Господин мой, — ответил Менкера, — она заперлась с царем Комагенским.
— Они, верно, ведут переговоры об обмене товарами, — прибавил мудрый Сембобитис, — но не волнуйся, господин мой, жар может усилиться.
— Я хочу ее видеть! — воскликнул Валтасар.
И он устремился в покои царицы, и ни старый мудрец, ни евнух не могли удержать его. Добежав до опочивальни, он увидел выходившего оттуда царя Комагенского, всего в золоте, сверкающего, как солнце.
Балкис возлежала на пурпурном ложе и улыбалась, не открывая глаз.
— Моя Балкис, моя Балкис! — крикнул Валтасар.
Но она не обернулась к нему, казалось она не хочет прерывать своих грез.
Валтасар подошел и взял ее за руку, но она отдернула руку.
— Что тебе от меня нужно? — спросила она.
— И ты еще спрашиваешь? — воскликнул черный царь, горько заплакав.
Она обратила к нему спокойный и холодный взгляд.
Он понял, что она все забыла, и напомнил ей ночь на дне оврага. Но она ответила:
— Я, право, не знаю, государь, о чем ты говоришь… Пальмовое вино, как видно, тебе вредно. Должно быть, тебе это приснилось.
— Как! — воскликнул несчастный царь, ломая руки, — а твои поцелуи, а след ножа, разве это сон?
Она встала; драгоценные камни, украшавшие ее платье, зазвенели словно градинки и засверкали блеском молнии.
— Государь, — сказала она, — настал час, когда собирается мой совет. Мне нет времени толковать сны, порожденные больным воображением… Тебе надо отдохнуть… Прощай!
Валтасар чувствовал, что теряет сознание. Он сделал над собой усилие, чтоб не показать этой злой женщине своей слабости, и убежал в свои покои, где упал замертво, ибо его рана опять открылась.
IV
Три недели он не приходил в себя и лежал как мертвый; на двадцать второй день, очнувшись, он схватил руку Сембобитиса, который ухаживал за ним днем и ночью вместе с Менкерой, и воскликнул, обливаясь слезами:
— О друзья мои, как вы счастливы оба — один потому, что стар, а другой потому, что уподобился старцу. Но увы! Счастья не бывает, и все на свете скверно, раз любовь приносит страдание, а Балкис зла.
— Мудрость делает человека счастливым, — ответил Сембобитис.
— Я хочу вкусить от нее, — сказал Валтасар. — Но отправимся сейчас же обратно в Эфиопию.
Потеряв то, что любил, царь решил посвятить себя науке и стать волхвом. Если это решение и не принесло ему счастья, то по крайней мере немного успокоило его. Каждый вечер, сидя на террасе своего дворца в обществе волхва Сембобитиса и евнуха Менкеры, он любовался неподвижными пальмами на горизонте или смотрел при свете луны на плывущих по Нилу крокодилов, похожих на древесные стволы.
— Никогда не устанешь восхищаться природой, — говорил Сембобитис.
— Конечно, — отвечал Валтасар, — но в природе есть нечто более прекрасное, чем пальмы и крокодилы.
Он говорил так, ибо думал о Балкис.
И Сембобитис, который был стар, говорил:
— Есть чудесное явление — разлив Нила, оно прекрасно, и я объяснил его. Человек создан, чтобы постигать…
— Он создан, чтобы любить, — ответил Валтасар вздыхая, — есть вещи необъяснимые…
— Что необъяснимо? — спросил Сембобитис.
— Измена женщины, — ответил царь.
Валтасар, решив стать волхвом, велел построить башню, с высоты которой видны были многие царства и весь небосвод. Башня была сложена из кирпича и возвышалась над всеми другими башнями. Ее строили целых два года, и Валтасар опустошил для ее сооружения сокровищницу царя — своего отца. Каждую ночь он поднимался на башню и оттуда под руководством мудрого Сембобитиса наблюдал за звездами.
— Положение звезд указывает нам нашу судьбу, — говорил царю Сембобитис.
А тот отвечал:
— Надо признать, что эти указания весьма туманны. Но пока я их изучаю, я не думаю о Балкис, и это великое благо.
Волхв открыл ему среди прочих полезных знаний, что звезды вбиты, как гвозди, в небесный свод и что есть пять планет, а именно: Бэл, Меродах и Нэбо — мужского пола; Син и Милитта — женского.
— Серебро, — говорил он еще, — соответствует планете Син, которая и есть Луна, железо — планете Меродах, а олово — планете Бэл.
И Валтасар говорил:
— Вот знания, которые я бы хотел усвоить. Пока я изучаю астрономию, я не думаю о Балкис и вообще ни о чем на свете. Науки благотворны: они мешают людям думать. Сембобитис, преподай мне такую науку, которая убивает в людях чувство, и я возвеличу тебя над моим народом.
Поэтому-то Сембобитис и учил царя всякой премудрости.
Он научил его апотелезматике по принципам Астромпсихоза, Гобрия и Пазатаса. По мере того как Валтасар наблюдал двенадцать знаков зодиака[4], он реже вспоминал Балкис.
Менкера заметил это и весьма возрадовался.
— Скажи, господин мой, — спросил он однажды, — ведь правда, что царица Балкис прикрывает своим золотым одеянием ноги с раздвоенными, как у козы, копытцами?[5]
— Кто рассказал тебе подобный вздор? — спросил царь.
— Такова народная молва, государь, — ответил евнух. — В Савском царстве и в Эфиопии каждый вам скажет, что у царицы Балкис ноги покрыты шерстью и кончаются раздвоенным черным копытцем.
Валтасар пожал плечами. Он знал, что у Балкис ноги такие же, как у всех женщин, и безупречно красивы.
Однако эти слова омрачили ему воспоминание о той, которую он так любил. Он ощутил досаду на Балкис за то, что ее красота была несовершенной в представлении тех, кто не знал ее. При мысли, что он обладал женщиной действительно прекрасной, но согласно людской молве отмеченной уродством, он испытал чувство истинного отвращения и больше не желал видеть Балкис. Валтасар был прост душою, а любовь — чувство очень сложное.
С того дня царь достиг великих успехов в волхвовании и астрологии. Он внимательно наблюдал за положением светил и составлял гороскопы не хуже мудрого Сембобитиса.
— Сембобитис, — говорил он, — отвечаешь ли ты головой за правильность моих гороскопов?
И мудрый Сембобитис ответствовал:
— Господин, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются.
Валтасар был прекрасно одарен от природы, он говорил:
— Истина только в божественном, но божественное от нас скрыто. Мы тщетно ищем истину. Но вот я открыл новую звезду. Она чудесна, она кажется живой и когда мерцает, можно принять ее за небесное око, ласково поглядывающее на нас. Мне кажется, она призывает меня. Блажен, трижды блажен тот, кто родится под этой звездой! Сембобитис, взгляни, как смотрит на нас эта чарующая и величавая звезда.
Но Сембобитис не увидел звезды потому, что не хотел ее видеть. Он был мудр и стар и не любил новшеств.
И Валтасар повторял один в ночной тиши:
— Блажен, трижды блажен тот, кто родится под этой звездой!
V
И тогда разнесся слух по всей Эфиопии и соседним царствам, что царь Валтасар разлюбил Балкис.
Когда весть эта дошла до Савской земли, Балкис возмутилась, словно то была измена. Она поспешила к царю Комагенскому, который, забыв о своем царстве, жил в городе Саве, и сказала ему:
— Друг мой, известно ли тебе, о чем я только что узнала? Валтасар разлюбил меня!
— Не все ли нам равно, — ответил, улыбаясь, царь Комагенский, — раз мы любим друг друга.
— Но разве ты не понимаешь, какое оскорбление наносит мне этот чернокожий?
— Нет, — ответил царь Комагенский, — не понимаю.
Тогда она прогнала его с позором и приказала своему великому визирю приготовить все к путешествию в Эфиопию.
— Мы отправимся сегодня же ночью, — сказала она. — Я велю снести тебе голову, если все не будет готово до захода солнца.
И, оставшись одна, Балкис зарыдала.
— Я люблю его! Он меня разлюбил, а я люблю его… — искренне, от всего сердца вздыхала она.
И вот однажды ночью, когда Валтасар стоял на башне, наблюдая за чудесной звездой, он бросил взгляд на землю и увидел длинную черную ленту, вившуюся вдалеке по песчаной пустыне, словно полчище муравьев. Мало-помалу то, что казалось муравьями, выросло, стало четким, и царь разглядел лошадей, верблюдов и слонов.
Караван приблизился к городу, и Валтасар различил блестящие палаши и вороных коней стражи царицы Савской. Он узнал и ее. Его охватило великое смятение, он почувствовал, что опять полюбил ее. Звезда сверкала в зените чудесным светом. Внизу Балкис, лежа в пурпурном с золотом паланкине, казалась маленькой сверкающей звездочкой.
Валтасар чувствовал, что неодолимая сила влечет его к ней. Однако он овладел собой, отвернулся и, подняв глаза к небу, вновь увидел звезду. Тогда звезда заговорила и сказала:
— Слава в вышних богу и на земле мир, в человеках благоволение: возьми меру мирры, кроткий царь Валтасар, и следуй за мной. Я приведу тебя к младенцу, только что родившемуся и лежащему в яслях между ослом и быком…
И этот младенец — царь царей. Он утешит тех, кто нуждается в утешении.
Он призывает тебя, о Валтасар; душа твоя темна, как и лицо, но сердце незлобиво, как сердце младенца.
Он избрал тебя потому, что ты страдал, и он даст тебе богатство, радость и любовь.
Он скажет тебе: «Будь беден и возликуй — в этом истинное богатство». И еще он скажет тебе: «Истинная радость — в отречении от радости. Возлюби меня и людей возлюби во мне, ибо я один — любовь».
При этих словах божественный покой озарил темное лицо царя.
Валтасар в восторге внимал звезде и чувствовал, что становится другим человеком. Около него Сембобитис и Менкера, припав лбом к каменному полу, поклонялись звезде.
Царица Балкис наблюдала тем временем за Валтасаром. Она поняла, что никогда больше не будет любви к ней в его сердце, исполненном небесною любовью. Она побледнела от досады и приказала каравану немедленно повернуть обратно в Савскую страну.
Когда звезда умолкла, царь и два его приближенных спустились с башни. Потом, приготовив меру мирры, они снарядили караван и отправились туда, куда вела их звезда. Долго странствовали они по неизвестным странам, и звезда шла впереди них.
Однажды они очутились на перекрестке трех дорог, и тут они увидели двух царей, приближающихся в сопровождении многочисленной свиты. Один был молод и бел лицом. Он поклонился Валтасару и сказал:
— Меня зовут Гаспар, я царь и несу золото в дар младенцу, который родился в Вифлееме Иудейском.
Второй царь подошел в свою очередь. Это был старец, седая борода покрывала ему грудь.
— Меня зовут Мельхиор, — сказал он, — я царь и несу ладан божественному младенцу, который пришел возвестить людям истину.
— Я иду туда же, — ответил Валтасар. — Я победил в себе похоть, потому и заговорила со мной звезда.
— Я, — сказал Мельхиор, — победил в себе гордыню и потому был призван.
— Я, — сказал Гаспар, — победил в себе жестокосердие, и потому я с вами.
И три волхва продолжали свой путь вместе. Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними до тех пор, пока не довела их до места, где был младенец, и тогда остановилась.
Увидев, что звезда остановилась, они возрадовались радостью великою и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и мирру, как сказано в евангелии.
Резеда господина кюре
Посвящается Жюлю Леметру[6]
Я знавал в Бокаже деревенского кюре, святой жизни человека, который отказался от всех мирских услад и с радостным сердцем переносил свое отречение, находя в жертве единственную отраду. Страх этого человека перед соблазном простирался даже на цветы. В саду его не было ни единой розы, ни куста жасмина; там росли только овощи, фруктовые деревья и лекарственные травы. Он разрешил себе лишь одно невинное удовольствие — несколько кустиков резеды. Невзрачные цветочки не привлекали к себе его взора, когда, прохаживаясь между капустными грядками, он читал под господним небом свой требник. Благочестивый кюре так мало остерегался резеды, что срывал иногда мимоходом веточку и долго ее нюхал. Но такое уж это растение: чем больше его рвешь, тем больше оно разрастается. На месте каждого сорванного цветка появляется несколько новых. И вскоре, с помощью дьявола, резеда заполонила большой участок сада. Она даже вылезла на дорожку, и, когда добрый пастырь проходил мимо, неугомонные цветы цеплялись за подол его сутаны, то и дело отрывая от молитвы и благочестивого чтения. С весны по самую осень дом кюре благоухал резедой.
И подумать только, до чего слаб человек! Справедливо сказано, что естественные склонности вводят нас в грех. Благочестивый кюре сумел уберечь от соблазна свои глаза, но оставил беззащитными ноздри, и пагуба проникла в него через нос! Святой человек вдыхал аромат резеды с вожделением, а вожделение и есть тот дурной инстинкт, который побуждает нас искать земные радости.
Наслаждаясь запахом цветов, кюре стал охладевать к небесному аромату и благоуханию непорочности девы Марии. Его благочестие заметно убывало, и в конце концов он, наверное, совсем ослабел бы и впал в соблазн, уподобившись тем душам, которых извергают небеса из лона своего, если бы ему вовремя не была ниспослана помощь. Некогда в Фиваиде ангел похитил у отшельника золотую чашу, которая еще привязывала подвижника божьего к мирской суете. Подобная же милость была оказана и бокажскому кюре.
Белая курица так старательно раскопала землю под резедой, что все цветы погибли. Никто не знал, откуда взялась эта курица. Я же склонен думать, что ангел, похитивший у отшельника чашу, принял образ белой курицы, дабы устранить препятствие, преградившее благочестивому кюре путь к совершенству.
Господин Пижоно
Посвящается Жильберу Огюстену-Тьерри[7]
Как известно, я всю свою жизнь посвятил египетской археологии. Вот уже сорок лет я с честью следую по избранному мною в юности пути, и сетовать на это было бы с моей стороны черной неблагодарностью по отношению к родине, науке, да и к самому себе. Мои труды не пропали даром. Не хвастая, могу сказать, что мои «Заметки о ручке египетского зеркала, находящегося в Луврском музее» не устарели и по сей день, хотя и относятся к началу моего научного поприща. Что же касается моего более позднего и довольно объемистого труда, посвященного одной из бронзовых гирь, найденных в 1851 году при раскопках Серапея[8], то было бы непростительно относиться к нему без должного уважения, ибо эта работа открыла мне двери Института[9].
Поощренный лестными отзывами моих новых коллег об этой работе, я одно время стал даже подумывать о том, чтобы создать обзор всех мер и весов, применявшихся в Александрии в царствование Птолемея Авлета (80–52 гг. до н. э.). Вскоре, однако, я вынужден был признать, что тема столь общего характера выходит за рамки подлинно научного исследования, так как, работая над ней, серьезный ученый на каждом шагу рискует впасть во всякого рода необоснованные суждения. Я понял, что попытка рассмотреть одновременно несколько различных предметов неизбежно приводит к нарушению основных принципов археологии. И если я каюсь сейчас в своем заблуждении, если признаюсь в этом непостижимом стремлении охватить необъятное, то лишь в назидание молодым людям, дабы на моем примере они учились обуздывать свое воображение. Оно — злейший наш враг. Ученый, не сумевший победить этого врага, навеки утрачен для науки. Я до сих пор содрогаюсь при мысли о том, куда мог завести меня мой дерзкий ум. Я был всего на волосок от того, что именуется историей; какое падение! Я чуть не снизошел до искусства! Ведь история — не что иное, как искусство или, в лучшем случае, лженаука. Кто в наши дни не знает, что историки были предшественниками археологов, точно так же, как астрологи были предшественниками астрономов, алхимики — предшественниками химиков, а обезьяны — предшественниками человека? Слава богу, я отделался только страхом!
Спешу сообщить, что третий мой труд был проникнут мудрой умеренностью. Он озаглавлен «К вопросу об одежде знатной египтянки в эпоху Среднего царства по неопубликованному рисунку». Я излагал предмет, не уклоняясь в сторону. Я не высказал ни одной обобщающей мысли. Я избегал всяких суждений, сравнений, аналогий и выводов, коими иные из моих коллег портят доклады о своих самых замечательных находках. И почему, спрашивается, именно этот столь здравый мой труд постигла такая необычайная судьба? В силу какой игры случая стал он причиной самых чудовищных заблуждений? Но не будем упреждать события. Мой доклад был представлен к чтению на публичном заседании всех пяти Академий. Честь тем более высокая, что она редко выпадает на долю подобного рода сочинений. За последние годы такие научные заседания охотно посещают представители светского общества.
В день моего выступления зал Института был переполнен избранной публикой. Было много женщин. На трибунах виднелись изящные туалеты и красивые лица. Меня слушали внимательно. Доклад мой не прерывался бурными и необдуманными проявлениями чувств, которыми сопровождаются обычно литературные чтения. Напротив, публика держала себя в полном соответствии с характером предлагаемого ее вниманию предмета: сдержанно и с достоинством. Дабы лучше выделить излагаемые мысли, я делал время от времени паузы между фразами, и это давало мне возможность внимательно следить поверх очков за аудиторией. И поверьте, я не поймал ни одной легкомысленной улыбки. Наоборот! Даже самые свежие юношеские лица хранили суровое выражение. Казалось, будто под действием чар моего доклада все умы вдруг созрели. Во время чтения кое-кто из молодых людей что-то тихонько нашептывал на ухо своей соседке. По всей вероятности, они обсуждали какие-нибудь специальные вопросы, затронутые в моем докладе.
Более того! Одна прелестная молодая особа, лет двадцати двух — двадцати четырех, сидевшая в левом углу северной трибуны, старательно записывала мой доклад. Лицо ее отличалось тонкостью черт и замечательной выразительностью. А внимание, с которым она прислушивалась к моим словам, придавало еще больше очарования ее необычному лицу. Она была не одна. Рядом с ней сидел высокий плотный мужчина, с длинной и курчавой, как у ассирийских царей, бородой и длинными черными волосами, и время от времени что-то тихо ей говорил. Мое внимание, вначале обращенное на всю аудиторию, мало-помалу сосредоточилось на этой женщине. Должен сознаться, она внушала мне интерес, который многие из моих коллег сочли бы, вероятно, недостойным такого ученого, как я. Но, уверяю вас, если бы они оказались тогда на моем месте, они также не остались бы равнодушны. По мере того как я говорил, незнакомка делала заметки в записной книжечке. Причем на лице ее сменялись самые различные чувства: то радость, то изумление и даже беспокойство. Ах, если бы в тот злополучный вечер я смотрел в аудитории только на нее!
Я уже заканчивал, мне оставалось прочесть всего каких-нибудь двадцать пять — тридцать страниц, но тут мои глаза вдруг повстречались с глазами бородатого человека. Как передать, что произошло тогда, если я и сам не понимаю? Могу лишь сказать, что взор этого человека мгновенно поверг меня в непостижимое волнение. Его зеленоватые глаза смотрели на меня в упор. Я не мог отвести свой взгляд. Я замер на полуфразе, подняв голову. Так как я замолчал, публика начала аплодировать. Когда вновь водворилась тишина, я хотел продолжать чтение, но, несмотря на все мои старания, не мог отвести взгляда от двух живых зеленых огней, к которым приковала его таинственная сила. Мало того. По какой-то еще менее понятной причине я вдруг пустился вопреки всем своим привычкам в импровизацию. Видит бог, я вовсе этого не хотел! Под влиянием посторонней, неведомой мне, непреодолимой силы я принялся пылко и красноречиво излагать свои философские взгляды относительно женской одежды на протяжении веков. Я обобщал, поэтизировал и — да простит мне бог! — разглагольствовал о вечно женственном, о желании, овевающем ароматные покровы, которыми женщина так искусно умеет оттенить свою красоту.
Человек с ассирийской бородой не спускал с меня глаз. А я все говорил. Но вот он опустил глаза, и я сразу же умолк. Больно сказать, но эта часть доклада, столь же чуждая моему личному настроению, как и духу подлинной науки, вызвала бурные аплодисменты. Молодая особа на северной трибуне неистово хлопала и улыбалась.
Потом мое место на кафедре занял один из членов Французской академии, видимо очень недовольный тем, что ему пришлось выступать после меня. Опасения его оказались, однако, несколько преувеличенными. Публика довольно терпеливо выслушала прочитанное им произведение. Если не ошибаюсь, оно было в стихах.
Когда заседание окончилось, я покинул аудиторию в сопровождении кое-кого из своих коллег; они возобновили поздравления, в искренность которых мне хочется верить.
Мы остановились на набережной около львов Крезо, чтобы обменяться прощальными рукопожатиями, и тут я снова увидел человека с ассирийской бородой и его очаровательную спутницу. Они садились в двухместную карету. Возле меня случайно оказался один из наших философов, человек весьма красноречивый и, как говорят, столь же сведущий в вопросах светского обращения, сколь и в космических теориях. Молодая особа высунула из окна кареты свою прелестную головку и, назвав его по имени, протянула ему ручку, произнеся с легким английским акцентом:
— Вы совсем меня забыли, дорогой мой! Нехорошо!
Дождавшись, когда отъедет карета, я спросил у своего почтенного коллеги: кто такие эта очаровательная дама и ее спутник?
— Как! Вы не знаете мисс Морган и ее врача Дауда, который лечит от всех недугов магнетизмом, гипнозом и внушением! — воскликнул он. — Анни Морган — дочь крупнейшего чикагского негоцианта. Она вместе с матерью приехала два года тому назад в Париж и выстроила себе роскошный особняк на авеню Императрицы. Мисс Морган на редкость умная и весьма образованная особа.
— Охотно верю, — ответил я, — я уже имел возможность убедиться в серьезности этой американки.
Пожимая мне на прощанье руку, мой ученый собрат улыбнулся.
Я дошел пешком до улицы св. Иакова, где вот уже тридцать лет снимаю скромную квартирку, из окон которой видны верхушки деревьев Люксембургского сада, и уселся за письменный стол.
Я просидел за ним целых три дня, любуясь статуэткой богини Пахт с кошачьей головой. На этом небольшом памятнике имеется надпись, которая г-ном Гребо расшифрована неправильно. Я написал о ней интересный доклад с комментариями. Встреча в Институте произвела на меня меньшее впечатление, чем можно было бы ожидать. Она не смутила моего покоя. Сказать по правде, я просто-напросто забыл о ней, и, чтобы оживить мое воспоминание, понадобились особые обстоятельства.
Итак, за эти три дня я спокойно закончил свой доклад и комментарии. Я отрывался от работы лишь затем, чтобы пробежать газеты, изобилующие похвалами по моему адресу. Даже совершенно чуждые миру науки листки восторженно отзывались об «очаровательном фрагменте», которым заканчивался мой доклад. «Это подлинное откровение, — говорилось там. — Господин Пижоно порадовал нас самым неожиданным образом». Не знаю, зачем я упоминаю об этих пустяках, ведь обычно я совершенно равнодушен к тому, что говорят обо мне в печати.
И вот когда я уже третий день сидел у себя в кабинете за письменным столом, вдруг раздался звонок. В звуке колокольчика было что-то такое властное, своенравное и незнакомое, что, услышав его, я вздрогнул и, вскочив в тревоге, пошел сам открыть дверь. И, как вы думаете, кого я увидел на лестнице? Ту самую американку, которая с таким вниманием слушала мой доклад, мисс Морган собственной персоной.
— Господин Пижоно?
— Чем могу служить?
— Я сразу же вас узнала, хотя вы уже не в парадном сюртуке с академическими пальмами. Нет, нет! Ради бога, не вздумайте переодеваться ради меня! В халате вы нравитесь мне еще больше.
Я пригласил ее в кабинет.
Она с любопытством оглядела папирусы, изображения, выдавленные на металле, и всевозможные рисунки, которыми у меня увешаны все стены до самого потолка; затем молча посмотрела на богиню Пахт и сказала:
— Какая прелесть!
— Вы имеете в виду этот небольшой памятник, сударыня? Действительно, он представляет довольно любопытный образец эпиграфики. Но разрешите узнать, чем я обязан чести видеть вас у себя?
— Что мне за дело до всяких ваших эпиграфических образчиков, — возразила мисс Морган. — Просто у нее очаровательная мордашка. Вы, конечно, не сомневаетесь, господин Пижоно, что это настоящая богиня?
Я попытался отклонить столь оскорбительное подозрение:
— Верить в подобные вещи было бы фетишизмом.
Она удивленно вскинула на меня свои огромные зеленые глаза:
— Так вы не фетишист! Вот не думала, что можно быть археологом и не быть фетишистом. Почему же тогда вас интересует эта Пахт, если вы не верите, что она богиня? А впрочем, оставим это. Я приехала к вам по очень, очень важному делу, господин Пижоно.
— По важному делу?
— Да, да! По поводу костюма. Вот, взгляните на меня.
— С удовольствием.
— Вы не находите, что в моем профиле есть что-то кушитское?[10] Я не знал, что сказать. Подобные разговоры были мне непривычны. Она продолжала:
— О! Тут нет ничего удивительного! Я отлично помню, что была египтянкой. А вы, господин Пижоно, были египтянином? Не помните? Странно. Во всяком случае, вы не можете отрицать, что мы проходим через ряд последовательных перевоплощений?
— Ничего не могу сказать вам, сударыня.
— Вы удивляете меня, господин Пижоно!
— Однако, мисс Морган, я так и не знаю, чем обязан…
— Ах, да! Ведь я еще не сказала, что приехала к вам с просьбой помочь мне смастерить египетский костюм для маскарада у графини N. Я хочу, чтобы костюм был безукоризненно выдержанный и ошеломляюще красивый. Я уже давно работаю над ним, господин Пижоно! Я призвала на помощь собственные воспоминания, — ведь я же прекрасно помню, что шесть тысяч лет тому назад жила в Фивах. Я выписала рисунки из Лондона, Булака, Нью-Йорка.
— Вот это верней.
— Нет, нет! Не говорите! Самое верное — интуиция. Я внимательно осмотрела египетский отдел Луврского музея. Сколько там всякой прелести! Какое изящество и чистота форм! Какие строгие тонкие профили! Женщины — похожие на цветы, словно окоченевшие в неподвижности и вместе с тем гибкие. А бог Бэс, похожий на Сарсэ![11] Господи! Как это все прекрасно!
— Но, сударыня, я все еще не знаю…
— Мало того! Я была на вашем докладе об одежде египтянки Среднего царства и кое-что записала. Правда, доклад был трудноват. Пришлось мне над ним поработать. На основании всех этих материалов я придумала костюм. Но я все еще не довольна им. Вот я и приехала просить вас: посмотрите и дайте совет. Дорогой господин Пижоно! Приходите завтра! Сделайте это из любви к Египту! Итак, решено. До завтра! А теперь бегу. Меня ждет в карете мама.
С этими словами мисс Морган выпорхнула из комнаты. Я пошел было проводить ее, но, когда я был в передней, она уже сбежала с лестницы и снизу до меня донесся ее звонкий голос:
— До завтра! Авеню Булонского леса, возле виллы «Саид»[12].
«Ни за что не пойду к этой сумасшедшей», — решил я.
На следующий день, в четыре часа, я звонил у подъезда ее особняка. Лакей ввел меня в огромный застекленный зал, где в беспорядке были нагромождены картины, мраморные и бронзовые статуи, портшезы, расписанные Мартином, с богатыми фарфоровыми украшениями; перуанские мумии, двенадцать фигур всадников в боевых доспехах; особенно выделялись своими размерами польский всадник с белыми крыльями за спиной и одетый для турнира французский рыцарь, шлем которого украшала раскрашенная женская головка в старинном головном уборе с вуалью. В зале росла целая роща пальмовых деревьев в кадках, а среди них восседал огромный золотой Будда. У его ног какая-то нищенски одетая женщина читала библию. Не успел я прийти в себя от всех этих чудес, как приподнялась пурпурная портьера и предо мной предстала мисс Морган в белом пеньюаре с отделкой из лебяжьего пуха. Она приблизилась ко мне. За ней шли два огромных датских дога с длинными мордами.
— Я была уверена, что вы придете, господин Пижоно.
— Как можно ослушаться приказания такой прелестной дамы? — любезно пробормотал я.
— О! Меня слушаются вовсе не потому, что я красива! Просто я знаю секрет, как подчинять людей своей воле.
Потом, указав на старуху с библией, она добавила:
— Это мама; не обращайте на нее внимания. Я вас не представляю. Если вы с ней заговорите, она все равно не ответит: она принадлежит к религиозной секте, воспрещающей пустословие. Эта секта — последний крик моды. Ее приверженцы одеваются в мешковину и едят из деревянных мисок. Маме все это очень нравится. Но вы сами понимаете, что я пригласила вас не затем, чтобы рассказывать о маме. Сейчас я переоденусь в египетский костюм. Я быстро. А пока полюбуйтесь безделушками.
И она усадила меня возле шкафа, в котором находились саркофаг мумии, несколько статуэток эпохи Среднего царства, скарабеи[13] и куски папируса с описанием великолепного погребального обряда.
Оставшись один, я принялся рассматривать папирус с тем большим интересом, что обнаружил на нем подпись, которую уже читал на одной печати: имя писца, принадлежащего королю Сети Первому. Я сейчас же принялся отмечать любопытные подробности этого документа, Сам не знаю, сколько я просидел, погруженный в это занятие, как вдруг инстинктивно почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит. Обернувшись, я увидел дивное создание, с золотым ястребом на голове, в белом узком чехле, облегающем целомудренные и прекрасные линии юного тела. Поверх чехла ниспадала легкая розовая туника, схваченная в талии поясом из драгоценных камней и симметричными складками расходящаяся книзу. Руки и ноги были обнажены и отягчены браслетами.
Она встала прямо напротив меня, повернув голову к правому плечу, в традиционной жреческой позе, что придавало ее чарующей красоте что-то божественное.
— Как! Неужели это вы, мисс Морган! — воскликнул я.
— Очевидно, если только не сама Неферу Ра собственной персоной. Помните Неферу Ра у Леконта де Лиля[14] в его «Красоте солнца»?
Впрочем, что я говорю! Откуда вам знать. Вы же не читаете стихов. А все-таки это красиво. Ну, теперь за дело!
Поборов волнение, я сделал этой очаровательной особе несколько замечаний относительно ее чудесного костюма. Я осмелился не согласиться с кое-какими деталями, грешащими против археологической точности. Предложил заменить некоторые из камней в перстнях другими, более принятыми в эпоху Среднего царства. Наконец самым решительным образом восстал против аграфа из перегородчатой эмали. Это украшение действительно представляло собой чудовищный анахронизм. Мы решили заменить его пластинкой из драгоценных камней в тонкой золотой оправе. Мисс Морган выслушала меня чрезвычайно внимательно, даже пригласила остаться обедать; казалось, я очень ей нравлюсь, но я сослался на строгий режим и диету и откланялся.
Когда я был уже в прихожей, она крикнула мне вслед:
— Ну как, шикарный костюм? На балу у графини N. все дамы лопнут от зависти! Не правда ли?
Меня покоробило от этих слов, но, оглянувшись и увидев ее, я вновь подпал под ее чары.
— Господин Пижоно! — еще раз окликнула она. — Вы такой милый. Сочините для меня сказочку, и я буду вас любить крепко-крепко!
— Я не умею сочинять сказки, — ответил я.
Она пожала своими прекрасными плечами и воскликнула:
— А разве не для того и наука, чтобы сочинять сказки? Нет, господин Пижоно, сказку вы мне все-таки напишете.
Я не счел нужным повторять свой решительный отказ и молча вышел.
В дверях мне повстречался человек с ассирийской бородой, странный взгляд которого так поразил меня во время доклада. Доктор Дауд еще тогда произвел на меня впечатление человека в высшей степени надменного, и встреча с ним была мне тягостна.
Недели через две после моего визита состоялся бал у графини N. Я ничуть не удивился, прочтя в газетах, что прекрасная мисс Морган в костюме Неферу Ра произвела настоящую сенсацию.
С тех пор я не слышал о ней до самого конца 1886 года. Но в первый же день нового года, когда я работал у себя в кабинете, лакей подал мне письмо и небольшую корзинку.
— От мисс Морган, — сказал он и вышел.
Из корзинки, поставленной на стол, раздалось мяуканье. Я открыл ее, и оттуда выскочила серая кошечка.
Она была не ангорской, а какой-то другой восточной породы, более грациозная, чем наши кошки, и, насколько я мог судить, очень похожая на своих фиванских предков, мумии которых, запеленутые в полосы грубой ткани, находят в огромном количестве при раскопках этого города. Кошечка отряхнулась, огляделась вокруг, выгнула горбом спину, зевнула и мурлыча стала тереться о богиню Пахт, изящная фигурка которой с хорошенькой мордочкой красовалась у меня на столе. Несмотря на темную и короткую шерсть, котенок был очень миловиден. Он казался смышленым и совсем не дичился. Я терялся в догадках, чтобы мог означать столь странный подарок. Ничуть не яснее стало мне это и тогда, когда я прочел письмо мисс Морган. Она писала:
«Многоуважаемый господин Пижоно! Посылаю вам привезенную доктором Даудом из Египта кошечку, которую я очень люблю. Если хотите сделать мне приятное, будьте с ней поласковей. Бодлер, величайший французский поэт после Стефана Малларме[15], сказал:
- Отшельник-книгочий, былой поклонник дам
- На склоне лет, в людей уже не веря,
- Заводят кошку, ласкового зверя
- И нелюдимого, подобно господам[16].
Думаю, нет никакой необходимости напоминать вам, что вы должны сочинить для меня сказку. Вы принесете ее на крещение. Пообедаем вместе.
Анни Морган.
P. S. — Кошечку звать Пору».
Прочтя письмо, я взглянул на Пору, которая, стоя на задних лапках, лизала черную мордочку Пахт, своей божественной сестры. Кошечка тоже посмотрела на меня. И должен сознаться, что из нас двоих более удивленной казалась отнюдь не она.
«Что все это значит?» — недоумевал я.
Очень скоро, однако, я отказался от мысли что-либо понять. «Нечего сказать, хорош, доискиваюсь смысла в капризах молодой сумасбродки, — решил я. — Примусь-ка лучше за работу. Ну, а этого зверька я поручу заботам госпожи Маглуар (моей экономки)». И я снова принялся за прерванную работу по хронологии, которая особенно занимала меня, так как в ней я немного поддеваю своего знаменитого ученого собрата г-на Масперо. Пору не покидала письменного стола. Сидя напротив меня и навострив ушки, она следила за моим пером. И — странное дело — за весь этот день я не написал ничего заслуживающего внимания. Мысли мои путались, в голову лезли обрывки песен и детских сказок. Спать я лег очень недовольный собой. На следующее утро, когда я вошел в кабинет, кошечка уже сидела на письменном столе и умывалась. И в этот день также работалось скверно. Мы с Пору занимались больше тем, что разглядывали друг друга. Не лучше обстояли дела и на третий и на четвертый день — словом, так прошла вся неделя. Казалось бы, подобная праздность должна была бы огорчать меня, но, говоря откровенно, я все больше и больше с ней свыкался, она даже начинала мне нравиться. Поистине ужасна быстрота, с которой порядочный человек поддается разврату. А в день крещенья я проснулся в радостном настроении и подбежал к столу, где меня, как обычно, поджидала Пору. Достав тетрадь из лучшей белой бумаги, я обмакнул перо и под пристальным взглядом своего нового друга вывел крупными буквами: «Злоключения кривого носильщика». После чего, то и дело взглядывая на Пору, с удивительной быстротой принялся писать и писал целый день рассказ о приключениях таких чудесных, смешных и разнообразных, что под конец сам ими увлекся. Мой носильщик потешным образом перепутывал ноши и то и дело попадал впросак. Сам того не ведая, он приходил на помощь оказавшимся в затруднении влюбленным; переносил шкафы, в которые спрятались люди. А те, попав в чужой дом, повергали в ужас старых дам. Да разве перескажешь такую забавную историю! Сколько раз, работая над нею, я громко хохотал. Пору не смеялась, правда, но ее серьезность была потешнее самых веселых гримас. Последнюю строчку этой приятной работы я закончил в семь часов вечера. Уже с час, как комната освещалась только фосфорически блестевшими глазами Пору. Но и в сумерках я писал так же легко, как при свете яркой лампы. Закончив рассказ, я надел фрак и белый галстук, простился с Пору и, сбежав с лестницы, выскочил на улицу. Не сделал я и десяти шагов, как почувствовал, что кто-то потянул меня за рукав.
— Куда вы так мчитесь, дядюшка, словно одержимый?
Это был мой племянник Марсель, порядочный и умный студент-медик, работающий в больнице Сальпетриер. Говорят, что из него выйдет хороший врач. И, пожалуй, его действительно можно было бы считать здравомыслящим человеком, если бы он поменьше доверял своему чересчур капризному воображению.
— Да вот спешу отнести мисс Морган свою сказку, — ответил я.
— Как, дядюшка! Вы пишете сказки и знакомы с мисс Морган? Обворожительная женщина, не правда ли? А доктора Дауда, который всюду ее сопровождает, вы тоже знаете?
— Лекарь! Шарлатан!
— Верно, верно, дядюшка, но поразительный экспериментатор. Ни Бернгейму, ни Льежуа, ни даже самому Шарко не удалось добиться таких явлений в области внушения[17], каких добивается он, когда ему вздумается. Он гипнотизирует и внушает без прикосновения, без непосредственного воздействия, через животных. Обычно для опытов ему служат короткошерстные котята. Вот как он этого достигает: он внушает котенку желаемое действие и отсылает его в корзинке тому, на кого хочет воздействовать. Внушение передается от животного объекту внушения, и тот приводит в исполнение то, что приказано экспериментатором.
— В самом деле, племянник?
— В самом деле, дядюшка.
— А какую же роль играет в этих замечательных экспериментах мисс Морган?
— Мисс Морган, дядюшка, пожинает плоды трудов господина Дауда и пользуется гипнозом и внушением для того, чтобы кружить головы мужчинам, будто для этого мало одной ее красоты.
Но я уже не слушал. Непреодолимая сила влекла меня к мисс Морган.
Дочь Лилит
Посвящается Жану Псикари[18]
Я выехал из Парижа вечером и провел в вагоне долгую и безмолвную снежную ночь. Прождав шесть томительно скучных часов на станции ***, я только после полудня нашел крестьянскую одноколку, чтоб добраться до Артига. По обеим сторонам дороги, то опускаясь, то поднимаясь, тянулась холмистая равнина; я видел ее прежде при ярком солнце цветущей и радостной, теперь же ее покрывал плотной пеленой снег, а на нем чернели скрюченные виноградные лозы. Мой возница лениво понукал свою старую лошаденку, и мы ехали погруженные в бесконечную тишину, прерываемую время от времени жалобным криком птицы. В смертельной тоске я шептал про себя молитву: «Господи, господи милосердный, помилуй и сохрани меня от отчаяния и не дай мне, после стольких прегрешений, впасть в тот единственный грех, который ты не прощаешь». И вот я увидел на горизонте заходящее солнце, красный диск без лучей, словно окровавленная гостия, и, вспомнив об искупительной жертве Голгофы, я почувствовал, что надежда проникла мне в душу. Одноколка продолжала еще некоторое время катиться по хрустящему снегу. Наконец возница указал мне кнутовищем на артигскую колокольню, которая словно тень вставала в красноватом тумане.
— Вам к церковному дому, что ли? — сказал он. — Вы, стало быть, знаете господина кюре?
— Он знал меня мальчиком. Я учился у него, когда был школьником.
— Он, видать, человек ученый.
— Кюре Сафрак, любезнейший, — и ученый и добродетельный человек.
— Говорят так. Говорят и этак.
— А что же говорят?
— Говорят что угодно, по мне пусть болтают.
— Но все-таки что же?
— Есть такие, что верят, будто господин кюре колдун и может напустить всякую порчу.
— Что за вздор!
— Мое дело сторона, сударь. Но если господин Сафрак не колдун и не напускает порчу, так зачем бы ему книжки читать.
Повозка остановилась у дома кюре. Я расстался с дурнем-возницей и пошел вслед за служанкой, которая проводила меня в столовую, где уже был накрыт стол. Я нашел, что кюре Сафрак сильно изменился за те три года, что я его не видел. Его высокий стан сгорбился. Он поражал своей худобой. На изнуренном лице блестели проницательные глаза. Нос точно вырос и навис над сузившимся ртом.
Я бросился ему на шею и, рыдая, воскликнул:
— Отец мой, отец мой, я пришел к вам, ибо я согрешил! Отец мой, старый мой учитель, ваша глубокая и таинственная мудрость ужасала меня, но вы успокаивали мою душу, ибо открывали передо мной свое любящее сердце, спасите же вашего сына, стоящего на краю бездны. О мой единственный друг, вы один мой наставник, спасите, просветите меня.
Он обнял меня, улыбнулся с бесконечной добротой, в которой я не раз убеждался в моей ранней молодости, и, отступя на шаг, как бы для того, чтоб лучше разглядеть меня, сказал: «Да хранит вас бог!» — приветствуя меня по обычаю своего края, ибо господин Сафрак родился на берегу Гаронны среди тех знаменитых виноградников, которые как бы олицетворяют его душу, щедрую и благоуханную.
После того как он с таким блеском читал философию в Бордо, Пуатье и Париже, он испросил себе одну-единственную награду — бедный приход в том краю, где он родился и хотел умереть. Вот уже шесть лет он священствует в глухой деревне в Артиге, соединяя смиренное благочестие с высокой ученостью.
— Да хранит вас бог, сын мой, — повторил он. — Я получил письмо, где вы сообщаете о своем приезде, оно меня очень тронуло. Значит, вы не забыли вашего старого учителя!
Я хотел броситься к его ногам и снова прошептал: «Спасите меня, спасите!» Но он остановил меня движением руки, властным и в то же время ласковым.
— Ари, — сказал он, — завтра вы расскажете то, что у вас на сердце. А сейчас обогрейтесь, потом мы поужинаем, вы, должно быть, и озябли и проголодались.
Служанка подала на стол миску, откуда поднимался душистый пар. Это была старуха в черной шелковой косынке на голове, в морщинистом лице которой удивительно сочеталась природная красота с безобразием одряхления. Я был в глубоком смятении, однако покой этого мирного жилища, веселое потрескивание сухих веток в камине, уют, создаваемый белой скатертью, налитым в стаканы вином, горячими блюдами, постепенно овладевал моей душой. За едой я почти позабыл, что пришел под этот кров, дабы смягчить жестокие угрызения совести обильной росой покаяния.
Господин Сафрак вспомнил давно минувшие дни, которые мы провели в коллеже, где он преподавал философию.
— Ари, — сказал он, — вы были моим лучшим учеником. Ваш пытливый ум постоянно опережал мысль учителя. Потому-то я сразу привязался к вам. Я люблю смелость в христианине. Нельзя, чтоб вера была робкой, когда безбожие выступает с неукротимой дерзостью. В церкви остались ныне только агнцы, а ей нужны львы. Кто вернет нам отцов и ученых мужей, взгляд которых охватывал все науки? Истина подобна солнцу, — взирать на нее может только орел…
— Ах, господин Сафрак, как раз вы смело смотрели в лицо истине, и ничто не могло вас ослепить. Я помню, что ваши суждения смущали иногда даже тех из ваших собратьев, которые восхищались святостью вашей жизни. Вы не боялись новшеств. Так, например, вы были склонны признать множественность обитаемых миров.
Взор его загорелся.
— Что же скажут робкие духом, когда прочтут мою книгу? Ари, под этим прекрасным небом, в этом краю, созданном господом с особенной любовью, я размышлял и работал. Вам известно, что я довольно хорошо владею языками: еврейским, арабским, персидским и несколькими индийскими наречиями. Вам также известно, что я перевез сюда библиотеку, богатую древними рукописями. Я занялся серьезным изучением языков и преданий древнего Востока. Бог даст, огромный труд не останется втуне. Я только что закончил книгу «О сотворении мира», которая исправляет и утверждает религиозное толкование, коему безбожная наука предвещала неминуемое поражение. Ари, господу по его великому милосердию угодно было, чтоб наука и вера, наконец, примирились. Работая над их сближением, я исходил из следующей мысли: библия, боговдохновенная книга, открывает нам истину, однако она не открывает всей истины. Да и как могла бы она открыть всю истину, раз ее единственная цель — научить нас тому, что необходимо для нашего вечного спасения! Вне сей великой задачи для нее не существует ничего. Ее замысел прост и в то же время огромен. Он охватывает грехопадение и искупление. Это божественная история человека. Она всеобъемлюща и ограниченна. В ней нет ничего, что могло бы удовлетворить мирское любопытство. Однако нельзя, чтоб безбожная наука торжествовала и долее, злоупотребляя молчанием бога. Настало время сказать: «Нет, библия не лжет, ибо она открыла не все». Вот истина, которую я провозглашаю. Опираясь на геологию, доисторическую археологию, восточные космогонии, хетские и шумерские памятники, халдейские и вавилонские предания, древние легенды, сохранившиеся в талмуде, я доказываю существование преадамитов, о которых боговдохновенный автор Книги Бытия[19] не упоминает по той только причине, что существование их не имеет никакого отношения к вечному спасению детей Адама. Мало того, кропотливое исследование первых глав Книги Бытия убедило меня в том, что было два сотворения мира, отделенных одно от другого многими веками, причем второе — это, так сказать, просто приспособление одного уголка земли к потребностям Адама и его потомства.
Он на мгновение остановился и продолжал тихим голосом с чисто религиозной торжественностью:
— Я, Марциал Сафрак, недостойный пастырь, доктор теологии, послушный сын нашей святой матери Церкви, утверждаю с полной уверенностью, если будет на то соизволение его святейшества паны и святых соборов, что Адам, созданный по образу божию, имел двух жен, из коих Ева была второй.
Эти странные слова в конце концов отвлекли меня от моих дум, пробудили непонятное любопытство. Я был даже разочарован, когда г-н Сафрак, положив локти на стол, сказал:
— Довольно об этом. Возможно, вы когда-нибудь прочтете мою книгу, которая осветит вам сей вопрос. Я должен был, повинуясь строгому предписанию, представить мой труд на рассмотрение архиепископу и просить его одобрения. Рукопись находится сейчас в епархиальном управлении, и со дня на день я ожидаю ответа, который, по всем вероятиям, должен быть благоприятным… Сын мой, отведайте грибков из наших лесов и вина наших виноградников, а потом скажите, что наш край не вторая обетованная земля, для которой первая являлась как бы прообразом.
С этой минуты наша беседа стала более обычной и перешла на общие воспоминания.
— Да, сын мой, — сказал г-н Сафрак, — вы были моим любимым учеником. Господь дозволяет предпочтение, если оно основывается на справедливом суждении. А я сразу определил в вас задатки настоящего человека и христианина. Это не значит, что у вас не было недостатков. Вы отличались неровным, нерешительным характером, вас было легко смутить. В глубине души у вас назревали горячие желания. Я любил вас за вашу мятежность так же, как другого моего ученика за противоположные качества. Мне был дорог Поль д'Эрви непоколебимой стойкостью ума и постоянством сердца.
Услыхав это имя, я покраснел, побледнел и с трудом удержался, чтоб не вскрикнуть, но, когда я хотел ответить, я не мог говорить. Г-н Сафрак, казалось, не замечал моего волнения.
— Если мне не изменяет память, он был вашим лучшим товарищем, — прибавил он. — Вы по-прежнему близки с ним, не правда ли? Я слышал, что он избрал дипломатический путь, что ему предсказывают прекрасное будущее. Я хотел бы, чтоб он был послан в Ватикан, когда наступят лучшие времена. Он ваш верный и преданный друг.
— Отец мой, — произнес я с усилием, — я поговорю с вами завтра о Поле д'Эрви и еще об одной особе.
Господин Сафрак пожал мне руку. Мы расстались, и я ушел в приготовленную для меня комнату. Я лег в постель, благоухающую лавандой, и мне приснилось, что я еще ребенок, стою на коленях в часовне нашего коллежа и любуюсь женщинами в белых сверкающих одеждах, которые занимают места на хорах, и вдруг из, облака над моей головой раздается голос: «Ари, ты думаешь, что возлюбил их в боге. Но ты возлюбил бога только в них».
Проснувшись утром, я увидел г-на Сафрака, который стоял у моего изголовья.
— Ари, — сказал он, — приходите к обедне, которую я буду служить сегодня для вас. По окончании богослужения я готов выслушать то, что вы собираетесь мне рассказать.
Артигский храм — небольшая церковь в романском стиле, который еще процветал в Аквитании в XII веке. Двадцать лет тому назад ее реставрировали и пристроили колокольню, не предусмотренную первоначальным планом, но, по бедности своей, церковь сохранила в неприкосновенной чистоте свои голые стены. Я присоединился, насколько мне позволяли мои мысли, к молитвам священнослужителя, затем мы вместе вернулись домой. Там мы позавтракали хлебом с молоком, а потом пошли в комнату г-на Сафрака.
Придвинув стул к камину, над которым висело распятие, он предложил мне сесть и, усевшись рядом, приготовился слушать. За окном падал снег. Я начал так:
— Отец мой, вот уже десять лет, как, выйдя из-под вашей опеки, я пустился в свет. Веру свою я сохранил; но, увы, не сохранил чистоты. Впрочем, незачем описывать вам мою жизнь вы и так ее знаете, вы — мой духовный наставник, единственный руководитель моей совести! К тому же я хочу поскорее перейти к событию, перевернувшему всю мою жизнь. В прошлом году родители решили меня женить, и я охотно согласился. Девушка, которую прочили за меня, отвечала всем требованиям, обычно предъявляемым родителями. Кроме того, она была хороша собой, она мне нравилась; таким образом, вместо брака по расчету я собирался вступить в брак по сердечной склонности. Мое предложение было принято. Помолвка состоялась. Казалось, мне были обеспечены счастье и спокойная жизнь, но тут я получил письмо от Поля д'Эрви, который, вернувшись из Константинополя, сообщал о своем приезде в Париж и желании повидаться со мной. Я поспешил к нему и объявил о своем предстоящем браке. Он сердечно меня поздравил.
— Я рад твоему счастью, дорогой!
Я сказал, что рассчитываю на него как на свидетеля, он охотно согласился. Бракосочетание было назначено на пятнадцатое мая, а он возвращался на службу в первых числах июня,
— Вот и хорошо! — сказал я. — А как ты?
— О, я… — ответил он с улыбкой, одновременно и радостной и грустной, — у меня все переменилось… Я схожу с ума… женщина… Ари, я очень счастлив или очень несчастлив; какое может быть счастье, если оно куплено ценою дурного поступка? Я обманул, я довел до отчаяния доброго друга — я отнял там, в Константинополе…
Г-н Сафрак прервал меня:
— Сын мой, не касайтесь чужих проступков и не называйте имен!
Я обещал и продолжил свой рассказ.
— Не успел Поль кончить, как в комнату вошла женщина. По-видимому — она. На ней был длинный голубой пеньюар, и держала она себя как дома. Постараюсь одной фразой передать вам то страшное впечатление, которое, она произвела на меня. Мне показалось, что она не нашего естества. Я чувствую, до какой степени это определение неточно и как плохо передает оно мою мысль, но, может быть, из дальнейшего оно станет более понятным. Действительно, в выражении ее золотистых глаз, неожиданно искрометных, в изгибе ее загадочно улыбающегося рта, в коже одновременно смуглой и светлой, в игре резких, но тем не менее гармоничных линий ее тела, в воздушной легкости походки, в обнаженных руках, за которыми чудились незримые крылья, наконец во всем ее облике, страстном и неуловимом, я ощутил нечто чуждое человеческой природе. Она была и менее и более совершенна, чем обычные женщины, созданные богом в его грозной милости для того, чтоб они были нашими спутницами на этой земле, куда все мы изгнаны. С той минуты, как я увидел ее, мою душу охватило и переполнило одно чувство: мне бесконечно постыло все, что не было этой женщиной.
При ее появлении Поль слегка нахмурил брови, но, спохватившись, тут же попробовал улыбнуться.
— Лейла, представляю вам моего лучшего друга.
Лейла ответила:
— Я знаю господина Ари.
Эти слова должны были бы показаться странными, ибо я мог с уверенностью сказать, что мы никогда не встречались, но выражение, с которым она их произнесла, было еще более странным. Если бы кристалл мыслил, он говорил бы так.
— Мой друг Ари, — прибавил Поль, — женится через полтора месяца.
При этих словах Лейла взглянула на меня, и я ясно прочел в ее золотистых глазах: «Нет».
Я ушел очень смущенный, и мой друг не выразил ни малейшего желания меня удержать. Весь день я бесцельно бродил по улицам с отчаянием в опустошенном сердце; и вот вечером, случайно очутившись на бульваре перед цветочным магазином, я вспомнил о своей невесте и решил купить ей ветку белой сирени.
Не успел я взять сирень, как чья-то ручка вырвала ее у меня, и я увидел Лейлу, которая засмеялась и вышла из магазина. Она была в коротком сером платье, таком же сером жакете и в круглой шляпке. Костюм для улицы, обычный для парижанки, признаться, совсем не шел к сказочной красоте Лейлы и казался маскарадным нарядом. И что же? Увидя ее именно такой, я почувствовал, что люблю ее беззаветной любовью. Я хотел догнать ее, но она исчезла среди прохожих и экипажей.
С этой минуты я больше не жил. Несколько раз я заходил к Полю, но не видел Лейлы. Поль принимал меня радушно, однако не упоминал о ней. Говорить нам было не о чем, и я уходил опечаленный, и вот однажды лакей Поля сказал мне: «Господина д'Эрви нет дома. Может быть, вам угодно видеть госпожу?» Я ответил: «Да». О мой отец! Одно слово, одно короткое слово, и нет таких кровавых слез, которые могли бы его искупить! Я вошел. Я застал ее в гостиной, она полулежала на диване, поджав под себя ноги, в желтом, как золото, платье. Я увидел ее… нет, я ничего не видел. У меня вдруг пересохло в горле, я не мог говорить. Аромат мирры и благовоний опьянил меня негой и желанием, словно моих трепещущих ноздрей коснулись все благоухания таинственного Востока. Нет, воистину она была женщиной не нашего естества; в ней не проявлялось ничего от человеческой природы. Лицо ее не выражало никакого чувства: ни доброго, ни злого, разве только сладострастие, одновременно чувственное и неземное. Она, конечно, заметила мое смущение и спросила голосом более прозрачным и чистым, чем журчание ручейков в лесу:
— Что с вами?
Я бросился к ее ногам и воскликнул, заливаясь слезами:
— Я люблю вас безумно!
Тогда она открыла мне объятия и озарила сладострастным и чистым взглядом.
— Почему вы не сказали этого раньше, мой друг!
Непередаваемые словами мгновения… Я сжимал Лейлу, лежащую в моих объятиях. И мне казалось, что мы оба уносимся в небо и заполняем его собою. Я чувствовал, что уподобился богу, что в душе у меня вся красота мира, вся гармония природы: звезды, цветы, леса с их песнями, и ручьи, и глубины морские. В свой поцелуй я вложил вечность.
При этих словах г-н Сафрак, слушавший меня уже некоторое время с заметным раздражением, встал, повернулся спиной к камину, приподняв до колен сутану, чтоб погреть ноги, и сказал со строгостью, граничащей с презрением:
— Вы жалкий богохульник! Вместо того чтоб возненавидеть свой грех, вы исповедуетесь в нем только из гордыни и самоуслаждения! Я больше не слушаю вас!
От этих слов у меня на глазах навернулись слезы, и я стал просить у него прощения. Увидя, что раскаяние мое чистосердечно, он разрешил мне продолжать признания, поставив условием относиться без снисхождения к самому себе.
Я продолжал рассказ, как будет видно дальше, решив по возможности сократить его.
— Отец мой, я оставил Лейлу, терзаемый угрызениями совести. Но на следующий же день она пришла ко мне, и тут началась жизнь, исполненная блаженства и непереносимой муки. Я ревновал ее к Полю, которого обманул, и жестоко страдал. Не думаю, что на свете есть страдания унизительнее ревности, наполняющей душу нашу отвратительными картинами. Лейла даже не считала нужным прибегать ко лжи, чтоб облегчить эту пытку. Поведение ее вообще было необъяснимо… Я не забываю, что говорю с вами, и не позволю себе оскорбить слух такого почтенного пастыря. Скажу только, что Лейла казалась безучастной к радостям любви, которые дарила мне. Но она отравила все мое существо ядом сладострастия. Я не мог жить без нее и боялся ее потерять. Лейле было совершенно незнакомо то, что мы называем нравственным чувством. Это не значит, что она была зла или жестока; наоборот, она была нежной, кроткой. Она была умна, но ум ее отличался от нашего. Она была молчалива, отказывалась отвечать на вопросы о своем прошлом. Не знала того, что знаем мы. Зато знала то, что нам неизвестно. Выросши на Востоке, она помнила множество индийских и персидских легенд, которые с бесконечным очарованием передавала своим однозвучным голосом. Слушая ее рассказ о дивном утре вселенной, можно было подумать, что она современница юности мира. Я как-то заметил ей это, она, улыбаясь, ответила:
— Я стара, это правда!
Господин Сафрак, все так же не отходя от камина, с некоторых пор подался вперед, всей своей позой выражая самое живое внимание.
— Продолжайте, — сказал он.
— Несколько раз, отец мой, я спрашивал Лейлу о ее вере. Она отвечала, что религии у нее нет и что она ей не нужна; что ее мать и сестры — дочери бога, но не связаны с ним никакой религией. Она носила на шее ладанку со щепоткой глины, которую, по ее словам, она хранила из благоговейной любви к матери.
Едва я выговорил последние слова, как г-н Сафрак, бледный и дрожащий, вскочил с места и, сжав мне руку, громко крикнул:
— Она говорила правду! Я знаю, теперь я знаю, кто она! Ари, ваше чутье вас не обмануло, — это была не женщина. Продолжайте, продолжайте, прошу вас!
— Отец мой, я почти кончил. Увы, из любви к Лейле я расторг официальную помолвку, обманул лучшего друга. Я оскорбил бога. Поль, узнав о неверности Лейлы, обезумел от горя. Он грозил убить ее, но она кротко сказала:
— Попытайтесь, друг мой, я желала бы умереть, но не могу.
Полгода она принадлежала мне; потом в одно прекрасное утро заявила, что возвращается в Персию и больше меня не увидит. Я плакал, стонал, кричал:
— Вы никогда меня не любили! Она ласково ответила:
— Не любила, мой друг. Но сколько женщин, которые любили вас не больше моего, не дали вам того, что дала я. Вы должны быть благодарны мне. Прощайте!
Два дня я переходил от бешенства к отупению. Потом, вспомнив о спасении души, поехал к вам, отец мой! Вот я перед вами. Очистите, поднимите, наставьте меня! Я все еще люблю ее.
Я кончил. Г-н Сафрак задумался, подперев рукой голову. Он первый нарушил молчание:
— Сын мой, ваш рассказ подтверждает мои великие открытия. Вот что может смирить гордыню наших современных скептиков. Выслушайте меня! Мы живем сейчас в эпоху чудес, как первенцы рода человеческого. Слушайте же, слушайте! У Адама, как я вам уже говорил, была первая жена, о которой ничего не сказано в библии, но говорится в талмуде. Ее звали Лилит. Она была создана не из ребра Адама, но из глины, из которой был вылеплен он сам, и не была плотью от плоти его. Лилит добровольно рассталась с ним. Он не знал еще греха, когда она ушла от него и отправилась в те края, где много лет спустя поселились персы, а в ту пору жили преадамиты, более разумные и более прекрасные, чем люди. Значит, Лилит не была причастна к грехопадению нашего праотца, не была запятнана первородным грехом и потому избежала проклятия, наложенного на Еву и ее потомство. Над ней не тяготеют страдание и смерть, у нее нет души, о спасении которой ей надо заботиться, ей неведомы ни добро, ни зло. Что бы она ни сделала, это не будет ни хорошо, ни плохо. Дочери ее, рожденные от таинственного соития, бессмертны так же, как и она, и, как она, свободны в своих поступках и мыслях, ибо не могут ни сотворить угодное богу, ни прогневать его. Итак, мой сын, я узнаю по некоторым несомненным признакам, что это создание, которое толкнуло вас к падению, — Лейла, дочь Лилит. Молитесь, завтра я приму вашу исповедь.
Он на минуту задумался, потом вынул из кармана лист бумаги и сказал:
— Вчера, после того как я пожелал вам спокойной ночи, почтальон, опоздавший из-за снега, вручил мне грустное письмо. Господин первый викарий пишет, что моя книга огорчила архиепископа и омрачила в его душе радость праздника кармелитов.[20] Это сочинение, по его словам, полно дерзких предположений и взглядов, уже осужденных отцами церкви. Его преосвященство не может одобрить столь вредоносных мудрствований. Вот что мне пишут. Но я расскажу его преосвященству ваше приключение. Оно докажет ему, что Лилит существует и что это не моя фантазия.
Я попросил у г-на Сафрака еще минуту внимания.
— Лейла, отец мой, уходя, оставила мне кипарисовую кору, на которой начертаны стилосом слова, не понятные мне. Вот этот своеобразный амулет.
Господин Сафрак взял легкую стружку, которую я ему подал, внимательно ее рассмотрел, затем сказал:
— Это написано на персидском языке эпохи расцвета, и перевод трудностей не представляет:
Лета Ацилия
Посвящается Ари Ренану[21]
I
Лета Ацилия жила в Массилии в царствование императора Тиберия[22]. Уже несколько лет она была замужем за некиим римским всадником по имени Гельвий, но еще не имела детей и страстно желала стать матерью. Однажды, подходя к храму, куда она шла помолиться богам, она увидела под портиком толпу полуголых людей, исхудалых, изъеденных проказой и язвами. В испуге женщина остановилась на первой же ступени. Лета была милосердна. Она жалела бедняков, но боялась их. К тому же она ни разу еще не встречала таких страшных нищих, как те, что толпились сейчас перед ней: озябшие, истомленные, уронив пустые сумы на землю, они едва держались на ногах. Лета побледнела и прижала руку к сердцу. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, что у нее нет сил ни шагнуть вперед, ни бежать обратно, но тут из толпы нищих вышла женщина ослепительной красоты и приблизилась к ней.
— Не бойся, женщина, — сказала незнакомка торжественным и мягким голосом. — Перед тобой не злодеи. Не обман, не обиду несут они с собой, но истину и любовь. Мы пришли из земли Иудейской, где сын божий умер и воскрес. Когда он воссел одесную отца, уверовавшие в него претерпели великие муки. Народ побил Стефана камнями[23]. Нас же священники погрузили на корабль без ветрил и руля и пустили на волю волн морских, чтоб мы в них погибли. Но господь, возлюбивший нас во время земной своей жизни, благополучно привел судно к пристани этого города. Увы! Массалиоты скупы, жестокосердны и поклоняются идолам. Им не жаль учеников Иисусовых, умирающих с голоду и холоду. И если бы мы не нашли убежища под сводами этого храма, который они почитают священным, они уже ввергли бы нас в мрачные темницы. А между тем надо было бы радоваться нашему приходу, раз мы несем с собой благую весть.
Сказав так, чужестранка протянула руку и, указывая по очереди на каждого из своих спутников, сказала:
— Этот старец, который обращает к тебе, женщина, свой просветленный взор, — Седон, слепой от рождения, исцеленный учителем. Ныне Седон видит одинаково ясно и зримое и незримое. Тот, другой старец, борода которого бела, как снег горных высот, — Максимен. Вот тот человек, еще молодой, но уже такой усталый на вид, — мой брат. Он владел великими богатствами в Иерусалиме. Рядом с ним — Марфа, моя сестра, и Мантилла, верная служанка, которая в прошлые счастливые дни собирала маслины на холмах Вифании.
— А тебя, — спросила Лета Ацилия, — тебя, чей голос так нежен, а лицо так прекрасно, как зовут тебя?
— Меня зовут Марией Магдалиной. По золотому шитью на твоем платье и по невинной гордости твоего взора я догадалась, что ты жена одного из виднейших горожан. Вот я и прибегаю к тебе, чтоб ты смягчила сердце твоего мужа и склонила его оказать милость ученикам Иисуса Христа. Скажи ему, человеку богатому: «Господин, они наги — оденем их, они голодны и мучимы жаждой — дадим им хлеба и вина, и бог воздаст нам в царствии своем на все то, что было взято у нас во имя его».
Лета ответила:
— Мария, я сделаю так, как ты говоришь. Моего мужа зовут Гельвием, он всадник и один из самых богатых жителей города. Никогда еще не приходилось мне долго просить его о чем-нибудь, потому что он любит меня. Теперь твои спутники, о Мария, уже не страшат меня, я не побоюсь пройти среди них, хотя язвы и разъедают их тело, и пойду в храм молить бессмертных богов, чтоб они исполнили то, о чем я прошу. Увы! До сего дня они отказывали мне в этом.
Мария, простерши обе руки, преградила ей дорогу.
— Стой, женщина! — воскликнула она. — Не поклоняйся ложным богам. Не жди от каменных истуканов слов надежды и жизни! Есть только один бог, и бог этот стал человеком, и я отерла ноги ему своими волосами.
При этих словах глаза ее, чернее неба в грозу, сверкнули молниями и слезами. И Лета Ацилия в глубине своего сердца подумала: «Я благочестива, я неуклонно выполняю все предписанные религией обряды, а эта женщина охвачена каким-то необъяснимым чувством божественной любви».
Магдалина же продолжала вдохновенно:
— Он был бог неба и земли и говорил притчами, сидя на скамье у двери дома, в тени старой смоковницы. Он был молод и прекрасен; он хотел быть любимым. Когда он приходил на вечерю в дом к моей сестре, я садилась у его ног, и слова лились из уст его, как воды потока. И когда сестра, сетуя на мою праздность, восклицала: «Учитель, скажи ей, чтобы она помогла мне приготовить трапезу», он кроткой улыбкой оправдывал меня, не гнал от ног своих и говорил, что я избрала благую часть. Его можно было принять за молодого пастуха, пришедшего с гор, но глаза его горели огнем, подобным тому огню, что исходил от чела Моисея. Кротость его напоминала тишину ночи, а гнев был страшнее грозы. Он любил смиренных и малых. Дети выбегали на дорогу навстречу ему и хватали край его одежды. Он был богом Авраама и Иакова. Теми самыми руками, что сотворили солнце и звезды, он гладил щечки новорожденных младенцев, которых радостные матери протягивали ему, стоя на пороге своих хижин. Он сам был прост, как дитя, и он воскрешал мертвых. Ты видишь здесь среди нас моего брата, которого он вызвал из гроба. Взгляни, о женщина, — на челе Лазаря еще лежит мертвенная бледность, а в глазах его ужас человека, видевшего загробный мир.
Но Лета Ацилия уже не слушала ее.
Она обратила к иудейке свой спокойный взор и бездумное чело.
— Мария, — сказала она, — я женщина благочестивая, преданная религии моих отцов. Нечестие вредно для нас, женщин. И не подобает супруге римского всадника обращаться к новым богам. Однако я признаю, что на Востоке есть милостивые боги. Твой бог, Мария, кажется мне, из их числа. Ты сказала, что он любил детей и целовал младенцев на руках у их молодых матерей. Я вижу, что он бог благожелательный к женщинам, и жалею, что он не в почете у знатных должностных лиц, иначе я бы охотно принесла ему в жертву медовые лепешки. Но послушай, Мария-иудейка, обратись к нему ты, ибо он любит тебя, и попроси за меня о том, о чем я не смею просить и в чем отказали мне мои богини.
Лета Ацилия произнесла эти слова нерешительным голосом. Она замолкла и покраснела.
— Что же это такое, — спросила с живостью Магдалина, — и чего недостает, женщина, твоей смятенной душе?
Немного успокоившись, Лета Ацилия ответила:
— Мария, ты женщина, и, хотя я не знаю тебя, мне кажется, я могу доверить тебе мою женскую тайну. Я замужем уже шесть лет, и у меня все еще нет ребенка, и это великое горе. Мне нужен ребенок, чтоб любить его. Я ношу в сердце любовь к маленькому существу, которого жду и, может быть, никогда не дождусь. Я задыхаюсь от этой любви. Если твой бог, Мария, по твоему предстательству исполнит то, в чем мои богини мне отказали, я поверю, что он добрый бог, и полюблю его, а тогда его полюбят и мои подруги, такие же, как я, молодые, богатые и принадлежащие к знатнейшим семействам в городе.
Магдалина ответила строго:
— Дочь римлян, когда ты получишь то, о чем просишь, не позабудь обещание, данное мне, рабе Иисусовой.
— Не позабуду, — ответила массалиотка. — А пока возьми этот кошелек, Мария, и раздай серебро, которое в нем, твоим спутникам. Прощай, я иду домой. Я распоряжусь, чтоб тебе и твоим спутникам принесли корзины с хлебом и мясом. Скажи брату, сестре и друзьям твоим, что они могут, не опасаясь, покинуть приют, в котором укрылись, и перебраться куда-нибудь в предместье на постоялый двор. Гельвий пользуется властью в городе и не допустит, чтоб их притесняли. Да хранят тебя боги, Магдалина! Когда ты захочешь вновь повидать меня, спроси любого прохожего, где живет Лета Ацилия, каждый укажет тебе мой дом.
II
И вот полгода спустя Лета Ацилия возлежала на пурпурном ложе во дворе своего дома и мурлыкала детскую песенку, которую когда-то певала ей мать. В бассейне, откуда выглядывали мраморные тритоны, весело журчала вода, и теплый ветерок ласково играл с шепчущей листвою старой чинары. Усталая, томная и счастливая, тяжелая, как пчела, вылетевшая из цветущего сада, молодая женщина сложила руки на своем округлившемся стане и, прервав песню, обвела взглядом все окружающее и вздохнула от счастья и гордости. У ее ног черные, желтые и белые невольницы усердно работали иглой, челноком и веретеном, готовя приданое для ожидаемого младенца. Лета, протянув руку, взяла крохотный чепчик, который, смеясь, подала ей черная старая невольница. Лета надела чепчик на свой сжатый кулачок и тоже рассмеялась. Это был расшитый золотом, серебром и жемчугом маленький пурпурный чепчик, роскошный, как сон бедной африканки.
Тут во внутренний двор вошла неизвестная женщина. На ней была одежда из цельного куска ткани, цветом своим напоминавшая дорожную пыль. Длинные волосы ее были посыпаны пеплом, но лицо, обожженное слезами, все еще сияло гордостью и красотой.
Рабыни, приняв незнакомку за нищую, поднялись, чтобы прогнать ее, но Лета Ацилия, узнав пришедшую с первого же взгляда, поспешила к ней навстречу и воскликнула:
— Мария, Мария, воистину ты избранница божия. Тот, кого ты любила на земле, услышал тебя на небесах и исполнил то, о чем я просила по предстательству твоему. Вот смотри, — добавила она.
И она показала Марии чепчик, который держала еще в руке.
— Как я счастлива и как благодарна тебе!
— Я знала, что будет так, — ответила Мария Магдалина, — я пришла наставить тебя, Лета Ацилия, в истине Христова учения!
Тогда Лета Ацилия отослала невольниц и предложила иудейке сесть в кресло из слоновой кости, подушки которого были расшиты золотом. Но Магдалина с презрением отвергла кресло и села, поджав ноги, прямо на землю, под высокой чинарой, ветви которой тихо роптали при дуновении ветерка.
— Дочь язычников, — сказала Магдалина, — ты не презрела учеников господних. Они жаждали — и ты напоила их, они голодали — и ты насытила их. Потому-то я хочу, чтоб ты узнала Иисуса, как я его знаю, и возлюбила его, как я его люблю. Я была грешницей, когда впервые увидела его, прекраснейшего из сынов человеческих.
И она рассказала, как бросилась к ногам Иисуса в доме Симона Прокаженного и как вылила на стопы обожаемого учителя весь нард, содержавшийся в алебастровом сосуде. И потом она передала слова кроткого учителя, произнесенные им тогда в ответ на ропот его грубых учеников.
«Что смущаете вы эту женщину? — сказал он. — Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Она заранее умастила тело мое и приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где ни будет проповедано евангелие сие, в целом мире сказано будет о том, что она сделала, и за это ее восхвалят».
Потом Магдалина рассказала, как Иисус изгнал из нее семь бесов, которыми она была одержима, и прибавила:
— С тех пор, упоенная, сжигаемая радостями веры и любви, я жила подле учителя, как в новом раю.
Она говорила о полевых лилиях, которыми они вместе любовались, и о бесконечном единственном счастье — о счастье верить.
Потом она рассказала, как он был предан и распят ради спасения своего народа. Она вспоминала непередаваемые словами страсти господни, его положение во гроб и воскресение.
— Я первая увидела его! — воскликнула она. — Я застала двух ангелов в белых одеждах, одного в изголовье, другого в ногах, там, где было положено тело Иисуса. И они сказали мне: «Женщина, о чем ты плачешь?» — «Я плачу потому, что они взяли господа моего, и я не знаю, где положили его». О радость! Иисус шел ко мне, и я подумала сперва, что это садовник, но он позвал меня: «Мария», и я узнала его по голосу. Я воскликнула: «Учитель!» — и протянула руки, но он ответил мне кротко: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к отцу моему!»
Пока Лета Ацилия внимала рассказу Марии Магдалины, радость и душевный покой ее мало-помалу исчезали. Оглядываясь на себя, на свою жизнь, она находила ее такой однообразной по сравнению с жизнью этой женщины, которая любила бога. Для нее, молодой и благочестивой патрицианки, самыми примечательными были те дни, когда она угощалась лакомствами вместе со своими подругами. Игры в цирке, любовь Гельвия, рукоделье тоже заполняли ее существование. Но что все это в сравнении с теми воспоминаниями, коими Магдалина разжигала свои чувства и душу? Она ощутила вдруг, как ее сердце переполнилось горькой ревностью и смутными сожаленьями. Она завидовала божественным похождениям и даже неизъяснимым страданиям этой иудейки, знойная красота которой еще сияла под пеплом покаяния.
— Ступай прочь, иудейка, — крикнула она, стараясь удержать кулачками выступившие на глазах слезы. — Ступай прочь! Только что я была так спокойна! Я думала, что я счастлива. Я не знала, что на свете есть иное счастье, чем то, которым наслаждалась я. Я не знала иной любви, кроме любви моего дорогого Гельвия, и иной святой радости, кроме служения богиням по примеру моей матери и бабки. О, все было так просто! Злая женщина, ты хотела вселить в меня отвращение к хорошей жизни, которую я веду. Но тебе это не удалось… Зачем ты рассказываешь мне о твоей любви к какому-то видимому богу? Зачем хвастаешься передо мной, что видела воскресшего учителя, раз я его не увижу? Ты надеялась испортить мне даже радость материнства! Это гадко! Не хочу я знать твоего бога! Ты его слишком любила; чтоб угодить ему, нужно пасть к его ногам, разметав волосы. Это неприличествует жене всадника. Гельвий прогневался бы, если бы я стала так поклоняться богу. Не надо мне веры, которая портит прическу. Нет, я ни за что не расскажу о твоем Христе ребенку, которого ношу под сердцем. Если это маленькое создание будет девочкой, я научу ее любить наших глиняных богинь с пальчик величиной, и она без страха будет в них играть. Вот какие божки нужны матерям и детям. Какая дерзость хвастаться твоими любовными приключениями и приглашать меня принять в них участие! Разве может твой бог стать моим богом? Я не вела жизни блудницы. Не была одержима семью бесами, не шаталась по дорогам, я женщина уважаемая, — ступай прочь…
Магдалина, убедившись, что обращение неверных — не ее призвание, удалилась в дикую пещеру, названную впоследствии Святой. Агиографы единогласно утверждают, что Лета Ацилия обратилась в христианскую веру только много лет спустя, после той беседы, которую я точно передал.
Заметки по поводу толкования одного места Св. Писания
Некоторые читатели упрекают меня, что я ошибся, назвав Марию из Вифании, сестру Марфы, — Марией Магдалиной. Прежде всего должен согласиться, что евангелие, по-видимому, считает Марию, пролившую благовония на ноги Иисуса, и Марию, которой учитель сказал: «Noli me tangere»[24], двумя разными женщинами. Здесь я признаю правоту тех, кто сделал мне честь, указав на мою ошибку. В их числе была и некая княгиня православного вероисповедания. Это меня не удивляет. Греки во все времена различали двух Марий. Между тем западная церковь рассматривала этот вопрос иначе. Она, наоборот, очень рано начала отождествлять Марию — сестру Марфы — с Марией-блудницей. Это не согласовано с евангельскими текстами, но трудности, возникающие при чтении текстов, смущают обычно только ученых. Народная поэзия более гибка, чем наука; она не останавливается ни перед чем, умеет обходить препятствия, на которые наталкивается критическая мысль. Благодаря такому счастливому свойству народная фантазия слила воедино обеих Марий и создала чудесный образ Магдалины. Легенда освятила его, а я в своем коротеньком рассказе вдохновился легендой и считаю, что абсолютно прав. Но это не все. Я могу еще сослаться на авторитет ученых. Не хвастая; скажу, что на моей стороне Сорбонна. 1 декабря 1521 года она заявила; что существовала только одна Мария.
Красное яйцо
Посвящается Самюэлю Поцци[25]
Доктор N. поставил чашку на камин, бросил сигару в огонь и сказал:
— Друг мой, я помню, вы говорили о странном случае самоубийства одной женщины[26], доведенной до этого страхом и угрызениями совести. Это была образованная, с утонченными чувствами женщина. Ее заподозрили в том, что она была соучастницей в преступлении, тогда как она оказалась лишь его немой свидетельницей; и, доведенная до отчаяния мыслью о том, что всему виной ее непоправимое малодушие, преследуемая кошмарами, в которых видела своего убитого и уже тронутого тлением мужа, указывающего на нее пальцем любопытным судьям, она стала безвольной жертвой своего больного воображения. И вот одно случайное и совсем незначительное обстоятельство решило ее судьбу. С ней жил ее племянник, школьник. Как-то утром он, как обычно, готовил в столовой уроки. Там же находилась и она. Мальчик переводил слово за словом стихи Софокла. Он произносил вслух по мере того, как писал греческие и французские слова: Κάρα θείον — божественная голова; Ιοκάστης — Иокасты; τέδνηκε — мертва… Σπώσα κόμην — вырывая волосы; καλεί — она призывает; Λάϊον νεκρόν — мертвого Лайя…; Είσείδομεν — мы увидели; τήν γυναίκα κρεμαστήν — женщину, которая повесилась. Поставив точку, да так, что прорвалась бумага, мальчуган высунул измазанный чернилами язык и запел: «Повесилась! Повесилась! Повесилась!» Несчастная женщина, воля которой была подавлена, послушно подчинилась внушению трижды повторенного слова. Она поднялась и молча, ни на кого не глядя, пошла к себе в спальню. Несколько часов спустя полицейский комиссар, вызванный, чтобы констатировать насильственную смерть, глубокомысленно заметил: «Немало привелось мне видеть женщин-самоубийц, но удавленницу вижу впервые».
Много толкуют о внушении. Рассказанный случай — как раз пример естественного и вполне правдоподобного внушения. Что там ни говори, я не очень-то доверяю внушениям, применяемым в лечебных целях. Однако признаю нисколько не противоречащим разуму и не раз подтвержденным жизнью то, что человек, в котором убита воля, легко поддается малейшему воздействию извне. Приведенный вами случай напомнил мне о другом, аналогичном ему. Я имею в виду моего несчастного друга детства Александра Леманселя. Вашу героиню погубила строфа Софокла; моего товарища, о котором я вам сейчас расскажу, доконала фраза Лампридия.
Лемансель, с которым я учился в авраншском лицее, не был похож на своих сверстников. Он казался моложе и вместе с тем старше своих лет. Маленький и тщедушный, он в пятнадцать лет боялся того, чего обычно страшатся маленькие дети. Он не мог побороть страха перед темнотой. Разражался слезами при виде одного из служителей лицея, у которого на макушке была большая шишка. Но порой, если приглядеться к нему как следует, он казался почти стариком. Сухая, словно присохшая к вискам кожа худосочного человека и жиденькие волосы; лоснящийся, как у пожилых людей, лоб. И какой-то невидящий взгляд. Посторонние не раз принимали его за слепого. Только рот оживлял все лицо. Он был очень подвижен и выражал то детскую радость, то тайное страдание. Звук его голоса был чист и приятен. И когда, отвечая урок, он декламировал стихи, он читал их нараспев и отчеканивал ритм, чем очень смешил нас. Во время перемен Александр охотно принимал участие в наших играх; он был довольно ловок, но вносил в игры какой-то лихорадочный пыл; все его движения напоминали лунатика, и это возбуждало во многих его товарищах непреодолимую антипатию. Его не любили. И он стал бы нашим козлом отпущения, если бы мы не испытывали уважения к его гордой нелюдимости и славе сильного ученика. Несмотря на неровность в занятиях, Александр часто оказывался во главе всего класса. Уверяли, что он разговаривает по ночам и даже бродит во сне. Однако собственными глазами никто этого не видел: все мы были в том возрасте, когда сон особенно крепок.
Долгое время Александр вызывал во мне скорее удивление, нежели симпатию. Подружились же мы совсем неожиданно во время экскурсии нашего класса в аббатство Мон-Сен-Мишель[27]. Мы шагали босиком по берегу моря, перекинув через плечо палку, на которой висели башмаки и узелки с хлебом, и распевали во всю глотку. Мы прошли потайным ходом и, бросив свои пожитки возле пушек, уселись рядком на одну из этих старинных железных бомбард, уже пять веков ржавеющих под дождями и солеными брызгами прибоя. И тогда, переведя свой блуждающий взгляд с древних камней на небо и болтая босыми ногами, Лемансель сказал:
— Ах! Если бы я жил во времена этих войн и был рыцарем! Я захватил бы две пушки… двадцать пушек… сто пушек… все пушки захватил бы у англичан! Я сражался бы один у потайного хода. А над моей головой парил бы архистратиг Михаил в виде белого облака.
Слова эти и певучий тон, которым они были произнесены, глубоко меня потрясли. Я сказал: «…А я был бы твоим оруженосцем. Ты мне очень нравишься, Лемансель! Хочешь со мной дружить?» Я протянул ему руку, и он торжественно ее пожал.
Тут учитель велел нам обуться, и наш маленький отряд стал взбираться по узенькой и крутой тропинке, ведущей в аббатство. На полдороге, возле ползучей смоковницы, мы увидели домик, в котором под вечной угрозой моря жила Тифания Рагенель, вдова Бертрана дю Геклена[28]. Жилище это такое тесное, что просто диву даешься, как мог там поместиться человек. Должно быть, старушка Тифания была совсем крохотной старушкой, пожалуй даже святой, довольствовавшейся одною духовною пищей.
Лемансель широко открыл объятия, словно желая заключить в них эту ангельскую обитель, потом, опустившись на колени, стал целовать камни, не обращая внимания на хохот товарищей, которые, расшалившись, принялись швырять в него камешками. Не буду рассказывать о нашем осмотре карцеров монастыря, его зал, часовни. Лемансель, казалось, не видел ничего вокруг. Да и вообще я привел этот эпизод лишь для того, чтобы показать, как завязалась наша дружба.
На следующую ночь в дортуаре меня разбудил чей-то шепот: «Тифания не умерла». Протерев глаза, я увидел возле себя Леманселя в одной ночной сорочке; я попросил оставить меня в покое и опять уснул, забыв и думать о его странных словах.
Начиная с того дня передо мной все больше и больше раскрывался характер товарища, и совершенно неожиданно я обнаружил в нем непомерную гордость. Вас не удивит, конечно, если я скажу, что в пятнадцать лет я был неважным психологом. Да к тому же и гордость Леманселя была слишком неуловима и не бросалась в глаза с первого взгляда. Она никогда не принимала осязаемой формы, ограничиваясь областью мечтаний. Но вместе с тем ею были насквозь проникнуты все чувства моего друга, она как бы придавала единство его причудливым и непоследовательным мыслям.
Вскоре после экскурсии в Мон-Сен-Мишель во время каникул Лемансель пригласил меня провести денек в Сен-Жюльене, где у его родителей была небольшая усадьба. Мать отпустила меня неохотно: Сен-Жюльен находится в шести километрах от города. Но как бы то ни было, в одно из воскресений я с раннего утра нарядился в белый жилет и голубой галстук и отправился к своему приятелю.
Александр встретил меня на пороге дома, улыбаясь детски ясной улыбкой. Он взял меня за руку и ввел в «залу». Дом, полугородской, полудеревенский, был не беден и прилично обставлен. Но, когда я вошел, у меня болезненно сжалось сердце — такая царила в нем тишина и грусть. У окна, занавеска на котором была слегка приподнята, будто из него только что выглядывал кто-то с робким любопытством, стояла женщина, с первого взгляда показавшаяся мне старухой. Однако я не поручился бы, что она действительно была такой старой, как мне тогда показалось. Она была очень худа и желта; глаза ее в глубоких черных орбитах лихорадочно блестели из-под красных век. И хотя стояло лето, она буквально утопала в темной шерстяной одежде. Особенно поражал в ее внешности тонкий металлический обруч, словно диадема охватывавший ее лоб.
— Это мама, — сказал Лемансель. — У нее мигрень.
Госпожа Лемансель поздоровалась со мной жалобным голосом и, должно быть, заметив, как удивленно я смотрел ей на лоб, сказала с улыбкой:
— Не подумайте, молодой человек, что это корона; это просто магнитный обруч от головной боли.
Но, пока я подыскивал ответ полюбезней, Александр позвал меня в сад. Там мы увидели лысого человечка, который бесшумно шмыгал по дорожкам. Глядя на него, казалось, что его вот-вот сдует ветром, так он был хрупок и тощ. Боязливые повадки, длинная жилистая шея, которую он то и дело вытягивал вперед, маленькая, с кулачок, головка, манера глядеть как-то вбок, походка вприпрыжку, коротенькие ручки, согнутые в локтях и оттопыренные, словно крылья, — все это придавало ему удивительное, можно сказать какое-то непостижимое сходство с ощипанным цыпленком…
Мой друг объяснил мне, что это его папа и что не надо его задерживать; пусть идет на птичий двор, где он проводит почти все время в обществе кур, так что даже отвык разговаривать с людьми. Пока Александр говорил, отец его исчез, и вскоре воздух огласился радостным кудахтаньем: господин Лемансель был на птичьем дворе.
Походив со мной по саду, мой друг предупредил меня, что сейчас за обедом я увижу его бабушку, добавив, что она очень добрая старушка, не надо только обращать внимания на ее слова, потому что временами она заговаривается. Потом он повел меня в хорошенькую беседку и, покраснев, прошептал на ухо:
— Я сочинил стихи о Тифании Рагенель. Я прочту их тебе в другой раз! Непременно прочту!
В это время позвонили к обеду. Мы вернулись в залу. Вслед за нами пришел и г-н Лемансель-отец с полной корзинкой яиц.
— Восемнадцать штук за утро, — прокудахтал он.
Подали очень вкусный омлет. Я сидел между госпожой Лемансель в железном венце, которая то и дело вздыхала, и ее матерью, толстощекой нормандкой, у которой не было больше зубов и потому она улыбалась глазами. Она показалась мне очень симпатичной. Пока ели жареную утку и курицу под белым соусом, милая старушка развлекала нас занятными рассказами, и я ни разу не заметил, чтобы она заговаривалась. Напротив, она казалась душой всего дома.
После обеда мы перешли в маленькую гостиную, которая была обставлена ореховой мебелью, обитой желтым плюшем. На камине между двумя подсвечниками красовались фигурные часы. На их черной подставке под стеклянным колпаком, покрывавшем часы, лежало красное яйцо. Сам не знаю почему, но я принялся его внимательно разглядывать. Детям свойственно такое беспричинное любопытство. Правда, надо сказать, яйцо было великолепного и совершенно необычного цвета, оно ничуть не походило на окрашенные свекольным соком, буроватые пасхальные яйца, которыми так восхищаются ребятишки перед витринами зеленщиков. Это яйцо было пурпурное, как императорская порфира. С присущей моему возрасту нескромностью я не сдержал удивления.
Господин Лемансель-отец ответил чем-то вроде петушиного кукареканья, что свидетельствовало о его восторге.
— Вы, кажется, думаете, молодой человек, что это яйцо окрашено, — сказал он. — Вовсе нет. Его снесла таким, как вы его видите, моя цейлонская курица. Это чудесное яйцо.
— И не забудь добавить, мой друг, что она снесла его как раз в день рождения нашего Александра, — тоном страдалицы заметила г-жа Лемансель.
— Верно! — согласился г-н Лемансель.
Бабушка же лукаво поглядела на меня и, поджав губы, недоверчиво покачала головой.
— Гм! Куры-то часто сидят не на своих яйцах, особенно если проказник-сосед подсунет в гнездо… — пробормотала она.
Внук резко перебил ее.
— Не слушай! Не слушай! — крикнул он. — Я же тебе говорил!..
Он побледнел, от волнения у него дрожали руки.
— Верно, — повторил г-н Лемансель и покосился круглым глазом на пурпурное яйцо.
Дальнейшая наша дружба с Александром Леманселем не представляет ничего интересного. Он часто говорил о своих стихах, посвященных Тифании, но так и не показал их мне. К тому же мы вскоре расстались и я потерял его из виду. Мать отправила меня заканчивать образование в Париж. Я сдал там два экзамена на степень бакалавра и поступил на медицинский факультет. И вот, когда я работал над докторской диссертацией, мать написала мне, что Александр перенес тяжелую болезнь и в результате острого кризиса стал необычайно мнителен и пуглив, но, впрочем, безобиден, и что душевное расстройство и плохое здоровье не мешают ему проявлять исключительные способности к математике. Меня это ничуть не удивило. Сколько уж раз, изучая болезни центральной нервной системы, я вспоминал о своем сен-жюльенском друге и невольно предсказывал общий паралич этому несчастному отпрыску вечно страдающей мигренью матери и отца-микроцефала.
Первое время казалось, что я ошибся. Как мне сообщили из Авранша, Александр Лемансель, достигнув зрелого возраста, выздоровел и проявил блестящие способности. Он значительно преуспел в занятиях математикой, даже послал в Академию наук свое решение нескольких нерешенных уравнений, которое было признано вполне верным и не менее изящным. Работа поглощала все его время, и он писал мне очень редко. Письма его были сердечны, ясны, разумны; даже самый придирчивый невропатолог не нашел бы в них ничего подозрительного. Вскоре, однако, переписка наша оборвалась, и я целых десять лет ничего о нем не слышал.
Вообразите же мое удивление, когда в прошлом году лакей доложил мне, что меня желает видеть какой-то господин, и подал визитную карточку Александра Леманселя. Извинившись перед коллегой, с которым мы обсуждали в это время важный профессиональный вопрос, я оставил его на минуту одного в кабинете и выбежал поздороваться со своим школьным товарищем. Александр сильно состарился, облысел, побледнел, исхудал. Я взял его под руку и провел в гостиную.
— Очень рад тебя видеть, — сказал он. — Мне о многом надо поговорить с тобой. Меня жестоко преследуют. Но ничего, я не из робких, я буду бороться и одолею моих врагов!
Его слова сильно меня встревожили, как встревожили бы любого невропатолога, будь он на моем месте.
Я увидел в них симптом душевного недуга, угрожавшего моему товарищу в силу рокового закона наследственности; развитие болезни, по-видимому, только временно приостановилось.
— Да, да! Мы непременно обо всем поговорим, — ответил я. — Подожди здесь минутку. Вот покончу только с одним делом и вернусь. А чтобы не скучать, возьми какую-нибудь книгу.
Как вы знаете, у меня множество книг и в гостиной. В трех шкафах красного дерева стоит до шести тысяч томов. Почему же, спрашивается, мой несчастный друг взял именно ту книгу и раскрыл ее именно на той злосчастной странице, которая окончательно погубила его— Минут двадцать спустя я распростился с коллегой и вышел в приемную, где оставил Леманселя. Он был в ужасном состоянии. Он ударил ладонью по лежащей перед ним раскрытой книге, в которой я узнал перевод «Жизнеописания императора Августа», и громко прочитал следующую фразу Лампридия: «В день рождения Александра Севера курица, принадлежащая его отцу, снесла красное яйцо, предзнаменование императорской порфиры, которая суждена новорожденному».
Возбуждение Александра граничило с безумием. Он был вне себя. Он громко выкрикивал:
— Яйцо! Яйцо, снесенное в день моего рождения! Я император. Я знаю, ты хочешь меня убить! Не приближайся ко мне, злодей! — Он метался по комнате. Потом, остановившись вдруг передо мной и широко раскрыв объятия, воскликнул: — Друг мой! Мой старый товарищ! Проси у меня всего, чего хочешь!.. Ведь я император!.. Император… Прав был отец… Пурпурное яйцо… Так и есть… Император… Злодей! Как ты смел утаить от меня эту книгу— Я жестоко покараю тебя за государственную измену… Я император… Император! Да, я должен стать императором… Это мой долг! Да, долг…
Он ушел. Напрасно я старался удержать его. Он вырвался и убежал. Остальное вам известно. Во всех газетах рассказывалось, как, выйдя от меня, он купил револьвер и застрелил часового, который преградил ему доступ в Елисейский дворец.
Так фраза, написанная латинским историком четвертого века, послужила пятнадцать веков спустя причиной смерти ни в чем не повинного французского солдата. Попробуйте-ка распутать сложный клубок причин и следствий! Попробуйте, совершая какой-нибудь поступок, с уверенностью сказать: «Я знаю, что я делаю». Вот и все, мой друг, что я хотел вам рассказать. Конец этой истории представляет интерес разве лишь для медицинской статистики и может быть передан в нескольких словах: Александра Леманселя поместили в психиатрическую больницу, где он в течение полумесяца буйствовал, а затем впал в идиотизм, сопровождавшийся страшной прожорливостью: он поедал даже воск для натирки полов. Три месяца тому назад он задохся, подавившись губкой.
Доктор умолк и закурил папиросу.
— Вы рассказали нам страшную историю, доктор! — сказал я, немного помолчав.
— Да, история страшная, но зато подлинная, — ответил он. — Я бы не отказался от рюмки коньяку.
Пчёлка
Посвящается Флорентену Лорио
Глава I,
которая повествует о лице земли и служит предисловием
Море поглотило ныне тот край, где некогда простиралось герцогство Кларидское. Нет никаких следов ни города, ни замка. Но говорят, что на расстоянии лье от берега в ясную погоду можно разглядеть в глубине огромные стволы деревьев. А одно место на берегу, где стоит таможенный кордон, до сих пор называется «Портняжкина игла». Весьма вероятно, что это название сохранилось в память некоего мастера Жана, о котором вы еще услышите в этом рассказе. Море с каждым годом все дальше наступает на сушу и скоро покроет и это место, что носит такое странное наименование.
Такие изменения — в природе вещей. Горы с течением времени оседают, а дно морское, наоборот, поднимается и несет с собой в царство туманов и вечных льдов раковины и кораллы.
Ничто не вечно. Лицо земли и очертания морей меняются беспрестанно. Только одно воспоминание о душах и формах проходит сквозь века и показывает нам как живое то, чего давным-давно уже нет.
Рассказывая вам о Кларидах, я хочу повести вас в очень далекое прошлое. Итак, начинаю.
Графиня де Бланшеланд надела на свои золотые волосы черную шапочку, шитую жемчугом…
Но прежде чем продолжать свой рассказ, я умоляю всех серьезных людей не читать меня ни в каком случае. Это написано не для них. Это написано отнюдь не для тех рассудительных душ, которые презирают безделки и хотят, чтобы их вечно наставляли. Я осмелюсь предложить этот рассказ только тем, кто любит, чтобы их забавляли, у кого рассудок юн и не прочь поиграть. Только те, кого могут радовать самые невинные забавы, и прочтут меня до конца. И вот их-то я и прошу, чтобы они рассказали мою Пчелку своим детям, если у них есть малыши. Мне хочется, чтобы этот рассказ понравился маленьким мальчикам и девочкам, но, по правде сказать, я не смею на это надеяться. Он слишком легкомыслен для них и хорош только для детей добрых старых времен. У меня есть премиленькая соседка девяти лет. Как-то раз я заглянул в ее библиотеку; я нашел там много книг о микроскопе и зоофитах и несколько научных романов. Я открыл один из них и попал на следующие строки: «Каракатица Cepia officinalis представляет собою разновидность головоногого моллюска, в теле которого имеется губчатый орган, состоящий из хитина и углекислой извести». Моя хорошенькая соседка считает, что это страшно интересный роман. И я умоляю ее, если она не хочет, чтобы я умер со стыда, никогда не читать рассказ про Пчелку.
Глава II,
где говорится о том, что предсказала графине де Бланшеланд белая роза
Графиня де Бланшеланд надела на свои золотые волосы черную шапочку, шитую жемчугом, и, опоясавшись крученым поясом, какой полагается носить вдовам, вошла в часовню, где она имела обыкновение молиться каждый день за душу своего супруга, убитого в поединке со страшным великаном Ирландским.
И тут она увидала, что на подушке ее аналоя лежит белая роза; увидев это, графиня побледнела, взгляд ее затуманился, она запрокинула голову и заломила руки. Ибо она знала, что когда графине де Бланшеланд приходит время умереть, она находит на своем аналое белую розу.
Когда она поняла, что для нее настал час покинуть этот мир, где ей за такой недолгий срок выпало на долю стать супругой, матерью и вдовой, она пошла в детскую; там спал ее сын Жорж под присмотром служанок. Ему было три года, длинные ресницы бросали прелестную тень на его щечки, а ротик у него был как цветок. И когда она увидала, что он такой маленький и хорошенький, она заплакала.
— Сыночек мой, — сказала она упавшим голосом, — дорогой мой мальчик, ты не будешь знать меня, и мой образ навсегда исчезнет из твоих милых глазок. А ведь я кормила тебя своим молоком, потому что хотела быть тебе настоящей матерью, и из любви к тебе я отказывала самым прекрасным рыцарям.
С этими словами она поцеловала медальон, где был ее портрет и прядь ее волос, и надела его на шею сына. И слеза матери упала на щечку ребенка, который заворочался в постельке и стал тереть себе глаза кулачками. Но графиня отвернулась и тихонько вышла из комнаты. Разве очи ее, которым суждено было вот-вот закрыться, могли вынести блестящий взор этих обожаемых глазок, где уже начинал светиться разум?
Она велела оседлать лошадь и в сопровождении своего оруженосца Верное Сердце отправилась в замок Кларидов.
Герцогиня Кларидская встретила графиню де Бланшеланд с распростертыми объятиями.
— Какой счастливый случай привел вас ко мне, моя прелесть?
— Случай, который привел меня к вам, совсем не счастливый; выслушайте меня, мой друг. Мы с вами вышли замуж вскоре одна после другой и обе овдовели при одинаковых обстоятельствах. Потому что в наше рыцарское время лучшие погибают первыми, и надобно быть монахом, чтобы жить долго. Я уже два года была матерью, когда и вы стали ею. Ваша дочка Пчелка хороша, как ясный день, а мой крошка Жорж добрый мальчик. Я люблю вас, и вы любите меня. Так вот, знайте, я нашла белую розу на подушке моего аналоя. Я должна умереть: я оставляю вам моего сына.
Герцогине было известно, что предвещает белая роза дамам де Бланшеланд. Она заплакала и, обливаясь слезами, обещала воспитать Пчелку и Жоржа, как брата с сестрой, и никогда ничего не давать одному из них, не разделив с другим.
И тут обе женщины, обнявшись, подошли к колыбели, где под легким голубым, как небо, пологом спала маленькая Пчелка, и она, не раскрывая глаз, зашевелила ручонками. И, когда она раздвинула пальчики, казалось, из каждого рукавчика протягиваются пять розовых лучиков.
— Он будет защищать ее, — сказала мать Жоржа.
— А она будет любить его, — промолвила мать Пчелки.
— Она будет любить его, — повторил звонкий голосок, и герцогиня узнала голос духа, который давно уже жил в замке под очагом.
Графиня де Бланшеланд, вернувшись в замок, раздала свои драгоценности верным служанкам и, умастившись ароматными маслами, облеклась в лучшие одежды, дабы достойным образом украсить эту плоть, коей предстоит воскреснуть в день последнего суда; затем она легла на свое ложе и уснула, чтобы больше никогда не просыпаться.
Глава III,
в которой начинается любовь Жоржа де Бланшеланд и Пчелки Кларидской
В противность обычной судьбе, которая дает человеку в дар или более доброты, нежели красоты, или более красоты, нежели доброты, герцогиня Кларидская была столь же добра, сколь и хороша собою, а она была так хороша, что стоило только какому-нибудь принцу увидеть ее портрет, как он сейчас же предлагал ей руку и сердце. Но на все предложения она отвечала:
— Только один супруг был у меня и будет, потому что у меня только одна душа.
Но все же по прошествии пяти лет траура она сняла свое длинное покрывало и черные одежды, чтобы не омрачать радости окружающим и чтобы люди могли, не стесняясь, смеяться и веселиться в ее присутствии. Герцогство Кларидское включало в себя обширные земли с пустынными равнинами, покрытыми вереском, озерами, где рыбаки ловили рыбу, — а там водились и волшебные рыбы, — и горами, вздымавшимися в страшных ущельях над подземными странами, где обитали гномы.
Герцогиня правила Кларидами, руководясь советами старого монаха, бежавшего из Константинополя, который видел на своем веку много жестокости и коварства и не слишком верил в мудрость человеческую. Он жил, запершись в башне со своими книгами и птицами, и оттуда подавал советы, придерживаясь небольшого количества правил. А правила эти были такие: никогда не вводить вновь вышедший из употребления закон; уступать голосу народа, дабы избежать смут, но уступать ему сколь возможно медлительно, ибо стоит только допустить одну реформу, как люди потребуют другой, и господству вашему придет конец, если вы уступите слишком скоро, равно как и в том случае, если вы будете противиться слишком долго.
Герцогиня предоставляла ему править страной, так как сама ничего не понимала в политике. Она была сострадательна к людям и, если и не могла уважать всех на свете, жалела тех, кто имел несчастье быть дурным. Она помогала несчастным всем, чем могла, посещала больных, утешала вдовиц и давала приют сиротам.
Свою дочку, Пчелку, она воспитывала с трогательной мудростью. Внушив ей, что удовольствие можно находить только в хороших поступках, она никогда не отказывала ей в удовольствиях.
Эта прекрасная женщина сдержала обещание, данное ею бедной графине де Бланшеланд. Она была настоящей матерью Жоржу и не делала никакого различия между Пчелкой и им. Они росли вместе, и Жоржу нравилась Пчелка, хотя она и была слишком мала. Однажды, когда они были еще совсем маленькие, он подошел к ней и сказал:
— Хочешь, поиграем?
— Хочу, — сказала Пчелка.
— Будем делать песочные пирожки, — сказал Жорж.
И они стали делать пирожки. Но у Пчелки пирожки выходили плохие, и он шлепнул ее по пальцам лопаткой. Пчелка пронзительно вскрикнула, а оруженосец Верное Сердце, который прогуливался по саду, сказал своему юному господину:
— Даму ударить — поступок, недостойный графа де Бланшеланд, монсеньер.
Жоржу страшно захотелось воткнуть в оруженосца свою лопатку, но так как это было сопряжено с неодолимыми трудностями, он ограничился тем, что уткнулся носом в толстое дерево и громко заплакал.
А Пчелка в это время, стараясь не отстать от него, изо всех сил терла глаза кулачками, чтобы вызвать слезы, и, наконец, в горьком отчаянье уткнулась носом в соседнее дерево. И когда спустились сумерки, Пчелка и Жорж все еще стояли и плакали, каждый у своего дерева. Тогда герцогине Кларидской пришлось вмешаться самой, взять одной рукой за руку свою дочку, а другою — Жоржа и увести их в замок. Глаза у них были красные, носы красные, щеки лоснились; они так вздыхали и сопели, что на них было жалко смотреть. Поужинали они с большим аппетитом, после чего их уложили в постельки, но как только потушили свечу, они выскочили словно маленькие призраки, оба в ночных рубашонках, обнялись и начали громко хохотать.
Так началась любовь Пчелки Кларидской и Жоржа де Бланшеланд.
Глава IV,
которая посвящена воспитанию вообще и воспитанию Жоржа в частности
Жорж рос в замке вместе с Пчелкой, которую он по дружбе называл сестрой, хотя и знал, что она не сестра ему.
У него были учителя фехтованья, верховой езды, плавания, гимнастики, танцев, псовой охоты, соколиной охоты, игры в мяч — словом, его обучали всевозможным искусствам. У него был даже учитель каллиграфии. Это был старый писец, смиренный с виду и весьма гордый в душе; он обучал его письму, которое тем труднее было прочесть, чем оно было красивее. Жоржу доставляли мало удовольствия, а следовательно, и мало пользы уроки старого писца, впрочем так же, как и уроки монаха, который учил его грамматике и донимал варварской терминологией; Жорж не понимал, зачем это надо тратить столько усилий на изучение языка, на котором говоришь от рождения и который называется родным языком.
Ему было хорошо только с оруженосцем Верное Сердце, который немало шатался по белу свету, знал нравы людей и животных, рассказывал о разных странах и сочинял песенки, только не умел записать их. Верное Сердце был единственным из наставников Жоржа, научившим его кое-чему, потому что он был единственным, кто его действительно любил, а ведь уроки только тогда и приносят пользу, когда вас наставляют с любовью. Но эти двое очкастых — учитель каллиграфии и учитель грамматики, — хоть они и ненавидели друг друга от всего сердца, все же объединились в общей ненависти к старому оруженосцу, которого они обвиняли в пьянстве.
Правда, Верное Сердце частенько захаживал в харчевню «Оловянная кружка», ибо там он забывал свои горести и сочинял песенки. Конечно, он поступал нехорошо.
Гомер сочинял стихи получше Верного Сердца, а Гомер ничего не пил, кроме родниковой воды. А что до огорчений, так ведь у кого же их нет? А если что и помогает забыть о них, так не выпитое вино, а добро, которое делаешь другим. Но Верное Сердце был старый человек, поседевший на ратной службе, преданный и достойный слуга, и обоим учителям — каллиграфии и грамматики — следовало бы помалкивать о его слабостях, а не доносить о них герцогине, да еще прибавляя от себя.
— Верное Сердце — пьяница, — говорил учитель каллиграфии. — Когда он плетется домой из харчевни «Оловянная кружка», он выписывает ногами кренделя на дороге, и это все, что он умеет писать, госпожа моя герцогиня, потому что этот пьяница — истинный осел.
А учитель грамматики добавлял:
— Верное Сердце распевает, пошатываясь, песенки, которые пренебрегают правилами стихосложения и не следуют никаким образцам. Он понятия не имеет о синекдохе, госпожа моя герцогиня.
Герцогиня терпеть не могла доносчиков и педантов. Она сделала то, что всякий из нас сделал бы на ее месте: сначала она просто не слушала их, а затем, так как они без устали повторяли свои доносы, она в конце концов поверила им и решила удалить Верное Сердце. Однако, желая сделать его изгнание почетным, она послала его в Рим за папским благословением. Путешествие это для Верного Сердца было тем более длительно, что множество харчевен, часто посещаемых музыкантами, отделяло герцогство Кларидское от апостольского града.
Из продолжения рассказа вы увидите, как скоро герцогине пришлось пожалеть, что она лишила детей их самого верного стража.
Глава V,
в которой рассказывается о том, как герцогиня отправилась с Пчелкой и Жоржем в монастырь, и о том, как они встретились там с ужасной старухой
В это утро, — а это было первое воскресенье после пасхи, — герцогиня выехала из замка на своем рослом рыжем коне; рядом с ней по левую руку ехал Жорж де Бланшеланд, — под ним был черный как смоль конь со звездой во лбу, а справа — Пчелка на буланой лошадке с розовыми поводьями. Они ехали к обедне в отдаленный монастырь, позади следовала почетная стража с копьями, а народ толпами выходил навстречу, чтобы полюбоваться на них. И в самом деле, все трое были на диво хороши! Герцогиня под своим покрывалом, вышитым серебряными цветами, и в развевающемся плаще была необыкновенно пленительна и величественна, а жемчуга, которыми была вышита ее шапочка, излучали мягкий блеск, столь же гармонирующий с ее прелестным лицом, сколь и с прекрасной душой этой достойной особы; рядом с ней Жорж с развевающимися кудрями и живым взором выглядел совсем молодцом, а по другую сторону Пчелка радовала взор нежными и чистыми красками своего личика; но всего восхитительнее были ее белокурые волосы, перехваченные лентой с тремя золотыми цветочками и ниспадавшие ей на плечи словно сверкающая мантия юности и красоты. Добрые люди глядели на нее и говорили: «Вот какая красивая барышня!»
Старый портной, мастер Жан, взял своего внучка Пьера на руки, чтобы показать ему Пчелку, а Пьер спросил, настоящая ли она, живая, или, может быть, такая восковая куколка? Он не представлял себе, что эта беленькая хорошенькая фигурка может быть той же породы, что и он сам, маленький Пьер, с его круглыми загорелыми щечками и в холщовой рубашонке, завязанной сзади на деревенский лад.
В то время как герцогиня благосклонно принимала эти знаки почтения, личики обоих детей сияли от гордости: Жорж вспыхивал румянцем, а Пчелка расточала улыбки. И тогда герцогиня сказала им:
— Эти добрые люди приветствуют нас от всего сердца. Что вы думаете об этом, Жорж, и вы что думаете, Пчелка?
— Что они очень хорошо делают, — ответила Пчелка.
— И что это их долг, — добавил Жорж.
— А почему же это их долг? — спросила герцогиня.
И, так как они оба молчали, она сказала:
— Я вам сейчас объясню. Вот уже более трехсот лет герцоги Кларидские из рода в род, от отца к сыну защищают с копьем в руке этих бедных людей, которые благодаря им могут спокойно собирать урожай на своих полях. Вот уже более трехсот лет, как герцогини Кларидские прядут пряжу для бедняков, посещают больных и крестят младенцев у поселян. Вот почему все вас приветствуют, дети мои.
И Жорж подумал: «Буду непременно защищать землепашцев». А Пчелка: «Буду непременно прясть пряжу для бедняков».
И вот так, беседуя и размышляя, ехали они среди лугов, усеянных цветами. Синие горы вырисовывались на горизонте. Жорж протянул руку к востоку.
— Что это там виднеется? — спросил он. — По-моему, это большой стальной щит.
— А по-моему, это такая серебряная пряжка, большая-большая, как луна, — сказала Пчелка.
— Нет, детки, это вовсе не стальной щит и не серебряная пряжка, — ответила герцогиня, — это озеро так блестит на солнце. А поверхность вод, которая издали кажется вам гладкой, как зеркало, изборождена бесчисленными волнами. И берега этого озера, что представляются вам такими ровными и словно вырезанными из металла, на самом деле покрыты камышом с пушистыми султанами и ирисами, у которых цветок — словно глаз человеческий между мечами. Каждое утро белый пар окутывает озеро, а под полуденным солнцем оно сверкает, как броня. Но к нему нельзя приближаться, ибо в нем обитают ундины, которые увлекают путников в свой хрустальный дворец.
В эту минуту они услышали монастырский колокол.
— Мы оставим лошадей здесь, — сказала герцогиня, — и пойдем пешком к храму. Ведь волхвы-короли приблизились к яслям не на слонах и не на верблюдах.
Они отстояли обедню в монастыре. Страшная старуха в лохмотьях стояла на коленях около герцогини, и та, выходя из церкви, зачерпнула святой воды в кропильнице и подала старухе, промолвив:
— Примите, матушка!
Жорж удивился.
— Разве вы не знаете, — сказала герцогиня, — что надо почитать бедных, ибо их возлюбил Иисус Христос? Ведь нищая, подобная этой, держала вас с добрым герцогом Роншуарским над крестильной купелью; и крестный отец вашей сестрицы Пчелки такой же бедняк.
Старуха угадала мысли мальчика, наклонилась к нему и сказала, хихикая:
— Желаю вам, прекрасный принц, завоевать столько королевств, сколько мне пришлось их потерять. Я была королевой Жемчужных островов и Золотых гор; каждый день у меня за столом подавали четырнадцать сортов рыбы, а за мной ходил негритенок и нес мой шлейф.
— Но как же случилось такое несчастье, что вы лишились ваших островов и гор, добрая женщина? — спросила герцогиня.
— Я навлекла на себя гнев гномов, и они унесли меня далеко от моих владений.
— Разве они такие могущественные, эти гномы? — спросил Жорж.
— Они живут в недрах земли, — отвечала старуха, — и знают свойства камней; они добывают металлы и открывают источники.
— А чем же вы их так рассердили, матушка?
И старуха рассказала:
— Один из них явился ко мне декабрьской ночью и попросил позволения приготовить к сочельнику праздничный ужин в кухне замка, а кухня эта была больше самой большой дворцовой залы, и полки в ней ломились от множества всякой посуды, — там были всевозможные кастрюли, сковороды, противни, котлы, чугунки, жаровни, решетки, соусницы, опарницы, рыбницы, тазы, формы для пирожного, медные кувшины, чаши золотые, серебряные и драгоценного дерева с прожилками, я уж не считаю железного кованого вертела и громадного черного котла, висевшего на крюке. Он обещал мне, что они ничего не сломают и не испортят. Но я все-таки отказала ему в его просьбе, и он исчез, бормоча под нос невнятные угрозы. А на третью ночь, — это был канун рождества, — тот же гном явился ко мне в опочивальню, а за ним несметное множество других; они схватили меня с моего ложа в одной сорочке и унесли в неведомую страну. «Вот, — сказали они, покидая меня, — вот какая кара ждет богачей, которые не хотят уделить ничего из своих сокровищ трудолюбивому и доброму народу гномов, что добывают золото и открывают родники». Вот что рассказала беззубая старуха, и герцогиня, утешив ее добрыми словами и щедрой помощью, отправилась с детьми обратно в замок.
Глава VI,
в которой рассказывается о том, что видно с башенной вышки Кларидского замка
Как-то вскоре после этого Пчелка и Жорж поднялись, когда их никто не видел, по лестнице, ведущей на башню, возвышавшуюся над Кларидским замком. Очутившись на самом верху, на площадке, они радостно закричали и захлопали в ладоши.
Перед глазами у них расстилались склоны холмов, изрезанные зелеными и коричневыми квадратиками распаханных полей. Далеко на горизонте синели леса и горы.
— Сестрица! — вскричал Жорж. — Погляди-ка! Вот вся земля!
— Какая большая! — сказала Пчелка.
— Мои учителя, — сказал Жорж, — рассказывали мне, что она большая, да только, как говорит наша ключница Гертруда, надо самому посмотреть, чтобы поверить.
Они обошли кругом всю площадку.
— Вот так чудо, братец! — вскричала Пчелка. — Замок наш стоит посреди земли, а мы забрались на вышку, и она посреди замка, вот мы и очутились теперь на самой середине мира! Ха-ха-ха!
И действительно, горизонт окружал детей правильным кругом, и башня была в самой его середине.
— Мы в середине мира, ха-ха-ха! — вторил Жорж.
Потом они оба задумались.
— Как ужасно, что мир такой большой, — сказала Пчелка, — можно заблудиться, и тогда придется жить в разлуке с друзьями.
Жорж пожал плечами.
— Как прекрасно, что мир такой большой! Можно отправиться на поиски всяких приключений. Пчелка, когда я буду большой, я хочу завоевать вон те горы, на самом краю земли. Это оттуда выходит месяц. Я его поймаю по дороге и подарю тебе, моя Пчелка!
— Вот хорошо, — сказала Пчелка, — ты мне его подаришь, и я буду носить его в волосах.
Потом они занялись тем, что стали разыскивать, как на карте, места, которые они знали.
— Я очень хорошо узнаю все, — сказала Пчелка (которая ровно ничего не узнавала), — только я никак не пойму, что это за камушки вон там вроде кубиков рассыпаны по холмам.
— Дома, — ответил Жорж, — это просто дома. Разве ты не узнаешь, сестрица, столицы герцогства Кларидского? А ведь это большущий город, там целых три улицы, и по одной можно ездить в карете. Мы проезжали по ней на прошлой неделе, когда ехали в монастырь. Помнишь?
— А этот ручеек, что вьется вон там?
— Это река. Видишь, там старый каменный мост?
— Мост, под которым мы раков ловили?
— Тот самый, и там еще в нише стоит статуя «Безголовой женщины». Только ее отсюда не видно, потому что она очень маленькая.
— Я помню. А почему у нее нет головы?
— Да потеряла, наверно.
Пчелка, не сказав ни слова, удовлетворяет ли ее это объяснение, рассматривала горизонт.
— Братец, братец, видишь, как там что-то блестит, около синих гор? Это озеро!
— Озеро!
И тут они вспомнили, что герцогиня говорила им об этих опасных и чудесных водах, где находятся дворцы ундин.
— Пойдем туда! — сказала Пчелка.
Это предложение ошеломило Жоржа, он даже открыл рот от удивления:
— Герцогиня не велела нам уходить одним! — вскричал он. — И как мы доберемся до этого озера, когда оно на самом краю света?
— Как мы доберемся, этого я, конечно, не знаю! А вот ты должен знать, потому что ты мужчина и у тебя есть учитель грамматики.
Жорж, задетый за живое, ответил, что можно быть мужчиной, и даже замечательным мужчиной, и все-таки не знать всех дорог на свете. Пчелка состроила презрительную гримаску, от которой он покраснел до ушей, и сказала очень сухо:
— Я вот никому не обещала покорить синие горы и отцепить месяц с неба. Я не знаю дороги к озеру, но уж как-нибудь я ее найду!
— Ах, вот как! Ха-ха! — фыркнул Жорж, пытаясь расхохотаться.
— Вы, сударь, смеетесь совсем как мой ослик!
— Пчелка! Ослики не смеются и не плачут.
— А если бы они смеялись, вот точь-в-точь так бы и смеялись, как вы! Я пойду одна на озеро и разыщу прекрасные воды, где живут ундины! А вы будете сидеть дома, как девочка. Я вам оставлю свое рукоделье и куклу! Смотрите за ней хорошенько, слышите, Жорж!
Жорж был самолюбив. Ему показалось обидным слушать насмешки Пчелки. Опустив голову, насупившись, он сказал мрачно:
— Ну, хорошо! Пойдем на озеро!
Глава VII,
в которой рассказывается, как Пчелка и Жорж отправились на озеро
На другой день после завтрака, когда герцогиня удалилась в свои покои, Жорж взял Пчелку за руку.
— Идем! — сказал он.
— Куда?
— Тсс!!!
Они спустились по лестнице и пошли через двор. Когда они вышли через потайную дверь, Пчелка опять спросила, куда они идут.
— На озеро! — твердо ответил Жорж.
Пчелка широко открыла ротик, да так и застыла на месте. Уйти так далеко, без спросу и в атласных туфельках! А на ней были атласные туфельки. Ну, разве это благоразумно?
— Нам надо идти, и вовсе не обязательно быть благоразумными!
Таков был величественный ответ Жоржа Пчелке. Сама же она его стыдила, а сейчас прикидывается удивленной… Теперь уже он презрительно отсылал ее к куклам. Девчонки всегда так — сами же подстрекают, а потом увиливают. Фу! Вот противный характер! Пусть остается, он один пойдет!
Она схватила его за руку, он оттолкнул ее. Она повисла на шее у брата.
— Братец, — говорила она всхлипывая, — я пойду с тобой.
Он не устоял перед таким глубоким раскаянием.
— Идем, — сказал он, — только не надо идти городом, а то нас увидят. Лучше пойдем крепостным валом и выйдем на большую дорогу через проселок.
И они пошли, держась за руки. Жорж рассказывал, какой план он придумал.
— Мы пойдем той же дорогой, — говорил он, — по которой мы ехали в монастырь. И, конечно, увидим озеро, как увидели его и в прошлый раз, а тогда мы пойдем к нему прямо, через поля, как пчелка летит.
«Как пчелка летит» — это такое деревенское красочное выражение, когда хотят сказать, что путь прямой; но дети принялись хохотать, им показалось смешно, что в этом выражении упоминается имя девочки.
Пчелка собирала цветы по краю рва: мальвы, ромашки, колокольчики, златоцветы, она сделала из них букет, но в ее маленьких ручках цветы вяли прямо на глазах, и, когда Пчелка шла по старому каменному мосту, на них просто жалко было смотреть. Она никак не могла придумать, что делать с букетом, и ей пришло в голову бросить цветы в воду, чтобы они освежились, но потом она решила лучше подарить их «Безголовой женщине».
Она попросила Жоржа поднять ее, чтобы ей стать повыше, и положила всю охапку полевых цветов между сложенными руками старой каменной фигуры.
Когда они отошли уже довольно далеко, она обернулась и увидела, что на плече статуи сидит голубь. Некоторое время они шли молча, потом Пчелка сказала:
— Пить хочется!
— И мне тоже, — сказал Жорж, — только речка осталась далеко позади, а здесь ни ручья, ни родника не видно.
— Солнце такое горячее, что оно, наверно, все выпило. А как нам теперь быть?
Так они говорили и сетовали и вдруг увидали, что идет крестьянка и несет в корзинке ягоды.
— Вишни, — закричал Жорж, — какая досада, что у меня нет денег, не на что купить!
— А у меня есть деньги! — сказала Пчелка.
Она вытащила из кармашка кошелек, в котором было пять золотых монет, и, обратившись к крестьянке, сказала:
— Дайте нам, тетушка, столько вишен, сколько войдет в мой подол.
И с этими словами она приподняла обеими руками подол юбки. Крестьянка бросила ей туда две-три пригоршни вишен. Пчелка прижала одной рукой подол юбки, а другой протянула женщине золотую монету и спросила:
— Этого хватит?
Крестьянка схватила золотую монету, которая с лихвой оплачивала все вишни в ее корзине вместе с деревом, на котором они созрели, и участком земли, где росло это дерево. И так как она была хитрая, она сказала Пчелке:
— Что уж мне с вас больше-то брать, рада вам услужить, моя принцессочка!
— Ну, тогда, — попросила Пчелка, — положите еще вишен в шляпу моему брату, и вы получите еще одну золотую монету.
Конечно, крестьянка охотно сделала это, а потом пошла своей дорогой, обдумывая, в какой шерстяной чулок, в какой тюфяк запрятать ей свое золото. А дети шли своей дорогой, поедая вишни и бросая косточки направо и налево. Жорж выбрал вишенки, которые держались по две на одной веточке, и нацепил их своей сестрице на уши, как сережки, и смеялся, глядя, как эти красивые пурпурные ягодки, вишенки-близнецы, покачиваются на щеках Пчелки.
Их веселое путешествие прервал камешек. Он забрался в башмачок Пчелки, и она начала прихрамывать, и каждый раз, как она спотыкалась, ее белокурые локоны взлетали и падали ей на щечки; так, прихрамывая, она прошла несколько шагов и уселась на краю дороги. Тогда Жорж стал возле нее на колени, снял с ее ноги атласную туфельку, встряхнул, — и оттуда выскочил маленький белый камешек.
Пчелка поглядела себе на ноги и сказала:
— Братец, когда мы с тобой еще раз пойдем на озеро, мы наденем сапожки.
Солнце уже начало склоняться на сверкающем небосводе, легкий ветерок ласкал щеки и шеи юных путешественников, и они, освеженные и приободрившиеся, смело продолжали свой путь. Чтобы легче было идти, они распевали, держась за руки, и смеялись, видя, как перед ними движутся две сплетенные тени. Они пели:
Но вдруг Пчелка остановилась и закричала:
— Я потеряла туфельку… мою атласную туфельку!..
И действительно, так оно и было, как она говорила: туфелька, у которой шелковый шнурок развязался при ходьбе, лежала на дороге пыльная-пыльная. И тут Пчелка оглянулась и увидала, что башни Кларидского замка уже скрылись на горизонте в тумане; сердце у нее сжалось, и слезы подступили к глазам.
— Нас съедят волки, — сказала она, — и мама нас больше не увидит и умрет с горя.
Но Жорж надел ей на ножку туфельку и сказал:
— Когда колокол в замке прозвонит к ужину, мы уже придем обратно в Клариды. Вперед!
Озеро! Пчелка, смотри: озеро! озеро! озеро!
— Да, Жорж, озеро!
Жорж закричал «ура!» и подбросил вверх свою шляпу. Пчелка была слишком благовоспитанна, чтобы швырнуть вверх свой чепчик, но она сняла с ноги туфельку, которая едва держалась, и бросила ее через голову в знак радости. Озеро лежало перед ними в глубине долины, округлые склоны которой мягко спускались к серебристым волнам, словно замыкая их в громадную чашу из цветов и зелени. Там оно лежало, чистое, спокойное, и уже видно было, как колышется зелень на его пока еще смутно различимых берегах. Но на склонах долины, среди густых зарослей, не видно было никакой тропинки, которая вела бы к этим прекрасным водам.
В то время как они тщетно разыскивали дорогу, их начали щипать за икры гуси, которых гнала хворостиной маленькая девочка с овчиной на плечах. Жорж спросил, как ее зовут.
— Жильберта.
— Так вот, Жильберта, как нам пройти к озеру?
— Нельзя к нему пройти.
— А почему?
— Да потому…
— Ну, а все-таки, если попытаться пройти?
— Коли бы пытались пройти, так была бы дорога, по ней и шли бы.
Ну, что можно было на это ответить гусиной пастушке!
— Пойдем, — сказал Жорж. — Там, подальше, мы, наверно, найдем какую-нибудь тропинку в лесу.
— И нарвем орехов, — сказала Пчелка, — и будем их есть, потому что мне кушать хочется. А когда мы опять пойдем на озеро, мы возьмем с собой большую корзину с разными вкусными вещами.
— Да, да, сестрица, — подхватил Жорж, — непременно так и сделаем, как ты говоришь, я теперь понимаю, почему оруженосец Верное Сердце, отправляясь в Рим, захватил с собой целый окорок ветчины, чтобы не проголодаться, и большую бутыль, чтобы было что попить. Но пойдем поскорее, потому что мне кажется, что день на исходе, хотя я и не знаю, который час.
— Вот пастушки, те знают, который час: они смотрят на солнце, — сказала Пчелка, — но я-то ведь не пастушка! А только мне кажется, когда мы уходили, солнце стояло у нас над головой, а теперь оно совсем далеко, там, за городом и за Кларидским замком. Надо узнать, неужели это так каждый день и почему это так бывает.
Пока они глядели на солнце, по дороге закрутилось облако пыли, и они увидели всадников, которые неслись во весь опор, а оружие их сверкало на солнце. Дети ужасно испугались и бросились в густую чащу, подступавшую к самой дороге. «Это, наверно, разбойники! Нет, должно быть, людоеды», — думали они. А на самом деле это проскакала стража, которую герцогиня Кларидская отправила на розыски двух отважных путешественников.
Маленькие путешественники нашли в лесу узенькую тропинку, по которой, наверно, никогда не гуляли влюбленные, потому что по ней никак нельзя было идти рядом, под руку, как ходят жених с невестой. Да тут и не видно было никаких человеческих следов, а только бесчисленные отпечатки маленьких раздвоенных копытцев.
— Это следы бесенят, — сказала Пчелка.
— А может быть, коз, — сказал Жорж.
Так это и осталось невыясненным. Одно только было ясно, что тропинка полого спускается к берегу озера, которое вдруг появилось перед детьми во всей своей томной и молчаливой красе. Ивы курчавились по его берегам нежной листвой. Камыши покачивали над водой свои гибкие мечи и бархатные султаны; они казались зыблющимися островками, вокруг которых водяные лилии расстилали свои широкие листы сердечком и цветы с белыми лепестками. А на этих цветущих островках стрекозы с изумрудными и сапфирными тельцами и пламенными крыльями чертили в стремительном полете резко обрывающиеся кривые.
И дети с наслаждением погружали свои разгоряченные ноги во влажный песок, поросший густым хвойником и остролистым рогозом. Кувшинки посылали им аромат своих мягких стеблей, вокруг них папоротник покачивал кружевным опахалом у края дремлющих вод, а над ним сияли лиловые звездочки иван-чая.
Глава VIII,
в которой рассказывается, о том, как поплатился Жорж де Бланшеланд за то, что приблизился к озеру, в котором живут ундины
Пчелка побежала вперед по песку между двумя купами ив, и прямо перед нею маленький дух, обитавший в этих краях, прыгнул в воду, и по воде пошли круги, которые все расширялись, а затем исчезли. Этот дух был крошечной зеленой лягушкой с белым брюшком. Все безмолвствовало, легкое дуновение проносилось над светлым озером, и каждая его волна словно расплывалась в мягкой улыбке.
— Оно красивое, озеро, — сказала Пчелка, — но у меня все ноги в крови, туфельки совсем разорвались, и мне очень хочется кушать. Я бы так хотела быть дома, в замке!
— Сестрица, — сказал Жорж, — садись на травку. Я оберну тебе ножки листьями, чтобы им было прохладней, а потом пойду поищу что-нибудь на ужин. Там, наверху, у самой дороги, я видел кусты ежевики, сплошь покрытые ягодами. Я тебе принесу в шляпе самые спелые и самые сладкие. Дай-ка мне твой платочек! Я наберу еще земляники, потому что здесь масса земляники у тропинки в тени деревьев. А карманы я набью орехами.
Он устроил для Пчелки на берегу озера под ивой постельку из мха и пошел.
Пчелка протянулась на своем ложе из мха, сложила ручки и увидала, как звезды, мерцая, стали загораться на бледном небе; потом ее глаза наполовину закрылись, но все-таки ей показалось, что она видит в воздухе гнома, который летит, сидя верхом на вороне. И это ей не просто померещилось. Натянув поводья, которыми была взнуздана черная птица, гном приостановился вверху над девочкой и глянул на нее своими круглыми глазами, затем пришпорил своего скакуна и умчался крылатым галопом. Пчелка смутно видела, как он пролетел и исчез, а потом и совсем заснула.
Она спала, когда Жорж вернулся с тем, что ему удалось набрать; он разложил все это возле нее, а сам спустился к озеру и стал ждать, когда она проснется. Озеро дремало, укрытое нежной кроной листвы. Тонкий пар мягко стелился над водами. Внезапно меж ветвей выглянул месяц, и в тот же миг волны заискрились блестками.
Жорж отлично видел, что эти блестки, сверкавшие в воде, были не только дробившимся отражением месяца: он ясно различал какие-то синеватые огоньки, которые приближались, покачиваясь и переплетаясь, словно они кружились в хороводе. Скоро он разобрал, что все эти огоньки дрожат на белых лбах прекрасных женских головок. И вот уже эти головы, увенчанные водорослями и раковинами, плечи, по которым рассыпались зеленые волосы, груди, блестевшие жемчугами ниспадающих покрывал, поднялись над волнами. Мальчик узнал ундин и отпрянул, пытаясь убежать. Но бледные и холодные руки уже подхватили его и, несмотря на его сопротивление и крики, повлекли сквозь глубокие воды в галереи из хрусталя и порфира.
Глава IX,
в которой рассказывается, как Пчелка попала к гномам
Луна поднялась над озером, и волны отражали теперь только раздробленный диск ночного светила. Пчелка еще спала. Гном, который заметил ее, снова вернулся на своем вороне. На этот раз за ним следовала целая толпа маленьких человечков. Это были совсем крошечные человечки. Белые бороды спускались у них до самых колен. С виду они были старички, а ростом — как маленькие дети. По их кожаным передникам и молоткам, висевшим у них на поясе, можно было узнать в них рудокопов. Походка у них была престранная: они высоко подпрыгивали и кувыркались самым удивительным образом, с такой непостижимой ловкостью, что были похожи скорее на духов, чем на людей. Но, проделывая такие головоломные прыжки, они сохраняли невозмутимую серьезность, так что никак нельзя было распознать их истинный характер. Они обступили спящую девочку.
— Ну вот, — сказал самый маленький из гномов, восседавший на пернатом скакуне, — разве я обманул вас, когда сказал, что самая прелестная принцесса в мире спит на берегу озера? Благодарите меня за то, что я вам ее показал!
— Мы очень благодарны тебе, Боб, — сказал один из гномов, похожий на престарелого поэта, — в самом деле, в мире нет ничего прекраснее, чем эта девочка. Ее щечки нежнее и румянее зари, когда она занимается над горами, а золото, которое мы куем, блещет не так ярко, как ее кудри.
— Правда, Пик! Истинная правда! — подхватили гномы. — Но только что же нам делать с этой прелестной девочкой?
Пик, тот самый, что был похож на престарелого поэта, ничего не ответил на этот вопрос гномов, потому что он и сам не лучше их знал, как поступить с прелестной девочкой.
Гном по имени Рюг сказал:
— Построим большую клетку и посадим ее туда.
Другой гном, Диг, отверг предложение Рюга. Диг считал, что в клетки сажают только диких животных, а пока еще ничто не доказывало, что эта красивая девочка принадлежит к их породе.
Но Рюг крепко держался за свою мысль, потому что никакой другой у него не было. Он стал защищать ее весьма хитро.
— Если, — сказал он, — это создание и не из породы диких зверей, оно несомненно одичает, очутившись в клетке, и в таком случае клетка окажется полезной и даже необходимой.
Такое рассуждение отнюдь не понравилось гномам, и один из них, Тад, с негодованием осудил его. Это был очень добродетельный гном. Он предложил отвести прелестное дитя к родителям, которые, как он думал, были могущественными сеньерами.
Но мнение добродетельного Тада также было отвергнуто, ибо оно было противно обычаям гномов.
— Поступать надо по справедливости, — утверждал Тад, — а отнюдь не по обычаю.
Но его и слушать не стали, и собрание бурно пререкалось, пока один из гномов, по имени По, обладавший умом простым, но справедливым, не высказал следующее мнение:
— По-моему, прежде всего следует разбудить эту девочку, раз она сама не просыпается; если она проспит так всю ночь, то у нее завтра распухнут веки, и красота ее заметно уменьшится, ибо спать в лесу на берегу озера крайне нездорово.
Это мнение было единодушно одобрено, так как оно не противоречило никакому другому.
Пик, похожий на престарелого поэта, согбенного недугами, приблизился к девочке и глубокомысленно уставился на нее, полагая, что единого взгляда его будет достаточно, чтобы пробудить спящую от самого глубокого сна. Но Пик заблуждался насчет могущества своих очей, и Пчелка продолжала спать, сложив ручки.
Видя это, добродетельный Тад легонько потянул ее за рукав. Пчелка приоткрыла глаза и приподнялась, опершись на локоток. Когда она увидела, что лежит на постельке из мха, а вокруг нее толпятся гномы, она решила, что все это ей снится, и принялась тереть глазки, чтобы прогнать сон и вместо этих фантастических видений увидеть ясный утренний свет и свою голубую спаленку, где ей полагалось находиться. В мозгу ее, затуманенном сном, не осталось ни следа воспоминаний о путешествии на озеро. Но как она ни терла глаза, гномы не исчезали, и тут уж ей пришлось поверить, что они все — самые настоящие. Тогда, с тревогой оглядевшись по сторонам, она увидала лес, вспомнила все и в испуге закричала:
— Жорж! Братец мой, Жорж!
Гномы засуетились вокруг нее, а ей было так страшно смотреть на них, что она закрыла лицо руками.
— Жорж! Жорж! Где мой братец Жорж? — кричала она, рыдая.
Гномы ничего не могли ей ответить по той простой причине, что они и сами не знали этого. А она плакала горючими слезами, призывая мать и брата.
Гному По тоже хотелось заплакать вслед за ней, но, проникнутый желанием утешить ее, он обратился к ней с следующей весьма невнятной речью.
— Не огорчайтесь так, — сказал он ей, — жалко, если такая красотка испортит себе глазки слезами. Расскажите нам лучше, как вы сюда попали, это, должно быть, очень интересное приключение и доставит нам великое удовольствие.
Пчелка его не слушала. Она встала и хотела бежать, но ее босые ножки распухли, и ей стало так больно, что она упала на колени и зарыдала. Тад поддержал ее, а По нежно поцеловал ей ручку. Тогда она решилась поглядеть на них и увидала, что они смотрят на нее с сочувствием. Пик показался ей существом одержимым, но безобидным, и, видя, что все человечки глядят на нее ласково и благожелательно, она сказала:
— Очень жалко, маленькие человечки, что вы такие уродцы, но я все равно буду вас любить, если вы мне дадите покушать, потому что мне очень хочется есть.
— Боб, — закричали разом все гномы, — а ну-ка, живо за ужином!
И Боб умчался на своем вороне. Но все-таки у них было чувство, что девочка несправедлива к ним, считая их уродами. Рюг страшно возмутился, а Пик говорил себе: «Ведь это просто ребенок, разве она может видеть пламя гения, сверкающее в моих очах и придающее им мощь, которая укрощает, и нежность, которая чарует». По думал: «Лучше бы я не будил эту девочку, которая думает, что мы уроды». Но Тад сказал с улыбкой:
— Вы, малютка, не будете считать нас такими уродами, когда узнаете нас поближе и полюбите.
Тут снова появился Боб на своем вороне. В руке у него было золотое блюдо с жареной куропаткой, крупичатым хлебцем и бутылкой бордосского вина. Он поставил это блюдо к ногам Пчелки, почтительно перекувырнувшись в воздухе бесчисленное количество раз.
Пчелка покушала и сказала:
— Маленькие человечки, ваш ужин был очень вкусный. Меня зовут Пчелка, давайте поищем моего братца, а потом все вместе пойдем в Клариды, потому что там нас ждет мама и ужасно беспокоится.
Но Диг, — а он был добрый гном, — объяснил Пчелке, что она идти никак не может, что брат у нее уже большой, он и сам отыщется, и что с ним ничего не могло случиться в этом краю, ибо здесь уже давно истреблены все дикие звери.
— Мы сделаем носилки, — сказал он, — покроем их охапками листьев и мха, чтобы вам было удобно лежать, и отнесем вас в горы и представим королю гномов, как того требуют обычаи нашего народа.
Все гномы захлопали в ладоши. Пчелка посмотрела на свои распухшие ножки и замолчала. Она несколько успокоилась, узнав, что в здешних лесах нет диких зверей, а в остальном она решилась положиться на дружбу гномов.
Они уже трудились над носилками. Те, у которых были топоры, рубили сильными ударами под корень две молодые сосенки.
Это снова навело Рюга на прежнюю мысль:
— А что, если вместо носилок нам построить клетку?
Но он вызвал единодушное неодобрение. Тад окинул его презрительным взглядом и вскричал:
— Ты, Рюг, больше похож на человека, чем на гнома. Но хоть одно по крайней, мере можно сказать, к чести нашего народа, что ты не только самый злой из нас, но и самый глупый.
А работа между тем спорилась. Гномы подпрыгивали высоко в воздух, чтобы достать до ветвей, которые они срезали на лету, а потом искусно складывали решеткой. Так они устроили удобное сиденье, покрыли его мхом и листьями и усадили на него Пчелку, а потом сразу схватились за носилки с двух сторон — оэ! — подняли их на плечи — гоп! — и отправились в путь, в горы — гип!
Глава X,
которая подробно описывает прием, оказанный королем Локом Пчелке Кларидской
Они шли извилистой тропинкой по лесистому склону. В серой листве карликовых дубов там и сям вздымались гранитные глыбы, изглоданные и голые, а рыжая гора вдали с темными синеющими ущельями замыкала суровый пейзаж.
Шествие, которое открывал Боб на своем крылатом скакуне, вошло в горный проход, заросший кустами ежевики. Пчелка с рассыпавшимися по плечам золотыми волосами напоминала зарю, поднимающуюся из-за гор, если только это может быть правдой, что заря пугается, зовет на помощь маму и собирается бежать, потому что все это именно и случилось с девочкой, когда она вдруг увидела грозновооруженных гномов, стоявших засадами во всех извилинах ущелья.
Они стояли неподвижно, натянув лук или занеся копье. Их одежды из звериной кожи и длинные ножи, висевшие на поясе, придавали им устрашающий вид. Пернатая и мохнатая дичь лежала около них на земле. Но лица охотников отнюдь не отличались свирепостью; напротив, они казались такими же кроткими и спокойными, как и лесные гномы, на которых они были очень похожи.
Среди них стоял гном, преисполненный величия. За ухом у него красовалось петушье перо, а на голове — корона, усыпанная огромными драгоценными каменьями. Мантия его была откинута на плечо, открывая мощную руку, унизанную золотыми обручами. Охотничий рог из слоновой кости и чеканного серебра висел у него на поясе. Левой рукой он спокойно опирался на копье, а правую поднес к глазам, чтобы удобнее было смотреть в ту сторону, откуда приближалась Пчелка и брезжил свет.
— Король Лок, — сказали ему лесные гномы, — мы принесли тебе прелестную малютку, которую мы случайно нашли. Ее зовут Пчелкой.
— Вы поступили похвально, — ответил король Лок, она будет жить среди нас, как повелевает обычай гномов.
Затем, приблизившись к Пчелке, он промолвил:
— Добро пожаловать, Пчелка!
Он говорил ласково, потому что уже проникся расположением к ней. Приподнявшись на цыпочки, он поцеловал ее свесившуюся ручку и сказал, что ей не только не сделают никакого зла, но, напротив, все ее желания будут исполняться, чего бы она ни захотела — ожерелий, зеркал, кашмирских тканей или китайских шелков.
— Мне бы хотелось башмачки, — ответила Пчелка.
Тогда король Лок ударил копьем в бронзовый диск, который висел на выступе утеса, и тотчас же что-то мелькнуло в глубине ущелья и стало подниматься к ним, подскакивая, словно мячик. По мере приближения мячик все увеличивался, и, наконец, перед ними появился гном; лицо его напоминало черты знаменитого Велизария, каким его изображают живописцы, но кожаный передник с нагрудником изобличал в нем сапожника. Это и в самом деле был главный мастер сапожников.
— Трюк, — сказал ему король, — выбери у нас в кладовых самую мягкую кожу, возьми золотой и серебряной парчи, спроси у моего казначея тысячу жемчужин самой чистой воды и из этой кожи, парчи, жемчужин сделай пару башмачков для нашей юной Пчелки.
Трюк тотчас же бросился к ногам Пчелки и тщательно снял с них мерку. Но она сказала:
— Лок-королек, пусть мне сейчас же дадут красивые башмачки, которые ты мне обещал, я их надену и пойду в Клариды к моей маме.
— Вы получите башмачки, Пчелка, — отвечал король Лок, — но получите их, чтобы гулять в недрах гор, а не для того, чтобы вернуться в Клариды; вы никогда не покинете нашего королевства, вы узнаете здесь чудесные тайны, в которые на земле еще не проник никто. Гномы лучше людей, и ваше счастье, что они подобрали вас.
— Это мое несчастье, — ответила Пчелка. — Лок-королек, дай мне деревянные башмаки, как у простых крестьян, и отпусти меня домой, в Клариды!
Но король Лок покачал головой в знак того, что это невозможно. Тогда Пчелка сложила ручки и сказала умоляющим голосом:
— Лок-королек, отпусти меня, и я буду очень тебя любить!
— Вы забудете меня, Пчелка, на вашей лучезарной земле.
— Лок-королек, я вас не забуду и буду любить вас так же, как люблю моего Ветерка.
— А кто это такой Ветерок?
— Это мой буланый конь; у него розовые поводья, и он ест у меня из рук. Когда он был маленький, оруженосец Верное Сердце приводил его по утрам ко мне в детскую, и я его целовала. Но только Верное Сердце теперь в Риме, а Ветерок уж вырос и не может ходить по лестницам.
Король Лок улыбнулся.
— Пчелка, а вы не хотите полюбить меня еще больше, чем вы любите Ветерка?
— Хочу.
— Вот это хорошо!
— Я очень хочу, но не могу, потому что я вас ненавижу, Лок-королек, за то, что вы не позволяете мне вернуться к маме и Жоржу.
— А кто такой Жорж?
— Жорж — это Жорж, и я его люблю.
Расположение короля Лока к Пчелке очень усилилось за эти несколько минут, и так как он уже подумывал жениться на ней, когда она подрастет, и даже с ее помощью помирить людей с гномами, у него возникло опасение, как бы этот Жорж впоследствии не сделался его соперником и не разрушил все его планы. Поэтому он нахмурил брови и отвернулся, опустив голову, как человек, отягченный заботами.
Пчелка увидала, что рассердила его, и потянула ого легонько за полу мантии.
— Лок-королек, — сказала она грустным и нежным голоском, — почему мы так огорчаем друг друга?
— Пчелка, — сказал король Лок, — такова уж сила вещей; я не могу отпустить вас к вашей матери, но я пошлю ей сновиденье, из которого она узнает о вашей судьбе, дорогая Пчелка, и это сновиденье утешит ее.
— Лок-королек, — ответила Пчелка, улыбаясь сквозь слезы, — это ты хорошо придумал, но только я тебе скажу, что надо сделать: надо каждую ночь посылать моей маме сны, в которых она будет видеть меня, а мне каждую ночь посылать сны, в которых я буду видеть ее.
И король Лок обещал ей это. И как сказал, так и сделал. Каждую ночь Пчелка видела свою мать, и каждую ночь герцогиня видела свою дочку. И это было маленьким утешеньем для их любящих сердец.
Глава XI,
в которой очень подробно описываются достопримечательности царства гномов, равно как и куклы, подаренные Пчелке
Царство гномов находилось очень глубоко под землей и простиралось на большое расстояние в ее недрах. Хотя небо только чуть виднелось кое-где через расщелины в утесах, тем не менее площади, улицы, дворцы и залы этого подземного царства вовсе не были погружены в глубокий мрак. Только в некоторых покоях да в пещерах всегда было темно. Все остальное было освещено, но не лампами или факелами, а светилами и метеорами, которые излучали странный, фантастический свет, и этот свет озарял удивительные чудеса. Громадные здания были вырублены в скалах, там и сям возвышались дворцы, высеченные в граните на такой высоте, что их каменное кружево под сводом громадной пещеры терялось в тумане, пронизанном оранжевым сиянием маленьких светил, менее ярких, чем луна. В этом царстве были и грозные, неприступные крепости — каменные амфитеатры, расположенные таким огромным полукругом, что его нельзя было охватить взглядом, широкие колодцы с лепными стенками, куда можно было спускаться без конца и никогда не достигнуть дна. Все эти массивные строения, казалось бы, мало подходили к росту здешних обитателей, однако вполне соответствовали их причудливому и фантастическому нраву.
Гномы в колпачках, украшенных листьями папоротника, двигались вокруг этих зданий с непостижимым проворством. И нередко можно было видеть, как некоторые из них прыгали с высоты второго или третьего этажа на базальтовую мостовую и отскакивали от нее, как мячики. Лица их при этом сохраняли величественную важность, какую ваятели придают чертам великих мужей древности.
Никто не оставался праздным, каждый усердно занимался своим делом. Целые кварталы гудели от грохота молотков, скрежещущие голоса машин раздавались под сводами пещер, и как интересно было смотреть на это несметное множество рудокопов, кузнецов, золотобоев, ювелиров, гранильщиков алмазов, которые с обезьяньей ловкостью орудовали киркой, молотком, клещами, напильниками. Но был в этом царстве и более уединенный край.
Там из горных пластов выступали мощные фигуры, гигантские колонны причудливых очертаний, казалось, восходили к самой седой древности. И там дворец с низкими дверьми простирал в глубине свои приземистые стены: это был дворец короля Лока. Прямо напротив стоял дом Пчелки, не дом, а скорее кукольный домик, состоящий из одной-единственной комнатки, обтянутой белой кисеей. В комнате чудесно пахло еловой мебелью. Расщелина в скале пропускала сюда дневной свет, а в ясные ночи через нее видны были звезды.
У Пчелки не было слуг, но весь народ гномов наперебой старался услужить ей и предупреждал все ее желания, кроме одного — снова вернуться на землю.
Самые ученые гномы, владевшие великими тайнами, охотно учили ее, правда не по книгам, потому что гномы не пишут книг, но они показывали ей всевозможные растения гор и долин, различные породы животных, разные камни, которые добываются из недр земли. И вот на таких-то наглядных образцах и примерах они с простодушным весельем открывали ей разные чудеса природы и тайны искусства.
Они дарили ей такие игрушки, каких даже дети богачей на земле и в глаза не видывали, потому что гномы были замечательные мастера и выдумывали всякие удивительные машины. Например, они сделали ей кукол, которые умели грациозно двигаться и изъясняться стихами с соблюдением всех поэтических правил. Когда их всех вместе приносили на маленькую сцену, декорации которой изображали берег моря, синее небо, дворцы и храмы, они разыгрывали необычайно интересные представления. Хотя они были ростом с ноготок, они двигались совсем как живые и точь-в-точь походили — кто на почтенных старцев, кто на зрелых мужей, а кто на прекрасных молодых девушек в белых туниках. Были среди них и матери, которые нежно прижимали к груди невинных младенцев. И эти красноречивые куклы объяснялись и действовали на сцене так, словно они и впрямь были одушевлены чувствами ненависти, любви или честолюбия. Они искусно переходили от радости к огорчению и так ловко подражали природе, что невольно заставляли смеяться и плакать. И Пчелка хлопала в ладоши, глядя на эти представления. Куклы, которые изображали тиранов, вызывали в ней ужас. И наоборот, она прониклась безграничной жалостью к кукле, которая некогда была принцессой, а потом стала вдовой и пленницей в траурном кипарисовом венке, и у нее не было никакого иного способа спасти жизнь своему ребенку, как только выйти замуж за того самого злодея, что сделал ее вдовой.
Пчелке никогда не надоедала эта игра, куклы умели разнообразить ее до бесконечности. Гномы также устраивали для нее концерты и учили ее играть на лютне, на виоль-д-амуре, на теорбе, на лире и еще на многих музыкальных инструментах. И она в скором времени стала прекрасной музыкантшей, а сцены, разыгрываемые перед ней куклами в театре, сообщали ей знание людей и жизни. Король Лок также бывал на этих представлениях и концертах, но он видел и слышал только Пчелку, к которой он мало-помалу привязался всей душой. А тем временем шли дни и месяцы, годы завершали свой круг, а Пчелка все жила среди гномов, и как ни развлекали ее непрестанно, она всегда тосковала по земле. Из девочки она превратилась в прекрасную молодую девушку. Выпавшая ей необычайная судьба наложила какой-то своеобразный отпечаток на ее лицо, и от этого оно казалось только еще милее.
Глава XII,
в которой как нельзя лучше описывается сокровищница короля Лока
Исполнилось ровно шесть лет, день в день, как Пчелка жила у гномов. Король Лок позвал ее к себе во дворец и в ее присутствии приказал своему казначею сдвинуть огромный камень, который, казалось, был вмурован в стену, а на самом деле — только приставлен к ней. Все трое они прошли в открывшееся за громадным камнем отверстие и очутились в узкой расщелине скалы, где двоим нельзя было идти рядом. Король Лок первым ступил в этот темный проход, за ним шла Пчелка, держась за край королевской мантии. Они шли долго. Иногда стены расщелины сходились так близко, что молодая девушка боялась, — вот-вот они стиснут ее, и она не сможет двинуться ни вперед, ни назад, задохнется и умрет. А мантия короля Лока все убегала вперед по тесной и черной тропинке. Наконец король Лок нащупал рукой бронзовую дверь и открыл ее; сразу стало очень светло.
— Лок-королек, — воскликнула Пчелка, — а ведь я и не знала, что свет — такая прекрасная вещь!
Но король Лок взял ее за руку, ввел в залу, откуда исходил этот свет, и сказал:
— Гляди!
Пчелка, ослепленная, сначала ничего не видела, потому что эта огромная зала с высокими мраморными колоннами вся сверху донизу сверкала золотом.
В глубине на возвышении из блестящих драгоценных камней, оправленных в золото и серебро, куда вели ступени, покрытые чудесно расшитым ковром, стоял трон из золота и слоновой кости под балдахином из прозрачной эмали; по обе стороны трона высились две трехтысячелетние пальмы в гигантских вазах, выкованных когда-то самым искусным мастером из гномов. Король Лок взошел на этот трон и повелел девушке стать рядом с собой по правую руку.
— Пчелка, — сказал он ей, — это моя сокровищница, выбирайте себе все, что вам понравится.
Огромные золотые щиты висели на колоннах, к солнечные лучи, преломляясь в них, отражались сверкающими снопами; над ними скрещивались шпаги и копья с султанами на остриях. Столы, расставленные вдоль стен, были сплошь заставлены чашами, кубками, кувшинами, бокалами, вазами, дароносицами, дискосами, золотыми чарками и кружками, рогами для питья из слоновой кости с серебряными кольцами, громадными бутылями из горного хрусталя, золотыми и серебряными чеканными блюдами, ларцами, ковшами, сделанными в форме храмов, зеркалами, канделябрами, курильницами, светильниками, столь же удивительными своей искусной выделкой, сколь и необыкновенным материалом, и сосудами для сжигания благовоний, изображавшими чудовищ. А на одном из столов стояли шахматы из лунного камня.
— Выбирайте, Пчелка, — повторил король Лок.
Но, подняв глаза ввысь надо всеми этими богатствами, Пчелка увидала в отверстие потолка голубое небо, и, словно почувствовав, что только этот небесный свет и придавал драгоценностям их ослепительный блеск, она сказала:
— Лок-королек, мне хотелось бы вернуться на землю.
Тогда король Лок сделал знак своему казначею, и тот откинул тяжелый занавес, и они увидели громадный сундук с резными украшениями, окованный железом. Когда подняли крышку сундука, оттуда хлынули потоки лучей тысячи самых разнообразных и чудесных оттенков; каждый луч исходил от драгоценного камня, отшлифованного с великим мастерством. Король Лок погрузил руки в эти камни, и тут стало видно, как в этой лучезарной массе переливаются и лиловый аметист, и девий камень, и изумруды трех цветов: один — темно-зеленый, другой — называемый медовым, потому что он цвета меда, и третий — голубовато-зеленый, что зовется бериллом и посылает добрые сны; и восточный топаз, и рубин, прекрасный, как кровь храбрецов, и сапфир темно-синий, который называют мужским сапфиром, и бледно-голубой сапфир, называемый женским, и камень кимофан, и гиацинт, и кошачий глаз, и бирюза, и опал, сияние которого нежнее зари, и аквамарин, и сирийский гранат. Все эти камни были самой прозрачной воды и самого лучезарного блеска. А крупные бриллианты среди этих цветных огней вспыхивали ослепительными белыми искрами.
— Выбирайте, Пчелка, — сказал король Лок.
Но Пчелка покачала головой и сказала:
— Лок-королек, все эти камни я отдам за один-единственный солнечный луч, что играет на шиферной крыше Кларидского замка.
Тогда король Лок открыл второй сундук, где были одни жемчуга. Но все жемчужины были чистые и круглые, их переменчивый блеск отражал все краски неба и моря, и сияние их было так нежно, что казалось пронизанным любовной мечтой.
— Берите, — сказал король Лок.
Но Пчелка ответила:
— Лок-королек, эти жемчуга напоминают мне взгляд Жоржа де Бланшеланд. Мне нравятся эти жемчуга, но еще больше мне нравятся глаза Жоржа.
Услышав эти слова, король Лок отвернулся. Но все же он приказал открыть третий сундук и показал молодой девушке кристалл, в котором с первозданных времен была пленена капля воды; когда кристалл поворачивали, видно было, как переливается в нем эта капля. Он показал ей еще куски янтаря, в которых миллиарды лет были заключены насекомые, еще более яркие, чем драгоценные камни. Можно было различить их нежные лапки и тонкие усики, и, казалось, они могли бы вот-вот улететь, если бы благодаря какой-нибудь волшебной силе их пахучая тюрьма растаяла, как лед.
— Это великие чудеса природы, и я дарю их вам, Пчелка.
Но Пчелка ответила:
— Лок-королек, оставьте себе янтарь и кристалл, ведь я не могу освободить ни эту мушку, ни эту капельку.
Король Лок посмотрел на нее задумчиво и сказал:
— Пчелка, ваши ручки достойны хранить лучшие сокровища мира. Вы будете владеть ими, но они вами не будут владеть. Скупец — пленник своего золота; только тем, кто презирает богатство, безопасно быть богатыми: их душа всегда будет больше, нежели их сокровища.
Сказавши так, он подал знак казначею, и тот поднес молодой девушке золотую корону на подушке.
— Примите эту драгоценность как знак того уважения, которое мы питаем к вам, Пчелка, — сказал король Лок. — Отныне вас будут называть принцессой гномов.
И он возложил корону на голову Пчелки.
Глава XIII,
в которой король Лок объясняется в своих чувствах
Пышными празднествами ознаменовали гномы коронование своей первой принцессы. Веселые, беспечные игры чередовались без всяких расписаний в громадном амфитеатре; маленькие человечки, кокетливо украсив свои колпачки веточкой попоротника или двумя дубовыми листиками, радостно прыгали по подземным улицам. Праздники длились целый месяц. Пик в своем опьянении имел вид вдохновенного смертного; добродетельный Тад опьянялся общим счастьем; нежный Диг от радости проливал слезы; Рюг, развеселившись, снова требовал, чтобы Пчелку посадили в клетку: тогда уж гномам можно будет не опасаться, что они потеряют такую очаровательную принцессу; Боб верхом на своем вороне оглашал воздух такими веселыми криками, что даже эта черная птица, заразившись общим весельем, издавала отрывистое шаловливое покаркивание.
Только один король Лок грустил.
Но вот на тридцатый день, во время роскошного пира, который король Лок задал принцессе и всему народу гномов, король поднялся во весь рост на своем кресле, так что его доброе лицо приходилось теперь в уровень с ухом Пчелки.
— Принцесса моя Пчелка, — произнес он, — я хочу сделать вам одно предложение, которое вы вольны принять или отвергнуть. Пчелка Кларидская, принцесса гномов, хотите вы стать моей женой?
И, произнося это, король Лок, грустный и нежный, был похож на кроткого величавого пуделя. Пчелка потянула его за бороду и ответила:
— Лок-королек, я согласна быть твоей женой в шутку, чтобы посмеяться, но я никогда не буду твоей женой по-настоящему. Когда ты сейчас сделал мне предложение, ты мне напомнил Верное Сердце, который там, на земле, рассказывал, чтобы позабавить меня, самые необыкновенные вещи.
При этих словах король Лок быстро отвернулся, но все же Пчелка успела увидеть слезу, блеснувшую на ресницах гнома. И Пчелке сделалось жалко, что она его обидела.
— Лок-королек, — сказала она ему, — я люблю тебя таким, как ты есть, а если ты меня смешишь, как Верное Сердце, то в этом нет ничего обидного, потому что Верное Сердце очень хорошо пел и был бы очень красивый, если бы только не седые волосы и красный нос.
Король Лок ответил ей так:
— Пчелка Кларидская, принцесса гномов, я люблю вас и надеюсь, что когда-нибудь и вы меня полюбите. Но, если бы у меня и не было этой надежды, я все равно любил бы вас так же. Я только прошу у вас в ответ на мою дружбу, чтобы вы всегда были искренни со мной.
— Это я обещаю тебе, Лок-королек!
— Хорошо. Так вот, скажите мне, Пчелка, любите ли вы кого-нибудь так, чтобы вам хотелось выйти за него замуж?
— Нет, Лок-королек, так я никого не люблю.
Тогда король Лок улыбнулся и, подняв свой золотой кубок, провозгласил зычным голосом тост за принцессу гномов. И невообразимый гул прокатился под сводами пещеры, и от него содрогнулась земля, потому что пиршественный стол в царстве гномов тянулся по всему подземелью с одного конца до другого.
Глава XIV,
в которой рассказывается, как Пчелка увидала свою мать и не могла обнять ее
Теперь увенчанная короной Пчелка стала еще задумчивей и печальней, чем в те дни, когда ее кудри свободно рассыпались по плечам и она, смеясь, прибегала в кузницу гномов и дергала за бороды своих добрых друзей Пика, Тада и Дига, чьи лица, озаренные отблеском пламени, радостно оживлялись при ее появлении. Добрые гномы, которые когда-то сажали ее к себе на колени и играли с ней, называя ее своей Пчелкой, теперь низко кланялись, когда она проходила, сохраняя почтительное молчание. Она сожалела, что она уже не ребенок, и огорчалась, что она принцесса гномов.
Она уже не радовалась при виде короля Лока после того, как увидала, что он плачет из-за нее. Но она любила его, потому что он был добрый и потому что он страдал.
В один прекрасный день (если можно сказать, что в царстве гномов бывает день) она взяла короля Лока за руку и привела его к той расщелине утеса, куда проникал луч солнца, а в луче танцевали золотые пылинки.
— Лок-королек, — сказала она ему, — я страдаю. Вы король, вы меня любите, а я страдаю.
Услышав эти слова из уст красивой молодой девушки, король Лок ответил:
— Я люблю вас, Пчелка Кларидская, принцессу гномов, и вот поэтому-то я оставил вас в нашем мире, чтобы открыть вам наши тайны, которые больше и мудрее всего, что вы могли бы узнать на земле среди людей, ибо люди не так искусны и не так мудры, как гномы.
— Да, — сказала Пчелка, — но они больше похожи на меня, чем гномы, и потому я их больше люблю. Лок-королек, дайте мне снова увидеть мою мать, если вы не хотите, чтобы я умерла.
И король Лок удалился, не ответив ни слова.
Пчелка, оставшись одна, в отчаянии смотрела на луч того света, в котором нежится вся земля и который обнимает своими сияющими волнами всех живых людей вплоть до нищих, бредущих по дорогам. Медленно бледнел этот луч, и вот уже его золотистое сияние превратилось в бледно-голубой отсвет. Ночь пришла на землю. И через расщелину замерцала звезда.
Тогда кто-то тихонько дотронулся до ее плеча, и она увидела короля Лока, закутанного в черный плащ. В руке у него был еще один плащ, которым он укрыл молодую девушку.
— Идем, — сказал он.
И он вывел ее вон из подземелья. Когда Пчелка снова увидала деревья, трепещущие на ветру, облака, набегающие на луну, и всю эту торжественную ночь, свежую и синюю, когда она почувствовала запах трав и тот воздух, которым она дышала в детстве, широкой волной полился ей в грудь, она глубоко вздохнула, и ей показалось, что она вот-вот умрет от блаженства.
Король Лок взял ее на руки; как ни мал он был ростом, он нес ее легко, словно перышко, и они скользили по земле, как тени двух птиц.
— Пчелка, вы увидите вашу мать. Но выслушайте меня. Вы знаете, что каждую ночь я посылаю ваш образ во сне вашей матери. Каждую ночь она видит ваш дорогой призрак, улыбается ему, говорит с ним, обнимает его. Сегодня ночью я покажу ей вас самое вместо вашего двойника. Вы увидите свою мать, но не прикасайтесь к ней, не говорите с ней, потому что тогда чары разрушатся и она уже никогда больше не увидит ни вас, ни ваш образ, который она не отличает от вас.
— Хорошо, Лок-королек, я буду осторожна, — вздохнула Пчелка… — Ах, вот он! Вот он!
И в самом деле, башня Кларидского замка, вся черная, уж вырисовывалась на холме. Не успела Пчелка послать поцелуй старым, любимым стенам, как увидела бегущий мимо городской вал, заросший левкоями; вот она уже взбегает по откосу, где в траве горят светляки, вот и потайная дверь, которую король Лок открыл без труда, потому что для гномов, покорителей металлов, никакие замки, болты, никакие засовы, цепи и решетки не служат преградой.
Она поднялась витой лестницей, которая вела в покои ее матери, и остановилась, прижав обе руки к трепетно бьющемуся сердцу. Дверь тихонько растворилась, и при свете ночника, висевшего на потолке опочивальни, в благоговейной тишине, царившей здесь, Пчелка увидела свою мать, исхудавшую и бледную, с сединой на висках, но еще более прекрасную для своей дочери, чем в те далекие дни, когда она носила драгоценные украшения и гордо скакала на коне. А герцогиня в это время видела свою дочь во сне и протянула руки, чтобы обнять ее. И дочь, смеясь и рыдая, уже хотела броситься в эти раскрытые объятия, но король Лок схватил ее, не дав ей упасть на грудь матери, и понес словно соломинку через синие поля назад, в царство гномов.
Глава XV,
из которой узнают о великом горе короля Лока
Пчелка, сидя на гранитных ступенях подземного дворца, снова смотрела на голубое небо в расщелине утеса. Там бузина протягивала навстречу солнцу свои маленькие белые зонтички. Пчелка заплакала. Король Лок взял ее за руку и сказал:
— Пчелка, отчего вы плачете и что вы хотите?
И так как она уж не первый день грустила, гномы, усевшись у ее ног, старались развлечь ее бесхитростными мелодиями на флейте, свирели, трехструнной скрипке и литаврах, а другие, чтобы развеселить ее, так ловко кувыркались, что верхушки их колпачков, украшенных кокардой из листьев, так и мелькали в воздухе один за другим; нельзя было представить себе ничего более забавного, чем игры этих маленьких человечков с длинными, как у старых отшельников, бородами. Добродетельный Тад, чувствительный Диг, которые полюбили Пчелку с того дня, как увидели ее спящей на берегу озера, и Пик, старый поэт, — все поочередно брали ее за руку и умоляли открыть им тайну ее горести. Простодушный, но справедливый По принес ей винограду в корзинке, и все они, дергая ее за платье, повторяли вместе с королем Локом:
— Пчелка, принцесса гномов, отчего вы плачете?
Пчелка отвечала:
— Лок-королек, и вы, маленькие человечки! Вы стараетесь проявить ваши дружеские чувства ко мне, потому что вы очень добрые, вы плачете, когда я плачу. Так знайте же, что я плачу, вспоминая о Жорже де Бланшеланд. Он уже теперь, наверно, храбрый рыцарь, а я его больше не увижу. Я люблю его, и мне хотелось бы стать его женой.
Король Лок отдернул свою руку, которою он крепко сжимал руку девушки, и воскликнул:
— Почему же вы обманули меня, Пчелка, когда за пиршественным столом сказали мне, что никого не любите?
Пчелка ответила:
— Лок-королек, я не обманула тебя за пиршественным столом. Я не хотела тогда быть женой Жоржа де Бланшеланд, а теперь самое мое заветное желание — чтобы он попросил меня в жены. Но он не попросит меня в жены, потому что я не знаю, где он, а он не знает, где меня искать. Вот поэтому я и плачу.
При этих словах музыканты перестали играть на своих инструментах, прыгуны прекратили свои прыжки и так и застыли, кто стоя на голове, кто присев на корточки, Тад и Диг молча обливали слезами рукав Пчелки, простодушный По уронил свою корзинку с виноградными гроздьями, и все человечки горестно застонали.
Но король гномов в короне со сверкающими каменьями, огорченный больше всех, удалился, не произнеся ни единого слова, и его мантия потянулась за ним, словно пурпурный поток.
Глава XVI,
в которой приводятся слова мудреца Нура, чрезвычайно обрадовавшие маленького короля Лока
Король Лок не обнаружил своей слабости перед молодой девушкой, но, когда он остался один, он сел на землю, обхватил колени руками и предался горести.
Он ревновал и говорил себе:
— Она любит! И она любит не меня! А ведь я король, я преисполнен мудрости, я владею сокровищами и чудесными тайнами! Я лучший из гномов, а гномы лучше людей. И она меня не любит, а любит юношу, которому совершенно недоступна мудрость гномов, а быть может, недоступна и никакая мудрость. Ясно, она не питает никакого уважения к добродетелям и совершенно неразумна. Мне следовало бы смеяться над ее безрассудством, но я люблю ее, и ничто на свете мне не мило, потому что она меня не любит.
Долгие дни скитался король Лок один-одинешенек по самым диким ущельям гор, перебирая в уме разные грустные, а подчас и недобрые мысли. Он думал, не попытаться ли ему сломить Пчелку заключением и голодом, чтобы заставить ее стать его женой. Но едва только эта мысль зародилась, он тут же отогнал ее и стал мечтать о том, как он пойдет к Пчелке и бросится к ее ногам. Но и на этом он не остановился и так и не знал, что ему делать. И правда, ведь не от него зависело, чтобы Пчелка полюбила его. Внезапно гнев его обратился на Жоржа де Бланшеланд. Ему страстно захотелось, чтобы этого юношу унес далеко-далеко отсюда какой-нибудь волшебник или по крайней мере чтобы Жорж пренебрег любовью Пчелки, если ему когда-нибудь довелось бы узнать о ней.
Король размышлял.
— Хотя я и не стар, — говорил себе король Лок, — но я живу уже очень долго. Мне не раз приходилось страдать. Но все мои страдания, как ни глубоки они были, никогда не оставляли во мне такого чувства горечи, какое я испытываю теперь. Сочувствие или жалость, вызывавшие их, сообщали им какую-то дивную кротость. Сейчас, напротив, я чувствую, что скорбь моя отравлена едкой горечью, ядом злого желания. Душа моя иссохла, а очи исходят жгучими слезами.
Так размышлял король Лок. И, опасаясь, что ревность сделает его несправедливым и злым, он избегал встреч с молодой девушкой, ибо страшился, что невольно заговорит с ней языком человека слабого или неистового.
Однажды, когда мысль о любви Пчелки к Жоржу терзала его сильнее обычного, он решил посоветоваться с Нуром, самым мудрым из гномов, который жил на дне глубочайшего колодца, вырытого в недрах земли.
Этот колодец был замечателен тем, что в нем всегда царило ровное и мягкое тепло. Там вовсе не было темно, потому что два маленьких светила, бледное солнце и красная луна, освещали, чередуясь, все его закоулки. Король Лок спустился туда и застал Нура в его лаборатории. У Нура было доброе лицо кроткого старичка, а на своем колпачке он носил богородицыну травку. Несмотря на свою мудрость, он был чист сердцем и простодушен, как и все гномы.
— Hyp, — сказал король, обнимая его, — я пришел к тебе посоветоваться, потому что тебе известны многие вещи.
— Король Лок, — отвечал Hyp, — я мог бы знать множество разных вещей и тем не менее остаться глупцом. Но мне известен способ постичь немногие из тех бесчисленных вещей, которые мне неведомы, и вот поэтому-то я справедливо пользуюсь славой мудреца.
— Так вот, — продолжал король Лок, — не знаешь ли ты, где в настоящее время находится некий юноша по имени Жорж де Бланшеланд?
— Не знаю и никогда в жизни не стремился узнать, — отвечал Hyp. — Поскольку мне известно, что люди глупы, несведущи и злы, меня мало интересует, что они думают и что делают. Если бы не храбрость мужчин, красота женщин и невинность детей, — а это все, что есть достойного у этой высокомерной и ничтожной породы, о король Лок, — все человечество в целом было бы просто жалко и смешно. Как и гномы, они должны трудиться, чтобы жить, но они восстают против этого божественного закона и не только не находят счастья в труде, как мы, но предпочитают воевать вместо того, чтобы работать; им больше нравится убивать друг друга, чем помогать один другому. Но, если быть справедливым, надо признать, что краткость их жизни — главная причина их невежества и свирепости. Они живут так недолго, что не успевают научиться жить. И народ гномов, живущий под землей, лучше и счастливее их. Если мы и не бессмертны, то каждый из нас но крайней мере существует столько же времени, сколько существует земля, которая дает нам приют в своем лоне и согревает нас своим подспудным животворным теплом, тогда как на долю той породы, что родится на ее жесткой коре, достается только ее дыхание, то обжигающее, то леденящее, и оно несет с собой смерть вместе с жизнью. Однако же благодаря чрезмерности своих несчастий и своей жестокости люди обладают одной добродетелью, которая делает душу некоторых из них более прекрасной, чем души гномов. Эта добродетель, сияние которой для мысли то же, что для очей нежное сияние жемчуга, о король Лок, — это чувство жалости. А познается оно в страданиях. Гномам оно мало знакомо, ибо они мудрее людей и у них меньше горестей. Поэтому-то гномы выходят иногда из своих глубоких пещер на немилостливую кору земную и живут с людьми, чтобы любить и страдать за них и заодно с ними и таким образом познать чувство жалости, которое освежает душу, как небесная роса. Такова правда о людях, о король Лок. Но ведь ты спрашивал меня о личной судьбе одного из них?
Король Лок повторил свой вопрос, и старый гном стал смотреть в одно из зрительных стекол, которых было множество в комнате. Ибо у гномов совсем нет книг, а те, которые у них бывают случайно, попадают к ним от людей и служат им игрушками. Чтобы научиться чему-нибудь, они не читают, как это делаем мы, знаки, нанесенные на бумагу: они смотрят в зрительное стекло и видят тот самый предмет, который их интересует. Однако трудность заключается в том, чтобы выбрать подходящее стекло и уметь с ним обращаться.
Некоторые стекла сделаны из хрусталя, иные из топаза и опала, но те, чечевица которых представляет собой большой отполированный алмаз, обладают наибольшим могуществом, и при их помощи можно видеть самые отдаленные предметы.
Кроме того, у гномов имеются лупы из некоей прозрачной породы, незнакомой людям. С их помощью они обретают возможность проникать взором сквозь стены и скалы, как если бы те были из стекла. А есть и другие, еще более чудесные, которые точь-в-точь, как зеркало, отражают все, что время уносит в своем быстром течении, ибо гномы умеют вызывать в свои пещеры из бесконечной глубины эфира свет давнего прошлого со всеми формами и красками минувших дней. Они созерцают прошлое, улавливая потоки света, которые, раздробившись некогда о тела людей и животных, растения и камни, снова воссоединяются через многие тысячелетия в бездонном эфире.
Старый Hyp отличался великим уменьем обретать формы древних времен и даже те непостижимые формы, которые существовали задолго до того, как облик земли стал таким, каким мы видим его ныне, так что для него было сущей забавой найти Жоржа де Бланшеланд.
Поглядев с минуту в одно совсем простенькое стеклышко, он сказал королю Локу:
— Король Лок, тот, кого ты ищешь, находится в плену у ундин, в их хрустальном дворце, откуда никто не возвращается и радужные стены которого находятся у границ твоего королевства.
— Он там? Ну, так пусть там и остается! — вскричал король Лок, потирая руки. — Желаю ему всего хорошего!
И, обняв старичка Нура, он ушел из колодца, хохоча во все горло.
Всю дорогу он держался за живот и хохотал без удержу; его голова тряслась, борода подскакивала на животе:
— Хо-хо-хо! ха-ха-ха!
Человечки, которые ему встречались по пути, радовались, глядя на него, и тоже начинали хохотать, а глядя на них, и другие покатывались со смеху; так хохот передавался от одних к другим, и, наконец, вся утроба земли затряслась в этой ликующей икоте:
— Ах! ха! ха! ах! ха-ха-ха! Ох-хо-хо! Их-хо-хо! Ха-ха-ха! Ха! ха-ха-ха!
Глава XVII,
в которой рассказывается о необыкновенных приключениях Жоржа де Бланшеланд
Король Лок, однако, хохотал недолго. Наоборот, он скоро улегся на свое ложе, бедный маленький человечек, и закрылся с головой, спрятав под одеялом свое огорченное личико. Размышляя о Жорже де Бланшеланд, пленнике ундин, он всю ночь не сомкнул глаз. А на рассвете, в тот час, когда гномы, которые дружат со служанками на ферме, идут доить за них коров, пока те еще спят крепким сном в своих белых кроватях, король Лок снова отправился к премудрому Нуру в его глубокий колодец.
— Hyp, — окликнул он, — а ведь ты мне не сказал, что он там делает у ундин?
Старый Hyp подумал было, что король Лок помешался, но это его не очень испугало, так как он знал, что если бы даже король Лок и впал в безумие, он несомненно был бы очень любезным, остроумным, обаятельным и добрым безумцем, потому что безумие у гномов столь же кротко, сколь и их разум, и полно прелестнейшей игры фантазии. Но король Лок вовсе не был безумным или во всяком случае не больше, чем обычно бывают влюбленные.
— Я говорю о Жорже де Бланшеланд, — сказал он старичку, который совершенно забыл об этом юноше.
Тогда мудрый Hyp расположил в строгом порядке, но так замысловато, что это скорее было похоже на беспорядок, чечевицеобразные стекла и зеркала и показал в одном из них королю Локу живое изображение Жоржа де Бланшеланд таким, каким он был, когда его похитили ундины. Искусно подбирая и чередуя стекла, Hyp показал влюбленному королю последовательную картину всех приключений сына графини, которой белая роза предсказала кончину. И если передать это словами, то вот что увидели два наши человечка в подлинном отображении живых форм и красок.
Когда Жоржа обхватили ледяные руки дочерей озера, он почувствовал, как вода сдавила ему глаза и грудь, и подумал, что он умирает. Однако он слышал песни, похожие на ласки, и всего его пронизывала какая-то восхитительная свежесть. Когда он открыл глаза, он увидел себя в гроте, хрустальные колонны которого сияли нежными отблесками радуги. В глубине этого грота громадная перламутровая раковина, переливающаяся самыми нежными оттенками, красовалась в виде балдахина над троном из кораллов и водорослей, на котором восседала королева ундин. Но лицо властительницы вод сияло еще более нежными красками, чем перламутр и кристаллы. Она улыбнулась мальчику, которого подвели к ней ундины, и остановила на нем долгий взгляд своих зеленых глаз.
— Друг мой, — сказала она, — будь желанным гостем в нашем мире, где ты не будешь знать никаких горестей. Здесь тебя не будут донимать ни сухим чтением, ни суровыми упражнениями, ничем грубым, что напоминало бы землю и труд. Здесь только песни, пляски и дружба ундин.
И на самом деле эти зеленоволосые женщины учили мальчика музыке, вальсу и тысяче всяких игр. Они забавлялись, украшая его лоб раковинами, которые сверкали у них в волосах. Но он вспоминал о родной земле и сжимал кулаки в нетерпенье и гневе.
Проходили годы, а Жорж все с тем же пылом мечтал увидеть землю, эту жесткую землю, которую жжет солнце, которая застывает под снегом, родимую землю, где страдают, любят, где он видел и жаждал снова увидеть Пчелку. А тем временем он стал уже юношей, и тонкий пушок золотил его верхнюю губу. К тому времени, как у него стала пробиваться бородка, он собрался с мужеством и однажды, представ перед королевой ундин, поклонился ей и сказал:
— Госпожа моя, я явился затем, чтобы вы соизволили разрешить мне распрощаться с вами: я возвращаюсь в Клариды.
— Мой юный друг, — сказала, улыбнувшись, королева, — я не могу разрешить вам распрощаться с нами, как вы просите, потому что держу вас в моем хрустальном дворце, чтобы сделать моим возлюбленным.
— Госпожа моя, — возразил Жорж, — я чувствую себя недостойным столь великой чести.
— Это делает честь вашей учтивости. Все добрые рыцари думают, что им никогда не заслужить любовь дамы. К тому же вы еще слишком молоды и не можете оценить все ваши достоинства. Знайте, юный друг, вам здесь желают добра. А от вас требуется только повиноваться вашей даме.
— Госпожа моя, я люблю Пчелку Кларидскую и не хочу никакой другой дамы.
Королева сильно побледнела, отчего стала еще прекраснее, и воскликнула:
— Смертная девушка, грубая дочь человеческая эта Пчелка! Как вы можете любить ее?
— Не знаю, только знаю, что я ее люблю.
— Ну что ж! Это пройдет.
И она оставила юношу среди услад хрустального дворца.
Он не знал, что такое женщина, и напоминал скорее Ахиллеса меж дочерей Ликомеда, чем Тангейзера в очарованном гроте. Он печально бродил вдоль стен громадного дворца, выискивая какую-нибудь лазейку, чтобы бежать, но со всех сторон он видел только великолепное и немое царство волн, замыкавшее его сияющую тюрьму. Он смотрел сквозь прозрачные стены и видел, как распускаются морские анемоны, как расцветают кораллы и стаи пурпуровых, лазоревых и золотых рыб проплывают над нежными мадрепорами и переливающимися раковинами и одним движением хвоста взметают тысячи искр. Все эти чудеса нисколько не трогали его, но, убаюкиваемый сладкими песнями ундин, он чувствовал, как воля его мало-помалу слабеет и душа погружается в сон.
Он уже впал в полное безразличие и ленивую истому, когда случайно в одной из галерей дворца ему попалась старая книга, пожелтевшая от времени, в переплете из свиной кожи с большими медными застежками. Эта книга, подобранная в глубине моря после кораблекрушения, рассказывала о рыцарях и о дамах, и в ней подробно описывались подвиги героев, которые из любви к справедливости и во имя красоты отправлялись бродить по белому свету, сражались с великанами, карали обидчиков, защищали вдов, давали приют сиротам. Жорж, то вспыхивая от восторга, то сгорая от стыда, то бледнея от ярости, читал рассказы об этих дивных приключениях. Он не мог удержаться и воскликнул:
— Я тоже буду добрым рыцарем! Я тоже поеду по белому свету карать злых и помогать несчастным, для блага людей и во имя дамы моего сердца, Пчелки.
И душа его преисполнилась отваги, и он бросился, обнажив меч, через покои хрустального дворца. Бледные женщины в испуге разбегались от него в разные стороны и исчезали, как серебристые волны озера. Только королева осталась невозмутимой. Когда он приблизился, она устремила на него холодный взгляд своих зеленых глаз.
Он подбежал к ней и вскричал:
— Разбей чары, которые оковали меня! Открой мне дорогу на землю! Я хочу сражаться под солнцем, как доблестный рыцарь! Я хочу вернуться туда, где любят, страдают, борются. Верни мне настоящую жизнь и настоящий свет! Верни мне мужество, иначе я убью тебя, злая женщина!
В ответ ему она, улыбаясь, покачала головой. Она была прекрасна и спокойна. Жорж ударил ее изо всех сил своим мечом, но меч его сломился о сверкающую грудь королевы ундин.
— Дитя! — сказала она.
И она приказала бросить его в темницу, устроенную наподобие хрустальной воронки под ее дворцом; вокруг нее сновали акулы, разевая свои страшные пасти, вооруженные тремя рядами острых зубов. И казалось, они вот-вот разобьют тонкую стеклянную стенку, так что в этой необыкновенной темнице невозможно было ни на минуту уснуть.
Основание этой подводной темницы упиралось в каменный пласт, который представлял собою свод пещеры; это была одна из самых отдаленных и заброшенных пещер в царстве гномов.
Вот что увидели эти два человечка за один час и так ясно, как если бы они следовали за Жоржем шаг за шагом каждый день его жизни. После того как старый Нур показал страшную картину темницы во всей ее мрачной правде, он обратился к королю Локу примерно с такой речью, с какой бродячий артист обращается к маленьким детям, когда показывает им волшебный фонарь.
— Король Лок, — сказал он ему, — я показал тебе то, что ты хотел видеть, и так как теперь ты узнал все, мне нечего больше прибавить. Меня не волнует, понравилось ли тебе то, что ты видел, мне достаточно того, что все это правда. Знание не заботится о том, чтобы нравиться или не нравиться. Оно безжалостно. Оно не пленяет и не утешает. Это дело поэзии. Вот почему поэзия более необходима, чем знание. Поди, король Лок, и вели, чтобы тебе спели песню.
Король Лок вышел из колодца, не сказав ни слова.
Глава XVIII,
в которой король Лок отправляется в страшное путешествие
Выйдя из колодца мудрости, король Лок пошел в свою сокровищницу и, открыв ларец, ключ от которого был только у него одного, достал оттуда перстень и надел его себе на палец. Камень в этом перстне излучал яркий свет, ибо это был волшебный камень, обладавший чудесными свойствами, с которыми вам еще предстоит познакомиться в нашем рассказе. Затем король Лок прошествовал в свой дворец, там он надел на себя дорожный плащ, натянул на ноги ботфорты и взял палку; после этого он отправился в путь по многолюдным улицам, большим дорогам, деревням, порфирным галереям, нефтяным озерам и хрустальным гротам, которые сообщались друг с другом узкими проходами.
Он был задумчив и бормотал слова, в которых напрасно было бы искать смысл. Но он упорно шагал вперед. Горы преграждали ему путь — он преодолевал горы; пропасти разверзались у него под ногами — он спускался в пропасти; он переходил реки вброд, пересекал страшные пустыни, окутанные серными парами, шагал по горячей лаве, где ноги его оставляли глубокие следы, — словом, он был похож на очень упорного путешественника. Он проходил темными пещерами, где морская вода, просачиваясь капля за каплей, стекала по водорослям, словно слезы, и скоплялась в углублениях почвы, образуя лагуны, где бесчисленные ракообразные достигали чудовищных размеров. Огромные крабы, лангусты, гигантские омары, морские пауки хрустели под ногами гнома и в ужасе обращались в бегство, теряя на бегу сломанные клешни и нарушая спячку чудовищных трилобитов и тысячелетних спрутов, которые вдруг вытягивали сотни щупальцев и выплевывали из своего птичьего клюва зловонный яд. А король Лок все шел вперед. Он спустился на самое дно пещер, пробираясь сквозь груды панцирей, ощетинившихся иглами клешней, вооруженных двойными пилами цепких лап, которые хватали его за шею, тусклых глаз, торчавших на концах длинных стеблей. Он дошел до конца пещеры и вскарабкался по стене, цепляясь за выступы скалы, а панцирные чудища карабкались вслед за ним; он остановился только тогда, когда, наконец, нащупал рукой знакомый ему камень, выступавший в этом естественном своде. Он тронул его своим магическим перстнем, и камень вдруг обрушился с ужасающим грохотом, и поток света хлынул в пещеру, и его чудесные волны обратили в бегство чудовищ, вскормленных мраком.
Король Лок просунул голову в отверстие, откуда шел свет, и увидал Жоржа де Бланшеланд, который томился в своей стеклянной тюрьме, мечтая о Пчелке, о земле. Ибо король Лок для того и пустился в это подземное путешествие, чтобы освободить пленника ундин. Но, увидев эту громадную голову, волосатую, бровастую и бородатую, которая глазела на него сквозь дно хрустальной воронки, Жорж решил, что ему угрожает великая опасность, и хотел было схватиться за меч, совсем забыв о том, что он сломал его о грудь зеленоокой женщины. А тем временем король Лок с любопытством разглядывал его.
— Фу! — сказал он себе. — Да это мальчишка!
И на самом деле это был мальчик, простодушный мальчик, и только это простодушие и спасло его от сладостных и смертельных поцелуев королевы ундин. Сам Аристотель со всей своей премудростью, и тот не сумел бы так удачно выпутаться из этой истории. Жорж, чувствуя себя безоружным, сказал:
— Чего ты от меня хочешь, ты, голован? Чего ты ко мне лезешь? Ведь я тебе ничего дурного но сделал.
Король Лок отвечал ему ворчливым, но вместе с тем и веселым тоном:
— Вы, мой малютка, не можете знать, сделали вы мне что-нибудь дурное или нет, ибо вам неведомы концы и начала, отраженные действия и вообще всякая философия. Но не будем об этом говорить. Если вам не жаль покинуть вашу воронку, идите-ка сюда!
Жорж тотчас же юркнул в пещеру, скользнул по стене и очутился внизу.
— Вы молодчина, маленький человечек, — сказал он своему избавителю, — я буду любить вас всю жизнь, а не знаете ли вы, где Пчелка Кларидская?
— Я много чего знаю, — отвечал гном, — и прежде всего знаю, что я терпеть не могу расспросов.
Услышав эти слова, Жорж сильно смутился и молча пошел за своим проводником сквозь густую и черную мглу, где копошились осьминоги и ракообразные. Тогда король Лок сказал ему насмешливо:
— Дорога-то не проезжая, мой юный принц!
— Сударь, — ответил ему Жорж, — дорога свободы всегда прекрасна, и я не боюсь заблудиться, следуя за моим благодетелем.
Король Лок прикусил губу. Дойдя до порфирных галерей, он показал юноше лестницу, вырубленную в скале гномами, по которой можно было подняться на землю.
— Вот ваша дорога, — сказал он, — прощайте.
— Не говорите мне «прощайте», — вскричал Жорж, — скажите, что я вас еще увижу. Моя жизнь принадлежит вам после того, что вы для меня сделали.
На что король Лок ответил:
— То, что я сделал, я сделал не для вас, а для кого-то другого. Встречаться нам не стоит, ибо нам с вами не быть друзьями.
И Жорж, глядя на него открытым и грустным взором, промолвил:
— Никогда бы я не поверил, что мое освобождение может меня огорчить. И, однако, это так. Прощайте, сударь.
— Счастливого пути! — крикнул король Лок страшным голосом.
А лестница гномов кончалась в заброшенной каменоломне, которая находилась меньше чем в одном лье от Кларидского замка.
Король Лок продолжал свой путь, бормоча себе под нос:
— У этого мальчишки нет ни мудрости, ни богатств, какими обладают гномы. Право, не могу понять, за что его любит Пчелка? Разве только за то, что он молод, красив, верен и храбр!
Он вернулся в свой город, посмеиваясь себе в бороду, как человек, сыгравший с кем-то ловкую штуку. Поравнявшись с домиком Пчелки, он просунул свою косматую голову в окошко, как недавно просунул ее в стеклянную воронку, и увидел, что молодая девушка сидит и вышивает серебряные цветы на фате.
— Будьте счастливы, Пчелка! — сказал он ей.
— И тебе того же желаю, Лок-королек, — ответила Пчелка, — пусть тебе будет так хорошо, чтобы нечего было и желать или по крайней мере не о чем было жалеть.
Желать-то у него было чего, но жалеть, правда, было не о чем. Подумав об этом, он с большим аппетитом поужинал. Поглотив изрядное количество фазанов, начиненных трюфелями, он позвал Боба.
— Боб, — сказал он ему, — садись-ка на своего ворона, лети к принцессе гномов и объяви ей, что Жорж де Бланшеланд, который долгое время был в плену у ундин, ныне возвратился в Клариды.
И не успел он это промолвить, как Боб уже умчался на своем вороне.
Глава XIX,
в которой рассказывается о том, какая удивительная, встреча произошла у портного мастера Жана и какую прекрасную песню пели птицы в саду герцогини
Когда Жорж очутился на земле, в том краю, где он родился, первый человек, которого он встретил, был мастер Жан, старый портной, — он нес на левой руке алую ливрею для мажордома в замок. Увидев своего молодого сеньора, старик завопил во всю глотку:
— С нами крестная сила! Святой Иаков! Ежели вы не сеньер Жорж, который вот уж семь лет, как утоп в озере, так, значит, вы его душа или сам дьявол во плоти!
— Я вовсе не душа и не дьявол, мой добрый Жан, я действительно тот самый Жорж до Бланшеланд, который когда-то прибегал к вам в лавку и выпрашивал у вас лоскутки на платья куклам для моей сестрицы Пчелки.
— Так, выходит, вы вовсе и не утопли, монсеньер! До чего я рад! Да и выглядите вы совсем молодцом! Мой внучек Пьер, который, бывало, карабкался ко мне на руки, чтобы посмотреть, как вы едете в церковь в воскресенье рядом с герцогиней, теперь уже большой малый, красавец парень и хороший работник! Истинная правда, монсеньер, бога благодарю, какой парень. А уж как он доволен будет, когда узнает, что вы не на дне озера и вас не сглодали рыбы, как он думал! Бывало, как только заговорит об этом, чего-чего только но выдумает! Такой смышленый малый, монсеньер! А уж вот что правда, то правда, об вас все в Кларидах жалеют. Еще вы совсем маленький были, а уж видать было, какой молодец растет. А я так до самой смерти не забуду, как вы однажды потребовали у меня иглу, а я не дал, потому что вы еще малы были и вам иглу в руки давать было небезопасно, а вы мне и скажите: «Вот я пойду в лес да наберу хорошеньких еловых зеленых иголочек». Так вот и сказали, меня и сейчас, как вспомню, смех разбирает. Провалиться мне на этом месте, прямо так и сказали. Наш маленький Пьер, бывало, тоже за словом в карман не лазил. А теперь он бочар, к вашим услугам, монсеньер!
— Лучшего бочара я и желать себе не могу. Но расскажите же мне, мастер Жан, что вы знаете о Пчелке и о герцогине.
— Э-эх! Да откуда же вы явились, монсеньер, что не знаете: вот уж семь лет, как принцесса Пчелка похищена горными гномами. А исчезла она в тот самый день, когда вы изволили утонуть; в этот день, можно сказать, Клариды потеряли два своих самых хорошеньких цветочка. А герцогиня-то уж как убивалась! Вот тут и скажешь, что и сильные мира тоже не без горя живут, как и самые простые ремесленники, потому как у всех у нас один праотец Адам. И значит, оно верно говорится, что и собака на епископа может глаза поднять. И уж так-то герцогине тяжко пришлось, что все волосы у нее побелели, и потеряла она всякую радость. И когда весной выходит она в своем черном платье погулять по саду, где птички на деревьях поют, так самой что ни на есть маленькой птахе скорей позавидуешь, чем властительнице Кларидской. Но все-таки горе ее не совсем без надежды, потому что, ежели про вас она и ничего не слышала, так про дочку свою, Пчелку, она из своих вещих снов знает, что та жива.
Добряк Жан болтал, не умолкая, рассказывал о том о сем, но Жорж, узнав, что Пчелка в плену у гномой, уже не слушал его. Он думал:
«Гномы держат Пчелку под землей, а меня из моей хрустальной тюрьмы освободил гном; видно, не все эти человечки одинакового нрава, и мой освободитель, конечно, не из тех гномов, что похитили мою сестрицу».
Он не знал, как ему поступить, знал только, что нужно освободить Пчелку.
Между тем они шли по городу, и кумушки, сидевшие на крылечках, поглядывали с любопытством на юного незнакомца, спрашивая друг у друга, кто бы это мог быть, и все сходились на одном, что он очень недурен собой. Некоторые из них, подогадливее, вглядевшись, узнали сеньора де Бланшеланд и тут же бросились бежать, осеняя себя широким крестом, решив, что это выходец с того света.
— Надо бы покропить его святой водой, — сказала одна старуха, — вот он сразу и сгинет, только оставит после себя смрадный дух адской серы, не то уведет он нашего мастера Жана, да и засадит его живьем в адское пламя.
— Потише ты, старуха! — одернул ее один горожанин. — Молодой сеньор жив-живехонек, живей нас с тобой. Гляди-ка, цветет, как розан, и похоже, вернулся от какого-нибудь княжеского двора, а никак не с того света. Из далеких стран ворочаются, бабушка, свидетель тому оруженосец Верное Сердце, что вернулся из Рима в прошлом году на Иванов день.
А Маргарита, дочь оружейника, вдосталь налюбовавшись Жоржем, поднялась в свою девичью светелку и, бросившись на колени перед образом святой девы, стала молиться:
— Пресвятая дева! Сделай так, чтобы муж у меня был точь-в-точь такой, как молодой сеньор.
Всякий по-своему судачил о возвращении Жоржа, и так эта новость, передаваясь из уст в уста, дошла до герцогини, которая гуляла в это время у себя в саду. Сердце ее затрепетало, и вдруг она услышала, как все птицы кругом на деревьях защебетали:
Оруженосец Верное Сердце почтительно приблизился к ней и сказал:
— Госпожа моя герцогиня, Жорж де Бланшеланд, которого вы считали погибшим, возвратился; мне уже не терпится сложить про это песню.
А птицы распевали:
И когда герцогиня увидала мальчика, которого она растила как родного сына, она раскрыла ему объятия и упала без чувств.
Глава XX,
которая рассказывает об атласной туфельке
В Кларидах нисколько не сомневались, что Пчелка похищена гномами. Так думала и герцогиня, но ее сны не говорили этого прямо.
— Мы ее найдем! — говорил Жорж.
— Найдем! — вторил ему Верное Сердце.
— Мы ее вернем матери! — говорил Жорж.
— Вернем! — подтверждал Верное Сердце.
— И мы возьмем ее в жены! — говорил Жорж.
— Возьмем! — повторял Верное Сердце.
И они расспрашивали окрестных жителей о повадках гномов и о загадочных обстоятельствах похищения Пчелки.
И вот как-то случилось, что они пришли к кормилице Морилле, которая вскормила своим молоком герцогиню Кларидскую; только теперь у Мориллы уже не было молока для грудных ребят, и она кормила кур на птичьем дворе.
Там-то ее и нашли сеньор и оруженосец. Она кричала: «Цып! цып! цы-ып! цыпи! цыпи! Цыпи! цып! цып! цы-ып!» — и бросала зерно цыплятам.
— Цып! цып! цы-ып! цыпи! цыпи! цыпи! А, да это вы, монсеньер! Цып! цып! цып! Да как же это вы такой большой выросли… цып! и такой красивый! цып! цып! Кш! кш! кш! Видали вы этого обжору, он готов съесть у маленьких весь корм? Кш! кш! пшел! Вот так-то и на белом свете, монсеньер. Все добро достается богатеям. Тощие тощают, а толстяки толстеют. Потому что нет правды на земле. А чем я могу служить монсеньеру? Уж верно, вы не откажетесь выкушать оба по стаканчику сидра?
— Нет, не откажемся, Морилла, и дай-ка я расцелую тебя, потому что ты вскормила мать той, кого я люблю больше всего на свете.
— Что правда, то правда, монсеньер; и первые зубки у моей дитятки прорезались ровно через шесть месяцев и четырнадцать дней. И по этому случаю покойная герцогиня сделала мне подарок. Истинная правда.
— Ну, так вот, расскажи нам, Морилла, что ты знаешь о гномах, которые похитили Пчелку.
— Э-эх, монсеньер! Да ничего я не знаю об этих гномах, которые ее похитили. Да и как вы хотите, чтобы такая старуха, как я, могла что-нибудь знать? Уж я давным-давно позабыла и то немногое, что знала, и так у меня память отшибло, что иной раз никак вспомнить не могу, куда я засунула очки. Другой раз ищешь-ищешь, а они на носу. Попробуйте-ка моего сидра, сейчас со льда.
— За твое здоровье, Морилла!.. А вот говорят, твой муж знал что-то о том, как похитили Пчелку.
— Что правда, то правда, монсеньер. Хоть и не ученый был человек, а немало вещей знал, толкался по харчевням да по кабачкам. И ничего не забывал. Коли бы еще он жил на белом свете да сидел бы с нами за этим столом, он бы вам много чего порассказал, вы бы его до утра не устали слушать. Столько он мне, бывало, всякой всячины наговорит, разных происшествий да историй, что у меня от них просто каша в голове, — разве упомнишь, где у какой начало, а где конец. Все перепуталось, истинная правда, монсеньер.
Да, это была истинная правда, и голова кормилицы поистине была похожа на старый дырявый горшок. Жоржу и Верному Сердцу пришлось немало потрудиться, чтобы вытянуть из нее что-нибудь дельное. Но все же, расспросив ее хорошенько, они услышали нижеследующий рассказ, который начинался так:
— Вот уж тому семь лет, монсеньер, — да в тот самый день, когда вы с Пчелкой ушли, не спросись, на прогулку, из которой не вернулись ни вы, ни она, — мой покойный муж отправился в горы продавать лошадь. Так вот оно и было, истинная правда, монсеньер. Он задал скотине добрую меру овса, намоченного в сидре, чтобы в глазах у нее появился блеск, а поджилки стали тугими, и повел ее в горное село на ближней рынок. И там сбыл ее за хорошие деньги, так что ему не пришлось пожалеть ни об овсе, ни о сидре. Что скотина, что человек — и тех и других по наружности уважают. Мой покойник-муж уж так был доволен, что такое удачное дельце сладил, что на радостях решил угостить приятелей да еще вздумал поспорить с ними, кто кого перепьет. А да будет вам известно, монсеньер, не было такого, человека во всех Кларидах, который мог бы тягаться с моим покойником, когда дело доходило до стаканчика. И вот в тот самый день, после того как он всех перепил, пришлось ему возвращаться одному-одинешеньку в сумерки, и попал он не на ту дорогу, потому как свою-то не узнал. Вот идет он мимо какой-то пещеры и видит, ясно видит, хоть и час поздний, да и сам он изрядно под хмельком, — целая толпа маленьких человечков тащат на носилках не то мальчика, не то девочку. Он, конечно, бежать со страху, чтоб не случилось худа, потому что хоть и был выпивши, а ума все-таки не потерял. Но неподалеку от этой пещеры обронил он свою трубку и нагнулся, чтобы поднять, а вместо нее попалась ему под руку маленькая атласная туфелька. Он так удивился, что сказал про себя, — и эти самые слова он потом, бывало, часто повторял, когда в духе был: «Это, говорит, первый случай такой, чтобы трубка в туфельку обратилась». Ну, а так как эта туфелька была с детской ножки, он и подумал, что, верно, та девочка, которая ее в лесу потеряла, и была похищена гномами, и как раз это похищение-то он и видел. Он уж было сунул туфельку в карман, но в эту самую минуту человечки в колпачках набросились на него и надавали ему таких оплеух, что он совсем обалдел, так и застыл на месте.
— Морилла! Морилла! — вскричал Жорж. — Так это Пчелкина туфелька! Дай мне ее скорей, чтобы я мог ее расцеловать. Я спрячу ее в шелковый мешочек и буду носить у себя на сердце, а когда я умру, ее положат со мною в гроб.
— Со всем бы удовольствием, монсеньер, да только где же ее взять-то теперь? Гномы отняли ее у моего бедного мужа, и он даже думал, не потому ли ему так здорово и досталось от них, что он ее собирался в карман сунуть, господам в ратуше показать. Помню, когда он бывал в духе, любил пошутить на этот счет…
— Довольно, Морилла, все! Скажи мне только, как называется эта пещера?
— Ее зовут Пещерой Гномов, монсеньер, и правильное это название. Мой покойный муж, бывало…
— Довольно, Морилла! Больше ни слова! А ты, Верное Сердце, знаешь, где эта пещера?
— Вы бы в этом не сомневались, монсеньер, — отвечал Верное Сердце, усердно опорожняя кувшин с сидром, — коли бы лучше знали мои песенки. Я сочинил их целую дюжину об этой пещере и так ее всю описал, что не забыл ни единой травинки. Осмелюсь вам сказать, монсеньер, что из этой дюжины песенок штук шесть отменного качества. Но и остальными пренебрегать не следует. Как-нибудь я вам спою одну-другую,
— Верное Сердце, — воскликнул Жорж, — мы с тобой отправимся в пещеру гномов и освободим Пчелку!
— Ясное дело! — подтвердил Верное Сердце.
Глава XXI,
в которой рассказывается об одном опасном приключении
Как только наступила ночь и все в замке уснуло, Жорж и Верное Сердце тихонько пробрались в подвал, где хранилось оружие. Там под закопченными балками сверкали копья, шпаги, мечи, палаши, клинки, кинжалы — все, что нужно для того, чтобы убить человека или волка. Под каждой перекладиной рыцарские доспехи стояли в такой решительной и гордой позе, что, казалось, в них еще обитает душа храбреца, который надевал их когда-то, отправляясь на великие подвиги. Латные рукавицы сжимали своими десятью железными пальцами копье, щит упирался в набедренник, словно показывая, что осторожность не претит мужеству и что истинный воин вооружается для защиты не менее тщательно, чем для нападения.
Жорж выбрал из всех доспехов те, в которых отец Пчелки ходил в поход на острова Авалон и Фулу. Он облачился в них с помощью Верного Сердца, не преминув взять и щит, на котором на одной стороне был изображен кларидский герб — золотое солнце. Верное Сердце в свою очередь облекся в добротную старинную кольчугу своего деда, а на голову надел старый помятый шлем, к которому прицепил в виде плюмажа или султана облезлую метелку из перьев. Он выбрал ее просто потому, что ему взбрела такая фантазия и чтобы выглядеть повеселее, ибо считал, что веселье хорошо во всех случаях жизни, а в особенности когда грозит опасность.
Вооружившись, они пошли при свете луны темным парком. Верное Сердце оставил лошадей на опушке леса, неподалеку от крепостного вала, там они и стояли на привязи и глодали кору кустарника; это были очень быстрые кони, и не прошло и часа, как всадники увидели среди блуждающих огней и призрачных видений гору гномов.
— Вот и пещера, — сказал Верное Сердце.
Рыцарь и оруженосец соскочили с коней и, обнажив мечи, двинулись в пещеру. Надо было обладать немалой смелостью, чтобы отважиться на подобное приключение. Но Жорж был влюблен, а Верное Сердце был преданный друг. И тут было бы уместно сказать вместе с одним из самых пленительных поэтов:
Рыцарь и оруженосец шагали около часа в глубокой мраке и вдруг с удивлением увидели яркий свет. Это был один из тех метеоров, которые, как мы знаем, освещают царство гномов.
В этом сверкающем подземном свете они увидали, что стоят у стены старинного замка.
— Вот, — сказал Жорж, — это и есть тот самый замок, который нам надлежит взять приступом.
— По-видимому, так, — отвечал Верное Сердце, — но разрешите, я глотну несколько капель того винца, что я захватил с собой в качестве оружия; ибо чем крепче вино, тем крепче и человек, чем крепче человек, тем крепче копье, а чем крепче копье, тем слабее враг.
Жорж, оглядевшись кругом и не видя ни души, ударил что есть силы рукояткой своего меча в ворота замка. Раздался тоненький блеющий голосок, — Жорж поднял голову и увидел в одном из окон замка крошечного старичка с длинной бородой, который спросил его:
— Кто вы такой?
— Жорж де Бланшеланд.
— А что вам здесь надо?
— Освободить Пчелку Кларидскую, которую вы бесправно держите в вашей норе, мерзкие кроты!
Гном исчез, и Жорж снова остался вдвоем с Верным Сердцем; и тот сказал ему:
— Не знаю, сеньор, может, я и ошибаюсь, но мне сдается, что вы, отвечая гному, не позаботились пустить в ход все улещенья проникновенно убеждающего красноречия.
Верное Сердце ни перед чем не робел, но он был стар, сердце его, как и его череп, было сглажено временем, и он не любил, когда зря раздражали людей. Жорж, наоборот, не помнил себя от ярости и кричал во все горло:
— Эй вы, мерзкие землекопы, кроты, барсуки, сурки, хорьки, водяные крысы, сейчас же откройте ворота, и я обрежу вам уши, всем до единого!
Но только он успел прокричать это, как бронзовые ворота замка медленно раскрылись сами собой, так как не было видно никого, кто бы толкал эти огромные створы.
Жоржу стало страшно, но он отважно вошел в таинственные ворота, ибо храбрость его была сильнее, чем его страх. Очутившись во дворе, он увидал во всех окнах, на всех галереях, всюду на всех крышах, на шпицах, на фонарях и даже на печных трубах множество гномов, вооруженных луками и арбалетами.
Он услышал, как бронзовые ворота захлопнулись за ним, и тотчас же со всех сторон на него градом посыпались стрелы. И во второй раз ему стало страшно, и во второй раз он преодолел свой страх.
Подняв щит левой рукой, а в правой сжимая меч, он стал подниматься по лестнице, ведущей во дворец, и вдруг увидел прямо перед собой, на верхней ступени, царственно спокойного, величественного гнома с золотым скипетром, в королевской короне и пурпурной мантии. И он узнал в этом гноме того самого человечка, который освободил его из стеклянной тюрьмы. Он бросился ему в ноги и воскликнул, заливаясь слезами:
— О мой избавитель! Кто же вы такой? Неужели вы из тех, кто отнял у меня мою любимую Пчелку?
— Я король Лок, — отвечал гном, — я держал Пчелку у себя, дабы открыть ей тайны гномов. Ты, мальчишка, ворвался в мое королевство, как буря в цветущий сад. Но гномы не подвержены людским слабостям и не поддаются ярости, как вы, люди. Я намного превосхожу тебя мудростью и потому не гневаюсь на тебя, что бы ты ни делал. Из всех моих превосходств над тобой есть одно, которое я ревниво храню: оно называется справедливостью. Я прикажу позвать Пчелку и спрошу ее, хочет ли она последовать за тобой. Я сделаю это не потому, что ты этого желаешь, а потому, что я должен так поступить.
Наступила глубокая тишина, и появилась Пчелка в белом платье, с рассыпавшимися по плечам светлыми кудрями. Как только она увидала Жоржа, она бросилась в его объятия и крепко прижалась к его железной рыцарской груди.
И тогда король Лок сказал ей:
— Пчелка, правда ли, что это тот человек, которого вы хотели иметь мужем?
— Правда, сущая правда, Лок-королек, это он самый, — отвечала Пчелка. — Смотрите все вы, милые человечки, как я смеюсь и как я радуюсь!
И она заплакала. Ее слезы капали на лицо Жоржа, и это были слезы счастья; они перемежались взрывами смеха и тысячью самых нежных слов, лишенных смысла и похожих на те, что лепечут маленькие дети. Она не думала о том, что королю Локу, может быть, очень грустно смотреть на ее счастье.
— Возлюбленная моя, — сказал ей Жорж, — я нахожу вас такой, какой мечтал найти: самой прекрасной и самой лучшей из смертных. Вы меня любите! Хвала небесам, вы меня любите! Но, Пчелка моя, разве вы не любите немножко и короля Лока, который освободил меня из стеклянной темницы, где ундины держали меня в плену вдалеке от вас?
Пчелка обернулась к королю Локу.
— Лок-королек, ты это сделал! — вскричала она. — Ты меня любишь и все-таки освободил того, кого люблю я и кто любит меня…
Больше она не могла говорить, упала на колени и закрыла лицо руками.
Все маленькие человечки, взиравшие на эту сцену, обливались слезами, опершись на свои самострелы. Один только король Лок сохранял спокойствие. Пчелка, которой открылось теперь все его величие и доброта, прониклась к нему нежной дочерней любовью. Она взяла за руку своего возлюбленного и сказала:
— Жорж, я люблю вас, один бог знает, как я люблю вас. Но как же мне покинуть короля Лока?
— Покинуть? Что? Вы оба мои пленники! — воскликнул король Лок громовым голосом.
Он закричал таким страшным голосом шутки ради. А на самом деле он нисколько не сердился.
Верное Сердце подошел к нему и преклонил колено.
— Всемилостивейший государь, — сказал он, — да соблаговолит ваше величество разрешить мне разделить плен господина моего и госпожи моей, которым я служу!
Пчелка, узнав его, вскричала:
— Это ты, Верное Сердце, мой добрый слуга! Как я рада тебя видеть. Ах, какой у тебя ужасный султан! А скажи, сочинил ты новые песенки?
И тут король Лок повел их всех троих обедать.
Глава XXII,
в которой все благополучно кончается
На следующий день Пчелка, Жорж и Верное Сердце, облачившись в пышные одежды, которые приготовили им гномы, отправились в праздничный зал, где король Лок в королевском одеянии вскоре встретился с ними, как и обещал. За ним шествовала его гвардия в доспехах и мехах варварского великолепия и в касках, над которыми трепетали лебединые крылья. Гномы сбегались толпами, проникая через окна, отдушины и камины, пролезая под скамьями.
Король Лок поднялся на каменный стол, уставленный кувшинами, светильниками, кубками и золотыми чашами чудеснейшей работы. Он сделал знак Пчелке и Жоржу приблизиться и сказал:
— Пчелка, закон народа гномов требует, чтобы чужеземцы, попавшие к нам, обретали свободу по истечении семи лет. Вы провели семь лет среди нас, Пчелка, и я был бы плохим гражданином и преступным королем, если бы удерживал вас долее. Но прежде чем расстаться с вами, я желаю, раз уж мне нельзя жениться на вас, обручить вас с тем, кого вы избрали. Я делаю это с радостью, ибо люблю вас больше, чем себя самого, а мое горе, если оно не пройдет, останется легкой тенью, которую развеет ваше счастье. Пчелка Кларидская, принцесса гномов, дайте мне вашу руку. И вы, Жорж до Бланшеланд, дайте мне также вашу руку.
Соединив руки Жоржа и Пчелки, король Лок обратился к своему народу и провозгласил громким голосом:
— Вы, человечки, дети мои, свидетели того, что эти двое, стоящие здесь, обручаются друг с другом, дабы вступить в брак на земле. Пусть же они возвратятся туда вместе и да возрастят они вместе мужество, скромность и верность, как добрые садовники взращивают розы, гвоздики и пионы.
Гномы подхватили эти слова громкими кликами; чувства у них были самые противоречивые, ибо они не знали, радоваться им или огорчаться. Король Лок снова повернулся к жениху с невестой и, указывая на кувшины, кубки и прочие драгоценные изделия, сказал:
— Это дары гномов. Примите их, Пчелка, они будут напоминать вам о ваших маленьких друзьях, ибо это дарят вам они, а не я. А сейчас вы узнаете, что подарю вам я.
Наступило долгое молчание. Король Лок с выражением глубокой нежности смотрел на Пчелку, чье прелестное сияющее чело, увенчанное розами, склонилось на плечо жениха.
Затем он заговорил так:
— Дети мои, любить пылко — это еще не все, надо еще хорошо любить. Любить пылко — это, конечно, прекрасно, но любить самоотверженно — еще лучше. Пусть же любовь ваша будет столь же нежна, сколь и сильна, пусть в ней не будет недостатка ни в чем, даже в снисходительности, и пусть к ней всегда примешивается немножко сострадания. Вы молоды, прекрасны и добры, но вы люди и тем самым подвержены многим несчастьям. Вот поэтому-то, если к тому чувству, которое вы испытываете друг к другу, не будет примешиваться немного сострадания, это чувство но будет отвечать всем превратностям вашей совместной жизни. Оно будет подобно праздничной одежде, которая не защищает ни от ветра, ни от дождя. Истинно любят только тех, кого любят даже в их слабостях и в их несчастиях. Щадить, прощать, утешать — вот вся наука любви.
Король Лок умолк, охваченный глубоким и сладостным волнением, затем продолжал:
— Дети мои, будьте счастливы: берегите свое счастье, берегите его крепко.
В то время как он говорил, Пик, Тад, Диг, Боб, Трюк и По, ухватившись за белое покрывало Пчелки, осыпали поцелуями руки молодой девушки и умоляли ее не покидать их. Тогда король Лок достал из-за пояса перстень с драгоценным камнем, от которого шли яркие снопы лучей. Это был тот самый волшебный перстень, который открыл темницу ундин. Он надел его Пчелке на палец и сказал:
— Пчелка, примите из моих рук этот перстень, который позволит вам и вашему супругу входить в любой час в царство гномов. Вас здесь всегда встретят с радостью и всегда придут вам на помощь. А вы в свою очередь внушите вашим будущим детям не питать презрения к маленьким, простодушным, трудолюбивым человечкам, которые живут под землей.
Приложение
Глава из сказки «Пчелка», опубликованная в «Revue Bleue» в 1882 г., но не включенная А. Франсом в окончательный текст, вошедший в сборник «Валтасар»
ГЛАВА 5,
в которой приводятся речи мамки Гертруды
В то утро, — а это было первое воскресенье после пасхи, — мамка Гертруда, одевая Жоржа, говорила ему:
— Постойте, монсеньер, дайте же застегнуть ваши подвязки! Вот опоздаете к обедне, достанется вам от госпожи герцогини. Смотрите, как бы с вами не приключилось чего похуже, чем с этими языческими великанами, что заставляют сотрясаться землю, которая их поглотила! В горах, на скалах и поныне сохранились их следы.
— Как бы я хотел быть одним из этих великанов, Гертруда!
— Свят, свят, свят! Не слушай его, господи! А что бы вы стали делать, кабы были великаном?
— Я бы отцепил с неба луну.
— Как жалко-то! А что бы вы с ней стали делать, монсеньер?
— Подарил бы ее Пчелке.
— Да уж это все знают, как вы любите барышню Пчелку! Да и есть за что! Такая красотка и как вежлива со всеми простыми людьми, будь то самый последний слуга. Никогда не пройдет мимо меня, не сказав мне: «Добрый день, милая Гертруда! Как твое здоровье, милая Гертруда?» Приятно слышать такие добрые слова! Да благословит бог уста, которые произносят их!
— Но я люблю Пчелку, Гертруда, вовсе не потому, что она говорит тебе «добрый день»; я бы все равно любил ее, если бы она даже и не говорила этого. Как жалко, что она на самом деле не моя сестричка!
— Придет время, когда вы перестанете жалеть об этом, монсеньер. Уж поверьте мне, перестанете. Поставьте-ка ножку вот сюда на скамеечку, я зашнурую вам гетры. Ах, какие славненькие ботиночки! Дал же бог такие стройные ножки, да и правду сказать, это у вас в роду. Ну вот, опять шкурок оборвался! Не зря, бывало, ваш двоюродный дедушка Филипп пригвождал жуликов-торговцев за ухо к двери. Вот теперь из-за этого шкурка вы опоздаете к обедне. Удави дьявол таким шкурком того мошенника, который его продавал!
— Разве можно удавить таким шкурком, Гертруда, который все время рвется?
— Что правда, то правда, ах вы, мой ангелочек! Ума палата! Ну, да это у вас в роду. Покойный граф, ваш дедушка, натощак, бывало, слова не вымолвит, ну а вот после хорошего ужина иной раз так разойдется! Начнет говорить всякие любезности, называть меня красоткой Гертрудой. Истинная правда, так вот он и говорил: «Красотка Гертруда!»
— Гертруда, а ты старая?
— Да уж не молода, монсеньер, и с каждым днем все старее делаюсь. Но и старше меня люди на свете живут. Вот хотя бы принц Труа-Фонтэн. Он уже большой мальчуган был, а я только что на свет родилась. В тот год праздник отпущения справляли, и юный принц в первый раз штанишки надел.
— Может быть, это и так, Гертруда, но ведь у него такая длинная борода, такая красивая одежда, красивые собаки, красивые лошади. Он ездит на охоту. А ты, Гертруда, ведь не ездишь на охоту, у тебя нет красивых платьев. Не понимаю, что тебе за удовольствие жить? По-моему, никакого.
— Ах, монсеньер! Бедный мой муж, покойник, уж такой-то был умный человек! Вспомнишь иной раз, чего он только не придумывал, ну да, конечно, раз это не попало в книжки, так оно все и погибло вместе с ним. Но вот у меня, между прочим, осталось в памяти, как он, бывало, говорил: «У каждого возраста есть свои приятности». И верные это слова. Вот я, например, под старость утешаюсь тем, что меня господь бог в райскую обитель примет, а другие в геенну огненную пойдут. Ну, одна ножка готова, зашнуровали. Давайте другую.
— А по-моему, Гертруда, если тебе что и приятно, так это болтать с нашей кастеляншей и ключником, потому что ты только этим и занимаешься целые дни.
— Вот уж это напраслина, монсеньер! Ну, да ведь у молодых нет разумения, чтобы о человеке по заслугам судить. Наша кастелянша, монсеньер, достойная особа и могла бы служить примером другим, если бы только не заблуждалась на свой счет. А то ведь старуха, горбунья, а вот поди же — бредит, будто все мужчины только и думают, как бы жениться на ней. Ну, а что до нашего ключника — он у нас весельчак! И все-то он про всех знает. Вот только еще нынче утром рассказывал мне историю про вашего дедушку.
— Про того самого, который молчал натощак, а после ужина расходился?
— Про того самого. Но, боже милостивый, монсеньер, кто же это вас научил говорить так про вашего дедушку?
— Да ты сама, Гертруда, вот только сейчас!
— Должно быть, я просто обмолвилась. Это я про ключника говорила. Тот, правда, забавник.
— Гертруда, а ты расскажи мне, что ты от него слышала. Только выплюнь эти четыре булавки изо рта, ты из-за них корчишь гримасы, и ничего нельзя понять, что ты говоришь.
— Да ведь надо же мне приколоть воротничок к вашей рубашечке, а то он все кверху лезет.
— Пусть себе лезет, Гертруда. Булавки — это для девочек, мальчики не носят булавок. Расскажи мне, что тебе рассказывал ключник. Но только скажи сначала: а это правда было?
— Конечно, правда. Вот только послушайте, и сами не будете сомневаться.
— Гертруда, а как можно узнать, что тебе рассказывают правду?
— Правда, монсеньер, то, чему веришь.
— А разве не бывает так, Гертруда, что ты веришь, а оказывается, это неправда.
— Тогда, значит, выходит, человек ошибся. А если так ошибаться, тогда уж, значит, ничему верить нельзя, и ни о чем уж никакого понятия не будешь иметь, все в голове кругом пойдет, как у пьяницы. И что это вам вдруг на ум взбрело, монсеньер? Не надо так говорить, не подумавши. Вот ваш поясок.
— Гертруда, долго я буду дожидаться, пока ты мне расскажешь эту историю ключника?
— Так вот что он мне рассказывал. Слушайте, монсеньер. Однажды ночью старый граф, ваш дедушка, проснулся в постели от какого-то диковинного шума. Ему показалось, точно град по крыше стучит, хотя небо было совсем ясное, или будто на лестнице бобы из мешка вытряхивают. А уж это совсем немыслимое дело! Какой же болван станет ночью на лестнице в замке бобы вытряхивать! Ну, дедушка ваш видит, что ему не заснуть, надел свой халат и вышел в галерею посмотреть, что там такое происходит. Каково же было его удивление, когда он при свете луны увидел в зале множество крошечных человечков, которые прыгали в окна и сыпались изо всех щелей и замочных скважин, точно горох. Все они были великолепно одеты, как на свадьбу. Да это и была свадьба. Целый оркестр кузнечиков играл веселые танцы, а человечки кружились и плясали на блестящем паркете. Они ничуть не испугались вашего дедушки и пригласили его протанцевать менуэт с молодой новобрачной. Ну, он, конечно, как любезный кавалер, тут же согласился. То-то была веселая картина! Стоило поглядеть, как наш добрый сеньор в ночном колпаке отплясывал со своей крошечной дамой!
ГЛАВА 6,
в которой рассказывается, как герцогиня с маленькой Пчелкой и Жоржем поехали в монастырь и встретились там со страшной старухой
Едва только Гертруда кончила свой рассказ о маленьких человечках, как герцогиня вышла из своих покоев…
Комментарии
«Валтасар» — первый сборник новелл А. Франса, появился в издании Кальман-Леви в 1889 г.; в него вошли произведения более ранних лет, опубликованные до этого в периодической прессе.
«Валтасар» показывает, как многогранны были связи Франса с традициями национальной литературы; одни новеллы восходят к философской повести XVIII в., другие тяготеют к французской новелле XIX в.
Посмотри на тематическую пестроту сборника, в нем есть некоторое единство, создаваемое антицерковной направленностью и пародийностью замысла большинства вошедших в него новелл. Так, новелла «Валтасар», впервые опубликованная в «Temps» 26 декабря 1886 г., носила подзаголовок «Рождественский рассказ», так же как «Дочь Лилит» (опубликована там же 25 декабря 1887 г.); «Лета Ацилия» («Temps», 1 апреля 1888 г.) и «Красное яйцо» (там же, 10 апреля 1887 г.) пародировали «пасхальные рассказы»; «Господин Пижоно» при первой публикации («Temps», 9 января 1987 г.) имел подзаголовок «Крещенский рассказ»; «Резеда господина кюре» содержала прямую издевку над религиозной моралью.
В известном смысле «Валтасар» подводил итог двадцати годам писательской деятельности А. Франса и явился переходной ступенью к рассказам и романам 90-х годов. Мы находим здесь весь круг интересов раннего Франса, (сборник несет на себе печать характерного для него увлечении «Жизнью Иисуса» (1863) и «Историей израильского народа» (печаталась начиная с 1888 г.) Эрнеста Ренана; это показывают и библейские сюжеты некоторых новелл сборника и общая философская позиция автора, которая, как и в произведениях предыдущих лет, остается близкой к ренановскому философскому релятивизму. Красочные, декоративные картины жизни древнего Востока, древнеримского общества, любование древнеегипетской экзотикой дают основание говорить, что Франсу, автору «Валтасара», по-прежнему близки многие темы и художественные принципы поэзии парнасцев. Вместе с тем в сборнике есть отголоски того интереса к современности, который породил «Иокасту», «Тощего кота» и «Преступление Сильвестра Бонара». Многие мотивы этих произведений так или иначе отражены в «Валтасаре».
С другой стороны, сборник содержит зерна новых творческих замыслов, от него тянутся нити к «Таис», к «Перламутровому ларцу». Здесь уже господствует столь характерная для Франса начала 90-х годов атмосфера непочтительности к церковным канонам, полусочувственного-полунасмешливого отношения к персонажам апокрифических сказаний, уже выработан прием иронической стилизации, который станет основным художественным приемом в легендах «Перламутрового ларца».
Наряду с этим мы находим в новеллах «Валтасара» реалистические зарисовки природы и быта Франции конца XIX в., портреты современников: ученого-гуманиста, врача, светской дамы, сельского священника, семейства провинциальных дворян. Все это не только связывает сборник с французской реалистической новеллой того времени, но и в какой-то мере предвосхищает рассказы и романы Франса 90-х годов на современные темы.
Сюжет открывающей сборник новеллы «Валтасар», на первый взгляд действительно традиционен для рождественского рассказа, он связан с евангельской легендой о поклонении волхвов новорожденному Иисусу Христу. Однако писатель сейчас же подменяет этот сюжет другим, библейским сюжетом о царице Савской, который, в свою очередь, служит лишь условным обрамлением для истинного содержания новеллы, не имеющей в сущности никакого отношения к библии. «Валтасар» — это философская повесть, сознательно стилизованная в духе «Задига» или «Царевны Вавилонской» Вольтера, где персонажи только по именам связаны с легендой, а авантюрная фабула и восточная экзотика подчинены философской идее.
Это ясно показывает первый вариант новеллы, опубликованный в 1884 г. в газете «L'Univers illustre» под заглавием «История Гаспара и царицы Савской». Образы героев здесь только намечены, все их приключения отсутствуют и сюжет сведен к главной ситуации: юный «царь-волхв», наблюдая с башни своего дворца небесные светила, замечает на горизонте приближающийся караван царицы Савской. В сердце его внезапно вспыхивает земная страсть; но в это время в небе загорается Вифлеемская звезда, а в сердце Гаспара — любовь небесная, и он следует за звездой, «показав спину» царице. С досада м прекрасное лицо становится подобным «омерзительной морде шакала», «чтобы люди познали безобразие идолопоклонничества, ибо отныне дни язычества были сочтены».
Насмешка над христианством сквозит и в иронической концовке, которая повторяет евангелие, но совсем не вытекает из всего предыдущего развития сюжета новеллы: герой встречается с остальными двумя волхвами, приходит к новому богу, «и, простершись втроем пред младенцем Христом, лежавшим на соломе, они познали истину».
Во втором варианте новеллы даются уже развернутые характеры героев, и конфликт проистекает из их столкновения. «Царь-волхв» получает имя Валтасара, становится чернокожим и наделяется житейской неопытностью и простосердечием наподобие вольтеровских Кандида или Простака. Сомнительная мудрость отречения от земного счастья ради счастья небесного приходит к нему в результате тяжелых жизненных разочарований, что в значительной мере обесценивает его религиозное обращение.
Образ царицы Савской олицетворяет в новелле жестокую, но неотразимо притягательную силу полнокровной земной жизни. Используя материал апокрифических легенд, А. Франс подчеркивает в своей героине злое, «грешное», «бесовское»; недаром молва наделяет ее, как античных фавнов, «козьими ногами с раздвоенными копытцами».
В 60—70-х годах XIX в. образ царицы Савской неоднократно воссоздавался в искусстве; в парижских художественных салонах было выставлено множество гравюр на эту тему; в 1862 г. была поставлена опера Ш. Гуно «Царица Савская». В «Искушении святого Антония» Флобера (1874) лукавая царица является святому отшельнику и пытается его совратить. Истолкование этого образа у Флобера очень близко к франсовскому, да и вся новелла «Валтасар» полна реминисценций из мистерии Флобера; вольтерианство дополняется здесь скепсисом, характерным для обоих писателей: в чем же счастье человека, в любви или в науке; в чем истина, в погружении в жизнь или в уходе от нее, — этот вопрос остается открытым.
В новелле «Лета Ацилия» А. Франс обращается к эпохе заката античности и зарождения христианства, постоянно привлекавшей его внимание в первый период творчества, к той же теме столкновения двух мировоззрений, христианского и языческого, которую мы находим в его ранних стихах, в «Коринфской свадьбе», позднее в «Таис», в «Прокураторе Иудеи» и в романе «На белом камне». Но «Лета Ацилия», как и «Валтасар», ближе всего подходит к жанру философской повести.
Идея новеллы ясно выражена в противопоставлении двух ее героинь — исступленной христианки Марии Магдалины и простодушной язычницы Леты Ацилии. Подобно тому как это было в «Коринфской свадьбе», за каждой из них стоит свой мир, и автор на стороне язычницы, которая, оберегая свое душевное спокойствие и простые человеческие радости, отшатывается от мрачного и тревожного христианства и предпочитает римских домашних божков непонятному богу Магдалины.
Евангельский образ Марии Магдалины издавна занимал Франса; это нашло отражение в его стихотворениях («Судьба Магдалины»), косвенно — в романе «Таис». «Лета Ацилия» содержит прямую пародию на евангельскую легенду. А. Франс не только сознательно смешивает обращенную блудницу Марию Магдалину с другой упоминаемой в евангелии Марией, но и вкладывает совсем иной смысл в этот образ: с иронией обнажает он эротическую подоплеку религиозного экстаза Марии. Сама она не отдает себе отчета в истинном характере своих чувств, но добродетельная патрицианка Лета Ацилия наивно завидует ее «любовным приключениям» и упрекает ее, что она «слишком любила» своего бога.
Парадоксальность ситуации в том, что душевная ясность оказывается уделом язычницы, живущей в согласии с естественными потребностями своей здоровой натуры, тогда как христианку, искусственно подавляющую свою человеческую природу, сжигает огонь нечистых страстей.
Этот мотив получит развитие в романе «Таис».
«Дочь Лилит» — третья новелла сборника, связанная по сюжету со Священным писанием, — тоже восходит к литературе Просвещения XVIII в.; миф о Лилит, противоречащий ортодоксальной библейской версии о сотворении мира, приводится в одном из важнейших литературно-философских памятников раннего французского Просвещения — в «Историческом словаре» Пьера Бейля. А. Франс использовал этот миф для критики религиозной морали, возводящей в добродетель отречение от земных страстей; трагедия героини новеллы Леилы и том и состоит, что она не причастна к страданиям, горестям, страстям человеческим, а значит, и к человеческому счастью. Бессмертие Леплм лишено смысла; не зная любви, она в состоянии лишь, приносить зло людям.
В «Дочери Лилит» заключается та же гуманистическая мысль, что и в «Таис»: только способность любить делает человека человеком.
Но содержание новеллы не исчерпывается ее философской проблематикой. Франса увлекает таинственный образ Леилы, роковая страсть героя, контраст между его душевным смятением и монотонным существованием сельского священника. Миф вторгается в современности и несет с собой элемент сверхъестественного; иррационального.
И в этом «Дочь Лилит» соприкасается с литературой декадентства.
Новелла «Господин Пижоно» возвращает нас к «Преступлению Сильвестра Бонара». Здесь тот же скепсис в оценке исторической науки, которая, если судить по новелле, накапливает факты, но ничего не объясняет в жизни; то же любовно ироническое отношение к ученому-гуманисту, отгородившемуся своими книгами от современности. Египтолог Пижоно — родной брат чудаковатого академика Бонара. С первых же строк автор высмеивает его научные труды, вроде «Заметок о ручке египетского зеркала, находящегося в Лувре», и с веселой иронией показывает, что вся мертвым грузом лежащая премудрость старого ученого годится лишь на то, чтобы придумать маскарадный костюм для великосветской барышни. Как Сильвестр Бонар пожертвовал своей библиотекой ради счастья юной Жанны Александр, а ученый Богус («Книга моего друга») отдал труд целой жизни для гербария своей племяннице, так и Пижоно призывает всю свою эрудицию, чтобы сочинить забавную сказку для Анни Морган. Во всех трех случаях мертвая наука пасует перед живой жизнью.
Мотив гипноза, внушения тоже звучит в новелле иронически; когда г-н Пижоно признается: «Непреодолимая сила влекла меня к мисс Морган», читатель начинает подозревать, что, может быть, в этом виноваты не столько «поразительный экспериментатор» доктор Дауд и мистическая египетская кошечка Пору, сколько чары молодости и красоты, которые действуют сильнее всякого гипноза.
В новелле «Красное яйцо» развивается та же ситуация, что в «Иокасте»; автор начинает повествование с ее краткого пересказа. В обоих случаях болезненно обостренное восприятие случайной фразы из античного текста приводит героев к самоубийству.
Но в «Иокасте» гибель героини обусловлена отчасти социальными причинами: запутавшись в семейных отношениях, она становится невольной соучастницей преступления и жертвой шантажа.
В «Красном яйце» причина гибели героя — больная психика, обусловленная дурной наследственностью (Александр Лемансель — это «несчастный отпрыск вечно страдающей мигренью матери и отца-микроцефала»). Болезнь проявляется уже в детстве, его преследуют навязчивые идеи («Тифания не умерла!»), мечты о военной славе; необыкновенное красное яйцо, якобы снесенное курицей в день его рождения, — только повод для развития его психоза, который исследуется автором так же, как это делалось в романах Гонкуров и в ранних произведениях Золя. В «Красном яйце» А. Франс ближе всего подходит к натурализму.
Сказка «П ч е л к а» выпадает из общего плана сборника «Валтасар» и непосредственно примыкает к главам «Книги моего друга», посвященным волшебным сказкам. Она как бы осуществляет на практике мысли А. Франса об этом жанре. Не случайно соответствующие главы «Книги моего друга» были впервые опубликованы в периодической прессе под названием «Сказки матушки Гусыни» в 1881 г., а уже через несколько месяцев, летом 1882 г., в печати появилась «Пчелка» («Revue Bleue», 8, 15, 22, 29 июля 1882 г.).
В «Пчелке» проявилась богатая фантазия А. Франса, глубокое понимание им духа французской народной сказки с ее мечтой о справедливости и счастье для людей, с ее светлым восприятием мира. Недаром А. Франс писал в «Книге моего друга»: «В литературных произведениях классических эпох уже не встретишь той изумительной простоты, того божественного неведения… которые сохранились неувядаемыми и благоуханными в сказках и народных песнях».
Из фольклора пришли и основные мотивы фабулы «Пчелки» и главные образы — добрые принцы и принцессы, гномы, ундины, волшебное озеро, зловещая старуха, сочные образы верных слуг, горожан и крестьян.
Вместе с тем сказка Франса имеет глубокие традиции в национальной французской литературе, в средневековых рыцарских романах, в сказках Шарля Перро. Об этом говорит не только содержание «Пчелки», не только мастерски переданная в ней атмосфера рыцарского средневековья, но и ее форма: изящная простота и лаконизм языка, напоминающие классическую французскую прозу XVII века, разлитая по всему произведению едва заметная ирония и характерная композиция (чередование сюжетных линий по главам и краткий пересказ содержания в начале каждой главы). А. Франс и здесь показал свое тонкое искусство стилизации. Прекрасны глубоко поэтические и красочные картины природы в сказке Франса; но особенно привлекателен ее гуманизм — прославление верной дружбы, непреходящей любви, стойкости и отваги и осуждение эгоизма во имя бескорыстия в чувствах — тема так своеобразно воплощенная в сказочном образе доброго гнома Лока-Королька.