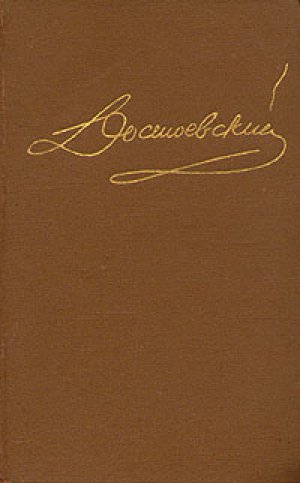
1860
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>
С января 1861 года будет издаваться «ВРЕМЯ» журнал литературный и политический ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата
Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.
Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время… Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.
Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.
Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.
Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.
Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя·идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии себя в одну из западных форм жизни, выжитых и тайных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.
Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил… Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.
И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.
Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.
Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, — побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.
Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием всё посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки — наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской. Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:
I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь. a) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. c) Статьи юмористического содержания.
Из этого перечня видно, что всё, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.
Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.
«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.
1861
Ряд статей о русской литературе
I. Введение
Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile[1] или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет, а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывесть из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, — все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Всё доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смышленый, но не имеет гения, очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, — монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его*, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами*,— книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее — некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии*, и ученые, с серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы*,— разные Веберы и Людекенсы*. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами*, с ученым сурком* или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия*. Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, — в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных*,[2] управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей*. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России*. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести „Россияду“ Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова*. Иные приезжают писать свою Россияду и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» — серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, — вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такою нелепостью*, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.
Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка — француз всё знает, даже ничему не учившись, — но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней*, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы* или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственною биографию, полную удивительнейших приключений.* С французом всё может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petroucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов.* Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер*; похвалит Ломоносова,* с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену*, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»…
Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Всё можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что всё сказанное нами нисколько не преувеличено.
Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков.* А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.
Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недальновидностью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и в premier-Paris[3] и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон*, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.
Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales[4] и проч., и проч. А между тем и тот и другой — европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бёвом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я напрямки сказал Сент-Бёву», — выражается он. «Я напрямки объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Бёву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал напрямки, что литература, проповедующая безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой.* (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся). Вероятно, Сент-Бёву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бёв выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.
Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы*, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам*, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки (что по-французски переводится: enfants de bonne maison, fils de famille),[5] знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника»*. Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе*, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его.*Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случевскому*. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Всё остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им — легион*. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, — разве это не те же Раканы, разумеется в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, — это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в légion d'honneur*'e,[6] и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.
— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и… и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, — повторили бы мы им, — несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «Le Faux Demetrius»*,[7] из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина*. Замечательно, что сам Le Faux Demetrius вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего маркиза Davis de la Pailletterie*. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, — повторили бы мы им в третий раз, — и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт и т. д., и т. д. — Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час le cordon s'il vous plait,[8] бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, au centre de la civilisation,[9] не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во всё горло: le cordon s'il vous plait». Ho несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько гувернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей* — приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (boyards), они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию* (впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем всё это на опыте.
Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее всё то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и всё дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: les boyards и les serfs.*[10] Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой всё сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски — и les boyards, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и les serfs, которых опять тоже не было, в смысле настоящих serf'ов, так, как вы понимаете это словечко. И всё это сливается так легко, так натурально, мирно — главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных на веки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков*, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек*, потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позывах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой всё сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе всё более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера.*
— Но позвольте, — скажут нам, — что же такое ваша-то национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?
Повторяем читателю, что всё это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.
— Вот еще, — продолжает он, — в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? что вы под этим подразумеваете?
— То есть, — отвечаем мы, — вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?
— Нет, я вовсе этого не хочу, — восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, — я вовсе этого не хочу. Я только хотел…
— Нет, милостивый государь, — прерываем мы, — вы хотели ответа и вы выслушаете наш ответ.
— Он заслюжиль розга и полючит розга!* — подхватывает Иван Карлыч, вероятно вспомнив то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.
— Мы веруем, — повторяем мы…
Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так… потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность.
Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно быть благородно-мнительным, недоверчивым. Всё это бывает. Но часто и даже большею частию мы любим умалчивать из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого — наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет — это слишком; но нельзя не согласиться, что всё на свете снесет иной современный человек, какое хотите бесчестие — даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы… Одной только насмешки над умом своим он не снесет*, не простит, никогда не забудет и с наслаждением отмстит за нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про иного современного человека, а не про всех современников. Может быть, это именно оттого происходит, что в наше время все начинают всё сильнее и больнее чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком… Но, видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же простительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного… ну, хоть промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе*; к тому же промышленник — это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное).. Так вот, если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название мошенника или дурака? — то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум — вот в чем главное дело! Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яростию будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, — и всё это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан… и т. д., и т. д.
— Ну, уж это пошло у вас из прописей, — скажет читатель и, пожалуй, бросит читать.
В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтоб высказать истину, всё более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, — одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует. Мы говорим: особенно, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до ярости, и иногда вовсе не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные, — отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убеждения, если сам в своих словах сомневается, — то он отвечал, будто оттого и горячится, что всё пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и даже боясь доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные… Но довольно!.. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?
Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем всё обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и всё более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и, обратно, француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью глядит на национальные его особенности.* Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия. Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они всё упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное для себя препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д'Арк или крестовых походов?* Неужели цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов? Большею частию таковы и все европейцы. Идея общечеловечности всё более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить всё более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного — и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия всё более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваем всё это бездоказательно. Доказывать всё это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во всё вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашает, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, — в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть, и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, — чего нет в европейских народах, в смысле всеобщей народной способности. Неужели же это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! Петр почувствовал в себе каким-то инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских, — потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу и которая была в их крови еще с славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию?* Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу.* К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? Может быть, нам скажут: откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынесть и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, — как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако ж, затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его légion d'honneur'e. Затроньте англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас русских нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних, так называемых, литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ax, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то всё и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и живал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого*; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: les boyards и les serfs; на том и сидите. Какие тут boyards! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом всё и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно обратно. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся нация, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, наверно, еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш? кажется, на деле не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными и недальновидными скороспелками. Нет, мы давно уже во всё вглядываемся, всё анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался у нас недавно, но, по-нашему, очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу собственную повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во всё образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж-Занда и — боже, как мы тогда зачитались!* Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж-Занда; прочтите объявление об их журнале на 61 год.* Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и— не знали, что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу.* И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых— те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин* знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда всё делалось по принципу; мы и жили по принципу, и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с тем все наперерыв уличали и обличали друг друга; и, господи, как они все тогда сплетничали! И ведь всё это было большею частию искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине как-нибудь вечерком, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу подлец». Другой расчувствуется и начнет, с своей стороны, то же самое. И вот пустятся один перед другим наперерыв, даже клевещут на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга. Были у нас и байронические натуры. Они большею частию сидели сложа руки и… даже уж и не проклинали. Так только лениво иногда осклаблялись. Они даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что уж так всё гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли всё дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? говорили мы друг другу, ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни всё, что она может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезали, и вот — он с демоническим хохотом передергивает в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! — почти все, кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли, а и все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и… многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них всё смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова*, он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию*. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика*,— всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо навеки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются.* О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон — но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов, писал он и в альбомы, но даже сам г-н — бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом*. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила.* Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами.* Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента.* Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас, и осмеял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом»*, и улетел от нас,
Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Ламанский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели.* Господи, как мы обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели*. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм… Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было*, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве*. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах,*— читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина* — мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна*, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма*; раздался густой и солидный голос г-на Громеки*, мелькнули братья Милеанты*, закишели бессчетные иксы и зеты*, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и всё обличительные… явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось всё это нам, как дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не побоялся… но об Островском потом.* Мы не располагали о нем говорить теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов*. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахни ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам, и смеемся с любовью, что же? детский возраст, простительно! Грешные люди — мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся «оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов*, столь почтенных и столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России… Нет, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это всё от здоровья, это всё молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. всё хорошие, хорошие, признаки!..*
Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальною дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает предоминирующее значение в обществе, несмотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают всё, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограниченны, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали всё они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, всё больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и проч. Золотые непременно поймут это так, что брак немедленно должен разрушиться; главное — немедленно. Мало того, — что всякая женщина не только может, но даже должна быть неверною своему мужу, и что в этом-то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, например, общество, в какое-нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на два убеждения. Тогда они не знают, к кому, к чему пристать; а между тем нередко считаются столпами, авторитетами: нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает и всегда невпопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем-нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их решений переходили в потомство как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность, и даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей, если не передовых, то не отсталых и, главное, страшно благоразумных. Мы говорим страшно, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, практическим пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы так сбрякнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности.
Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. — Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся.* — Хорошо. Следственно, по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнию.* Во-первых, в нашем простонародье грамотных так мало, что грамота, действительно, дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении — нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом — признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. С своей стороны, грамотный как-то невольно наклонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. «Они, дескать, темные, а мы народ грамотный». Его так и подмывает, при случае, выйти из рядов. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом — все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев.* Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед нею. Таким образом, появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч.* Возьмем теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстух и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, то есть отрекаться от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей, видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, то есть с высшими; он обезьянничает их манеры, замашки; платье отличает его от прежней среды… Таким образом, и грамотность, как чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными. Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все переносят, — особенно при свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие, легкомыслие — заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и — вдруг обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он чванился, и ждали, что от него в эту критическую минуту будет. Вот он и показал себя и… попал в острог. Разумеется, мы говорим не про всех грамотных. Мы говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только научится простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, особенно если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что пределы нашей статьи не дозволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит всё это на практике, как развивается и к какому приходит концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных приходят в остроги уже отчасти самой природой к тому предназначенные при известной обстановке, то есть люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегиальными своими неудобствами именно потому, что у нас она и есть привилегия…
— Что ж из этого? — скажут нам. — Из ваших же слов выходит, что грамотность вредна и что наше простолюдье до нее не дозрело.
— Напротив, — отвечаем мы, — вместо того, чтоб делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет — все будут грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее; в этом всё лекарство. Тем более, господа противники грамотности, что вы вашей-то системой (то есть стеснением грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные; а если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно, вы никого не излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги; потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию; как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве, одним словом — убить и развратить в нем душу? Или, может быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно. Мы уверены, с своей стороны, совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Всё зависит от обстоятельств, и всё на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознание этой потребности — и она немедленно находит средство удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не примется массой как улучшение, а напротив — как притеснение, если в массе не образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшения. Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. Взгляните на воскресные школы.* Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да; несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов*. Оно поймет народное начало и проникнется им. Оно уже сознало, что это необходимо как основание нашего будущего развития и прогресса; оно сознало, что за ним первый шаг, и — найдет наконец, как сделать этот шаг.
Итак, всё дело теперь в первом шаге, всё дело в том, чтоб догадаться, как сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.
Ну что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ — легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати, кто-то удостоверял, что мы, то есть именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом*. Мы считаем этот отзыв не более как за милую шутку. Не одному человеку сказать это неизвестное слово и разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово — та же деятельность, а у нас — более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостию. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отдалилось от народности. Трудов к сближению будет много; мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Всё дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямотою, откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может ошибаться. Мы, с своей стороны, знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил — вот всё, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой всё основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Всё состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен; он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во всё тысячелетие России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем.* Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда! Как всё возрастет, возмужает и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому, надо полагать, что на досуге они страшно растолстели! Конечно, недаром жили и вы, господа Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания… Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут?» Следственно, вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответ и — находило ответ. Итак, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы всё говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь… «Какая же это для нас деятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь, — мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте?» — Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполинской деятельности; хотите ли, мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем — и великой природой вашей и великими идеями, помня, что всё это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только в начале, только начните. Начните-ка! а?.. Но виноваты, может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнию; но на такие усилия вы не способны.
Конечно, мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование, то есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за не подходящую к нам. Вы хотите переевропеить народ? — Но возможно ли, отвечаем мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того всё особенно, всё непохоже на Европу во всех отношениях: и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, — что европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем: что подходит к нам — останется, что не подходит — само собою умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтораста лет не поддались же европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недеятельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частию заезжими инженерами.
Но привьется наконец и наука; всё это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам всё более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах*…Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Всё, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; всё, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый…
О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч., — все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты?* Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.
II. Г-н — бов и вопрос об искусстве
Мы сказали в объявлении о нашем журнале, что наша русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает. Мы с грустию сказали эти слова; не отрекаемся от них; это наше глубокое убеждение. Многие из наиболее читаемых русских журналов выразили почти ту же мысль в своих осенних объявлениях, при начале подписки на журналы на нынешний 1861 год. По крайней мере многие из них обещали обратить особенное внимание на этот отдел в будущем году, следовательно, согласились, что до сих пор он был плоховат. Если они исполнят свое обещание, то хорошо сделают. Не думаем, чтоб нас обвинили в хвастовстве, в заносчивости и из-за того только, что мы нашли критику измельчавшеюся, обвинили нас, что мы часто выставляем самих себя глашатаями новых истин, провозвестниками новых идей и т. д., и т. д. Мы не принимаем на себя такой роли. Мы знаем только одно: что любим свое дело и приступаем к нему горячо и с уважением. Нельзя не сознаться, что в нашей критике давно уже заметна какая-то всеобщая апатия, кроме, может быть, одного исключения. Не так, впрочем, думают «Отечественные записки». Они решились объявить, — и, кажется, без малейших колебаний, без малейших угрызений совести, — что вся блестящая деятельность Белинского, правда, была блестящая, но… как бы это сказать — несколько поверхностна (entre nous soit dit)[11] и что настоящая, громадная и спасительная деятельность русской критики началась именно с того времени, как Белинский оставил этот журнал. Мы помним, что к этому времени (то есть как Белинский оставил этот журнал) относится появление в «Отечественных записках» статьи г-на Дудышкина о Фонвизине.* Не с нее ли «Отечественные записки» начинают новую эру русской критики? Правда, сейчас после Белинского занялся в «Отечественных записках» отделом критики Валериан Николаич Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта, Аполлона Николаича Майкова*. Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились. Но со смертию В. Майкова основался в «Отечественных записках» г-н Дудышкин, и мы имеем некоторое основание думать, что с него-то и начинает желтый журнал новую блестящую эру своей деятельности. «Отечественные записки» именно ставят себе в особенную заслугу, что после Белинского критика приняла у них характер по преимуществу исторический и что Белинский, который низвергал авторитеты и занимался Жорж Зандом (слова о Жорже Занде в объявлении «Отечественных записок» — верх совершенства*, так кстати они помещены!), едва прикоснулся к исторической части русской литературы. Во-первых, это несправедливо, а если б и было справедливо, то в двух страницах Белинского (издание сочинений которого приводится к окончанию) сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности «Отечественных записок» с 48 года до наших времен. А так как статья о Фонвизине считается в «Отечественных записках» началом этой пресловутой исторической деятельности, то и деятельность эта, вероятно, считается с г-на Дудышкина. Правда, статья о Фонвизине была еще довольно дельная, хотя очень скучная. Но после нее наступила в «Отечественных записках» такая засуха, что страх вспомнить об этом времени, даже в сравнении с статьею о Фонвизине. Между тем «Отечественные записки» называют это время самой блестящей эпохой своей деятельности, да и всей русской литературы. Они утверждают, что журнал их обратился в то время к народности. Мы припоминаем в «Отечественных записках» одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии.* Сведения, сообщенные автором этой статьи, были, конечно, полезные; но не в таких ли статьях видят «Отечественные записки» обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны. Оригинален тоже другой взгляд, выраженный в объявлении «Отечественных записок» с ужасающею откровенностию: именно, что всё, что только есть исправно мыслящего, движущегося, идущего к какой-нибудь цели в нашем теперешнем обществе, всё — насколько развилось в нем сознания и смысла, — всё это сделали «Отечественные записки», всё это плоды трудов их. Так как они сами начинают немного свысока смотреть на Белинского, то позволительно заключить, что все эти блестящие результаты они приписывают своей последующей деятельности, то есть начиная с статей о Фонвизине и о лопате, до чудовищной статьи о Пушкине, помещенной в апрельской книжке «Отечественных записок» прошлого 1860 года. Впрочем, прошлогоднее объявление об издании «Отечественных записок» принадлежит истории русской литературы*. Оно не умрет; оно вековечно, монументально. Мы относим его к литературе русских скандалов и к скандалам в русской литературе.
Но мы увлеклись. Принимаясь за нашу статью, мы и в виду не имели «Отечественных записок» и их объявлений и вспомнили совершенно нечаянно, несмотря на то, что хотели сказать несколько слов о критической деятельности русских журналов в прошлом году. Мы говорим: несколько слов, потому что написать полный отчет всей критической деятельности за весь прошлый год мы не беремся и готовы считать подобный труд в некотором смысле даже подвигом. Правда, в этом отчете нам пришлось бы указать и на несколько приятных явлений в прошлогодней нашей критике… Но хотя мы и не беремся за этот подвиг, мы видим, что нам приходится в настоящей статье отчасти говорить, по поводу одного вопроса, об одном из важнейших представителей современной критики, которого — в этом надо признаться откровенно — только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков. В самом деле, исключая три-четыре критические статьи, мелькнувшие по разным журналам за прошлый год и несколько замеченные публикою, — все остальные прошли, почти не оставив по себе следа. Читают одного г-на — бова, который заставил-таки читать себя, и уж за это одно он стоит особенного внимания… Но, впрочем, вот по какому собственно случаю мы хотим в этот раз говорить о г-не — бове
В январской книжке нашего журнала, оканчивая наше введение в «Ряд статей о русской литературе», мы обещали говорить о современных литературных явлениях и вопросах. Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем теперь вопрос об искусстве. Этот вопрос разделяет многих из современных писателей наших на два враждебные лагеря. Таким образом разъединяются силы. Нечего распространяться о вреде, который заключается во всяком враждебном разногласии. А дело уже доходит почти до вражды.*
Разобрать эту вражду и ее причины, разъяснить весь спор и высказать свое мнение по поводу этого спора —·соответствовало бы и целям нашего журнала и обязанностям, которые мы сами приняли на себя перед публикой. Но прежде всего оговоримся: если мы и ввяжемся в этот спор, то вовсе не претендуя на роль окончательного судьи в этом споре. Да и примера мы не припомним, чтоб в литературных спорах наших хоть когда-нибудь одна партия подчинилась другой, согласилась бы с ней добровольно и по убеждению. Всякий литературный спор кончается у нас тем, что или выживает из лет, надоедает всем и каждому и прекращается сам собою; или одна партия одолевает другую так, что другая замолкает, но единственно от бессилия и истощения; замолкает, а не соглашается. Соглашений мы как-то не помним. Если же они и бывали, то так редко, что и припоминать не стоит.
И потому примирять и соглашать наших спорщиков мы не беремся. Да и роль неприятная. Недавно г-ну Воскобойникову показалось, что русские литераторы слишком много дерутся (литературным образом, разумеется); он и тиснул довольно забавную статейку: «Перестаньте драться, г-да литераторы»*. Вышло так, что все, кто только захотел заметить эту статью, напустились на г-на Воскобойникова. В чем другом были несогласны, а в этом тотчас же между собой согласились. Просто-запросто: мы считаем теперешний вопрос об искусстве чрезвычайно важным, а потому, как начинающий журнал, хотим высказать и свое мнение: как мы понимаем этот вопрос и какому именно оттенку в его решении придерживаемся. Таким образом, мы прямо выскажем свои убеждения и выкажем свое направление, тем более что нас уже об этом спрашивали. А так как высказать наши убеждения мы не можем, не разъяснив предварительно, на чем остановился этот спор в нашей литературе, то, чтоб определить современный характер этого спора, мы разберем предварительно учения обеих партий, чему и посвящаем эту статью. Один из главных представителей одного из этих учений есть, бесспорно, г-н — бов, печатающий свои статьи в «Современнике»; вот почему и статью нашу мы назвали: «Г-н — бов и вопрос об искусстве».
Еще одно замечание.
Нам говорят, и мы сами недавно читали в одном из самых распространенных в публике журналов наших, что партий в русской литературе не существует. Мы полагаем, что этот журнал употребил слово «партий» в смысле распрей личных, до которых собственно литературе не должно быть и дела. Разумеется, мы всеми силами желаем поверить этому журналу на слово: нет, так тем и лучше. Но партии в смысле несогласных убеждений в нашей литературе существуют. У нас есть Аскоченские, Чернокнижниковы*, —бовы. Даже сам великолепный Кузьма Прутков* в строгом смысле может тоже считаться представителем цельной и своеобразной партии. Вообще каждый журнал наш чего-либо да придерживается. Совершенно же бесцветные журналы у нас не держатся и умирают тихою и спокойною смертию. Разумеется, литературные партии наши вообще неясно и как-то смутно обрисованы. От иных решительно не дождешься ясного изложения их убеждений; другие отделываются какими-то намеками; третьи выражаются как будто по заказу, а между тем как будто сами себе не верят; четвертые удаляются в туманную область нахмуренных фраз, головоломных фраз, тарабарского слога, — разбирай как знаешь. Винить за это, разумеется, невозможно. Но по поводу вопроса об искусстве некоторые из журналов наших обозначились довольно резко, особенно в последнее время. Между ними первое место занимает «Современник» с прошлогодними статьями г-на — бова.
Сделав такое предисловие, приступим к самому делу.
И во-первых, объявляем, что не придерживаемся ни одного из теперь существующих мнений и прямо говорим, что, по нашему мнению, весь вопрос в настоящую минуту ложно поставлен — именно от слишком горячего спора; именно оттого, что дело дошло почти до вражды. Мы надеемся доказать это.
Но представим самую сущность вопроса: что именно это за вопрос и в чем он заключается?
Одни говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не может. Творчество — основное начало каждого искусства — есть цельное, органическое свойство человеческой природы и имеет право существовать и развиваться уже по тому одному, что оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно так же законно в человеке, как ум, как все нравственные свойства человека и, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок. Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое. Конечно, ум, например, полезен, — так можно выразиться: плохо без ума. Полезны в этом же смысле человеку и руки и ноги! В этом же смысле полезно человеку и творчество.
Но как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из себя, неподчиненно и требует полного развития; главное — требует полной свободы в своем развитии. Поэтому всякое стеснение, подчинение, всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель, поставленная ему, будут незаконны и неразумны. Если б ограничить творчество или запретить творческим и художественным потребностям человека заниматься, — ну, чем бы, например? — ну, хоть выражением известных ощущений; запретить человеку всю творческую его деятельность, которую бы возбуждали в нем известные явления природы: восход солнца, морская буря и проч., и проч., — то всё это было бы нелепым, смешным и незаконным стеснением человеческого духа в его деятельности и развитии.
Это говорит одна партия, — партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства.
«Разумеется, всё это было бы нелепым стеснением, — ответят утилитаристы (другая партия, учащая тому, что искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной обстоятельствами пользой), — разумеется, всякое подобное стеснение, без разумной цели, а единственно по прихоти, — есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могут они прибавить) — вдруг, например, идет сражение — вы один из сражающихся; вместо того чтоб помогать своим товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина сражения; вы бросите оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы делаете? Разумеется, вы имеете полное право предаваться вашим вдохновениям; но разумна ли будет ваша художественная деятельность в такую минуту?
Одним словом, — заключат они, — мы не отвергаем вашей теории о свободе развития творчества; но эта свобода должна быть, по крайней мере, хоть разумная».
Г-н Панаев в начале своих интересных литературных воспоминаний* («Современник», 1861, книга I) упоминает, что во время его молодости между петербургскими литераторами одного круга существовало убеждение, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничем насущным, текущим, — ни политикой, ни внутреннею жизнию общества, к которому принадлежат, ни даже каким-нибудь важнейшим общенародным вопросом, а заниматься только одним высоким искусством. Заниматься же чем-нибудь, кроме искусства, значит унижать его, низводить с его высоты, глумиться над ним. По такому учению, значит, надо было добровольно вырвать из-под себя всю почву, на которой все стоят и которою все живут, и, следовательно, улетать всё выше и выше в надзвездия, а там, разумеется, как-нибудь испариться, потому что ведь больше-то ничего не оставалось и делать. Эта теория могла привести прямо к тому, что, например, во время двенадцатого года, когда всё русское занималось только одним спасением отечества, одним литераторам и поэтам было бы гораздо приличнее заниматься, ну, хоть, например, греческой антологией. В литературной и художественной кучке, о которой рассказывает г-н Панаев, так и поступали: вопросами общественными не занимались. Один из важнейших членов этой кучки только и делал в то время, что писал драмы из жизни итальянских художников.*
Возьмем еще пример.
Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения*. Половина жителей в Лиссабоне погибает, домы разваливаются и проваливаются, имущество гибнет, всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия» (тогда все издавались «Меркурии»*) Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов, надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч., и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —
или
но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они все непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу*[12] за умным советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они провалились, то это непременно к лучшему. И доктора Панглоса никто бы не разорвал за это в клочки, напротив, дали бы ему пенсию и провозгласили бы его другом человечества. Ведь так всё идет на свете.
Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусство в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца… Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство.
Одним словом, утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обстоятельствами, подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением, напр<имер>, такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса. Если рассматривать это соображение о пользе не как требование, а только как желание, то оно, по нашему мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение не совсем верно. Если, например, всё общество озабочено разрешением какого-нибудь важного внутреннего вопроса, то, разумеется, приятно было бы желать, чтоб и все силы общества согласно направлены были к достижению всеобщей цели, а следовательно, чтоб и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользе. Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; всё, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, всё, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу? Служенье муз, дескать, не терпит суеты*.
Это, положим, так. Но хорошо бы было, если б, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных; потому что хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту, и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. А искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы. Повторяем: разумеется, этого только можно желать, но не требовать, уже по тому одному, что требуют большею частью, когда хотят заставить насильно, а первый закон в искусстве — свобода вдохновения и творчества. Всё же вытребованное, всё вымученное спокон веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред. Защитники «искусства для искусства» собственно за то и сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные цели, тем самым разрушают само искусство, посягая на его свободу, а разрушая так легко искусство, стало быть, не ценят его и, следовательно, не понимают даже, к чему оно может быть полезно, — они толкуют прежде всего о пользе. Потому, говорят защитники искусства, если б утилитаристы только знали, какая великая польза заключается в искусстве для всего человечества, то они бы несколько более ценили его и не обращались бы с ним с таким неуважением. И в самом деле (продолжают они), если б даже смотреть на искусство с одной вашей точки зрения, то есть со стороны одной полезности, то ведь еще неизвестен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве. Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским*, вещами, по-видимому, совершенно в наше время ненужными. Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия»*, взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел прочь. Но ведь это любование не похоже на любование, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог»*, и вы, сколько ни плюйте на него*, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; может быть, даже, — кто это знает! — может быть даже, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновенье прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом. Впечатлений на свете, конечно, множество, но ведь недаром же это впечатление особенное, впечатление бога. Недаром же такие впечатления остаются на всю жизнь. И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад. Вы смеетесь? Действительно, всё это похоже на бред, но, во-первых, в подобных фактах, несмотря на всю вашу положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Может быть, впоследствии узнаете (мы верим в науку), но теперь покамест не знаете. А во-вторых, есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которым можно подумать, что наши мечты и не совсем вздор. Ну, кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немыслимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают. А потому, если давать заранее цели искусству и определять, чем именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, так что вместо пользы можно принести один вред, а следовательно, действовать прямо против себя, потому что утилитаристы требуют пользы, а не вреда. И так как искусство требует прежде всего полной свободы, а свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже не свобода), то, следственно, искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненною пользою.
Вот что говорят сторонники искусства для искусства своим противникам утилитаристам.
Во всем этом, конечно, ничего нет нового; спор стар, но вот что новое: что сами предводители обеих партий говорят так, а на деле поступают обратно-противоположно своим же словам. Слишком уж заспорились. Не распространяясь много, покажем один пример.
Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого искусства. С одной стороны, это имеет некоторое основание: большею частию произведения обличительной литературы до того худы, что более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы с своей стороны признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то единственно только в этом смысле. Но в том-то и беда, что нападки на них идут не с одной этой стороны и не в этом смысле. Негодование заходит далее: обвиняется сам г-н Щедрин*, родоначальник обличительной литературы, несмотря на то, что г-н надворный советник Щедрин во многих из своих обличительных произведений — настоящий художник. Мало того: гонится весь обличительный род искусства, как будто между обличительными писателями даже и не может появиться истинного художника, гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и будет состоять в обличении. Следственно, из вражды к противникам сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.
С другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости. «Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой произведение написано, — и довольно, а художественность дело пустое, третьестепенное, почти ненужное». Вот как думают утилитаристы. А так как произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не достигает своей цели; мало того: более вредит делу, чем приносит пользы, то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же более всех вредят делу, а следственно, идут прямо против самих себя, потому что они ищут не вреда, а пользы.
Нам скажут, что мы это всё выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив, не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство — художественность. Они, например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его — альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Все это почти ясно выражено г-ном — бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно еще, что г-н — бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением о г-не Тургеневе*, самом художественном из всех современных русских писателей В статье же своей «Черты для характеристики русского простонародья» («Современник», 1860, № IX), при разборе сочинений Марка Вовчка, г-н — бов почти прямо выказывает, что художественность он считает ничем, нулем, и выказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г н — бов прямо признает, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г-ну — бову до этого решительно нет дела; была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? Да и к чему, наконец, писать повести? просто-запросто написать бы, что вот такой-то факт существует в русском простонародье — потому-то и потому-то, — и короче, и яснее, и солиднее! «А тут еще сказки рассказывать! Вот людям-то нечего делать!»
Кстати сделаем еще одно нотабене. Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что надо писать нехорошо. Да чуть ли уж и не говорят.
В этой статье нашей мы намерены проследить этот критический разбор сочинений Марка Вовчка, помещенный г-ном — бовым в IX № «Современника» за прошлый год. Мы делаем это особенно потому, что в этом разборе довольно ярко выказывается характер литературных убеждений г-на — бова, а вместе и взгляд его на искусство. А г-н — бов есть, как мы уже сказали, один из предводителей утилитаризма. Следственно, изучив хоть отчасти г-на — бова, мы поймем и то, как поставлен в настоящую минуту вопрос об искусстве в нашей литературе.
Известно всей читающей русской публике, что Марко Вовчок написал две книги рассказов из народного малороссийского и из народного великорусского быта. Г-н — бов разбирает одни великорусские рассказы, вышедшие в переводе на русский язык. Все рассказы разобраны им с необыкновенною подробностию, с лишком на пяти печатных листах мелкой печати. Этот разбор особенно любопытен тем, что в нем, с одной стороны, выясняется, как понимает г-н — бов назначение и цель литературы, чего от нее требует и какие свойства, средства и силы признает за ней относительно влияния на общество. Мы, впрочем, ограничимся только разбором одного первого рассказа; и этого довольно, чтоб ясно понять убеждения г-на — бова. О самом же Марке Вовчке мы в настоящей статье не намерены говорить подробно. Скажем только, что признаем за автором большой ум и превосходные побуждения, в сильном же литературном таланте его сомневаемся. Мы особенно жалеем, что высказываем такое мнение, не доказав его. Жалеем еще более, что как нарочно принуждены взять именно разбор первого рассказа: «Маша», — надо признаться, — может быть, самого слабого из всех рассказов автора. Но г-н — бов при разборе этого рассказа наиболее высказался именно с той стороны, на которую мы хотим обратить внимание наших читателей.
Разумеется, мы не намерены разбирать все убеждения г-на — бова, хотя г-н — бов, по нашему мнению, стоит подробного разбора. Мы во многом совершенно с ним не согласны и прямые его противники; но уж одно то, что он заставил публику читать себя, что критические статьи «Современника», с тех пор как г-н — бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время когда почти никто не читает критик, — уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г-на — бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения Г-н — бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики, но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком — кабинетностью. Г-н — бов — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею. Пишет г-н — бов простым, ясным языком, хоть и говорят про него, что он уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю. Ему всё как будто кажется, что его не понимают. Впрочем, это еще небольшой недостаток. Ясность и простота языка его заслуживают особенного внимания и похвалы в наше время, когда в иных журналах вменяют даже себе в особую честь неясность, тяжелизну и кудреватость слога, вероятно думая, что всё это способствует глубокомыслию. Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто: принеси воды, а скажет, наверно, что-нибудь в таком роде:
— Привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке.
Эта шутка отчасти похожа на правду.
Но обратимся к делу. Почти в самом начале своего разбора г-н — бов говорит:
«В малороссийских рассказах мы видели злоупотребления помещичьей власти, и злоупотребления нередко довольно крутые. Это даже подало, говорят, повод одному известному русскому критику объявить произведения Марка Вовчка „мерзостно-отвратительными картинками“ и, причисливши их к обличительной литературе, вследствие этого отвергнуть в авторе их всякий талант литературный. Мы не читали статейки строгого критика, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами, но тем не менее мы понимаем процесс, посредством которого он составил свое заключение. Он — приверженец теории „искусства для искусства“, рассказы Марка Вовчка нашли себе хвалителей тоже в числе приверженцев этой теории. Можете себе представить, что именно нравилось в этих рассказах таким хвалителям. Мы сами слышали, как двое художественных ценителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного места, которое, кажется, так читается· „геть, геть, далеко в поле крест над его могилой виднеется“. Строгий критик, осудивший Марка Вовчка, оказался даже несколько благоразумнее подобных ценителей, понявши, что „геть, геть, далеко в поле“ ещё не есть чрезвычайная высота художественности. А что он ничего другого не в состоянии был понять в „Народных рассказах“, так это опять совершенно естественно, и весьма странен был тот, кто стал бы ожидать от него такого пониманья. Тогда он сделался бы отступником теории „искусства для искусства“; а может ли он отступить от нее? Без нее что бы он стал делать на свете, куда бы годился он?».*
Остановимся здесь. Это место в статье г-на — бова как нельзя лучше оправдывает наши предыдущие замечания о взаимных сладких отношениях обеих литературных партий, то есть утилитаристов и приверженцев искусства для искусства. Вражда, преднамеренные недоразумения, крайность обвинений — вот что мы видим из этой выписки. Прежде всего г-н — бов обвиняет художественного критика, что он вследствие полезного направления рассказов Марка Вовчка назвал их мерзостно-отвратительными картинками и, причисливши их к обличительной литературе, вследствие этого отвергнул в авторе всякий талант литературный. Хоть это обвинение и очень резкое, но мы в этом случае почти решаемся верить г-ну — бову на слово, потому что и мы не читали статейки художественного критика. Правда, что этот критик мог отвергнуть литературный талант в авторе рассказов и не по одному только поводу, что эти рассказы обличительные; мы признаем, что в настоящем случае он мог основываться и на других данных. Но г-н — бов прямо подтверждает наши слова, что приверженцы искусства для искусства, из ненависти к утилитарному направлению, не только отвергают обличительную литературу, всю без изъятия, но даже отвергают возможность появления таланта в обличительной литературе. Повторяем, что этому можно поверить. Зато сам г-н — бов впадает, с своей стороны, в грубейшую крайность: он говорит, что если б художественный критик мог понять хоть что-нибудь в рассказах Марка Вовчка, то изменил бы себе, потому что тотчас же стал бы отступником теории искусства для искусства.
В ослеплении, в озлоблении, а потому и в несправедливости еще, можно обвинить некоторых приверженцев теории искусства для искусства. Но чтоб сама теория искусства для искусства обладала каким-то природным свойством делать из своих приверженцев каких-то недоумков, умных людей обращать в отупевших и ограниченных — это уж несправедливо. Мало ли куда может зайти теория, партия, учение в какой-нибудь данный момент! Не принимать же всякое уклонение за общее правило!
Но будем продолжать наши выписки.
«Но дело не в приговорах художественного критика бог с ним — ведь его никто не принимает серьезно, стало быть, художественные потехи его остаются совершенно безвредными. Мы имеем в виду другие толки, другие мнения, о которых считаем удобным поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнения эти довольно распространены в известной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тем они обнаруживают непонимание дела и легкомыслие. Мнения, о которых мы говорим, касаются характеристики крестьянина и его отношений к крепостному праву Крепостное право приходит к своему концу. Но факты, существовавшие в течение столетий, не проходят даром, не остаются без всякого следа. Какое-нибудь местничество держится в нравах спустя два столетия после его уничтожения законом, можно ли ожидать, чтобы внезапно пересоздались все отношения, бывшие следствием крепостного права? Нет, еще долго будет оно отзываться нам — и в книжках, и в гостинных разговорах, и в целом устройстве наших житейских отношений. Понятия не только отживающего поколения, не только того, которое теперь действует, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную деятельность, — сложились если не прямо на основании крепостного устройства, то во всяком случае не без сильного его влияния. Крепостное начало было узаконено и принято государством. Теперь это начало отвергнуто, и, стало быты, понятия и требования, им порожденные и воспитанные, находят себе осуждение в том самом, что прежде служило им оградою. Теперь дело литературы — преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия. Марко Вовчок, в своих простых и правдивых рассказах, является почти первым и весьма искусным борцом на этом поприще. В последних: своих рассказах он даже не старается, как в прежних, выставлять перед нами преимущественно то, что называется обыкновенно „злоупотреблением помещичьей власти“. Что уж толковать о злоупотреблении того, что само по себе дурно! Что уж говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у помещика, не злоупотребляющего своим правом, — и кротко, без гнева, без горечи рисует нам это положение. И из этих очерков, в которых каждый, кто хоть немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, — из этих очерков восстает перед нами характер русского простолюдина, сохранивший основные черты свои посреди обезличивающих, давящих отношений, которым он был подчинен в течение нескольких столетий. На некоторые черты этого характера мы и хотим теперь обратить внимание».
Эту выписку мы сделали потому, что она служит предисловием и введением г-на — бова в его разбор Марка Вовчка. Здесь он отчасти излагает свой взгляд на Марка Вовчка. Обратите внимание на строчки, отмеченные нами курсивом. Г-н — бов признает, что рассказы Марка Вовчка просты и правдивы, что Марко Вовчок является в них весьма искусным борцом на этом поприще и что из этих очерков, в которых каждый, кто хоть немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, — из этих очерков восстает перед нами характер русского простолюдина. Заметьте эти слова г-на — бова. Из них видно, что он признает за Марком Вовчком, кроме ума и знания дела, и уменье излагать свои знания и наблюдения — одним словом, признает за ним талант литературный.*
Затем у г-на — бова следует несколько превосходных страниц, в которых излагаются разные теории и воззрения, существующие в настоящее время между некоторыми господами насчет русского простонародья*. Это великолепное место (впрочем, еще не лучшее в статье г-на — бова) могло бы дать тем из читателей наших, которые незнакомы с талантом г-на — бова, понятие о том, чем, как и почему этот писатель заставил публику читать себя. Не выписываем этого места (хотя бы нам очень хотелось выписать его целиком), потому что не разбираем теперь всего г-на — бова, а только взгляд его на искусство. Посторонние же выписки нарушили бы единство нашей статьи. Но на следующую выписку просим обратить особенное внимание. В ней г-н — бов рассматривает Марка Вовчка отчасти и как художника, не признает в авторе решительного художественного таланта, но тут же говорит, что в нем заметна широта пониманья той жизни, которую он изображает, и что тем-то эти рассказы и нравятся ему, г-ну — бову. Мало того, г-н — бов даже увлекается: как умный человек, он мог увидать пружины, заметить намеки и намерения автора; мог даже по некоторым запутанным и бессвязным черточкам заключить, что автор говорит или желает говорить о том-то и том-то, и вот, от радости, что заговорили о том-то и о том-то, он до того благодарен автору, что готов находить в его рассказах и присутствие русского духа, и знакомые образы (простонародья) и проч., и проч., а это уже есть признаки художественности, которой он сам не признает в авторе. Главное дело, что г-н — бов доволен и без художественности; только чтоб говорили о деле. Последнее желание, конечно, похвальное, но приятнее было бы, если б и о деле говорили хорошо, а не как-нибудь.[13]
Но вот это место его статьи.
«Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы не можем искать у него эпопеи нашей народной жизни, — это было бы уж слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. Сознание народа далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всё себя поэтическим образом; писатели из образованного класса до сих пор почти все занимались народом, как любопытной игрушкой, вовсе не думая смотреть на него серьезно. Сознание значения народа едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывочного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без пояснения его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным строем жизни. Но строгой оконченности и всесторонности повторяем, невозможно еще требовать от наших рассказов из крестьянской жизни, она еще не открывает нам себя во всей полноте, да и то, что открыто нам, мы не всегда умеем или не всегда можем хорошо выразить. Для нас довольно и того, что в рассказах Вовчка мы видим желание и уменье прислушиваться к народной жизни мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы, узнаем ту логику, те чувства, которые мы и сами замечали когда то, но пропускали без внимания. Вот чем и дороги для нас эти рассказы, вот почему и ценим мы так высоко их автора. В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широкое понимание той жизни, на которую смотрят так легко и которую понимают так узко и убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, нувеллистов и проч., и проч.»*
А теперь, после этой выписки, мы перейдем к самому разбору г-ном — бовым первого рассказа Марка Вовчка — «Маша». Мы решаемся выписать этот разбор целиком. Нам хочется, чтоб читатель сам познакомился с этим рассказом, несмотря на то что передает этот рассказ и делает из него выписки сам г-н — бов — сторонник, любитель и заступник таланта Марка Вовчка.
«Мы помним первое появление этого рассказа, — говорит г-н — бов. — Люди, еще верующие в неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас. А в рассказе раскрывается естественное и ничем не заглушимое развитие в крестьянской девочке любви к самостоятельности и отвращения к рабству. Ничего преступного тут нет, как видите, но на приверженцев крепостных отношений подобный рассказ действительно должен был произвести потрясающее действие. Он залетал в их последнее убежище, которое они считали неприступным. Видите ли, они, как люди гуманные и просвещенные, согласились, что крепостное право в основании своем несообразно с успехами современного просвещения. Но вслед за тем они говорили, что ведь мужик еще не созрел до настоящей самостоятельности, что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением — разве уж только где барщина очень тяжела и приказчик крут… „Да и помилуйте, откуда заберется мужику в голову мысль о свободе? Книг он не читает вовсе никаких, с литераторами, незнаком, дела у него довольно, так что утопий сочинять и недосуг. Живет он себе, как жили отцы и деды, и если его теперь хотят освобождать, так это чисто по милости, по великодушию. И поверьте, что мужик не скоро еще очнется, не скоро в толк возьмет, что такое и зачем дают ему. Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни“. Так уверяли и просвещенные люди и считали невозможным всякое возражение. И вдруг, представьте себе, прямо оспаривается действительность факта, на который они ссылаются. Им рассказывают случай, доказывающий, что и в крестьянском сословии естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот такой простой случай им рассказывают.
У крестьянской старушки воспитываются две сироты — племянница ее Маша и племянник Федя. Федя — как быть мальчик, веселый, смирный, покорный, а Маша с малолетства выказывает большую своеобычливость. Она не довольствуется тем, чтобы выслушать приказание, а непременно требует, чтобы сказали ей зачем и почему, ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживает наклонность иметь свое суждение. Будь бы девочка у строгого отца с матерью, у нее эту дурь, разумеется, мигом бы выбили из головы, как обыкновенно и делается у нас с сотнями и тысячами девочек и мальчиков, обнаруживающих в детстве излишнюю пытливость и неуместную претензию на преждевременную деятельность рассудка. Но, к счастью или к несчастью Маши, тетка ее была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ее юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить расспросам племянницы или переспорить ее. Таким образом, Маша получила убеждение, что она имеет право думать, спрашивать, возражать. Этого уж было довольно. На седьмом году случилось с ней происшествие, которое дало особенный оборот всем ее мыслям. Тетка с Федей поехала в город. Маша осталась одна караулить избу. Сидит она на заваленке и играет с ребятишками. Вдруг проходит мимо барыня, остановилась, посмотрела и говорит Маше: „Что это так расшумелась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?“ Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее и выбранила „Дура растешь, не умеешь говорить“. Маша в слезы. Барыне жалко стало. „Ну, поди, говорит, ко мне, дурочка“. Маша нейдет барыня приказывает ребятишкам подвести к ней Машу. Маша ударилась бежать, да так и не пришла домой. Воротилась тетка с Федей из города — нет Маши пошли искать, искали-искали, не нашли, уж на возвратном пути она сама к ним вышла из чьего то конопляника. Тетка хотела ее домой вести — нейдет. „Меня, говорит, барыня возьмет, не пойду я“. Кое-как тетка ее успокоила и тут же ей наставление дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажет.
„— А если не послушаешься? — промолвила Маша.
— Тогда горя не оберешься, голубчик, говорю.[14] Любо разве кару-то принимать?
А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.
— Убежать можно, — говорит Маша, — убежать далеко… Вот Тростянские летось бегали.
— Ну, и поймали их, Маша… А которые на дороге померли.
— А пойманных то в острог посадили, распинали всячески, — говорит Федя.
— Натерпелись они и стыда, и горя, дитятко, — я говорю, а Маша все свое: “да чего все за барыню так стоят?»
— Она барыня, — толкуем ей, — ей права даны, у ней казна есть… так уж ведется.
— Вот что, — сказала девочка. — А за нас-то кто ж стоит?
Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?
— Неразумная ты головка, дитятко, — говорю.
— Да кто ж за нас? — твердит.
— Сами мы за себя, да бог за нас, — отвечаю ей» (стр. 29).
И с той поры у Маши только и речей, что про барыню. „И кто ей отдал нас? и как? и зачем? и когда? Барыня одна, а нас-то сколько! Пошли бы себе от нее куда захотели что она сделает?“ Старушка тетка, разумеется, не могла удовлетворить Машу, и девочка должна была сама доходить до разрешения своих вопросов. Между тем скоро пришлось ей применить и на практике свой образ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велела старосте посылать ее на работу в барский сад. Маша уперлась: „Не пойду“, говорит, да и только. Тетке стало жалко девочку, сказала старосте, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась девчонка как только господская работа, она больна. Уж барыня и к себе ее требовала и допрашивала: „Чем больна?“ — „Все болит“, — отвечает Маша. Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. А на другой раз опять то же.
Сколько ни уговаривал Машу брат ее, сколько ни просила тетка — ничто не помогало. Маша не только не хотела работать, да еще при этом и держала себя так, как будто бы она была в полном праве, как будто бы то что она делала, так и должно было делать ей. Она не хотела, например, попросить у барыни, чтоб освободила ее от работы. „Стоило только поклониться, попроситься, — рассуждает тетка, — барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз то на барыню не поднимет, и голос то глухо звучит. А ведь известен нрав барский ты обмани — да поклонись низко, ты злой человек — да почтителен будь, просися, молися: ваша мол, власть казнить и миловать — простите!и всё тебе простится, а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось — будь ты и правдив и честен — милости над тобой не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! “Погодите — бывало на нас грозится, — я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с такими посулками не весело шло».
А в Маше отвращение от барской работы дошло до какого то ожесточения, вызывало ее на бессознательный, безумный героизм Раз брат упрекнул ее, что она от работы отговаривается болезнью, а в плясках да играх перед всей деревней отличается. „Разве, — говорит, — ты думаешь, до барыни не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь“. После этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотрит она из окошка на игры подруг, слеза бежит у ней по щеке, а не выйдет из избы. Тетка стала посылать ее к подругам, брат стал упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрек. „Я, — говорит, — Федя не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну — не пойду“ Так и не ходила, а по ночам не спала да по огороду все гуляла, одна-одинешенька, и никому того не сказывала, — да раз невзначай тетка ее подстерегла… „Бог с тобой, Маша, — говорит ей тетка. — Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину, да и не боишься ничего… А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь“. — „Не могу, — шепчет, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу“. Так и оставили ее.
Между тем Маша выросла, стала невестой, красавицей. Старуха тетка начинает ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужем. Но Маше и то не по нраву: „Что ж замужем-то, одинаково, — говорит. — Какое счастье!..“ Тетка толкует, что не все горе на свете, есть и счастье. „Есть, да не про нашу честь“, — отвечает Маша. Слушая такие речи, и Федя начинает задумываться. Но Федя не может предаваться своим думам: он отбывает барщину. Маша же продолжает упорно отказываться от всякой работы. Все на деревне стали дивиться и роптать на безделье Маши, а барыня однажды так рассердитась, что велела немедленно силою привести к себе Машу. Привели ее. Барыня бросилась к ней, бранится и серп ей в руки сует: „Выжни мне траву в цветнике“. Да и стала над нею: „жни!“ Маша как взмахнула серпом — прямо себе по руке угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: „Ведите ее домой скорее! вот платочек — руку перевязать!“ Тем дело и кончилось; Маша оценила даже барской милости: как пришла домой, так сорвала с руки барынин платочек и далеко от себя бросила.
Упрямое сопротивление Маши всякому наряду на работу, ее тоска, ее странные запросы дурно подействовали на ее брата. И он закручинился, и он от работы отбился. Старуха тетушка нашла, что парня пора женить, и говорит ему раз о невестах. „Коли свои, говорит, — не по нраву, так бы в Дерновку съездил, там есть девушки хорошие“. — „Дерновские все вольные“, — отозвалась Маша. „Что ж вольные, — вразумляет тетка. — Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы им жених наш приглянулся“. — „Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама так и задрожала; — я бы, говорит, лучше на плаху головою“. Федя очень огорчился этим отзывом. „Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша, — проговорил он и в лице изменился; — они тоже ведь люди божии, только что бесчастные“. Да и вышел с тем словом… Тетка начала, по обычаю, уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбе не поможешь, а разве что веку не доживешь. А Маша отвечает, что оно и лучше умереть-то скорее. „Что мне тут-то, — говорит, — на свете-то?“
Так живет бедная семья, страдая от неуместно поднятых и беззаконно разросшихся вопросов и требований девочки. У дурной помещицы, у сердитого управляющего подобная блажь имела бы, конечно, очень дурной конец. Но рассказ представляет нам добрую, кроткую помещицу, да еще с либеральными наклонностями. Она решилась дать позволение своим крестьянам выкупаться на волю. Можно представить себе, как подействовало это известие на Машу и Федю. Но мы не можем удержаться, чтобы не выписать здесь вполне двух маленьких глав, составляющих заключение этого рассказа Марка Вовчка.
„А Федя все сумрачней, да угрюмей, а Маша в глазах у меня тает… слегла. Один раз я сижу подле нее — она задумалась крепко; вдруг входит Федя — бодро так, весело: “Здравствуйте», — говорит. Я-то обрадовалась «Здравствуй, здравствуй, голубчик». Маша только взглянула чего, мол, веселье такое?
— Маша, — говорит Федя, — ты умирать собиралась, молода еще, видно, ты умирать то.
Сам посмеивается. Маша молчит.
— Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебе весточку принес.
— Бог с тобой, и с весточкой, — ответила. — Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.
— Какая весточка, Федя? скажи мне, — спрашиваю.
— Услышь, тетушка милая! — и обнял меня крепко-крепко и поцеловал. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватил и приподнял ее. — Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю — откупайся…
Как вскрикнет Маша, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается: «Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя, господи! Милый мой! откупи меня! Господи! помоги же нам, помоги!..»
Федя-то сам рекою разливается, а у меня сердце покатилось — стою, смотрю на них.
— Погоди ж, Маша, — проговорил Федя, — дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько.
— Не надо, Федя! Откупайся скорей… скорей, братец милый!
— Помехи еще есть, Маша, — я вступилася, — придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?
— Я буду работать… Братец, безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей… Я закабалюсь, куды хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала! Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу — я томлюсь… Ox, выкупи меня, выкупи! Иди, иди к ней…
Одевает его, торопит, сама молит-рыдает… Я и не опомнилась, как она его выпроводила… Сама по избе ходит, руки ломает… И мое сердце трепещет, словно в молодости, — вот что затевается! Трудно мне было сообразиться, еще трудней успокоиться…
Ждем мы Федю, ждем не дождемся! Как завидела его Маша, горько заплакала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!» Маша так и упала на лавку, долго, долго еще плакала… Мы унимать: «Пускай поплачу, — говорит, — не тревожьте; сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь сызнову! Теперь мне работу давайте. Я здорова… Я сильная какая; если бы вы знали!..»
Вот и откупились мы. Избу, всё спродали… Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил — все прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла — в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит… Дело так и кипит у нее… «Отдохни, Маша!» — «Отдыхать? я работать хочу!» — и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий! Тогда Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой… А барыня-то гневалась — боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною притворилась… Ведь вы небось даром почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась.
Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам помогал, мы и новую избу срубили… Федя женился. Маша замуж пошла… Свекровь в ней души не слышит: „Она меня словно дочь родная утешает, что это за веселая! что это за работящая! больна с той поры не бывала“».*
К этому первому рассказу г-н — бов делает небольшое вступление. Но вы уже прочли его. Г-н — бов утверждает, что при появлении этого рассказа люди, еще верующие в неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас и что «в рассказе рассказывается естественное и ничем не заглушимое развитие в крестьянской девочке любви к самостоятельности и отвращения к рабству». Нам как то странно слышать про ужас людей, еще веровавших в неприкосновенность крепостного права и проч. Не понимаем, про каких это людей говорит г-н — бов и много ли он их видел? И хотя наше замечание не касается прямо литературного вопроса о котором идет наша статья, но мы не можем удержаться, чтоб не сделать его. Кто хоть сколько-нибудь знает русскую действительность, тот согласится тотчас же, что у нас все, решительно все, и цивилизованные и нецивилизованные и образованные и необразованные, за немногими, быть может, исключениями, давным давно и отлично хорошо знают о степени того развития, о котором говорит автор. Не говорим уже о некотором комизме предположения, что маленький рассказ мог так потрясти такую огромную массу людей, мало того привести их в ужас. «Им рассказывается случай, — говорит г н — бов, — доказывающий, что и в крестьянском сословии естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот какой простой случай им рассказывают».
Рассказывать такие случае и рассказывать с талантом, умеючи, с знанием дела, — всегда полезно, несмотря на то, что такие случаи давным-давно известны. На то и талант у писателя, чтоб произвести впечатление. Можно знать факт, видеть его самолично сто раз и все-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же самый факт, но только по-своему, объяснит вам его своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим то влиянием и познается настоящий талант. Но если рассказывать теперь, в настоящую минуту, о любви к свободному труду и рассказывать для того, чтоб доказать, что такой факт существует, так ведь это все равно, как если б кто стал доказывать, что человеку надобно пить и есть. Теперь просим читателя обратить внимание на этот самый рассказ, на этот простой случай, как выражается г-н — бов. Скажите читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ! Что это за люди? Люди ли это, наконец? Где это происходит в Швеции, в Индии, на Сандвичевых островах, в Шотландии, на Луне? Говорят и действуют сначала как будто в России; героиня — крестьянская девушка, есть тетка, есть барыня, есть брат Федя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, — ведь это какой то Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку*.
Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног. Нелюбовь к крепостному состоянию, конечно, может развиться в крестьянской девушке, да разве так она проявится! Ведь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина? Всё это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что в иных местах (особенно, когда Маша бросается к брату и кричит «Откупи меня!») мы, например, не могли удержаться от самого веселого хохота. А разве такое впечатление должно производить это место в повести? Вы скажете, что надо уважать иные положения и за идею простить некоторую неудачу в ее выражении. Согласны и уверяем вас, что мы не смеемся над вещами священными, но и вы согласитесь сами, что нет такой идеи, такого факта, которого бы нельзя было опошлить и представить в смешном виде. Можно долго крепиться, но наконец и расхохочешься, не утерпишь. Теперь предположим, что все защитники настоящего крестьянского быта, действительно, как уверяет г-н — бов, не верят, что крестьянин желает выйти на волю. Убедит ли хоть кого-нибудь из них рассказ в том, что они ошибаются? «Да это неправдоподобно!» — закричат они… Но послушаем самого г-на — бова.
«„Фантазия! Идиллия! Мечты золотого века! — закричали после этого рассказа практические люди с гуманными взглядами, но с тайною симпатиею к крепостным отношениям. — Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное, так это эксцентрический мучай, обязанный своим происхождением каким-нибудь особенным обстоятельствам… Рассказ о Маше вовсе не представляет картины из русского быта; он есть просто заоблачная выдумка. Автор взял не тип русской простой женщины, а явление исключительное, и потому рассказ его фальшив и лишен художественного достоинства. Требование художественности состоит в том, чтобы воплощать…“ и проч.
Тут почтенные ораторы пускались в рассуждения о художественности и чувствовали себя совершенно в своей тарелке.
Но людям, не заинтересованным в деле, и в голову не пришло возражать против естественности такого факта, какой рассказан в „Маше“. Напротив, он казался нормальным для всякого, знакомого с крестьянской жизнью. В самом деле, неужели возможно отвергать в крестьянине присутствие того, что мы считаем необходимой принадлежностью человеческого смысла у каждого из людей. Это уж было бы слишком…
Но, пожалуй, рассуждайте как угодно, факты докажут вам, что такие лица, как Маша и Федя, далеко не составляют исключения в массе русского народа».*
Пусть почтенный автор пускается в рассуждения и в доказательства того, что крестьянин действительно может чувствовать потребность самостоятельности и сознать, что свободное состояние лучше крепостного (в чем ровно никто не сомневается), пусть тратит на эти доказательства необыкновенное красноречие, как будто действительно нужно кому-нибудь доказывать, что крестьянин может мыслить, и пусть, в восторге своем, даже доказывает, что явление Маши нормально, и доказывает на том основании, что она могла замечать, рассуждать, мечтать, чувствовать и, наконец, сознать свое положение. Всё это справедливо, г-н — бов; мы вам и без красноречия на слово верим, что всё это справедливо, потому что сами знаем уже давно, что всё это справедливо: крестьянская девушка, действительно, может и рассуждать, и догадываться, и сознавать, и чувствовать отвращение и проч., и проч. Но разве так всё это должно проявиться, как представлено в повести? разве в ней не представлено всё так, что вероятное сделано невероятным, что всё это происходит на Сандвичевых островах, а не в России. Вы говорите:
«Да, мы находим, что в „Маше“ рассказан не исключительный случай, как претендуют землевладельцы и художественные критики. Напротив, в личности Маши схвачено и воплощено стремление, общее всей массе русского народа. А если потребность восстановить независимость своей личности существует, то, во всяком случае, она проявится в фактах народной жизни».*
Позвольте, г-н — бов. Если мы решились сделать такие длинные выписки из вашей критики, то это вовсе не для того, чтоб говорить о Марке Вовчке и о вопросах, которые он затрагивает в своих рассказах. Мы заметили в самом начале нашей статьи, что нигде так ярко вы, предводитель утилитаризма в искусстве, не высказываете ваших идей об искусстве, как в этом разборе. Теперь мы именно пришли к той цели, для которой делали наши длинные выписки. Мы хотели показать, что утилитаристы, презирая искусством и художественностью и не ставя их на первый план в деле литературы, идут прямехонько против самих себя. Мало того: вредят делу, которому сами служат, и мы вам это докажем.
Посмотрите: вы утверждаете, что искусство для искусства делает человека даже неспособным понимать необходимость дельного направления в литературе; вы сами говорили это художественному критику. Мало того: передразнивая художников, которых вы ставите всех (заметьте: всех) на одну доску с плантаторами, вы кричите, будто бы ихними словами после прочтения рассказа «Маша»: «Фантазия, идиллия! мечты золотого века! Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание своей личности?» Отвечаем: в простой мужицкой натуре развивались и не такие вещи, да и не в виде исключения, а чуть не сподряд; всё это мы знаем и всему этому верим. Но ведь видим же мы, что вы сами чувствуете всю нелепость того, как представлено дело в рассказе Вовчка, иначе не стали бы вы пускаться в такую горячую защиту рассказа, в передразнивание художников, которых вы выругали плантаторами. Выслушайте-ка теперь нас — не советы, не приговоры наши, а просто наши соображения при настоящем случае. Мы в старинном споре об искусстве не участвовали, к литературным партиям доселе не принадлежали, пришли с ветру и люди свежие, по крайней мере беспристрастные. Благоволите же выслушать.
Во-первых, прежде всего уверяем вас, что, несмотря на любовь к художественности и к чистому искусству, мы сами алчем, жаждем хорошего направления и высоко его ценим. И потому поймите наше главное: мы на Марка Вовчка нападаем вовсе не потому, что он пишет с направлением; напротив, мы его слишком хвалим за это и готовы бы радоваться его деятельности. Но мы именно за то нападаем на автора народных рассказов, что он не умел хорошо сделать свое дело, сделал его дурно и тем повредил делу, а не принес ему пользу. Поймите же нас — мы не хотим быть дурно понятыми и оклеветанными. Чему вы сами радуетесь в этих рассказах? Что в них дельные мысли; виден ум, хороший, правдивый взгляд на вещи? так? Но предположив только, что ваша идея справедлива, то есть что защитники настоящего крестьянского быта, как говорите вы, не веруют, что мужику хочется на свободу, повторяем: неужели вы убедите их этим рассказом? Вы прямо говорите, что этот рассказ «залетает в их последнее убежище», следовательно, верите в его полезность. А между тем ваши противники прямо ответят вам: «Вы утверждаете, что это случай повсеместный, и выходите из себя, чтоб доказать это; то-то и есть, что он рассказан так, что мы ясно видим его исключительность, доходящую до нелепости, почти невозможную. Уж если вы, для доказательства вашей идеи, не нашли способа выразить ее в русском духе и русскими лицами, то, согласитесь сами, ведь позволительно заключить, что и факта такого нет в русском духе и невозможен он в русской действительности». Вот что вам ответят, а следственно, рассказ, вместо серьезного, дельного впечатления, возбудит только смех и напомнит басню «Медведь и Пустынник»*. «Вы даже не могли представить себе русского человека с вашей идеей! — прибавят ваши противники. — Когда надо было указать, как осуществляется ваша мысль на деле, в жизни, русский человек ускользнул от вас. Вы принуждены были одеть в русские кафтаны и сарафаны каких-то швейцарцев из балета; это пейзане и пейзанки, а не крестьяне и крестьянки. У вас почва выскользнула из-под ног, только что вы шаг первый ступили для доказательства вашего нелепого парадокса. И после этого вы хотите, чтоб мы вам поверили, когда вы сами, защитники дела, не в состоянии представить себе такого дела между русскими людьми? Нет, обманывайте себя, кабинетные мечтатели, а нас оставьте в покое». Вот что вам скажут и по-своему будут правы. А между тем ведь мысль-то автора рассказов верна. Представьте же себе, что вместо этой балаганной шутихи, вместо этой строки, Маши, вышло бы у автора рассказов яркое, верное лицо, так что вы бы сразу, наяву, увидали то в действительности, о чем так горячо спорите, — неужели вы бы отвергли такой рассказ за то только, что он художествен? Ведь такой рассказ был бы в тысячу раз полезнее. В сущности вы презираете поэзию и художественность; вам нужно прежде всего дело, вы люди деловые. То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопочете, самый деловой, если хотите вы, деловой человек. Следственно, художественность в высочайшей степени полезна именно с вашей точки зрения. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно нужно поставить на первый план, прежде всяких требований? «Прежде всяких требований нельзя, — говорите вы, — потому что прежде всего нужно дело»; но ведь и о деле нужно говорить дельно, умеючи. Ведь и в дельном человеке немного пользы, если он не умеет высказаться. Это все равно, если у вас, например, под командой куча солдат, народ надежный, хороший; вдруг тревога: все вскакивают, надевают ранцы, амуницию, хватаются за оружие; «Скорее! скорее! — командуете вы, — бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаем со всеми лишними сборами; и оружия не нужно, — кто что успел захватить, с тем и марш!» Вы действительно поспеваете вовремя на место, занимаете его, но ведь ваши солдаты без оружия и без амуниции, куда они годятся? Дело-то сделано, да ведь нехорошо сделано. Или, например, перед вами крепость; вам нужно ее атаковать, и вот вы требуете непременным условием, чтоб ваши солдаты все до одного были хромые. Писатель без таланта, тот же хромой солдат. Неужели же вы предпочтете для выражения вашей мысли заику?
Но вы улыбаетесь, вам смешно, что вас же как будто учат тому, что вы сами не только отлично знаете, но давным-давно уже в своем месте высказали. В одной из ваших статей вы говорите: «пожалуй, пусть будет произведение художественное, но будь оно и современное». И в другой статье: «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне; тогда только вы достигнете вашей цели».* Коротко и ясно; вы не отвергаете художественности, но требуете, чтоб художник говорил о деле, служил общей пользе, был верен современной действительности, ее потребностям, ее идеалам. Желание прекрасное. Но такое желание, переходящее в требование, по-нашему, есть уже непонимание основных законов искусства и его главной сущности — свободы вдохновения. Это значит просто не признавать искусства как органического целого. В том-то вся и ошибка в этом сбивчивом вопросе, которая привела нас к недоумениям, несогласиям и, что всего хуже, к крайностям. Вы как будто думаете, что искусство не имеет само по себе никакой нормы, никаких своих законов, что им можно помыкать по произволу, что вдохновение у всякого в кармане по первому востребованию, что оно может служить тому-то и тому-то и пойти по такой дороге, по которой вы захотите. А мы верим, что у искусства собственная, цельная, органическая жизнь и, следовательно, основные и неизменимые законы для этой жизни. Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете. Человек жаждет ее, находит и принимает красоту без всяких условий, а так, потому только, что она красота, и с благоговением преклоняется перед нею, не спрашивая, к чему она полезна и что можно на нее купить? И, может быть, в этом-то и заключается величайшая тайна художественного творчества, что образ красоты, созданный им, становится тотчас кумиром, без всяких условий. А почему он становится кумиром? Потому что потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается; тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и спокойствие. Когда же находит то, чего добивается, то на время для него как бы замедляется жизнь, и мы видели даже примеры, что человек, достигнув идеала своих желаний, не зная куда более стремиться, удовлетворенный по горло, впадал в какую-то тоску, даже сам растравлял в себе эту тоску, искал другого идеала в своей жизни и, от усиленного пресыщения, не только не ценил того, чем наслаждался, но даже сознательно уклонялся от прямого пути, раздражая в себе посторонние вкусы, нездоровые, острые, негармонические, иногда чудовищные, теряя такт и эстетическое чутье здоровой красоты и требуя вместо нее исключений. И потому красота присуща всему здоровому, то есть наиболее живущему, и есть необходимая потребность организма человеческого. Она есть гармония; в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству его идеалы. «Но позвольте, — скажут нам, — про какие идеалы вы говорите? Мы хотим действительности, жизни, веяния жизни. У нас всё общество, например, разрешает какой-нибудь современный вопрос, оно стремится к выходу, к идеалу, который оно само себе поставило. К этому-то идеалу и поэты должны стремиться. Чем бы воплощать и уяснять перед обществом этот идеал, вы вдруг воспеваете нам Диану-охотницу или Лауру у клавира*». Всё это бесспорно и справедливо. Но прежде чем мы ответим на это возражение, позвольте нам сделать одно постороннее, побочное замечание, так, чтоб уж разом, окончив со всем посторонним, перейти к главному ответу на ваше прекрасное и чрезвычайно справедливое замечание.
Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере не исчислены до последней точности. Как, в самом деле, определить, ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится всё человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря. Поэтому, как и определить совершенно верно, что вредно и полезно? Но не только о будущем, мы даже не можем иметь точных и положительных сведений о всех путях и уклонениях, одним словом, о всем нормальном ходе полезного даже и в прошедшем нашем. Мы изучаем этот путь, догадываемся, строим системы, выводим следствия, но все-таки календаря и тут не составим, и история до сих пор не может считаться точной наукой, несмотря на то, что факты почти все перед нами. И потому, как, например, вы определите, вымеряете и взвесите, какую пользу принесла всему человечеству «Илиада»? Где, когда, в каких случаях она была полезна, чем, наконец, какое именно влияние она имела на такие-то народы, в такой-то момент их развития и сколько именно было этого влияния (ну, хоть фунтов, пудов, аршин, километров, градусов и проч., и проч.)? А ведь если мы этого не можем определить, то очень возможно, что можем ошибиться и теперь, когда будем строго и решительно определять людям занятия и указывать искусству нормальные пути полезности и настоящего его назначения. А только согласитесь, что можно ошибиться, вот уже и неизвестно станет: может быть, Лаура-то у клавира и окажется на что-нибудь полезна? Правда, красота всегда полезна; но мы об ней теперь умолчим, а вот что мы скажем (впрочем, заранее предуведомляем, — может быть, мы скажем неслыханную, бесстыднейшую дерзость, но пусть не смущаются нашими словами; мы ведь говорим только одно предположение), что, скажем мы, а ну-ка, если «Илиада»-то полезнее сочинений Марка Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современных вопросах; полезнее как способ достижения известных целей, этих же самых вопросов, разрешения настольных задач? Ведь и теперь от «Илиады» проходит трепет по душе человека. Ведь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокого момента народной жизни и, заметим еще, жизни такого великого племени, что в наше время, — время стремлений, борьбы, колебаний и веры (потому что наше время есть время веры), одним словом, в наше время наибольшей жизни, эта вековечная гармония, которая воплощена в «Илиаде», может слишком решительно подействовать на душу. Наш дух теперь наиболее восприимчив, влияние красоты, гармонии и силы может величаво и благодетельно подействовать на него, полезно подействовать, влить энергию, поддержать наши силы. Сильное любит силу, кто верует, тот силен, а мы веруем и, главное, хотим веровать. Ведь чем гнусно занятие «Илиадой» и подражание ей в искусстве в наше время, по взгляду противников чистого искусства? Тем, что мы, точно мертвецы, точно всё пережившие, или точно трусы, боящиеся нашей будущей жизни, наконец — точно равнодушные изменники тех из нас, в которых еще осталась жизненная сила и которые стремятся вперед, точно энервированные до отупения, до непонимания, что и у нас есть жизнь, — в каком-то отчаянии, бросаемся в эпоху «Илиады» и создаем себе таким образом искусственную действительность, жизнь, которую не мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную, — и, как низкие люди, заимствуем, воруем нашу жизнь у давно прошедшего времени и прокисаем в наслаждении искусством, как никуда не годные подражатели! Согласитесь сами, что направление утилитаристов, с точки зрения подобных упреков, в высшей степени благородно и возвышенно. Оттого-то мы им так сочувствуем, оттого-то их и хотим уважать. Беда только в том, что это направление и эти упреки неверны. Не говоря уже о том, что мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились отчасти ее вековечные идеалы (так что всё это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), — не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. При отыскании красоты человек жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то, во-первых, мы выкажем чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития. Кроме того, можно относиться к прошедшему и (так сказать) байронически. В муках жизни и творчества бывают минуты не то чтоб отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва, колебания, недоверия и вместе с тем умиления перед прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества. В этом энтузиазме (байроническом, как называем мы его), перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею собственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся. Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется «Диана», вот оно:
Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии. Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такою силою, что он ждет и верит, в молении и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с пьедестала и пойдет перед ним,
Но богиня не воскресает, и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности, для нее время остановилось; это высший момент жизни, после которого она прекращается, — настает олимпийское спокойствие*. Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнию, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта! какой бесконечный зов, какая тоска о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему!
Конечно, мы согласны, может существовать и такой гаденький, антологический червячок, который действительно потерял всё чутье действительности, который не понимает, что у него тоже есть жизнь, который перебрался в прошедшее и поселился там, где-нибудь в антологии, не подозревая ни себя, ни вопросов, ни жизненных мук, ни здешнего прихода. Но, во-первых, ведь и червячку надо жить, а во-вторых: лучше что ли его эти бесчисленные толпы грошовых прогрессистов, с убеждениями напрокат, с совестью напрокат, с осклаблением над тем, чьего они праха не стоят, с жалким умишком, вскочившим на фразу и выезжающим на ней подбоченясь? Что ж делать! И тем и этим жить надо. Действительность слишком разнообразна. Что ж делать!
Теперь приступим к нашему главному и окончательному ответу на ваш справедливый вопрос о том, почему искусство не всегда совпадает своими идеалами с идеалом всеобщим и современным; яснее: почему искусство не всегда верно действительности?
Ответ на этот вопрос у нас готов.
Мы сказали уже, что вопрос об искусстве, по нашему мнению, не так поставлен в настоящее время, дошел до крайности и запутался от взаимного ожесточения обеих партий. То же самое повторяем мы и теперь. Да, вопрос не так поставлен и по-настоящему спорить не о чем, потому что:
Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать.
Теперь постараемся ответить на все возражения.
Во-первых, если нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности и не служит полезным целям, то это только потому, что мы не знаем наверно путей полезности искусства (о чем уже мы говорили) и, кроме того, от излишнего жара в наших желаниях немедленной, прямой и непосредственной пользы; то есть, в сущности, от горячего сочувствия к общему благу. Такие желания, конечно, похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, как если б дитя, увидя солнце, потребовал, чтобы ему сейчас его сняли с неба и дали.
Во-вторых, потому нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики, которые прерывают всякое сношение с действительностью, действительно умирают для настоящего, обращаются в каких-то древних греков или в средневековых рыцарей и прокисают в антологии или в средневековых легендах.
Такое превращение возможно; но поэт, художник, поступивший таким образом, есть·сумасшедший вполне. Таких немного.
В-третьих, наши поэты и художники действительно могут уклоняться с настоящего пути или вследствие непонимания своих гражданских обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или от разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания действительности, от некоторых исторических причин, от не совсем еще сформировавшегося общества, оттого, что многие — кто в лес, кто по дрова, и потому с этой стороны призывы, укоры и разъяснения г-на — бова в высочайшей степени почтенны. Но г-н — бов идет уже слишком далеко. То, что он называет погремушками и альбомными побрякушками, мы, с другой точки зренья, признаем и нормальным и полезным, и, таким образом, антологические поэты не все до единого сумасшедшие (как признает г-н — бов), а только те из них, которые совсем отрешились от современной действительности, вроде иных наших барынь, проживающих всю жизнь в Париже и потерявших употребление русского языка (на что, впрочем, их добрая воля). «Побрякушки» же тем полезны, что, по нашему мнению, мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью. Что ж делать? без того ведь нельзя; ведь это закон природы. Мы даже думаем, что чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. Нельзя же так обстричь человека, что вот, дескать, это твоя потребность, так вот нет же, не хочу, живи так, а не этак! И какие ни представляйте резоны — никто не послушается. И знаете еще что: мы уверены, что в русском обществе этот позыв к общечеловечности, а следовательно, и отклик его творческих способностей на всё историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и, может быть, в нем вековечно останется. Мало того: нам кажется, что этот всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. Вследствие Петровской реформы, вследствие нашего усиленного переживания вдруг многих разнообразных жизней, вследствие инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у нас так характерно, так особенно, как ни в каком народе. Ведь вы восстаете почти против нормального нашего состояния. Ведь литературы европейских народов были нам почти родные, почти наши собственные, отразились в русской жизни вполне, как у себя дома. Вспомните: ведь и вы так воспитаны, г-н — бов. Как вы думаете, ведь явление Жуковского невозможно, например, у французов, а Пушкина и подавно. Откликнется ли кто-нибудь из европейских самых великих поэтов на всё общечеловеческое так родственно, в такой полноте, как откликнулся представитель нашей поэзии — Пушкин? Поэтому-то отчасти мы и называем Пушкина величайшим национальным поэтом (а в будущем и народным, в буквальном смысле слова), потому именно называем, что он есть полнейшее выражение направления, инстинктов и потребностей русского духа в данный исторический момент. Ведь это отчасти современный тип всего русского человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом стремлении его. Нельзя же говорить (потому что так задалось в кабинете), что все эти стремления всего русского духа и бесполезны, и глупы, и незаконны. И неужели вы, например, думаете, что маркиз Поза*, Фауст и проч., и проч. были бесполезны нашему русскому обществу в его развитии и не будут полезны еще? Ведь не за облака же мы с ними пришли, а дошли до современных вопросов, и, кто знает, может быть, они тому много способствовали. Вот почему хоть бы, например, все эти антологии, «Илиады», Дианы-охотницы, Венеры и Юпитеры, Мадонны и Данте, Шекспир, Венеция, Париж и Лондон — может быть, всё это законно существовало у нас и должно у нас существовать — во-первых, по законам общечеловеческой жизни, с которою мы все нераздельны, а во-вторых, и по законам русской жизни в особенности.
— Но что вы нас учите! — скажут нам утилитаристы. — Мы очень хорошо и без вас знаем, насколько всё это нам было полезно, как связь с Европой, когда мы вдвигались в общечеловечество; знаем очень хорошо, потому что мы сами из всего этого вышли. Но теперь нам покамест не надо никакого общечеловечества и никаких исторических законов. У нас теперь своя домашняя стирка, черное белье выполаскивается, набело переделывается; теперь у нас повсюду корыта, плеск воды, запах мыла, брызги и замоченный пол. Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорск, про темное царство*.
Мы ответим на это так: во-первых, определить, что именно надо и что не надо, на вес или цифрами, довольно трудно; можно загадывать, можно рассчитывать, позволительно и законно пробовать на деле: так ли выйдет по расчету? желать, убеждать и увещевать других к общей деятельности — все это законно и в высшей степени полезно. Но писать в «Современнике» указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом — и ошибочно и бесполезно (хотя уж по тому одному, что ведь не послушаются. Конечно, робкого народу у нас много; беда как иные боятся критики! да и самолюбие: отстать от передовых не хочется — вот и пишут с направлением, да так как пишут-то не по своему вдохновению, то и выходит всё почти дрянь; но деспотизм нашей критики пройдет; станут писать по охоте, будут более сами по себе и, может быть, и в обличительном роде напишут что-нибудь прекрасное. Давай-то бог!). К тому же ведь можно ошибиться. Ведь, может быть, именно то, что наши прогрессивные умы считают несовременным и неполезным, и есть современное и полезное. Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. Можно сознавать себя больным, сознавать, что мне нужно лекарство, даже вообще можно знать, какое именно нужно лекарство, но рецепта до последней точности себе самому прописать нельзя. А если поэзия, слово, литература есть тоже лекарство, то ведь отчасти есть и мерка: что именно в поэзии хорошо, а что неподходяще? Эта мерка в том: чем более симпатии возбуждает в массе поэт, тем, стало быть, он наиболее оправдывает свое явление. Конечно, тут могут быть большие ошибки, капитальные уклонения; примеры были: масса иногда в данный момент и не знает, чего ей нужно, что именно надо любить, чему симпатизировать. Но эти уклонения сами собою скоро проходят, и общество всегда само отыскивает потерянный путь. А главное в том, что искусство всегда в высшей степени верно действительности, — уклонения его мимолетные, скоропреходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть неверно современной действительности. Иначе оно не настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологией, стало быть, еще нужна антология; уклонения и ошибки могут быть, но, повторяем, они преходящи. Искусства же несовременного, не соответствующего современным потребностям, и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую художественность. В этом смысле мы идем даже дальше г-на — бова, в его же идее: он еще признает, что существует бесполезное искусство, чистое искусство, не современное и не насущное, и ополчается на него. А мы не признаем совсем такого искусства, и спокойны — незачем ополчаться; а если и будут уклонения, то беспокоиться нечего: сами собою пройдут, и скоро пройдут.
— Но позвольте, — спросят нас, — на чем же вы основываетесь, из чего именно вы заключаете, что настоящее искусство никак и не может быть несовременным и неверным насущной действительности?
Отвечаем:
Во-первых, по всем вместе взятым историческим фактам, начиная с начала мира до настоящего времени, искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, — рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнию и умирало вместе с его исторической жизнию.
Во-вторых (и главное), творчество, основание всякого искусства, живет в человеке как проявление части его организма, но живет нераздельно с человеком. А следственно, творчество и не может иметь других стремлений, кроме тех, к которым стремится весь человек. Если б оно пошло другим путем, значит, оно бы пошло в разлад с человеком, значит, разъединилось бы с ним. А следственно, изменило бы законам природы. Но человечество еще покамест здорово, не вымирает и не изменяет законам природы (говоря вообще). А следственно, и за искусство опасаться нечего — и оно не изменит своему назначению. Оно всегда будет жить с человеком его настоящею жизнию, больше оно ничего не может сделать. Следственно, оно останется навсегда верно действительности.
Конечно, в жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы, будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, всегдашнюю верность человеку и его интересам.
Но все-таки искусство тогда только будет верно человеку, когда не будут стеснять его свободу развития.
И потому первое дело: не стеснять искусства разными целями, не предписывать ему законов, не сбивать его с толку, потому что у него и без того много подводных камней, много соблазнов и уклонений, неразлучных с исторической жизнию человека. Чем свободнее будет оно развиваться, тем нормальнее разовьется, тем скорее найдет настоящий и полезный свой путь. А так как интерес и цель его одна с целями человека, которому оно служит и с которым соединено нераздельно, то чем свободнее будет его развитие, тем более пользы принесет оно человечеству.
Поймите же нас: мы именно желаем, чтоб искусство всегда соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами, и если мы и желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. К чему предписывать, к чему сомневаться в нем, когда оно, нормально развитое, и без ваших предписаний, по закону природы, не может идти в разлад потребностям человеческим? Оно не потеряется и не собьется с дороги. Оно всегда было верно действительности и всегда шло наряду с развитием и прогрессом в человеке. Идеал красоты, нормальности у здорового общества не может погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дороге и доверьтесь тому, что оно с нее не собьется. Если и собьется, то тотчас же воротится назад, откликнется на первую же потребность человека. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что в человечестве — всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. Частный человек не может угадать вполне вечного, всеобщего идеала, — будь он сам Шекспир, — а следственно, не может предписывать ни путей, ни цели искусству. Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой — всё это позволительно; но предписывать непозволительно; быть деспотом непозволительно; а ведь вот хоть бы с г-ном Никитиным вы, г-н — бов, обошлись почти деспотически. «Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословия, — долой Пушкина, не смей восхищаться им, а восхищайся вот тем-то и тем-то и описывай то-то». — «Да, Пушкин был мое знамя, мой маяк, мое развитие, — восклицает г-н Никитин (или мы за г-на Никитина); я мещанин, — он протянул мне руку оттуда, где свет, где просвещение, где не гнетут оскорбительные предрассудки, по крайней мере так, как в моей среде; он был мой хлеб духовный». — «Не надо, вздор! пиши про свои нужды». — «Но ведь я сам нуждающийся, — продолжает г-н Никитин, — физический хлеб есть у меня, но мне надобен хлеб духовный. Не отнимайте же у меня этого хлеба, желая его всем. Всем-то желаете, а как к делу пришлось, у меня первого и отнимаете. Вы хотите, чтоб я описывал свой быт, свои нужды. Да я, может, и буду описывать! Только теперь-то позвольте пожить высшей жизнью. Для вас она не высшая, вы ее уже презираете, а для меня — знаете, как она еще соблазнительна!..» — «Мы ручаемся за г-на Никитина, — прибавляем мы тут же с своей стороны, — дайте ему пожить теперь как он хочет. Пушкин для него теперь всё. Ведь и мы к современным вопросам прошли через Пушкина; ведь и для нас он был началом всего, что теперь есть у нас. А г-ну Никитину он больше чем родной. Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее художествен, чем все наши поэты, следовательно, наиболее прост, наиболее пленителен, наиболее понятен. Тем-то он и народный поэт, что всем понятен. Перейдет г-н Никитин через Пушкина, и если у него действительно есть талант, — поверьте, г-н — бов, — дойдет, как и мы, до современных вопросов и будет писать с направлением. А требовать от него теперь, ведь это… ведь это будет… как бы это выразиться: ведь это будет кабинетный скачок…»
Но довольно! Мы не имеем чести знать г-на Никитина и социального его положения; мы знаем только, что он мещанин, о чем он сам публиковал при издании своих сочинений. Если г-н Никитин совсем не в таком положении, в котором мы его теперь представили, то просим у него извинения. В таком случае вместо него мы ставим лицо отвлеченное, сочиненное, г-на N.
III. Книжность и грамотность
Статья первая
Читать, читать, а после — хвать!*
Фамусов. «Горе от ума»
В прошлом и в нынешнем году много говорили у нас, и в литературе и в обществе, о необходимости книги для народного чтения. Делались попытки издания такой книги, предлагались проекты, чуть ли не назначались премии. «Отечественные записки» напечатали в своей февральской книжке проект «Читальника», то есть книги для народного чтения, и почти с укоризною обращались к нашим литераторам: вот, дескать, мы напечатали проект «Читальника», а кто отзовется на этот проект? хоть бы кто из литераторов сказал о нем свое мнение. Мы именно хотим теперь заняться этим разбором. Но прежде чем мы приступим к нему, скажем несколько слов и о любопытном общественном явлении, именно о появлении подобных проектов и о всеобщих хлопотах высшего общества образовывать низшее. Мы говорим: «всеобщих», потому что настоящее высшее, то есть прогрессивное, общество всегда увлекало за собой большинство всех высших классов русского общества, и потому если и есть теперь несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся за прогрессивным большинством, и если останутся крайние упорные, то замолчат от бессилия.
Мы потому говорим об этом так наверно, что в обществе постиглась наконец полная необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: «Грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который надо и должно сделать». Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, вытащенную из воды на песок. Но обо всем этом скажем подробнее после. Обратим сперва внимание на факт, в высшей степени поразительный и знаменательный, на факт, имеющий даже глубокое историческое значение в русской жизни, поразивший нас уже давно, но проявившийся теперь в чрезвычайно резком явлении. Мы говорили об этом факте и прежде. Теперь же видим яркое доказательство того, что мы не ошибались в его существовании.
Этот факт — глубина пропасти, разделяющей наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы даже не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенародном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что всё написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом.
«В этом факте ровно ничего нет особенно поражающего, — могут нам ответить. — Дело ясное: один класс образованный, другой нет. Необразованный класс не поймет образованного с первого разу. Это случалось и случается всегда и везде, и тут нет никакого особенного значения».
Положим так, мы теперь не будем спорить об этом. Но мы все-таки до сих пор не придумали, что дать народу читать. Это как вам покажется? Ведь надо же согласиться, что промахи наши в этом случае пресмешные, удивительные. Посмотрите на все проекты народных «читальников» (уж одно то, что об этом пишут проекты!). Написаны они людьми умными и добросовестными; а между тем — ошибка на ошибке. Некоторые же ошибки доходят до комического.
А между тем, опять повторяем, все эти читальники, все эти проекты пишутся у нас литераторами опытными и талантливыми. Иные из них приобрели себе славу знатоков народной жизни. Что ж они до сих пор сделали?
Скажем более: мы, с своей стороны, в высочайшей степени уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что все их знают. Да, говорим мы, все знают; но знают отвлеченно. Знают, например, что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени эта жизнь была отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно изучали народную жизнь, даже жили с народом, то есть жили с ним не в особой помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, смотрели на его нужды, видели все его особенности, прочувствовали его желания, узнали его воззрения, даже склад его мыслей и проч., и проч. Они ели вместе с народом, его же пищу; другие даже пили с ним. Наконец, есть и такие, которые даже вместе с ним работали, то есть работали его же простонародную работу. Хоть мало таких, да есть. И что ж? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: «Вы, господа, знаете одну внешность; вы очень умны, вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ее вы не знаете». Простолюдин будет говорить с вами, рассказывать вам о себе, смеяться вместе с вами, будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего посконного земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть сами вы оденетесь (или судьба вас оденет) во всё посконное, пусть вы будете даже работать вместе с ним и нести все труды его, он и этому не поверит. Бессознательно не поверит, то есть не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в плоть и кровь его.
Разумеется, причина тому, во-первых, вся предыдущая наша история, во-вторых, взаимная слишком долголетняя отвычка друг от друга, основанная на разности интересов наших. Доверенность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать, доросли ли до этого?
Наш ответ: дорастаем и дорастем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народною почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования, а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, сделается.
Да, но как это сделается?
В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права. Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним словом, — к развитию. Мало того, оно до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни. В то же время высшее общество, прожив эпоху своего сближения с Европой, свою эпоху цивилизации, почувствовало само собою необходимость обращения к родной почве. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде и, при первой возможности выразиться, — ·выразилась. Оба исторические явления совершились вместе и пойдут параллельно.
Кстати, наши журналы в последнее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили из себя «Отечественные записки». «Русский вестник», вступив благополучно на свою новую, булгаринскую, дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству «Отечественных записок», усомнился даже в существовании русской народности.
И кто же вознегодовал на «Русский вестник», кто серьезно начал защищать и отстаивать перед ним действительность русской народности, то есть доказывать ему, что она существует? — «Отечественные записки», те самые «Отечественные записки», которые ничего не признают народного в Пушкине. Что за комизм!
Между прочим, «Отечественные записки» говорят:
«Мысль, сказанная нами год назад (то есть что в Пушкине ничего нет народного), не была плодом того ярого журнального раздражения, которое многих заставляет говорить вещи дикие, лишь бы обратить на себя внимание этим промыслом, слава богу, мы не имеем надобности заниматься».*
О боже мой! верим, вполне верим. Вы так добродушно напали на Пушкина и с таким добродушием, вот уже целый год, попрекаете литераторов в том, что на статью вашу не обращают серьезного внимания, что мы никаким образом не можем принять вас за ярого Герострата* или кого-нибудь в этом роде. Такая слава вам не нужна. Вы люди «ученые», вам дороже всего «истина». По-нашему — вы просто немецкие гелертеры*, переложенные на петербургские нравы, серьезно отыскивающие с фонарем в руках русскую народность, которая от вас спряталась, и не видящие, что у вас происходит под самым носом.
А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским вестником» и доказывать ему, что есть русская народность, а он обратно, что нет русской народности, — что, если вдруг русская народность возьмет да найдет вас сама? Куда денутся тогда все аглицкие теории «Русского вестника» и аглицкие масштабы, под которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ее в «Отечественных записках». Он будет чрезвычайно удивлен.
— Но ведь это не русская народность? — скажет он, смотря ей прямо в глаза.
— Нет-с, это русская народность, — кто-нибудь ответит ему.
— Гм! «может быть да, а может быть нет»*; во всяком случае я не узнаю ее.
— Очень может быть, но только это она.
— Гм! Неужели?
— Да.
— Как-то не верится… Во-первых, обусловлено ли это явление? Совпадает ли оно с известными и принятыми на укой принципами? Между прочим, г-н Буслаев говорит в своей книге…*
И так далее, и так далее. Одним словом, повторяется случай с «метафизиком».
Да, они метафизики. Нам говорят (и мы не один раз это слышали), что «Отечественным запискам» отвечать стыдно. Почему? что за аристократизм? Нам говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с глухими о музыке.
Положим так: с слепыми трудно говорить о цветах; но мы ведь вовсе не хотим разуверять и переубеждать ученый журнал. Мы говорим для публики. Признаемся, мы намерены даже тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина. Конечно, отвечать г-ну Дудышкину чрезвычайно трудно, но ведь без труда ничего не делается…
Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в «Борисе Годунове». Вам вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у нас, при царях московских, таких уединенных, независимых монахов-летописцев, которые умерли для света и для которых истина в их елейном смиренномудром прозрении стала дороже всего; летописцы, говорят нам, были люди чуть не придворные, любившие интригу и тянувшие в известную сторону. Да хоть бы и так, вскрикиваете вы в удивлении: неужели пушкинский летописец, хоть бы и выдуманный, — перестает быть верным древнерусским лицом? Неужели в нем нем элементов русской жизни и народности, потому что он исторически неверен? А поэтическая правда? Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели «Илиада» не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?
А ведь «Отечественные записки» сплошь да рядом щеголяют подобными доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, сердцевины-то дела они не понимают?
Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопая двадцатых годов.
Попробуйте поспорить.
— Как не народный? — говорим, например, мы. Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждать русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом…
— Да с какой стати вы находите это всё в Онегине? — прерывают нас ученые. — Разве это в нем есть?
— А как же? разумеется, есть… Онегин именно при надлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К. этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и сознательным русским языком. Тогда мы все вдруг стали прозирать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие под так называемый европейский наш элемент, и в то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первым началом той эпохи, когда наши передовые люди резко разделились на две стороны и потом горячо вступили в междоусобный бой. Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в высшей степени народное. Ведь не из книжек же произошла сущность их появления? Как вы думаете? Но при Онегине всё это еще только едва сознавалось, едва предугадывалось. Тогда, то есть в эпоху Онегина, мы с удивлением, с благоговением, а с другой стороны — чуть не с насмешкой стали впервые понимать, что такое значит быть русским, и, к довершению странности, всё это случилось именно тогда, когда мы только что начали настоящим образом сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его достоинство и значение, — разумеется, по тем понятиям, которые выработала Европа. Мы поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и напудренным головам. Поняли и — не знали, что делать? Мало-помалу мы стали понимать, что нам и нечего делать. Самодеятельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматривание, саморазглядывание. Это уже не был холодный, наружный, кантемировский или фонвизинский скептицизм.* Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж привнесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех языках, праздно ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у себя, а мы — нигде.
Онегин — член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им, или смеяться над ними. Вся жизнь его выражает эту идею, эту борьбу.
А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он, может быть, готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не разрешит, не определит своих верований: он будет только страдать. Это первый страдалец русской сознательной жизни.
Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед ним и русская девушка — тип единственный до сих пор во всей нашей поэзии, перед которым с такою любовью преклонилась душа Пушкина как перед родным русским созданием. Онегин не узнал ее и, как следует, сначала поломался над ней, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского… Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу. Что делать? за что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная ирония шевелится в душе его, и в то же время он сознает, что он и не пустой человек: разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего ж он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание достанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем; он чувствует, что хоть она и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, — и он с иронией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и зачем? Он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. О, если б он был настоящим эгоистом, он бы успокоился!
восклицает это дитя своей эпохи среди неразрешимых сомнений, странных колебаний, невыяснившихся идеалов, погибшей веры в прежние идолы, детских предрассудков и неутомимой веры во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и никаким скептицизмом, никакой иронией не разбиваемое. Да! это дитя эпохи, это вся эпоха, в первый раз сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты всё это — русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этот тип вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И всё та же жажда истины и деятельности, и всё то же вечно роковое «нечего делать»!.. От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти.
И всё ведь это действительная правда, повторялось действительно в нашей жизни. Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, — с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. Но время идет вперед, и последняя точка нашего сознания достигнута. Рудин и Гамлет Щигровского уезда* уже не смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. Они только смеются иногда над самими собою, они еще не умеют уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, бескорыстно выстрадали… В наше время прошли уж и Рудины…
— Да помилуйте! — восклицает ученый журнал, — где же, в чем тут народность?
— Как народность? — говорим мы, разинув рот от недоумения.
— Ну да, русская народность! — говорит г-н Краевский, стараясь помочь г-ну Дудышкину, — ну там сказки, песни, легенды, предания… ну и все прочее…
— То есть не совсем то, — поспешно прерывает г-н Дудышкин своего достойного сотрудника по критической части, — а вот что: вся ли Русь исповедует элементы поэзии Пушкина, или только мы одни, образованные? Ведь народный поэт носит в себе и политические, и общественные, и религиозные, и семейные убеждения народа? Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в настоящий народ?
— А вот и договорились! Так, стало быть, вы уж не признаете и за народ высшее общество, так называемых «образованных»? Что ж они, по-вашему, — уж и не русские? Да что за дело в этом случае, что народ государственным переворотом так резко разделился на две половины? Вся разница в том, что одна половина образованная, другая нет. Ведь образованная половина доказала же, что она тоже русская, тот же народ; ведь дошла же она до мысли о соединении с народным началом. А так как эта образованная половина более развита, более сознает, чем необразованная, то в ней и явился народный поэт. А вам бы хотелось такого народного поэта, который заговорил бы прямо народным языком, прежде совершившегося в народе процесса развития и сознания? Да когда же и где это бывало? Трудно и представить себе такого поэта. Если у французов есть, например, Беранже, то разве он для всего народа поэт? Он поэт только парижан: огромное большинство французов и не знает, и не понимает его, потому что не развито и не может понять, а сверх того, исповедует и другие интересы. А если Беранже все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, как у нас Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения народа, как у нас, во Франции не было. Да позвольте, наконец: вы, кажется, прямо определяете народность — простонародностью? Неудивительно после того, что вас никто не понимает. Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве мы, «образованные», уж и не русский народ? Нам кажется, даже напротив: с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает наружу. Разве во времена Перикла* греки были уже не греки, как триста лет назад? Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы разъединились чисто внешними обстоятельствами. Эти внешние обстоятельства не давали остальной массе народа следовать за нами и таким образом привнесть в нашу деятельность все силы русского народного духа. Мы сознаем только то, что мы слишком уединенная и маленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами, по той же дороге, то нам нельзя будет вполне себя выразить, и мы выразим себя слишком односторонне, слабосильно и даже — смело можно сказать — даже не так, как выразили бы мы себя, если, б весь русский народ был с нами. Но из этого еще не следует, чтоб мы потеряли народный дух, чтобы мы переродились? Почему же мы не народ?» Почему вы лишаете нас этого почетного названия?
Нет, вы неправы. Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть его; но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. Вам это непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же вы видели такого народного поэта, как вам он представляется? Был ли он когда-нибудь, возможен ли он по вашему идеалу? Рассудите: если явится такой поэт, как вы воображаете, об чем же он будет говорить? Он выразит «все политические, общественные, религиозные и семейные убеждения народа», говорите вы. Так; Беранже вот и выражал это же, но выразил всё это только для небольшой части французов сравнительно с массой всего народонаселения, именно для тех, которые жили, которые заинтересованы были в политическом, общественном, религиозном и семейном движении нации. Остальные же французы даже, может быть, и не слыхали о Беранже, потому что еще ни в каком движении не участвовали. Когда же будут участвовать, то хотя у них и будет свой новый Беранже (непременно) и выразит он что-нибудь новое, что-нибудь такое, что старому Беранже и не грезилось, но, несмотря на то, и старый Беранже поймется ими. Они не могут его обойти: во-первых, он будет иметь для них историческое значение, а во-вторых, потому что он народен, потому что он все-таки выражал мнения, верования и убеждения французского же народа. Точно так и Пушкин. Одна часть (и самая большая) русского народа почти совсем не участвовала в том, в чем участвовала другая, и разъединение продолжалось чрезвычайно долго. Пушкин был народный поэт одной части; но эта часть, во-первых, была сама русская, во-вторых, почувствовала, что Пушкин первый сознательно заговорил с ней русским языком, русскими образами, русскими взглядами и воззрениями, почувствовала в Пушкине русский дух.
Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, и Пугачев, и патриарх, и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна — всё это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцуженное и отрешившееся от народного духа увидело в нем общество. Общество знало, что так может писать только Булгарин. Разумеется, смешно отвечать на такие вопросы: где же это русское семейство, которое хотел изобразить Пушкин, в чем его русский дух, что именно изобразил он русского? Ответ ясен: надобно хоть немножко понимать поэзию. Отбросим всё, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его «Песни западных славян», прочтите «Видение короля»*: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через сознание поэта и, главное, — в первый раз нам поэтом указанная. В первый раз — это не шутка! Да, почти в первый раз вся красота, вся таинственность и всё глубокое значение народной легенды было постигнуто массою нашего общества. Вы говорите, что в простонародьи не отразился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников общечеловеческих начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине, а это-то и самое нужное, потому что всё раздвоение наше заключалось в том, что одна часть общества пошла в Европу, а другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к которому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через Пушкина.
Скажем более: мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого простонародья, — не Кольцов, например, который был неизмеримо выше своей среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой поэт, во-первых, может выражать свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями, которые сочинялись как-то созерцательно в минуту самого пения. Мог бы он явиться и в другом виде, то есть не принимая за норму всё окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь момент народной жизни, какое-нибудь движение народное, какое-нибудь желание его. Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ. Но во всяком случае он был бы не глубок и кругозор его был бы очень узок. Во всяком случае Пушкин был бы неизмеримо выше его. Что нужды, что народ, на теперешней степени своего развития, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом и из его поэзии научится познавать себя. И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием, чем высший класс народа? По-вашему, ведь непременно выходит так. Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда бы не мог быть понят простонародьем. Неужели ему, для того чтоб его понимало простонародье, следовало непременно идти к нему и, заговорив его языком (что он очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие? Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно, моментально противоречит. В таком случае Пушкину пришлось бы иногда странным вещам поддакивать. Пришлось бы скрывать себя, веровать предрассудкам, чувствовать ложно. Каким же хитрецом представляете вы себе народного поэта и даже каким пейзаном с фарфоровой чашки!
Но, положим, наконец, что совсем не надо скрывать свое развитие и надевать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, благородно и смело. Что народ всё поймет и оценит, будет благодарен за правду и что стоит только выговорить эту правду простым и понятным народу языком.
Не будем спорить. Во всяком случае такой поэт был бы не сильнее Пушкина и далеко бы не выразил того, что выразил Пушкин. Для такой деятельности Пушкину надо бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть сил своих оставить втуне, намеренно сузить свой кругозор и сознательно отказаться от половины своей великой деятельности.
А в чем состояла его великая деятельность? Опять-таки повторяем: чтоб судить об ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзию.
«Русский вестник», между прочим, не отдает чести Пушкину потому, что он не известен в Европе; потому что Шекспир, Шиллер, Гете проникли всюду в европейские литературы и много привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин нет. Какое детское требование!
Не говорим уж о том, что и самый факт во многом неверен. В самом деле, действительно ли Шиллер и Гете известны во Франции? Они известны во Франции нескольким ученым, нескольким серьезным поэтам и литераторам, да и те большею частью по переводам; в оригинале же и того меньше. Шекспир тоже; разве в Германии, и то только в образованном кругу, Шекспир известен; но во Франции его слишком мало знают. Не их вина, разумеется, но, конечно, они до сих пор немного сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у себя дома.[15] «Русский вестник», кажется, бессознательно впал в ошибку: он, вероятно, судил об общечеловеческом влиянии вышепоименованных великих поэтов по русскому обществу. Да, Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и в запрошедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже. Даже Гете известен у нас несравненно более, чем во Франции, а может быть, и в Англии. Английская же литература, бесспорно, несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть, и в Германии. Но «Русский вестник» только плюет на эти факты, для него они не факты, потому что не подходят под его мерочку. Ему указывают на факт необыкновенного общечеловеческого стремления русского племени, указывают на одного из провозвестников этого стремления — Пушкина, говорят ему, что явление это неслыханное и беспримерное между народами, что оно может свидетельствовать о чрезвычайно оригинальной черте русского характера, что оно, может быть, есть главная сущность русской народности. Но «Русский вестник» не слушает, а говорит, что и самой-то народности нет…
А главное, чем виноват Пушкин, что его покамест не знает Европа? Дело в том, что и Россию-то еще не знает Европа: она знала ее доселе только по тяжелой необходимости. Другое дело, когда русский элемент войдет плодотворной струей в общечеловеческое развитие: тогда узнает Европа и Пушкина, и наверно отыщет в нем несравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский вестник». А ведь тогда стыдно будет перед иностранцами-то!..
Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.
«Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность, указывают, как на доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитие в России государственного начала.
По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду.
Велик·был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу.
Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»*; они пошли за преобразователем слепо и помогали власти для своих выгод. Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации. Конечно, невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло в народ живо и плодотворно, хоть бессознательно, хоть только в возможности. Но то, что было в реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом, с первого взгляда, одним чутьем своим, и так как — повторяем — не мог видеть хорошей, здоровой стороны ее, τо весь, одним разом от нее отшатнулся. И как стойко и спокойно он умел сохранить себя, как умел умирать за то, что он считал правдой!
Но идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. Кончилось тем, что мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы-то, может быть, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. Если не все сознали это, то многие сознают. Но по крайней мере все сознаются, что цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую евпропейскую форму, не лишила народности. «Русский вестник» бесконечно неправ, говоря, что «там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет», и «Отечественные записки» совершенно правы, отвечая ему на это:
«На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей глубине. Известен результат этих споров на Западе: крутой поворот европейских литератур к самостоятельности, к народности…»*
Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино. Может быть, «Русскому вестнику» это очень досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще всё в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности.
Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Всё уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней… В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед, и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе.
Настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное. Но без настоящего, серьезного, правильного образования тотчас же является в обществе феномен, в высшей степени вредный и пагубный: это наука вне науки. Так как жажда знаний и науки никаким образом не может уничтожиться в обществе, тем более в теперешнем нашем, то при малом развитии настоящего правильного обучения желающие учиться начинают учиться самоучкой, без системы, без правил, нередко выбирая себе учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомых с наукой. Таким образом ложные идеи прививаются к обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются в нем и приносят впоследствии, а иногда и в скорости, неприятные, вредные результаты. Совершенно напротив происходит при правильном, широком развитии образования. У настоящей науки есть свои приемы, предания, системы. Настоящий хранитель такой науки не дает молодому уму сбиться на ложную дорогу. Он предохранит учащегося от заблуждения, потому что действует на него всей силой науки, всем преданием ее, всем тем, до чего правильно и стойко дошел ум человеческий.
Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее — первый шаг всякого образования.
Когда-то «Отечественные записки» жестоко смеялись над нами, что мы, провозглашая о необходимости соединения общества с народным началом, несем ему ту же самую европейскую цивилизацию, которую сами же отвергаем.
Отвечаем:
Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения. К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем. Возвращение наше свидетельствует, что из русского человека цивилизация не могла сделать немца, и что русский человек все-таки остался русским. Но мы сознали тоже, что идти далее нам одним было нельзя; что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимы нам и все силы русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на правильный путь.
Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского не русским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество. Мы только отвергаем исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по мерке.
Но перейдем к народным книжкам и преимущественно к «Читальнику».
IV. Книжность и грамотность
Статья вторая
Пожалуй, можно выписать длиннейший ряд заглавий всех сочинений, составленных для народного чтения.* Мы хоть и обещали в прошлой статье поговорить о всех этих книжках особенно, но так как игра почти не стоит свеч, то и хотим прямо перейти к разбору «Читальника», как единственно сколько-нибудь серьезного проекта для народной книги. Мысль нашу о «народных книгах» читатель может увидеть и из этого разбора; следственно, он лишился только одного длинного перечня пустых книжонок, существующих теперь для «народного чтения». В ином книгопродавческом объявлении можно их все найти, а в лавках они все лежат особо, на отдельных столах, не исключая и неудавшихся книжек г-на Григоровича и «Красного яичка» г-на Погодина.
Есть у нас и еще один «народный» писатель, г-н Погосский. Он, правда, пишет преимущественно для солдат. Но о нем мы намерены говорить особенно. Г-н Погосский довольно исключительное явление в нашей «народной литературе». Об остальных же «народных» книжках можно сказать, что они числятся десятками, но помянуть их добрым словом нельзя. Об одном только они свидетельствуют: о необыкновенной потребности книги для народного чтения; но об этом свидетельствует и «Читальник», а потому перейдем уже прямо к «Читальнику».
«Читальник» не книга, а проект книги для народного чтения, сочиненный г-ном Щербиною и представленный публике в «Отечественных записках» нынешнего шестьдесят первого года, в феврале месяце. Статья называется «Опыт о книге для народа».
Взгляды автора, цельность его проекта, даже тон его статьи — всё это нам показалось очень замечательно, во-первых, уж потому, что умнее его проекта ничего еще у нас в этом роде и не было, сколько нам помнится. «Отечественные записки» замечают, что «Опыт» г-на Щербины и обсуждение этого «Опыта» в нашей литературе принесло бы пользу для составителей народных книг.* Ну и то дельно.
Г-н Щербина начинает свою статью тем, что сердится на одну брошюру для народного чтения, появившуюся в конце прошлого года под названием «Хрестоматии» и стоящую пять копеек серебром. Похвалив книжонку за то, что она не стоит более пяти копеек серебром, г-н Щербина уверяет, что ему «немыслимо», почему на первом плане ее напечатана сказка Пушкина о «Кузьме Остолопе»* и басня Крылова «Демьянова уха».
Впрочем, так как мы хотим разобрать весь проект г-на Щербины в подробности (сообразно, разумеется, силам нашим), то и выпишем из начала статьи его всю эту исполненную негодования тираду на недальновидных и простодушных издателей «Хрестоматии».
«Нам просто немыслимо, почему на первом плане ее напечатана сказка Пушкина „О Кузьме Остолопе“ или, далее, басня Крылова „Демьянова уха“. Не говорим уже о названии „Хрестоматия“, непонятном народу: это могло произойти и от некоторых посторонних причин, не зависящих от издателя; но зачем было помещать сказку Пушкина? Она имеет свой смысл и значение в кругу нашем, но народу она покажется дурашною и скомпрометирует некоторым образом в глазах его и самое учение грамоте. Попадись эта брошюрка в руки ученика воскресных школ, то хозяин его, степенный шорник, медник или слесарь, вероятно, со вздохом сказал бы: „Чему их там в школе учат!.. Только баловство одно…“
Мужик услышит подобную сказку и в кабаке, и на площади, мальчик — в своей мастерской и от дворника. Книга, так зря составленная, не внушит уважения к грамоте и не придаст ей серьезного и полезного значения… А к чему, например, послужит для народа знание басни „Демьянова уха“? Она, по содержанию своему, понятна только в литературном и артистическом быту, существования которого народ и не подозревает… Да и что в ней занимательного или поучительного собственно для народа?.. Что за большое зло добродушная назойливость тароватого Демьяна!.. Этого ли народу нужно? Это ли в нем вопиющая отрицательная сторона, которую нужно преследовать сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе?…* Подумаешь, что такая „Хрестоматия“ издана не в Петербурге, а где-нибудь в Аркадии — так от нее веет младенческим незнанием жизни, наивными понятиями, буколическим простодушием: так и ждешь, что увидишь на заглавном листке брошюры слова: издание Меналка или Тирсиса*…Понятно, что более распространяться о ней логически невозможно, но за всем тем появление ее наталкивает на мысль о книге для народа, которая в настоящее время, более чем когда-либо, оказывается крайне необходимою.
Опыт показал, что книги, писанные исключительно для народа, не удались и не распространились в нем. Можно думать, что это отчасти произошло и оттого, что не было принято практических мер к распространению их, но, главное, потому что Россия для всех нас terra incognita.[16] Мы относились к книге для народа только a priori.[17] Непосредственное наблюдение, жизнь с народом, проникновение его средой — были далеки от нас!..
„Мы любим“ по словам поэта:
И поэт после этого мог невольно воскликнуть:
Слова благородные и сильные; негодование тоже благородное. Некоторые из этих рассуждений, пожалуй, и очень дельны; замечание о том, что сказка о «Кузьме Остолопе» писана для господ и примется народом с пренебрежением, — очень верно, так что даже вчуже начинаешь сожалеть о благородных, но близоруких составителях «Хрестоматии». Но с рассуждениями о «Демьяновой ухе» мы уже не так согласны. То есть, собственно говоря, нам до самой «Демьяновой ухи» и дела нет, а дело есть до некоторых взглядов г-на Щербины, так сказать, до некоторых основных его воззрений. «Что за большое зло добродушная назойливость тароватого Демьяна! — говорит он. — Этого ли народу нужно? Это ли в нем вопиющая отрицательная сторона, которую нужно преследовать сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе?»
То-то и есть. «Демьянова уха», конечно, имеет у Крылова значение частное; а без этого значения, до которого народу и дела нет, она не только для него не интересна, но даже могла бы быть успешно заменена тысячью других басен. В этом мы совершенно согласны, да ведь главное-то не в том, а в том именно, как уверяет г-н Щербина, что в книге для народа и, по возможности, в каждой статейке такой книги надо преследовать разные «отрицательные стороны народа», преследовать их «сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе». А «Демьянова уха» ничего не преследует в народе, следственно, «Хрестоматия», поместившая ее на свои страницы, до того невинна, до того, видите ли, веет от нее «младенческим незнанием» жизни, наивными понятиями и буколическим простодушием, что так и ждешь на заглавном листке слов: «Издание Meналка и Тирсиса».
Мы вовсе не хотим здесь защищать ни «Демьяновой ухи», ни «Меналков и Тирсисов», хотя «сии последние» и были нам когда-то полезны и даже милы. Но для нас то важно, что нам нужно соли, и непременно «сатирической соли»; что непременно надобно «преследовать насмешками, ниспровергать предрассудки». Надобно, так сказать, карать… Учить надобно, главное, учить…
Опять повторяем: цель во всяком случае возвышенная и прекрасная и соответствует вполне благородству нашего духа. Просвещенные должны учить непросвещенных. Это обязанность, не так ли? Но вот что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не можем к народу без того, чтоб не посмеяться над ним «без сатирической соли», а главное, без того, чтоб не учить его. И вообразить не можем, как это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто? Конечно, мы нашими солями и насмешками прежде всего имеем в виду принести пользу (хотя иногда и сами-то хорошо не знаем того, над чем в народе насмехаемся. Ну, да это между нами). Мы только хотели скромно заметить, благо пришлось к слову, что прежде непременной, немедленной пользы народных книжек, кроме всех солей, искоренений и нравоучений, очень бы не худо было иметь в виду просто распространение в народе чтения, постараться заохотить народ к чтению занимательностью книги, и потому пусть вещь будет хоть и без соли, да если чуть-чуть занимательна и положительно невредна (надеюсь, поймут, что мы подразумеваем под словом: невредна), так и спасибо за нее…
— Придирка, да еще смешная! — скажут нам просветители. — Будто мы против занимательности, а главное, против распространения любви к чтению! да о нем-то мы и хлопочем! Только вместо «Демьяновой ухи» все-таки можно поместить пресмешную, презанимательную, а вместе с тем и преполезную, пренасмешливую вещь, «убивающую отрицательные стороны»… Таким образом, все цели будут достигнуты. Чем же дурна полезность! Или, может быть, вы против полезности, говорите вы нам, против искоренения предрассудков и разогнания мрака невежества?
— Ничуть, — отвечаем мы, — да и боже нас сохрани! Кому приятны невежества и предрассудки, да еще не просто невежество, а «мрак невежества»? Только вот что: исключительное напирание на невежество и предрассудки и исключительная забота поскорее как можно искоренять их в народе, по нашему мнению (в некотором смысле, разумеется), — тоже невежество и предрассудок. Не знаем, как бы нам яснее выразиться. Вот, например, мы знаем, что народ предубежден против нас, господ; до того предубежден, что даже хорошее-то будет слушать от нас недоверчиво. Ну, а мы, несмотря на это, все-таки хотим подходить к нему не иначе как власть имеющие, как те же господа, — одним словом, даже и не можем иначе поступить, то есть поступить пообиходнее, помягче, получше узнав, в чем дело. «Народ глуп, следственно, его надо учить» — вот только это одно мы и затвердили, и если уж господами нам предстать перед ним не удастся, то, по крайней мере, мудрецами предстанем… Впрочем, прервем на время наши рассуждения. Мы никак не можем отказать себе в удовольствии выписать тут же суждение самого г-на Щербины о некоторых наших прогрессистах и умниках и вообще о так называемых «знатоках» нашей народной жизни, готовящих себя в ее руководители. Это золотые слова!
«Иная книга и была составлена,* по-видимому, весьма умно, но в народе все-таки не прививалась оттого, что как-то невольно сбивалась на немца или француза, переодетого по-мужицки, а между тем на чувство простолюдина скорей подействовали переводы „Потерянного рая“ или „Франциля Венецияна“*, чем книги, писанные соотечественниками собственно для народа, его языком и почерпнутые из его истории и быта. На это стоит обратить внимание. Мы были неспособны инстинктивно, прямодушно и вместе с тем практически стать твердою ногою на его почву, поставить себя на его место, перенестись на степень его развития, сердцем и умом уразуметь его понятия, вкус и наклонности. В этом нам не помогли ни таланты, ни познания, ни наше европейское образование, и это оттого, что Россию знаем мы всего менее, что начало национальности почти не входит в наше воспитание, отсюда у нас недостаток практичности, физиономии, самодеятельности мысли. Примемся ли мы за самих себя, за явления, факты и данные нашей жизни, мы непременно посмотрим на них в какие-либо цветные стеклышки, купленные нами или в Пале-рояле*, или на лейпцигской ярмарке, или на отечественном толкучем рынке.
К тому ж мы сами, не замечая того, люди рутины по преимуществу, и у всякого небольшого периода времени есть своя рутина. Попробуй-ка кто отнестись без предубеждения, не с низкопоклонным анализом к какой-нибудь модной и находящейся во всеобщем употреблении идейке, или к какому ни на есть кумирчику, которым мы крепки в данную минуту он будет смешан с грязью. Зато уж когда прорвется — нам и гиганты нипочем, мы представляем собою, с одной стороны, раболепие, находясь в крепостном состоянии у идеек и кумирчиков, с другой — нетерпимость и деспотизм у нас тот, кто разнится с нами в убеждениях, — или умственно ограниченный, или недобросовестный человек. Слова нет, у нас много благородных идеалов, просветленных европейской наукой, но нет знания многих условий, самомалейших данных, духа и обстановки нашей народной и местной жизни. Мы в практической жизни идеологи, и это частию и потому, что тут не требуется большого труда. Мы не воспринимаем знания всецело, органически, не начинаем своего изучения ab όνο:[18] с нас довольно последних результатов мысли, верхушек знания. Большинство из нас не более как „начетчики“. У нас очень легко сделаться умниками и передовыми людьми, попасть в литературные или другие какие либо общественные деятели. У нас только и существуют что две крайности или свой собственный, доморощенный „глазомер“, или без условное, безотносительное, рабски-догматическое принятие какого либо учения извне. У нас еще считают образованным, благородным, современным и, главное, умным человеком того, кто приобрел кое-какие знания в абсолютном смысле, в абсолютной стороне и сущности вещей и кто, имея самый обиходный рассудок, формулирует их, при случае, и разводит модными фразами и европейскими общими местами. Притом же подобные добродетели даже и лично выгодны в наше время. Мы еще далеки от того убеждения, что истинный разум только у того, кто в каждый известный момент найдется и сможет понять относительную сторону и значение вещей — этот омут беспрестанно вращающихся, изменяющихся и возникающих данных, кто в состоянии схватить и невидимую связь их с идеалом, и связь между собою. Да, тут уж требуется самостоятельность, самодеятельность мысли и прочная крепость знания. Этого уж не у кого вычитать. Но что же делать! Таков общий и, может быть, не совсем зависящий от нас недостаток нашего воспитания…»
Истинно золотые слова, благородные и золотые! Тут что ни слово, то правда. То, что отмечено в этой выписке курсивом, — отмечено самим г-ном Щербиною. Мы было с своей стороны хотели тоже отметить некоторые наиболее меткие и правдивые его выражения курсивом, — да и не отметили, потому что тут что ни фраза, то и отмечай ее крестом. Так метко и истинно, что мы редко читали что-нибудь умнее этого суждения. Жаль только, что немного отвлеченно высказано. Мы и такие-то истины не умеем как-то высказать в более близком приложении к действительности, то есть и умеем, да у нас это не принято. У нас все более сбивается на теорию, на знание в абсолютном смысле, в абсолютной стороне вещей, говоря словами самого г-на Щербины. Далее, продолжая свою тираду, г-н Щербина даже увлекается слишком сильным гневом. Гнев его, конечно, благороден, но не совсем справедлив, потому что уж слишком силен. Вот что говорит г-н Щербина:
«Подобные, по-видимому, ничтожные явления невольно наводят на мысль о необходимости коренного преобразования в нашем воспитании и просвещении. Несостоятельность, пустота и бесплодность их очевидны: нет в них корней своей народности, себязнания, нет в них и строгой науки. Мы еще просты до того, что пустозвонство модных современных фраз принимаем за образованность, мы благонамерены до того, что слово „прогресс“ не сходит у нас с языка, а на самом деле это слово у нас не имеет никакого значения. Чтоб действовать, нужно любить, чтоб любить, необходимо знать то, что любишь. Мы же не знаем того. И вот, все наши благородные стремления что называется, „с ветру“, привились модою, приняты извне за догмат, по силе всеобщего авторитета, и самое чувство любви к нашему делу мы на себя „напустили“
„То кровь кипит, то сил избыток“ — ибо любить невозможно не зная».*
Г-н Щербина тут слишком строг. Не может быть, что тут одна «кровь кипит и сил избыток»*, чтоб мы чувство любви к нашему делу на себя «напустили». Мы не верим в строгость такого приговора. Настоящее движение идей будет иметь со временем свою строгую и беспристрастную историю. Тогда, может быть, дело объяснится поглубже и поотраднее. Если посмотреть на дело не так отвлеченно, а несколько попрактичнее, основываясь на некоторых фактах, то между фактами, противными нашему мнению, мы наверно найдем несколько и благоприятствующих. К чему «одно худое видеть»?* Можно беспристрастно смотреть на дело и не будучи заклятым оптимистом, смешным оптимистом, потому что у нас, при обнаружении каждого мнения, чрезвычайно боятся смешного. Оттого-то так и много людей, держащихся мнений более общих, взглядов наиболее разделяемых. Походить на всех — самое лучшее средство радикально избегнуть смешного. Мы вовсе не хотим этим сказать, что г-н Щербина тоже несколько наклонен придерживаться общих мнений, походить на всех. Взгляд г-на Щербины, действительно, разделяется большинством наших людей, наиболее благородных и передовых, a наши передовые, естественно, не могут в взглядах своих на наше поколение значительно разниться с думою Лермонтова, хотя эта дума предупредила нас четвертью столетия*. Конечно, между передовыми людьми еще не положено теперь принимать, чтоб в двадцать пять лет между нами произошел хоть какой-нибудь прогресс: но невозможно, чтоб его совершенно и не было. Мы уверены, что г-н Щербина не потребует от нас именных фактов для доказательства мнений наших. Представим ему хоть, например, один случай, — именно следующий: там, где сам г-н Щербина, в своей тираде, которую мы выписали, говорит: «мы не знаем», «мы не ведаем»… «мы не любим»… «мы чувство любви на себя напустили»… «у нас кровь кипит, у нас сил избыток», — это словцо мы у г-на Щербины, вероятно, везде поставлено для учтивости. Ведь не считает же он себя в самом деле в этой же категории, то есть нелюбящим, недозревшим, любить неумеющим, напустившим и проч., и проч. Иначе не стал бы он так горячиться, так укорять, презирать, давать такие советы. Ну, а если так, то вот уж один и есть, умеющий и любить, и ценить, и действовать…
— Но вы как будто неискренни, — скажут нам, — говорите как будто иронически, критикуете… Вот давеча вы, кажется, заметили, что ненадобно учить, что исключительное напирание на невежество и предрассудки и исключительная забота как можно скорее искоренять их в народе — тоже своего рода невежество и предрассудок. Какая дичь!
— То есть мы было и осмелились заметить, — отвечаем мы. — Но теперь даже и раскаиваемся, что сделали это замечание. Для нас оно ужасно щекотливо. «Попробуй-ка кто отнестись без предубеждения, не с низкопоклонным анализом к какой-нибудь модной и находящейся во всеобщем употреблении идейке, и к какому ни на есть кумирчику, которым мы крепки в данную минуту: он будет смешан с грязью». Вот собственные слова г-на Щербины, и мы именно чувствуем себя теперь в этом положении.
— Как! — закричат нам, — не учить народ, то есть распространять предрассудки, невежество, безграмотность!.. Обскуранты! Преступники!
Ужасно трудно иногда объясняться!
Боже нас сохрани! Мы вовсе не про то говорим, что учить не надо. Сами же мы только одно и кричим, только об одном и возвещаем: грамотность! грамотность! учить, напротив, надо. Только много, слишком много надо иметь, по нашему мнению, самоуверенности, чтоб думать, что народ так вот и разинет рот, слушая, как мы будем его учить. Ведь народ не совсем же стадо. Мы даже уверены, что он сам про себя смекает, а если не смекает, то хоть чувствует, что мы, господа, сами еще чего-то не знаем, идя к нему в учителя, так что нам самим прежде надо бы кой-чему у него же поучиться, а оттого и, действительно, не уважает и всю нашу науку, по крайней мере не любит ее.
Всякий имевший когда-нибудь дело с народом может проверить на себе это впечатление. Ведь чтоб народ действительно слушал нас, разиня рот, надо прежде всего это заслужить от него, то есть войти к нему в доверие, в уважение; а ведь легкомысленное убеждение наше, что стоит нам только разинуть рот, так мы и всё победим, — вовсе не заслужит его доверия, тем более уважения. Ведь он это понимает. Ничего так скоро не понимает человек, как тона вашего обращения с ним, вашего чувства к нему. Наивное наше сознание в нашей неизмеримой перед народом мудрости и учености покажется ему только смешным, а во многих случаях даже оскорбительным. Вот вы, г-н Щербина, кажется, совершенно уверены, что народ этого не заметит, то есть того необыкновенного нашего превосходства перед ним, с которым мы приступаем к составлению для него книги по вашей программе. Вы, г-н Щербина, любите народ — мы в этом уверены — и из любви к нему работаете. Но ведь любить-то просто мало; надо уметь выказать любовь. Вы вот и хотите выказать вашу любовь тем, что будете учить народ, хвалить его за добро и смеяться над его злом, особенно стараясь преследовать насмешкою его «отрицательные стороны» и проч., и проч. Э! мало ли кто его не учил и не учит, мало ли кто не смеялся над ним и не смеется! Ведь этим любви не докажешь, по крайней мере неудобно, да и надоест, наконец, столько учителей! А вдруг к тому же если народ узнает (а не узнает, так как-нибудь почувствует), что ведь и нас, обратно, он мог бы многому научить, а мы-то и ухом не ведем и не подозреваем этого, даже смеемся над этой мыслью и подступаем к нему свысока с своими указками. А научить-то народ нас мог бы, право, многому, вот хоть бы тому, например, как нам его же учить. Ведь между нами попадаются иногда удивительные учителя. Иной, знаете, этак от почвы-то давно уж отделился, еще прадедушка его администратором был, с народом никаких общих интересов не имел и за стыд почитал иметь: развитие-то у внучка вышло по преимуществу свысока, общечеловеческое, научно-теоретическое, истины пошли идеальные — одним словом, человек вышел благороднейший, но необыкновенно похожий на стертый пятиалтынный: видно, что серебро, а ни клейма, ни года, ни какой нации, французская ли, голландская ли, русская ли монета — неизвестно. Иной из таких станет вдруг фертом середи дороги, и ну искоренять предрассудки. Все эти господа чрезвычайно и как-то особенно любят искоренять предрассудки, например суесвятство, дурное обращение с женщинами, поклонение идолам и проч., и проч. Многие из них уже написали об этом целые трактаты, другие изучали эти вопросы в университетах, иногда заграничных, у ученых профессоров, по прекрасным книжкам. И вдруг этот «деятель» сталкивается наконец с действительностью, замечает какой-нибудь предрассудок. Он до того воспламеняется, что тотчас же обрушивается на него всем своим хохотом и свистом, преследует его насмешками и, в благородном негодовании своем, харкает и плюет на этот предрассудок, тут же при всем честном народе, забывая и даже не думая о том, что ведь этот предрассудок покамест все-таки дорог для народа; мало того, — что низок был бы народ и недостоин ни малейшего уважения, если б он слишком легко, слишком по-научному, слишком вдруг способен бы был отказаться от дорогого и чтимого им предмета. «Ты, барин, не смейся и не плюй, — скажут ему мужики, — ведь это нам от отцов и дедов досталось; это мы любим и это чтим». — «Тем скорее надо искоренять в вас этот предрассудок! — кричит просветитель, — значит, тем глубже он в вас сидит; вот я и плюю на ваш предрассудок, во-первых, потому, что он мои благородные чувства возмущает, а во-вторых, чтоб вам же, дуракам, показать, как я его мало ценю; вы и учитесь, на меня глядя» Ну что с таким делать? Ведь этот господин не только неспособен смотреть на предмет исторически, в связи с почвой и с жизнью, но и человеколюбиво-то смотреть неспособен, потому что и человеколюбив-то он теоретически, по-книжному. А уж о том, чтоб быть почтительнее к народу, с ним и говорить нечего. Ему дела нет, что этот предмет только для него одного ничего не значит, а для других он свидетель и знамение прошлой жизни, что он и теперь, может быть, вся жизнь и знамя этой жизни. Да что говорить! Мы ведь совершенно уверены, что г-н Щербина знает всё это гораздо лучше и основательнее нас. С его умом как не знать. Да ведь одного знания мало; не мешало бы быть и поосторожнее. А ведь слишком исключительное и поспешное желание — прежде всего «обучить», «осмеять насмешками» и «напасть на отрицательные стороны», тоже своего рода неосторожность. Не лучше ли подступить к народу на более ровных основаниях? Когда он увидит в вас поменее исключительного желания учить, то скорее вам поверит. Учить дело превосходное, да ведь не всякого учителя любят. А уж если на то пошло, чтоб учить и более ничего, так не лучше ли бы прямо, с первого раза объявить откровеннее: «Вот смотри, народ: я ученый, а вы все дураки. Вас учить пришел: слушайте и слушайтесь»? Ведь это, право, лучше. А то вы даже и тут подступаете с подвохом и даже скрываете, что вы исключительно хотите учить и больше ничего. Хитрите вы очень и — слишком уж считаете народ глупым; а ведь это для него обидно. Впрочем, вам наши слова, наверно, покажутся непонятными и даже придирчивыми. Мы и сами видим, что нечего рассуждать a priori. Приступим лучше прямо к разбору вашего проекта. А для этого нам необходимо сделать из вашей же статьи значительные выписки.
«Хрестоматия, о которой мы упомянули, как бы вызывает каждого думавшего о книге для народного чтения изложить и свой план издания ее. Разумеется, такая книга назначается только для известного времени, и потому на план ее должно смотреть не иначе как относительно… но, во первых, назовем ее:
„ЧИТАЛЬНИК“*
Предполагается, что эта книга должна распространиться и войти в народ, как некогда известный „Письмовник“ Курганова*, почему редакция „Читальника“ отчасти имеет его в виду по предмету содержания и рас положения статей в книге. Назначением для народа обусловливается также внешний вид, объемистость и дешевизна издания.
Относительно самого названия книги — „Читальник“ — можно сказать, по крайнему нашему разумению, то, что оно составлено в духе русского языка и простонародья, как например от „молитва“ — „Молитвенник“, от „поминать“ — „Поминальница“, от «песня» — „Песенник“, от „письмо“ — „Письмовник“ и т. д.[19]
К тому ж, как нам кажется, это название легко запечатлеется в народной памяти и сознании по форме своей и по внутреннему смыслу… Не называть же стать „Хрестоматией“ или прямо „Книгой для народного чтения и воскресных школ“: это было бы непрактически и показало бы недостаток знания народа не следует ему говорить, что, мол, эту именно книгу он читать должен.
Сперва следует сказать о внутреннем содержании книги и расположении статей, составляющих ее.
При составлении „Читальника“ издатель имеет в виду:
1) Основываясь на психологических соображениях, он так располагает отделы и статьи в книге, чтоб один отдел, развивая понятия и подстрекая любопытство в читающем, подготовлял его незаметно к другому отделу, прочтение другого отдела подготовляет к третьему и так далее, в психологической постепенности. Начиная со случаев повседневной жизни простолюдина, выраженных рядом басен, притчей, пословиц и т. п. (что всего ближе к его собственной личности), и переходя от них к предметам видимой, окружающей его природы (земле, воздуху, небу), он совокупностью этих и других статей последовательно приходит в конце книги к чтению о духовно-нравственных предметах: положим, от басни Крылова „Крестьянин в беде“ до стихотворения Хомякова „По прочтении псалма“.
2) Основываясь на практических соображениях, издатель, приняв к сведению, какие именно коренные недостатки существуют в народе, недостатки общие или свойственные в особенности только нашему народу, так и подбирает содержание статей в своей книге. Издатель, сверх того, должен замечать, какие именно знания необходимы в условиях народного быта и чем народ интересуется. В последнем случае ему укажут на это предметы, упоминаемые в народных стихах, песнях, легендах, в древнерусской народной письменности, из чего он увидит, что может быть любо народу в книге. Тут также необходимо издателю принять в рассуждение успех у народа книжек вроде „Битвы русские с кабардинцами“, „Милорда Георга“, „Анекдотов о Балакиреве“, „Старичка-Весельчака“, „Новейшего астрономического и астрологического телескопа“, „Мамаева побоища“* и т. п.
В статьях, назначенных для духовно-нравственного развития, берется содержание, выражающее гуманизм, или содержание, направленное против жизни спустя рукава, против бездушного своекорыстия, самодурства, безобщественности, неуважения к человеческой личности, к праву другого и тому подобного, замечаемого исключительно в нашем народе, как следствие независящих от него разных исторических обстоятельств. Все это по большей части и по возможности берется для книги представленным в образах, а не в дидактическом и догматическом изложении, принимая во внимание, что наш народ находится еще почти в эпическом состоянии.
Ясно, что вся книга должна быть направлена к двум главным целям: 1) чтоб доставить народу, при развитии понятий, познания, необходимые как воздух каждому человеку вообще и русскому простолюдину в особенности, 2) чтоб содействовать в народе к большему развитию нравственного человечественного чувства, в строгом соображении с духом, нравами, обычаями, историею, обстановкой и бытом русского простонародья. Притом же для народа нужно так составить книгу, чтоб было в ней: „чего хочешь — того просишь“».
И кроме того, вы приписываете, по поводу вашего мнения, что нужно говорить с народом простым, ясным и отчетливым языком, а не подделываться под тон народный и не стараться разговаривать маленько мужицким слогом, следующее:
„Всякая подделка в книге под народный тон, всякое балагурство, ломанье перед народом компрометирует как известную книгу, так и грамот вообще в глазах народа. Наш народ умен и тотчас смекнет, кто подходит к нему неспроста, а с подвохом; это в глазах его некоторым образом сбивается на переодетых по-мужичьи господ, собирающих народные песни, или на бар, читающих мужику-сиволапу наставление, которое, как обыкновение всякое наставление, всегда и всеми пропускается мимо ушей“.*
Остановимся хоть здесь. Вот видите, — вы сами против всякого подвоха и говорите об этом превосходно, особенно, где упоминаете про переодетых по-мужичьи господ и про наставления, пропускаемые мимо ушей. Теория у вас иногда выходит очень хорошо, но на практике вы тотчас же себе противоречите. Будто вы сами подходите без подвоха, будто всё, что мы теперь выписали, — не своего рода подвох, начиная с самого названия книги: «Читальник»? Почему «Читальник»? Потому, дескать, что в прежней литературе допетровского периода встречаются названия: «Травник», «Мысленник», «Громник», «Волховник», «Колядник» и проч. Но ведь то было в допетровской литературе. Тогда название это произошло наивно, тогда все эти книги (назначаемые и для сословия высшего) иначе и не назывались. Теперь же книги называются иначе; для всех иначе, а для народа так вот по-старому: «Читальник». Эта особенность может поразить народ: «Значит-де для нас и составлена особая книга, потому те книги, знать, не про нашу честь»… Ведь после такого рассуждения не прибавится уважения к «Читальнику», да и любящие чтение из народа захотят скорее барских книг, запрещенного плода, и будут уважать их не в пример больше своей обиходной, холопской, посконной книги. «Народ не заметит», — скажете вы. Вряд ли. А ну как заметит? Ну, да положим, не заметит; но согласитесь в том, что уж излишнее, исключительное, домелочи доходящее старание сделать книгу как можно больше народною даже самым названием ее — уж рекомендует отчасти всё издание. Мы уже предчувствуем его дальнейший характер и — не обманываемся. Сейчас же после этого вы говорите: «Не называть же стать (книгу) „Хрестоматией“ или прямо „Книгой для народного чтения и воскресных школ“: это было бы непрактически и показало бы недостаток знания народа: не следует ему говорить, что, мол, эту именно книгу он читать должен». Вот вы уж и обманываете народ, положим, с благородною и возвышенною целью; но не говоря уже о том, что самое это излишнее и мелочное старание ваше скрыть обман и наведет народ на догадку об обмане (название «Читальник» до того необыкновенное и маленько мужицкое,* что он тотчас догадается, потому что он гораздо умнее и догадливее, чем, кажется, вы предполагаете), — не говоря уже о том, — опять-таки это старание скрыть от народа истину и подобмануть его, выказывает, несмотря на всё благородство цели, что-то неприятное для народа. Ведь говорите же вы дальше в одном месте, что хоть статьи о физической природе и надо выбирать из детских книг, но так, чтобы не по чему было заметить, что первоначально это писано для детей. «Народ, с одной стороны, тоже дитя»*,— говорите вы. Рассмотрим далее вашу выписку. Вы пишете:
«Основываясь на психологических соображениях, издатель так располагает отделы и статьи в книге, чтоб один отдел, развивая понятия и подстрекая любопытство в читающем, подготовлял его незаметно к другому отделу, прочтение другого отдела подготовляет к третьему и т. д., в психологической постепенности».
Или:
«Основываясь на практических соображениях, издатель, приняв к сведению, какие именно коренные недостатки существуют в народе, — недостатки общие или свойственные в особенности только нашему народу, так и подбирает содержание статей в своей книге».
(Это так и подбирает — верх совершенства!) И далее:
«Издатель, сверх того, должен замечать, какие именно знания необходимы в условиях народного быта и чем народ интересуется…»
Кроме того, что довольно поздно замечать это уже при составлении самой книги, а надо бы знать пораньше, кроме этого — что я за особенный такой человек, подумает про себя простолюдин, что мне и знания-то надо особенные? Да я вот хочу знать, на чем свет стоит.
— Врешь! рано тебе это знать, — отвечает благоразумный опекун, — ты мужик, а потому и должен знать про свое, про мужичье. Вот мы тебе тут подобрали…
Ответ, конечно, благоразумный и справедливый, и мужик, конечно, должен с ним согласиться, но ведь слишком-то явно высказывать это обидно. Ведь известно, за что люди иногда обижаются. Вон у Гоголя один герой назвал другого поповичем. Тот хотя и действительно был попович, а неизвестно почему обиделся.* А за что бы, кажется?
Правда, мужик не догадается, вы ведь на это рассчитываете (я всё забываю). Но в самом деле: что за щепетильность, что за предосторожности! Ведь, пожалуй, бросится в глаза. Старанья-то подбирания слишком уж много. Право, поменьше бы с вашей стороны этой исключительной заботливости и даже какой-то подозрительности — и, ей богу, было бы лучше. Вы были бы тогда более запросто, более на равных основаниях к вашему будущему ученику-народу. — Ему бы вот что могло тогда прийти в голову: что вы для денег, для спекуляции составили вашу книжку, и самый-то подбор ваш, который все-таки в книге остался бы, хоть и в меньшей степени, — послужил бы тогда на пользу. Народ бы сказал: «Вишь хитрецы! как хорошо про всё расписали: заманивают, чтоб книжку раскупить!» И пусть бы он так думал, и прекрасно бы вышло, потому что книжку-то он тогда бы купил. Конечно, тогда уж народ не догадался бы обо всех наших великодушных стремлениях, о нашем бескорыстии, о том, что мы добровольно убыток приняли, чтоб только его научить; но ведь и к чему это? Во-первых, уж конечно, лучше приготовить себе награду на небеси, а во-вторых, если б народ догадался, то и книжку-то, пожалуй бы, не купил. Ведь народ глуп; пожалуй, еще махнет рукой на все наши труды да и скажет: «Та же опека!» Ведь он тоже ужасно как мнителен. Спекуляция лучше; в видимом желании выманить у народа деньги, право, было бы больше с ним панибратства и равенства, а ведь оно-то в этом случае и нужно, потому что народ это любит, и, уж конечно, скорее доверит своему брату, чем опекуну. А ваш «Читальник» точно какой-то заговор. По крайней мере, об заклад побьюсь, что книга, составленная по вашей программе, не имела бы успеха в народе, то есть, может, и распространилась бы опекунскими средствами, но сам-то народ ценить ее много не будет. Даже, сдается мне, будет смотреть на нее с некоторым страхом, особенно когда бы давали ему ее в награду за хорошее поведение и прилежание, приговаривая, как сказано у вас в программе, что он может ее потерять, истрепать и проч… Но об этом после.
Воображаю я себе иную нянюшку: сядет она в саду на лавочку с нянюшками других детей, и начнут все эти нянюшки про свое разговаривать, а чтоб попокойнее быть насчет детей, то им предварительно острастку зададут: «Слышь, Петя, вот ты здесь гуляй, а туда в кусты не ходи, там окаянный сидит, тебя в мешок возьмет и с собой унесет». Мальчишка слушает, и хоть он всего еще пяти лет, а, может, уж и понимает, что нянька-то врет, что никакого там нет окаянного, а, напротив, есть где поразгуляться, и маленьким своим умишком уже смеется над своей нянькой. Если б я был мужик, право, мне бы ужасно было досадно, что меня считают еще таким маленьким мальчиком и что обо мне целым секретным комитетом заботятся, чтоб меня на помочах водить: ей богу, мне бы тогда (на мужичьем месте) сдуру это представилось. Разумеется, этого бы ничего в сущности не было. Напротив, любили бы меня искренно, желали бы мне счастья, но мне-то бы тогда так представилось. Впрочем, я ведь только по себе сужу, и, может быть, потому так сужу, что я уж такое дурное и неблагодарное существо. Я бы и сам знал тогда (то есть на месте мужика), что учиться мне надо и что я еще ничего не знаю, да ведь опека-то надоедлива. Ишь: всё сообразно моим порокам и недостаткам так и подобрано, даже отмечено, какие мне знания необходимы и чем я интересуюсь. Это, дескать, знай, а это не знай, потому рано, обожжешься. Прибавлю еще, что, кроме всех моих дурных качеств, я еще ужасно мнителен и подозрителен и никак не могу теперь и на мужичьем месте представить себя без мнительности и подозрительности. Я бы очень задумался и непременно подумал бы про себя: «Так что ж что обожгусь? обожгусь я, а не ты, моя забота». Одним словом, поступил бы самым неблагодарным образом.
— Да ведь для твоей же пользы, сиволапый! — закричал бы мне благодетельный опекун.
Я бы, разумеется, не мог бы с таким ученым человеком говорить и тут же согласился бы с ним во всем. Даже, пожалуй, сам бы от себя прибавил из политики: «Посеки, батюшка; мужик балуется, так ты его и посеки», — а книжку все-таки бы не купил. В нутро бы она мне не пошла.
«Барин мой добрый человек, — продолжал бы я думать про себя, — и проказник большой. Возлюбил уж он меня очень за что-то, уж совсем и не знаю за что; кажется: ничего ему не сделал… так, вдруг, ни с того ни с сего возлюбил, ажно жутко становится. Вон книжку для меня сочинил… сколько труда-то небось принял, сердечный! „Поди, дескать, обучись, чтоб мне было с тобой о чем рассуждать и чтоб я мог с тобой дела иметь: а выучишься по одной книжке всем наукам, другую такую же дадут, тоже со всеми науками“. И имя ей „Читальник“: прямо, стало быть, объяснено, что читать ее надо. Вот тут-то и штука: у господ книги, а у меня еще только „Читальник“. Это значит, до настоящей заправской книги ты, брат, еще не дорос. И „Читальник“-то от тебя потихоньку, целым комитетом сочиняли, чтоб ты не догадался, что для тебя нарочно его сочиняют, да еще, чтоб милей тебе был этот самый „Читальник“, справлялись, разыскивали и в рассуждение брали: почему тебе нравится „Милорд Георг“ да „Битва русских с кабардинцами“. Ишь сколько об тебе заботы было, о простом мужике! Чувствуешь ли это? — Спасибо господам, — продолжаю я думать про себя, — хорошо, что я вот, сиволапый мужик, ни об чем об этом не могу теперь догадаться; потому где ж мне, без университетского образования, об этом догадаться? А то, пожалуй, при университетском-то образовании, я бы и отмочил такую штуку опекунам: „Неужели, дескать, вы, православные опекуны, думаете, что уж если я не знаю, кто такой граф Кавур, или про то, что в болотной воде водятся инфузории, так уж совсем я и глуп и уж больше ничего не пойму? Неужели ж вы вправду думаете, что народ не поймет, что вы хоть и ужасно хотите обучить его чему-то, но в то же время и ужасно хотите скрыть от него что-то, по той причине, что он до того не дорос? Нет, подлинно счастье, что я не получил университетского образования (это я всё продолжаю про себя думать), и потому ничего этого теперь не понимаю. А то бы, при университетском-то образовании, помянул бы вам одно словечко князя Талейрана: „Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle! “*[20] Ну да ведь вы знаете анекдот лучше меня, мужика»…
Написали мы все это теперь и сами испугались: что, если рассердятся на нас читатели и закричат нам: «Неужели вы все эти „хитрости“ признаете за г-ном Щербиной? Неужели он не хлопочет об настоящем образовании народа? Неужели ж необходимою осторожность его вы признаете за умышленно-злонамеренную скрытность? Да! так всегда бывает у нас в литературе! Чуть только благородно мыслящий и ищущий добра человек примется за какое-нибудь полезное дело, тотчас же заскрипят на него рецензенты, как ищейки, начнут искать недостатков, начнут искать, к чему бы придраться, что бы такое обругать, — и вовсе не для общественной пользы, а просто рука зудит, хочется колких слов насказать, свое остроумие показать, без дела свое знание дела выставить. La critique est aisée, mais l'art est difficile.*[21] Напишите-ка лучше сами свой проект да прямо делом и разубедите нас, а не голословными рецензиями. Тогда, может, обратят и на вас внимание»…
Вот этих-то криков мы и боимся. Главное, боимся того, чтобы не сказали, что мы хотим обругать проект г-на Щербины. В том-то и дело, что нет! Искренно говорим, что мы не виноваты ни в чем перед г-ном Щербиной и, при взгляде на превосходный труд его, кроме самой искренней благодарности, и чувствовать ничего не можем. Мы только невольно перенесли себя в темную и недоверчивую массу народа, и нам показалось, что всё, что мы выше написали, может каким-нибудь процессом прийти ему на ум, так что он встретит книгу г-на Щербины (когда он издаст ее) не с надлежащей симпатиею, а даже, может быть, с недоверчивостью. Повторяем: нам это так показалось, а ведь мы, разумеется, можем ошибиться (чего в настоящем случае и желаем себе). Приступим же опять, оговорившись несколько перед публикой, к продолжению подробнейшего и обстоятельнейшего изложения всего проекта г-на Щербины. Весь этот проект «Читальника» — прелюбопытнейшая вещь, по цели своей необыкновенно значительная. Об чем же более значительном и занимательном и говорить, если уж это не занимательно? Предупреждаем заранее: все это так умно, так хитро составлено, так подобрано, подведено, рассчитано, разлиневано, до таких мелочей обдумано и предусмотрено, что нет возможности не признать самого совестливого труда в проекте г-на Щербины, нет возможности не благодарить за этот труд и даже не полюбоваться невольно этой отделкой, отчеканкой труда, его последовательностью и отчетливостью. Впрочем, еще раз повторяем: если нам что и не нравится в этом проекте, если что и смущает нас, так именно — это излишняя старательность; именно то, что это так излишне умно, излишне предусмотрено и разлиневано; то есть не нравится именно то, что уж всё это слишком хорошо: впечатление, конечно, нелепое, но в природе иногда случающееся. Даже самые психологические основания проекта, и те точно циркулем вымеряны, точно из души нашего мужичка извлечен квадратный корень*. И всё это так спокойно, с таким полным убеждением извлечено… Но к делу.
Проект разделяется на собственно проект и на предварительные соображения. Мы уже представили начало этих соображений, этих основных воззрений, на которых зиждется все здание проекта, а вместе с тем представили и впечатление, произведенное на нас этим началом. Далее г-н Щербина, продолжая свои соображения, говорит, что от книги народ менее всего требует паясничества и скоморошничества, как-то: завитков, прибауток, простонародных шутливых речений и проч., и что печатное слово для него как бы святыня, а не гаерский балаган, и что, наконец, ему по сердцу так называемый высокий чувствительный слог, вследствие чего «Битва русских с кабардинцами» и расходится у него в тысячах экземпляров. Сделав это превосходное и даже довольно верное замечание (хотя и не всегда, потому что настоящая остроумная шутка тоже понимается народом и он отлично способен оценить ее), г-н Щербина предлагает помещать в «Читальник» статьи серьезные и важные, вроде «Покорения Казани» из «Истории» Карамзина*. И чтение важное, и познание одного из событий отечественной истории у народа останется. Но на фантастическое и сверхъестественное г-н Щербина обрушивается всем своим гневом и решительно изгоняет из «Читальника» все «фантастическое», потому что у народа и без того много суеверий (и несмотря на то, замечаем мы от себя, что народ страшно любит фантастическое и с жадностью читает его или слушает, как читают). По-нашему, всё это прекрасно, но опять то же, что и прежде, то есть страшная заботливость, страшная разлиневанность, в том что надо и чего не надо, подозрительность и опасения, доходящие до болезни. «Не подходи, не подходи! ты с ветру!» — кричит Обломов.* Конечно, книга для народа авторитет, автос-эфа, как выражается г-н Щербина*, но ведь и не такой же народ ипохондрик, как ипохондрик г-на Писемского — всего боится: дунет ветерок, так сейчас и смерть*. Фантастического, конечно, отнюдь не надо. Но г-н-то Щербина смотрит на свою «книгу для народа» уж слишком преувеличенно, точно воображает, что в ней начало и конец всей народной будущности, его образование, его университет, его счастье на тысячу лет вперед; воображает, что если народ чуть-чуть прочтет и услышит хоть одну строчку неладную — тут уж тотчас ему и капут. Г-н Щербина до того мнителен, что даже басен Крылова не хочет назвать баснями, а предлагает прямо выставить одно название, например: «Крестьянин и работник», «Два мужика» и подписать под ними «Крылов». Все это на том основании, что басня будто бы принимается в народе как пустяки и что «это даже можно заключить из пословицы и поговорки: „Соловья баснями не кормят“ или „бабьи басни“». Ну уж это слишком, да и басни-то вовсе не в таком неуважении у народа. Сколько их между ним ходит, да еще преостроумных, с намеками. Ведь народ понимает, что такое басня. Иначе вы хоть и скроете от него, что это басня, но уж одним стихотворным рассказом собьете его с толку. В этом даже было бы больше опасности. В самом деле, если б народ был до такой степени недоумок, как вы о нем предполагаете, то, конечно, остановился бы на стихах: скоморошничество, дескать, не по-человечески писано, в рифму. Вы предполагаете даже выбирать басни, где действуют люди, а не животные. «Говорящие животные и деревья покажутся народу бахарьством, морочением, чем-то шутовским, в ущерб кредиту и авторитету книги»*,— говорите вы. Будто? Да разве басня-то не из народа вышла? Народ разберет, что это форма искусства, не беспокойтесь. Право, он не так глуп и не до такой степени ограничен, как вы предполагаете.
Далее г-н Щербина предполагает изложение нужных и общелюбопытных предметов, особливо из физической природы, но с тем, что издатель книги, хотя и может почерпать все эти изложения из детских книг, написанных для старшего возраста, но должен избирать такие места, чтоб не по чему было заметить, что писано для детей. Ибо «народ, с одной стороны, то же дитя», — замечает г-н Щербина.
Какую щепетильную обидчивость сами вы предполагаете в народе и как вы боитесь его! Какая микроскопическая предусмотрительность!
Далее должен следовать отдел исторический. «От народной исторической песни и легко понятного по языку сказания летописи должно постепенно и последовательно перейти к местам, почерпнутым из отечественных историков»*.
Во-первых, к чему такая осторожная постепенность и последовательность? Что вы, в университет, что ли, народ готовите? Ну, а если он возьмет да развернет книгу наразбив и «отечественных-то историков» прочтет прежде летописей и народных песен? Что ж он, тут же сейчас и пропадет от этого? Все ваши труды тогда пропадут! Разве уж на заглавном листе книги напечатать, что книгу сию нельзя читать наразбив. Всего бы лучше через земское начальство действовать и начальством приказать непременно читать сподряд, в строгой постепенности и последовательности, начиная от народной исторической песни до отечественных историков включительно, и т. д.
Конечно, народу не по душе отрывочность, но для чего непременно приводить в «Читальнике» подлинную грамоту о призвании на царство дома Романовых? К чему подлинную грамоту? Если вам хочется рассказать народу это событие, то можно рассказать своими словами, теперешним языком, а не употреблять в дело грамоту, собственно, потому, что «она написана языком народным (каким это народным?), в смешении с церковнославянским, уважаемым народом». Для чего это? И почему церковнославянский язык будет милее народу? разве тем, что непонятнее?* Но г-н Щербина замечает:
«Подобного рода состав книги способен воспитывать народ на положительной, коренной почве его народности и истории, развивать и направлять его здорово и органически, чего, к сожалению, недостает и нам, освещаемым даже солнцем с Запада».*
Вот то-то и есть, что вы, кажется, всего разом хотите достигнуть одним вашим «Читальником»: и воспитания, и образования, и развития народного — и всё это одной вашей книжкой. Вы не для того составляете ее, чтоб просто доставить приятное и полезное чтение народу. Нет, вы разом хотите достигнуть чуть не университетского образования. Мы не клевещем на вас: это просто в глаза бросается. Иначе не стали бы вы так щепетильничать, выдумывать такие последовательности, чтоб одно выходило из другого и из себя выпускало третье. Не боялись бы, что народ прочтет одну статью прежде другой. Нет, для такой цели не составляются «Читальники», и непременное желание достичь этой цели невольно придаст вашей книге педантизм, сбивчивость и, главное, нестерпимую сушь.
Мы вовсе не против ваших стремлений; мы восхищаемся вашим умом и вашей старательностью искренно. Вот вы, например, далее требуете, чтоб в «Читальник» вошли и юридические статьи, для просветления народа и даже для поднятия его нравственности, и медицинскую статью «гигиенического содержания», на том основании, что у нас слишком много «мрет и калечится понапрасну народа от совершенного отсутствия самых простых, общих и необходимых гигиенических сведений».* (Из этого следует, что народ, прочтя «Читальник», тотчас же перестанет умирать и «калечиться понапрасну», ибо будет уже иметь гигиенические сведения. Мы не глумимся, мы понимаем, что и сами вы не рассчитываете на такое немедленное влияние на народ вашего «Читальника», но как будто вы ожидаете этого влияния: такое именно впечатление производит «Читальник»). Далее у вас предположено поместить календарные сведения, словарь иностранных слов, вошедших во всеобщее употребление (NB: когда еще множество русских слов, употребляемых в образованном обществе, неизвестно народу), и наконец, к довершению всего, вы предполагаете растолковать народу: «какие есть науки?»*, то есть разом растолковать ему сущность всех наук на свете.
«Заключительным отделом книги, — говорите вы, — будет отдел нравственного содержания, к последовательному и психически постепенному восприятию которого будет предпослан отдел беллетрический, нечто вроде антологии для народа, в которой, впрочем, по известным практическим соображениям, не может быть принята исключительно эстетическая цель. В пьесах, местах и отрывках этого отдела, под более или менее художественной оболочкой, всегда будет заключаться или какое-либо историческое и другого рода сведение, факт или гуманическая и духовно-нравственная идея, нужная в особенности нашему народу».
Всё это прекрасно и полезно, умно и великолепно; одно предшествует другому, одно истекает из другого, одним отделом «душа простолюдина» подготовляется к другому отделу и т. д. Чего лучше? Начинается формулирование вашего проекта. Вы говорите:
«Чтоб яснее представить содержание, расположение, организм книги, необходимо здесь сформулировать ее в отделы, чем яснее можно усмотреть существенные свойства логики, практических и психологических соображений, которые издатель кладет в основу состава своего „Читальника“. Здесь разумеется, указаны будут все отделы и некоторые, на первый случай, статьи в них».*
Начинаются отделы.
Первый отдел. «Настоящее жизни. Житейская мудрость, собственно практика жизни обиходной, изображенная в художественных формах».
Под таким пышным заглавием помещаются басни Крылова, Хемницера, Дмитриева, Измайлова, сказки вроде «О правде и кривде» (NВ: можно бы и позанимательнее и посовременнее), далее из «Памятников старинной русской литературы» Н. Костомарова, «О мудреце Кериме» Жуковского, небольшие рассказы Даля, как-то: «Ось и чека», анекдоты (самые незамысловатые), притчи вроде «Притча о хмеле»*, из «Памятников» Костомарова, народные пословицы, самые стереотипные (то есть, вероятно, те, которые народ и без «Читальника» знает), загадки для гимнастики ума, изречения и т. п.
«Этот отдел помещен в начале книги с расчетом, чтоб завлечь на первый раз читателя художественной приманкою поучительной мысли, с первого раза понимаемой, непосредственным простодушием формы, любопытною занимательностью, целостною краткостью выражения мысли и факта и вместе с тем в неискушенную душу заронить нравственно-практические правила жизни в повседневных ее явлениях».*
Ну чем это, кажется, не отдел? Народ зачитается, да и только. Правда, на первый случай к чему бы, кажется, столько «памятников» старинной русской литературы? Что-нибудь посвежее было бы приятнее. Но как вспомним, что без этого народ «не будет воспитан на положительной, коренной почве его народности и истории», то и увидим, что памятники эти необходимы.
Все это отлично хорошо; но всего лучше мысль г-на Щербины, что как только народ прочтет этот первый отдел, то тотчас же в неискушенную душу его заронятся нравственно-практические правила жизни в повседневных ее явлениях, а вместе с тем и приготовят ее ко второму отделу. С этим-то расчетом и помещен между прочим этот отдел, как уверяет сам г-н Щербина. Ну как же не поблагодарить за такое старание и не пожелать успеха?
Кстати, заметим кое-что о «неискушенной душе» народа, благо к слову пришлось. Вообще душу народа как-то уж давно принято считать чем-то необыкновенно свежим, непочатым и «неискушенным». Нам же, напротив, кажется (то есть мы в этом уверены), что душе народа предстоит поминутно столько искушений, что судьба до того ее починала и некоторые обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью, и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам.
Все эти «отделы» — решительные «подвохи» и «подходы».
За этим первым отделом следует еще пять отделов, в стройном порядке, один вызывая другого. Но мы, для короткости, расскажем об них своими словами.
Второй отдел, это — прошедшее жизни, то есть исторические сведения, картины, рассказы, статьи географического содержания. Он начинается русскими историческими песнями, затем следуют места из летописей, хронографов и проч. Затем Акты и грамоты. (Вы не верите? — решительный университет!) Затем… Как вы думаете, что? «Слово о полку Игореве» в переводе Дубенского!* Это уж из рук вон! Да чем может быть занимательно «Слово о полку Игореве» теперь народу? Ведь оно занимательно для одних ученых и, положим, для поэтов; но и на поэтов-то наиболее действует древняя форма поэмы. Народ не имеет ни малейшего понятия об истории: что ж поймет он в «Слове»? Ведь он найдет в нем одну смертельную скуку да бездну непонятного, необъяснимого. Вот что значит жертвовать всем для ученого образования народа! «Иначе как бы он воспитался на положительной коренной почве его народности и истории?» Точно не было для этого чего-нибудь несравненно занимательнее и не так странного!
Затем следуют исторические стихотворения русских поэтов, как-то: «Малое слово о Великом (Петре I)» Бенедиктова* и проч. Нам кажется, лучше бы сперва сообщить что-нибудь народу о Петре, а потом уже воспевать его.
Отсюда переход к историческим рассказам и местам из писателей отечественной истории (ну, это хорошо), потом биографии: Ермак, Минин, Ломоносов, Кулибин; потом статьи русско-географического содержания: Петербург, Москва, Киев, Сибирь и проч. Наконец, рассказы из всеобщей истории и географии (в гораздо меньшем количестве статеек), вроде: Александр Македонский, Наполеон, Колумб, Царьград.
Этим кончается второй отдел и наступает третий: «Видимость», то есть среда жизни, окружающая человека природа.
В этом отделе: о земле, о воздухе, о небе и — об инфузориях!* К чему смущать народ без нужды инфузориями? К чему прежде времени все эти тайны немецкой науки? К чему это нестерпимое желание учить, — поскорей, всему научить? Не любит народ таких учителей, прямо становящихся перед ним его воспитателями и владетелями-просветителями. Не в инфузориях дело, а в этом желании скороспелого обучения. Народ исторически наклонен к недоверчивости, к подозрительности; не поверит он доброму в ваших желаниях и не полюбит вас: а ведь прежде всего надо бы стараться заставить себя полюбить. Сушь, предписания, ученость, система, инфузории; это, дескать, знай, это не знай — вот ваш «Читальник»!
В IV отделе — энциклопедия и справочное место. Тут помещено: какие есть науки? Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка (что необходимо, замечает г-н Щербина, при чтении газет и в повседневном быту… для народа-то? и теперь?)*. Затем излагаются юридические сведения, необходимые для крестьянина, затем гигиенические, затем календарные, одним словом — употреблены решительно всевозможные средства, чтоб народ немедленно спросил: зачем все другие книги не так написаны, а эта вот так написана? и особенно задумался бы над этим.
За этим IV отделом начинается вторая часть книги. Во второй части являются материалы для духовно-нравственного развития. Предполагается, что она будет напечатана более емким, убористым шрифтом. Начинается она
V отделом, «Антологией для народа», который, кажется, самый лучший отдел во всей книге, хотя бы по тому одному, что всех занимательнее. В нем, видите ли, будут «систематически» (непременно систематически) расположены целые пьесы и места из народной словесности и русских писателей, способные развивать и направлять народ гуманически.*[22] Одним словом, всё будет расположено с ужимкой, да и самый отдел этот устроен тоже не сам по себе, а чтоб «подготовить» читателя к последнему, заключительному в книге отделу. В него входят песни и стихи, но более проза. Для характеристики отдела обозначаются даже некоторые из выбранных мест и стихотворений. Замечено тоже, что из народных песен должно помещать только те, которые «выражают гуманическое чувство, или горько-осуждающие какой-либо коренной недостаток в народных нравах и обычаях». Вот подход, так подход! Даже и песни-то веселые на запрещении.
Вслед за тем и помещаются: Кольцова — как вы думаете, что? Уж разумеется: «Что ты спишь, мужичок» или «Ах, зачем меня силой выдали»*.
Песни, разумеется, прекрасные, полные самой свежей поэзии, бессмертные произведения Кольцова. Да ведь разве мы здесь песни хулим?
Ну уж, разумеется, затем и Никитина стихотворения, и графа А. Толстого, и Цыганова, и Шевцова, и Некрасова — все подобранные под один тон; а «также стихотворения в этом роде» Пушкина, Языкова, Майкова, Мея, Берга и проч., а вместе с тем считается необходимым поместить и Лермонтова «Песню про купца Калашникова»… неужели не догадались зачем? А затем, что «в ней выражено чувство чести по отношению к жене, чего большею частию недостает нашему простонародью»*.
Затем переводы в стихах разных сербских, болгарских и проч. песен; затем проза: народные славянские рассказы и предания из книги Боричевского*, из памятников старинной русской литературы Костомарова; анекдоты из жизни Петра Великого, Суворова, Наполеона; отрывки из романов Загоскина, Лажечникова, из рассказов Даля, из военных рассказов Л. Толстого.
Это, разумеется, очень хорошо.
И затем переход к VI и последнему отделу. Этот отдел представляет «чтение для необходимых духовных потреб и высшего развития (собственно в народном смысле)». Он состоит из частей «догматической», «исторической», «практически-нравственной» и «духовно-нравственной» и заключает в себе, для примера, следующие вещи:
Символ веры, молитву господню и десять заповедей. (Должно быть напечатано церковнославянским шрифтом, для ознакомления народа с церковнославянским шрифтом и «чтоб придать книге более веса и авторитета»).*
Затем: рассказы из священной истории, из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова», места из Евангелия, переведенного на русский язык, последние дни Иисуса Христа из книги Иннокентия*, места из объяснений на литургию, из сочинений Гоголя и других*, из «Начертания христианских обязанностей» Кочетова*, из поучений Иродиона Путятина*, слово о пьянстве Тихона Задонского*. Затем следуют статьи «церковно-исторического и священно-географического содержания», как-то: принятие христианства Константином Великим*, принятие христианства на Руси Владимиром*, житие некоторых мучеников, житие св. Ольги, Кирилла и Мефодия, Нестора-летописца*. Описание святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Афона* — извлечение из путешествий Барского, инока Парфения, Муравьева* и проч. Затем стихотворения духовно-нравственного содержания и даже ода «Бог» Державина.
Опять-таки повторяем: все это, разумеется, превосходно и отлично подобрано. Автор в заключение говорит:
«Так представлялись пишущему эти строки содержание и строй книги для народа и воскресных школ. Все, что написано здесь, взято из непосредственного наблюдения и опыта в среде народной и из многообразия относительных данных и явлений насущной, практической жизни, возведено в мысль, которая, может быть, еще далека от надлежащего требования, но зато высказана по крайнему разумению и убеждению нашему. Никто не может отрешиться вполне от своей среды, от своего воспитания, и потому и статья эта, вероятно, имеет свойственные ей недостатки».*
Что сказать на это? Мы, кажется, уже всё высказали. Припомним, впрочем, здесь несколько слов, сказанных об «Читальнике» нашим фельетонистом, в майском номере нашего журнала. Нам кажется, что эти несколько строк могут послужить хорошим заключительным словом и к нашей теперешней статье.
«… Из смеси двух старых жизней может выйти новая. Открывайте свою жизнь мужикам и изучайте жизнь их, и, конечно, от этого будете ближе к желаемому нами примирению, ближе к уничтожению сословной нашей раздельности; но передавайте народу тайны жизни нашей во всей их полноте, оставляя на его выбор худое и хорошее, и тогда он помирится с вами, потому что поверит вам: иначе он зачувствует сознаваемое вами превосходство над ним и будет последнее горше первого. Нужно уважить вкус и любопытство народа; нужно ему дать то, чего он просит, чего хочет он, и не раздражать его статейками экономического содержания об артели, труде, домоводстве… Если мы своих жен не можем еще заставить интересоваться такими статейками, то с какого горя станет их читать мужик, он, которому труд еще, быть может, противен по некоторым историческим воспоминаниям? Пусть для него чтение будет сначала забавою, наслаждением; потом он из него выжмет пользу. Свобода! свобода на первом месте! Зачем же навязывать?»*
Но знаете ли что? Я ведь не кончил статью мою. Мне вдруг представилось, что я сам составляю «Читальник» для народа, и вместе с тем мне пришло в голову столько соображений, что ужасно захотелось сообщить их всем будущим составителям «Читальников». Разумеется, это только некоторые соображения. Я вовсе не претендую на такую отделку и отчеканку работы, каким отличается «Опыт» г-на Щербины.
Я бы вот как сделал.
Прежде всего я бы поставил перед собой на первый план следующую мысль (которую признал бы за основную и которой следовал бы неуклонно). Именно:
1) Что прежде чем хлопотать о немедленном образовании и обучении народа, нужно просто-запросто похлопотать сначала о быстрейшем распространении в нем грамотности и охоты к чтению.
2) Так как хорошая книга чрезвычайно развивает охоту к чтению, то надо хлопотать преимущественно о доставлении народу как можно более приятного и занимательного чтения.
3) И уж потом, когда народ полюбит читать книги, тогда уже и приняться за образование и обучение его. И хотя в первых «Читальниках», изданных для народа, никто и немешает мне подбирать статьи так, чтоб они принесли народу всевозможную пользу, но все-таки занимательность стояла бы у меня на первом плане, потому что прежде всего нужно достичь одной цели, а потом уже другой, то есть сначала распространить в народе охоту к чтению, а потом уже приступить к его обучению; ибо гоняться за двумя зайцами разом не следует и одно могло бы повредить другому.
Примечание. Разумеется, нечего и сомневаться в том, что упорное и усиленное желание прежде всего учить и перевоспитывать повредит книге в ее занимательности и приятности для народа; ибо она будет слишком выделанная, слишком подобранная, суха до педантизма, со статьями скучными для народа (как, например, «Слово о полку Игореве», помещенное в «Читальнике» г-на Щербины для того, «чтоб воспитывать народ на положительной и коренной почве его народности»… другими словами, чтоб народ сделать народным), с отделами, помещенными с расчетом, «чтоб завлечь на первый раз читателя художественною приманкою поучительной мысли», и расположенными так, чтоб один отдел выпускал из себя второй, а второй — третий… Все это, естественно, придаст книге чрезвычайную тяжеловесность, обнаружит перед народом ее заднюю мысль и этим может ей очень повредить с первого раза. Одним словом, все это мы уже высказали. И потому, право, было бы не грех на первый раз пожертвовать ученостью занимательности.
Скажут мне, пожалуй, умные люди, что в моей книжке будет мало дельного, полезного? будут какие-то сказки, повести, разная фантастическая дичь, без системы, без прямой цели, одним словом, тарабарщина, и что народ с первого разу мою книжку и от «Прекрасной магометанки» не отличит.
Пусть с первого разу не отличит, отвечаю я. Пусть даже задумается, которой из них отдать преимущество. Значит, она ему понравится, коли он ее с любимой книгой будет сличать. Требовать от него тотчас же точной критики невозможно. Но ведь он книжку мою полюбит, заметит, чье издание (потому что я непременно выставлю это на обертке), и когда я издам вторую такую же книжку, с обозначением: «издание такого-то, выпуск второй», то он, не обинуясь, с удовольствием купит и вторую книжку, помня занимательность первой. А так как я все-таки буду помещать хоть и любопытнейшие, завлекательнейшие, но вместе с тем и хорошие статьи в этой книжке, то мало-помалу достигну следующих результатов:
1) Что народ за моими книжками забудет «Прекрасную магометанку».
2) Мало того, что забудет; он даже отдаст моей книжке положительное преимущество перед нею, потому что свойство хороших сочинений — очищать вкус и рассудок, и это свойство естественное; потому-то так я на него и надеюсь. И наконец,
3) вследствие удовольствия (преимущественно удовольствия), доставленного моими книжками, мало-помалураспространится в народе и охота к чтению.
Как вы думаете: важных или неважных результатов я таким образом достигну? Заохотить к чтению — я считаю первым, главнейшим шагом, настоящей целью; а ведь в способности и уменьи сделать первый шаг и заключается, по-моему, настоящая практичность и деловитость всякого полезного деятеля. Нам не до жиру, а быть бы живу; только бы первое-то дело сделать, а жиру-то потом наживем. А как это сделать, не стараясь удалить от народа всякую мысль о нашей господской опеке? Вы, конечно, справедливы, что для мужика книга важное дело; от книги он требует серьезного, поучительного. Это так. Но господского-то обучения он не любит; не любит, чтоб глядели-то на него свысока, чтоб в опеку его брали даже и тогда, когда он полное право имеет сам по своей воле и охоте поступать. «Вот, дескать, мужичок, поучись по моей книжке; что „Магометанку“-то читать! это дрянь; — вот у меня, для твоего развлечения, в конце книжки из романа Лажечникова выписано, из „Ледяного дома“, так уж не „Магометанке“ чета; „Ледяной дом“! Ну слыхал ли ты, чтоб была когда такая диковинка: дом изо льда? Слог-то какой! А то я слыхал, что ты про божественное любишь читать; ну вот тебе тут и об Афоне написано, как там иноки, божий люди, живут, молятся. Ну вот и поразвлечешься, и поиграешь этими статейками после серьезного обучения в первых отделах. А то смотри: и игры-то у тебя какие неблагонравные. Вот я слышал, ты еще до сих пор в бабки играешь, а я тебе вот журнал „Учитель“ принес; посмотри, какие здесь все благонравные и поучительные игры: вот уточки нарисованы, — видишь, плавают? а вот тут охотник их застрелил; вот подписана и загадка: плавало на воде пять уточек, охотник выстрелил, трех убил, много ль из пяти останется?* ну вот ты и угадай, милое дитя… то бишь, милый мужичок, — чем в бабки-то играть». Я не буду тоже уверять себя при составлении моей книги, что мужик не узнает, к чему я клоню, не догадается об опеке. Я знаю наверно, что у него есть такое чутье, что он все ваши подходы тотчас узнает, а не узнает, так почувствует их. Я не стал бы также прибегать к начальству для распространения моей книги. Ведь от этого, право, недалеко до того, что через начальство начнут, пожалуй, и вытеснять из употребления все прежние негодные книжки, которые читает народ. А что, в самом деле, чего смотреть-то: собрать бы их все да сжечь!* Нет, кроме шуток, как такой умный человек, как г-н Щербина, может рассчитывать при распространении своего «Читальни-ка» на следующие средства:
«В видах средств распространения книги приглашать чрез газеты, как благотворителей и ревнителей духовно-нравственного просвещения народа, помещиков, фабрикантов, заводчиков и всех, у кого есть заведения, где бывает сбор простолюдинов, покупать „Читальник“ для подарка грамотным из них».*
Или в другом месте:
«Нужно постановить, что каждый ученик, поступающий или находящийся в воскресной или сельской школе (ведомства министерств государственных имуществ и уделов, а также и солдатских полковых школ), должен непременно получить один экземпляр „Читальника“ в полную собственность, в полное свое распоряжение, бесконтрольно. Это будет как бы „свидетельством“ или юридическим актом, утверждающим в действительности поступления в число учеников школы. То же можно было бы постановить и в приходских училищах Министерства народного просвещения.* „Читальник“ может произвольно меняться, продаваться, дариться учениками и таким образом переходить из рук в руки, следовательно, все-таки оставаться в народе же».*
* Так как почетные попечители училищ пользуются всеми правами гражданской службы, не употребляя на нее личного труда, и бывают вообще люди со средствами, то и можно было бы вменить им в обязанность приобретать на их счет эти книги для учеников училища, что составит, во всяком случае, небольшую сумму ежегодно.
Да помилуйте! ведь это вернейшее средство придать книге вид официальный: а ведь этого бегут; вернейшее средство, чтоб она опошлилась, потеряла цену. И наконец, ваши слова: «все-таки останется в народе же» показывают, что вы признаете лучшим один только способ распространения: обязательный, чуть не насильственный, по крайней мере навязливый, то есть решительно худший из всех возможных способов распространения. Таким способом ничего не сделаете. Уж пробовали. Распространялись чуть ли еще не двадцать лет тому назад книжки официальным способом: да разве их читает народ? Сделались они популярными? Но, положим, еще с этим вы не согласитесь, будете спорить. Но уж нижеследующее место вашей статьи верх самого невозможного незнания действительности. Посудите:
«Есть еще способ широкого распространения „Читальника“ в народе чрез посредство администрации, именно — предложить волостным головам и сельским старостам в волостных правлениях и сельских расправах, покупая на экономические деньги, дарить „Читальник“ грамотным мужикам в селах и деревнях как бы в награду за их грамотность. Дарение происходит на мирской сходке самым патриархальным способом, без всякого контроля со стороны начальства и бюрократической процедуры. Est modus in rebus.[23]
Можно предположить, что если б в этом последнем случае распространение книги поручено было непосредственно чиновникам земской полиции, то, пожалуй, иные мужики и не сказались бы грамотными. Сельские старшины должны объяснить на сходке, что, мол, „книга тебе дарится в награждение за то, что ты научился грамоте, отдается тебе на всю волю: затеряй, продай, променяй, подари кому хочешь — твое добро, начальство тебя о том никогда не спросит“. Во всяком случае, книга не уничтожается, но все-таки остается в народе, и тем еще более распространяет свою известность, что переходит из рук в руки. Тогда будет запрос на книгу и в городах, у площадных книгопродавцов и у коробейников по деревням».*
Точно на луне или в «Марфе Посаднице» Карамзина. Какая действительность! Да тут все, решительно все — Фролы Силины, благодетельные человеки!* «Предложить волостным головам и сельским старостам в волостных правлениях и сельских расправах, покупая на экономические деньги (эво-на!), дарить „Читальник“ грамотным мужикам, „как бы в награду за их грамотность“». То есть прежде распространения образования предположить в мужике такую любовь к образованию, такое ясное сознание необходимости его, что он добровольно согласится на жертву деньгами. Потом, прежде распространения «Читальника» и узнания, что он такое, предположить такое огромное к нему уважение, что его уж в награду дарят (ведь вы не силою же хотите заставить дарить, а по доброй воле). Наконец, главное: такое необычайное, неслыханное происшествие совершенно не в привычках и не в нравах народа: это что-то чудовищно-немецкое. Да не лучше ли уж пришивать бантики к правому плечу мужика, из розовых ленточек, за грамотность! Да ведь мужики будут ровно тридцать лет и три года стоять и думать на сходке: что это такое? — когда вы им предложите «Читальник», да еще на экономические деньги. Как приказ, они, конечно, исполнят: но по доброй воле… они и не поймут этого. И посмотрите, какое при этом тонкое, какое удивительное знание народа в глубоко юмористическом замечании г-на Щербины, что если б такое распространение книги поручено было непосредственно чиновникам земской полиции, то, пожалуй, иные мужики и не сказались бы грамотными. Ну, а вы так непременно уверены, что дарение на мирской сходке, без непосредственного участия полиции, произойдет у вас самым патриархальным, самым благонравным образом?
Сельские старшины, по-вашему, должны объяснить на сходке, что, мол, «книга тебе дарится в награждение за то, что ты научился грамоте, отдается тебе на всю волю: затеряй, продавай, променяй, подари кому хочешь — твое добро… начальство с тебя о том никогда не спросит».
Нам случилось прочесть в рукописи один проект распространения в народе грамотности. Там прямо представлялось как самое лучшее средство: запретить мужикам жениться до тех пор, пока они не выучатся грамоте. (До какого деспотизма может дойти иной либерал!) Нечего и говорить, что этим способом, в сущности совершенно неисполнимым, произвелось бы только озлобление и отвращение к грамотности; но несмотря на то, этот неисполнимый и драконовский способ кажется нам все-таки действительнее невинного и дезульеровского способа г-на Щербины. Воображаю я мужичка, только что получившего в награждение «Читальник» на мирской сходке. Смущенный и встревоженный такой небывальщиной, бережно донесет он его домой, осторожно, даже со страхом положит книгу на стол, сурово отгонит от стола всех домашних, которые разбредутся в страхе по углам, сядет на лавку, подопрет обеими руками голову и в недоумении уставится глазами на «Читальник». Затем тотчас же наберутся любопытные соседи и кумовья, в свою очередь тоже озадаченные происшествием на сходке.
— Награда, говорят. От начальства, что ли? — скажет один.
— От начальства.
— Из Петербурха, слышно, пришла.
— Да какая ж тут награда, глупый ты человек! — ввяжется сам хозяин. — Награда за то, что грамоте знаю! Мне же лучше: за что ж награждать?
— А за то, чтоб, на тебя глядя, и другие старались награду получить: так опомнясь Гришка говорил, — скажет кум.
— «Читальник». Цена 30 коп., — прочтет другой сосед. — А поди-ка, продай, пятака, пожалуй, не дадут; лучше б они тебе, Гаврила Матвеич, эти самые тридцать копеек деньгами бы дали.
— Гм! не то ты говоришь, — перебьет кум. — Значит, понимай: то тридцать копеек, ты их пойдешь и в кабаке пропьешь, а тут тебе книга дается, «Читальник», в которой вся, какая ни на есть, премудрость описана…
— Стой, кум, не так! — кричит опять хозяин. — А зачем мне Григорий Саввич на сходке сказал: затеряй, продай, променяй, подари кому хошь — никто с тебя не спросит, твое добро! Кабы, значит, эта книга нужна мне была, зачем бы я стал ее терять, аль продавать? Нет, тут не то… Тут начальство!..
— Начальство, — отзовутся другие, в еще большем смущении.
— Беда!
— К становому, ребята! седлай коней, Митька! — закричит мужик, решительно вскакивая с места.
А тут еще и насмешники найдутся:
— Ишь какую Гаврюхе модель подвели!
— Значит, все одно, что медаль получил.
— Опека, ребята!
«Часто распространение книги в народе зависит от случайности, — добавляет г-н Щербина, — иногда на книгу, подходящую под его вкус и требования, он вовсе не набредет и не наткнется. Эти случайности могут прямо вытекать из указанных нами мер и представляться несравненно чаще».*
Нет, г-н Щербина, отвечаем мы на это. Из таких мер, как вы предлагаете, ничего не вытечет. Только разве упадет кредит книги. Без администрации у вас ни на шаг! Даже чтоб книги народу понравились, и то прибегаете к администрации. А как вы думаете: отчего это бывает, что книга нравится народу? Ведь что-нибудь должна же заключать в себе «Магометанка», что нравится и расходится. Вы вот приписываете тому, что она написана высоким и чувствительным слогом, который народу по сердцу и в его вкусе. Тут есть крошечное зернышко правды. Действительно, высокий и чувствительный слог может нравиться, потому что заключает в себе и облекает собою действительность, хоть и невозможную, хоть и бессмысленную, но совершенно противоположную скучной и тягостной обыденной действительности простолюдина. Но ведь это не все, тут далеко не вся причина. Главная и первая причина, по-нашему, та, что это книга не барская или перестала быть барскою. Очень может быть, что автор писал и назначал ее, в простоте своей, для самого высшего общества. Но литература наша встретила ее с насмешкой. Издалась она у маленького книгопродавца-спекулятора, который пустил ее по рынкам за дешевейшую цену. Отвергнутая «господами», книжка тотчас же нашла кредит в народе и, может быть, ей очень помогло, в глазах народа, именно то, что она не господская. Разумеется, она не между мужиками расходилась сначала, а попалась горничным, писарям, лакеям, приказчикам, мещанам и тому подобному народу. Попавшись раз, укоренилась и начала распространяться по казармам, а наконец, даже и по деревням. Только по деревням все-таки очень мало. Мы для того делаем это замечание, что наши составители народных книжек прямо метят на мужика-пахаря. Это глубоко ошибочно. Крестьянин-пахарь еще далеко не ощущает такой потребности в чтении, как городской простолюдин, мещанин, писарь, приказчик и даже как деревенский же дворовый человек. К крестьянину и книжки-то заходят через этот, высший класс простолюдинов, и смешивать характер и потребности этих двух классов народа — невозможно, а у нас их часто смешивают, оттого и рождается у нас ошибочная мысль действовать при распространении книги прямо через сельские общества. Книга, которая сельскому народу понравится, дойдет к нему сама собою, от городских простолюдинов и от дворовых, и вот покамест существующий в действительности у нас способ распространения книг в народе. Этот-то способ распространения и надо бы преимущественно иметь в виду. Этот высший класс простолюдинов, заключающий в себе лакеев, мещан, писарей и проч., граничит даже с иными чиновниками и помещиками включительно. Многие и из благородных, и из служащих, недоученные и малообразованные, тоже читают и ценят «Магометанок»; «Зефироты» же, например*, действуют не только на низший класс, но захватывают чрезвычайную массу и из высшего, то есть даже и не из очень малообразованного высшего. Тот, который уже не станет читать и «Магометанку», с наслаждением прочтет «Зефиротов», равно как и все толки о светопреставлении и прочих таких же предметах. В человеке, лишенном всевозможной самодеятельности и принявшем (и по обычаю, и по невозможности принять иначе) предстоящую действительность за нечто крайне нормальное, невообразимо-непреложное и установившееся, естественно рождается некоторое влечение, некоторый соблазн к сомнению, к философствованию, к отрицанию. «Зефироты» и проч., представляя собою факты или возможность фактов, прямо противоположных насущной действительности и глубоко отрицающих ее непреложность и ее гнетущее спокойствие, — чрезвычайно нравятся этой отрицательной точкой зрения средней массе общества и, написанные популярно, дают превосходный способ поволноваться умам, пофилософствовать и насладиться хоть каким-нибудь скептицизмом. Вот почему и простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительности, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий. Даже сказки, то есть прямые небылицы, нравятся простому народу, может, отчасти по этой же самой причине. Каково же будет действовать на него всё мистическое? А так как все эти книги не выходят из народных воззрений и не превышают его философию, то и признаются своими, и с накоплением этих книг высшая, господская литература всё резче и глубже отделяется от народной. И потому ужасно смешно, когда г-н Щербина предлагает народу «Слово о полку Игореве» и, еще лучше, пословицы. То есть, то, что из народа же вышло, что составляет его обыденную действительность, — пословицы — предлагаются народу же от нас. Ну к чему ему пословицы? Чтоб быть еще народнее? Не беспокойтесь, он их не забудет и без ваших напоминаний; вы-то сами их не забудьте.
В книге г-на Щербины не всё совершенно неинтересное для народа. Но тон книги, барское происхождение ее, подступы и подходы ее — всё это будет несносно для народа. Он инстинктивно отвергнет ее. К тому же вышеприведенный способ распространения ее убьет ее успех окончательно.
Повторяем опять: по-нашему, самый лучший способ (из искусственных) — это спекуляция. Тут, если хотите, тоже высшая искусственность, высшая степень подхода и подступа, и от этого и успех тоже может быть отчасти сомнителен. Тут потому высшая искусственность, что весь подступ, весь подвох, будет именно состоять в том, что его совершенно снаружи не будет видно, то есть книга с первого взгляда как будто издана и распространена совершенно для одних барышей. В самом деле, спекулятор — какой же барин? Какой же умышленный распространитель просвещения в народе? Спекулятор свой брат, гроши из кармана тянет, а не напрашивается с своими учеными благодеяниями. Но вот задача: как обратить умышленного просветителя в спекулятора? Издает книгу какое-нибудь благотворительное общество, или какой-нибудь вельможа — просветитель человечества, или, наконец, просто ученый — друг человечества. К чему им деньги? Они рады своих положить. Тут нужно очень схитрить, чтоб неприметно было народу. Так что всего бы лучше было, если б этот друг человечества и вправду был спекулятор. В этом, по-нашему, и дурного-то не очень много. Трудящийся достоин платы; это давно сказано*. Представим себе человека благодетельного, сгорающего желанием добра, но бедного. Ведь надобно же и ему жить и кормиться от труда своего. А так как он имеет особый талант составлять народные книжки, то есть знает народ и что именно ему нужно; а сверх всего этого и сам воспламенен желанием способствовать наискорейшему распространению в народе грамотности и образованности, то вот он и нашел себе занятие: издает-себе книжки, продает их и доходом с них кормится. И даже вовсе не надо тут возвышать особенно цену на эти книжки. Если они придутся по нраву, то будут расходиться в большом количестве, следственно, как бы ни был мал барыш с каждой книжки, в сумме он был бы значительный. Тут именно чем талантливее составлена книжка, тем более ее разойдется, следовательно, тем вернее барыш. А талантливо составить — значит занимательно составить, потому что самая лучшая книга, какая бы она ни была и о чем бы ни трактовала, — это занимательная. Для этого-то и нужно, по возможности, избегать всякого подхода, всяких «отделов», основанных на предварительных ученых и психологических изучениях мужичьей души; всяких отделов, выпускающих из себя вторые отделы, а вторые — третьи и т. д.; всяких статей с расчетом завлечь и приободрить, и, одним словом, чтоб как можно труднее (а не яснее, как сказано было у г-на Щербины) можно было «усмотреть те существенные свойства логики, практических и психологических соображений», которые издатель положит в основу своей книги. То есть и логика, и все эти практические и психологические соображения непременно должны быть и будут у составителя книги, если только он умный и дельный человек; но надо, чтоб они были по возможности скрыты, так что всего бы лучше было, если б все эти основы были даже и от самого составителя скрыты и действовали бы в нем наивно и даже бессознательно. Но это уж идеал; это возможно бы было только в том случае, когда бы составитель народных книжек видел в этом составлении неудержимое призвание свое с самого детства и ощущал бы в себе самую наивную и горячую потребность жить с народом и говорить с ним во все дни и часы своей жизни. Таковы, говорят, бывают некоторые врожденные педагоги, до страсти любящие жить и обходиться с детьми, которых отнюдь не надо смешивать с учеными и искусственными педагогами. И первые, то есть врожденные, могут, в свою очередь, тоже быть очень учеными педагогами; но без внутреннего влечения и призвания одна их ученость не принесла бы таких плодов. Но подобного составителя народных книг трудно иметь теперь в виду, хотя они непременно явятся впоследствии. Всякая вновь появившаяся в обществе деятельность достигает наконец идеала в своих деятелях. У нас же эта деятельность всего только что зарождается, но обещает перейти в крайнюю потребность. Такие деятели впоследствии безо всякого опасения будут издавать и все необходимые юридические, гигиенические и всевозможно — ические сведения для народа, и издадут их прекрасно, издадут именно то, что нужно, безо всякого подвоха и подхода, именно потому, что они будут нужны народу, и тем скорее всё это удастся им так хорошо, что они-то, сами-то издатели, будут настоящими народными деятелями, так что наконец и сам народ признает их за своих, и книжки их будут расходиться в безмерном числе экземпляров, потому что, кроме того что будут полезны и нужны, они будут еще изданы талантливо; ибо прежде всего нужен талант, чтоб подходить к народу и обращаться с ним, наивный и прирожденный талант, чего, кажется, вовсе не имеют в виду составители теперешних «Читальников». Но мы теперь покамест издаем искусственно и с хитростью, и потому, чтоб уж как-нибудь маскировать эту хитрость, нужно, чтоб и искусственность, и хитрость наша приписана была народом одной спекуляции, одному желанию сбыть книгу за деньги. И потому, во-первых, педантская простота таких названий, как например «Читальник», могла бы быть и устранена. Народ вовсе не такой пуританин, как вы думаете. Он не обидится заманчивым заглавием и догадается, что оно выставлено на книге единственно для того, чтоб подманить его купить ее, а не для того, как в «Читальнике», что ее нужно читать, для того, что стыдно быть безграмотным и необразованным мужиком, стыдно перед добрыми людьми и благодетельными господами, которые принуждены были, наконец, административно и официально распространять в невежественном черном народе просвещение. И потому всякое административное распространение книги должно быть по возможности устранено, а нужно, чтоб народ сам достал ее с рынку, именно потому, что сам кум Матвей слышал и рекомендовал, что книжка «занятная». Никогда так сильно не распространяется книга, какая бы она ни была, как натурально, сама собою, и это самое верное, самое толковое, крепкое и полезное распространение ее. В книжке этой, по крайней мере хоть на первый раз, всё должно быть пожертвовано занимательности и завлекательности. И потому при составлении такой книжки отнюдь не надо чуждаться того, что выходит из обыденной, видимой и часто противной простолюдину его действительности. Вовсе не преступно будет, например, действовать преимущественно на воображение простолюдина. Чудеса природы, рассказы об отдаленных странах, о царях и народах, о русских царях и их деяниях, о каре Новгорода*, об самозванцах, об осаде Лавры*, о войнах, походах, о смерти Ивана-Царевича*, занимательные приключения частных людей, путешествия, вроде, например, путешествий Кука* или занимательнейшего для всех классов и возрастов путешествия капитана Бонтекое, гениально составленного из прежних материалов Александром Дюма…*
Боже! что я слышу! какой гомерический хохот, какое страшное негодование поднялось кругом. Как! в книгу для народного чтения переводить из Александра Дюма! Но что же делать, если Александр Дюма написал Бонтекое (для детей, кажется) гениально, именно так, как нужно для рассказа народу. Народ вовсе не такой пуританин, как кажется, а не побрезгать при случае и Дюмасом, может быть, было бы именно настоящей-то, желаемой-то практичностью и деловитостью, потребной при составлении книги. Народ очень не прочь читать, но он очень еще не искусился в чтении. К чему кормить его зауряд одними только эссенциями полезности, благонравия и вашей благонамеренности? Вы скажете, что народ вовсе не так избалован вкусами, как какая-нибудь барыня, которой непременно надо Дюма, чтоб у ней книга не выпала тотчас же от зевоты из рук! Согласен с вами; но книга все-таки для народа новинка, и хоть он вовсе не того ищет в ней, чего требует от них праздная и тупая барыня, но завлекательность крайне не вредит. Мне самому случалось в казармах слышать чтение солдат, вслух (один читал, другие слушали) о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и герцогини де Лявергондьер. Книга (какой-то толстый журнал) принадлежала юнкеру. Солдатики читали с наслаждением. Когда же дошло дело до того, что герцогиня де Лявергондьер отказывается от всего своего состояния и отдает несколько миллионов своего годового дохода бедной гризетке Розе, выдает ее за кавалера де Шеварни, а сама, обратившись в гризетку, выходит за Оливье Дюрана, простого солдата, но хорошей фамилии, который не хочет быть офицером единственно потому, что для этого не желает прибегать к унизительной протекции, то эффект впечатления был чрезвычайный. И сколько раз мне приходилось иногда самому читать вслух солдатикам и другому народу разных капитанов Полей, капитанов Панфилов* и проч. Я всегда производил эффект чтением, и это мне чрезвычайно нравилось, даже до наслаждения. Меня останавливали, просили у меня объяснений разных исторических имен, королей, земель, полководцев. Я думаю, Диккенс произвел бы гораздо менее эффекта, Теккерей еще менее, а военные рассказы Скобелева так ничего не производили: только зевали от скуки. Ox, да какой это чуткий народ! Тотчас разберет ложь и подход. И какой юмористичный, вострый народ в то же время. Разумеется, мне скажут: какой же полезной цели достигли вы вашим чтением вслух? образовали ль вы ваших слушателей, с чем ушли они от вас? Во-первых, отвечаю, что я вовсе не хотел образовывать моих слушателей, а только доставить им удовольствие, и потому я этого хотел, что мне самому доставляло это чрезвычайное удовольствие. Когда же я растолковывал о королях, о землях и вообще делал полезные замечания, то и это мне доставляло очень много удовольствия. Во-вторых, тут все-таки было чтение, а не что другое, и как бы то ни было, а эти люди все-таки приучались находить наслаждение в книге. Книга, стало быть, вообще выигрывала. В-третьих, хоть я и вовсе не думал тогда о том, но впоследствии мне пришло в голову, что книга все-таки лучше, чем, например, три листа или горка*. В-четвертых, если уж пошло на полезность и на отчет в ней, то ведь что-нибудь значит же, наконец, хоть, например, вынесенные из чтения душевные впечатления, некоторые мысли, некоторые мечты. Разумеется, было бы несравненно полезнее, если б они прослушали «Слово о полку Игореве», «об инфузориях», «ряд пословиц», об «афонской горе» или хоть о «Несторе-летописце» (которого биография помещается в «Читальнике», кажется, не потому только, что занимательно было бы узнать житие Нестора, а потому, что Нестор был летописец, что, разумеется, в глазах народа, придало бы ему чрезвычайную занимательность, не правда ли?). Пожалуйста, не обвиняйте меня в подходе: я вовсе не спорю, и все эти названные мною статьи «Читальника» могли бы, разумеется, быть чрезвычайно и полезны и занимательны для народа. Но вот что мне кажется: мне кажется, мало того, чтоб взять, выбрать их откуда-нибудь и поместить в «Читальнике», чтоб народ их тотчас же с жадностию прочел: мне кажется, их надобно и составить по возможности с вдохновением, с призванием и именно с тем талантом, который необходим для такой народной литературы.
Меня спросят: да откудова же вы возьмете теперь статей для вашей, например, книги, хотя бы вы ее и составили для спекуляции, безо всякой официальности и подходности и проч., и проч., и проч.? Отвечаем: мы бы, конечно, теперь воспользовались тоже нашей современной литературой, хотя вся она, чуть не сплошь, — литература для господ. Но, разумеется, и в ней можно много, даже очень много выбрать удобного и для народного чтения. Только надобно суметь сделать выбор. Как сделать этот выбор — мы полагаем, после всего нами сказанного, объяснять излишним. Мы разбираем статью г-на Щербины, но вовсе не претендуем на то, что мы способны сделать такой выбор умнее и удачнее его. Сделаем только одно замечание, именно: какие бы мы спекуляции ни предлагали, но думаем, что теперь, в настоящую минуту, хорошего «Читальника» у нас все-таки никто не составит. Зато мы совершенно уверены, что впоследствии и, может быть, даже скоро, у нас откроется свой особенный отдел литературы, собственно для народного чтения. Это только гадание, но нам верится в его осуществление. Деятели этой будущей литературы, как мы уже упомянули выше, будут действовать по прямому, врожденному призванию, по вдохновению. Может быть, они наивно, безо всякого труда найдут тот язык, которым заговорят с народом, и найдут потому, что будут сами народом, действительно сольются с его взглядами, потребностью, философией. Они перескажут ему всё, что мы знаем, и в этой деятельности, в этом пересказывании будут сами находить наслаждение. Нам даже кажется, что им не придется нимало скрывать от народа действительное свое развитие. Тогда, может быть, они ощутят в себе и совершенно новые взгляды и совершенно новые воззрения, живые, положительные, сила и самостоятельность которых получится именно от новой деятельности, от потребности этой деятельности, и которые будут плодом насущной, настоятельной необходимости нашего соединения с народным началом. Это, разумеется, только еще гадание, и хотя много бы нам хотелось сказать, в смысле гадания, теперь об этой будущей деятельности литературы нашей, но по некоторым причинам мы теперь об этом умалчиваем. К тому же надо об этом особо говорить. Но во всяком случае мы отнюдь не отрицаем теперешней деятельности наших умных и благонамеренных людей при составлении книг для народного чтения. Давай бог. Из этой-то деятельности и явится последующая, более благотворная. И потому, если мы теперь и не согласились в чем с г-ном Щербиною, то повторяем: редко что мы читали более умного, более благонамеренного, чем его «Опыт». Автору «Опыта» мы не можем не быть благодарными за превосходный и полезнейший труд его и завидуем журналу, поместившему у себя такую дельную статью.
V. Последние литературные явления
Газета «День»
Когда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собою разные дрязги за принципы и убеждения. Один упрекает другого, что тот не так верует, другой упрекает первого, что тот у себя под носом ничего не видит; третий кричит о книжках и об обертках книжек, четвертый ко всему, кроме себя, равнодушен, пятый успокоился на незыблемых мировых законах, подводит всё и всех под мировой ватерпас и свистит, на всех глядя. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь. Вот явилась газета «День», всего только пять нумеров, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопрос» об университетах, и вот полился на нас целый водопад статей об университетах. Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях, и мы будем спорить о принципах, и мы будем упрекать других, что они не так веруют… Что делать! одна для всех колея. А сказать свое слово надо: все участвуют… во всеобщем движении и т. д., и т. д.
«День» — это та же покойная, но неуспокоившаяся «Русская беседа», разбитая на газетные листки. Те же имена, те же мысли, те же принципы. Редактором Ив<ан> Аксаков, статьи в первом номере Хомякова, Константина Аксакова* (покойников). В журнале всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы*. Этого нет почти ни в одном теперешнем русском издании, по крайней мере в такой непрерывности, и это ставит газету на довольно любопытное место. Вообще издание очень любопытное.
Кое-где оно уже очень насолило: Аскоченский, говорят, восторженно похвалил его*, а некоторые так даже поспешили похоронить новый «День» (печатно, разумеется). В одном петербургском журнале некоторые погребалыцики уже догадались и о том отделении, к которому надо причислить журнал.
Но господа могильщики неправы.
Тут и слова не может быть о разделе по отделениям.
Мы не за «День» заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковых, всех троих, слишком известно, чтоб не знать, с кем имеешь дело. И наконец, что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему — губить его, — чем другим нельзя, так хоть клеветой. Что за домашние деспотики! Что за домашний терроризм, вспоенный на кислом молочке!
Но довольно… Скажем и наше слово о новой газете.
Это все те же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, нимало не изменившееся, у которого идеалы и действительность до сих пор так странно вместе смешиваются; для которого нет событий и нет уроков. Те же славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью. Вот для образчика из первого номера «Дня»:
«И на каком же широком просторе разгулялась, да еще и разгуливает эта ложь! Все внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, поражены и растлены ею. Ложь! Ложь в просвещении, чисто внешнем, лишенном всякой самодеятельности и творчества. Ложь в вдохновениях искусства, силящегося воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь в литературе, с надменною важностью разработывающей задачи, созданные историческими условиями, чуждыми нашей народной, исторической жизни, — в литературе, болеющей чужими болезнями и равнодушной к скорбям народным. Ложь в порицании нашей народности не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутренного нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга. Ложь в самовосхвалении, сопряженном с упадком духа и с неверием в свои собственные силы. Ложь в поклонении свободе, уживающемся рядом с побуждениями самого утонченного деспотизма. Ложь в религиозности, преданности, вере, прикрывающей грубое безверие. Ложь в торжестве диких учений, созданных бесстыдным невежеством, безбоязненно оскорбляющим общественную совесть и не смиряющимся пред очевидною несокрушимою крепостью коренных основ народной жизни. Ложь в легкомысленной гоньбе за новизною под чужестранною фирмою прогресса и цивилизации. Ложь в гуманности и образованности, которыми, в своей систематической непоследовательности, щеголяет наше общество, допускающее без разбора самые несовместимые начала, закрывающее глаза от выводов, обходящее сознательно все основные вопросы, раболепствующее всем модным кумирам современности и выдающее за подвиг высокого благородства и терпимости дешевое уменье замазывать, не разрешая, самые непримиримые противоречия!.. Страшное, невиданное сочетание ребяческой незрелости со всеми недугами дряхлой старости, и при всем том — исцеление возможно и даже несомненно! Мы это все чувствуем, мы даже не можем и усомниться в том искренно, и заря нашего спасения уже брезжит».*
Не думаем, чтоб эта заря брезжила для славянофилов. Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть* — хуже, чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее непохоже на раз отлитую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. Впрочем, и собственный-то идеал у них еще вовсе не выяснен. Есть у них иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) основных элементов русской народной особенности. Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению неоконченном.* Трудно представить себе понимание более точное, ясное и широкое и плодотворное. Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе*, помещенную теперь в первом номере «Дня»… Но об ней после. Ответим на приведенную выше выписку.
Скажем прямо: предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать обо всей литературе, что она «равнодушна к скорбям народным»? Как сметь сказать «о порицании нашей народности, не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга»? Что за фанатизм вражды! Что за резкая уверенность в самых сокровенных помышлениях противников, в сердце и в совести их! Неужели любить родину и быть честными дано в виде привилегии только одним славянофилам? Кто мог сказать это, кто бы решился написать это, кроме человека в последней степени фанатического исступления!.. Да, тут почти пахнет кострами и пытками… Мы не преувеличиваем. В конце статьи нашей мы приведем еще одну тираду из «Дня» она на многое намекает…
Да, конечно; у нас лжи было много; это правда. Чужие интересы не раз принимались за свои, но если и принимались, то именно потому, что казались своими, родными, кровными, а вовсе не потому, что будто бы двигало западниками одно «внутреннее нечестие, инстинктивно враждебное всякой святыне чести и долга». (Как поднялась у вас рука написать это! Нужно во многом сперва заручиться, чтоб взвести такое ужасное обвинение!) Но зачем же не замечать правды, зачем выпускать из виду возрождающуюся со всех сторон жизненность, стремление к действительности, к почве? Если есть ложь, если была она, то наша художественная литература, за десятки последних лет, почти сплошь относилась к этой лжи отрицательно, a не положительно. Для славянофилов, кажется, не существует подобного, например, факта, что во время самого ярого западничества, доходившего чуть не до последних крайностей, вся художественная литература наша, Гоголь (до болезни его) и все за ним следовавшие, относились к плодам и результатам того же самого западничества — отрицательно. Исчез для них и тот факт, что именно эта самая литература, страстно отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосуждения, благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным, — что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. Но славянофилы до сих пор упорно хотят видеть в западниках своих врагов и говорят о них не иначе как с презрением и проклятием, забывая или, лучше, не хотя понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременным желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, то есть было вызвано самим процессом жизни. Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями, они не хотели оставить их без разрешения и во что бы ни стало отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к реализму, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в сущности, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) — из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же «Марфы Посадницы», прочитанной когда-то в детстве, и наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, — над немцами непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми. Мы вовсе не хотим смеяться, говоря это, да и смеяться-то не над чем; но мы хотели только заявить о несколько мечтательном элементе славянофильства, который иногда доводит его до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. Так что во всяком случае западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вменяло это себе в большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрос, с болью разрешило его и, через самосознание, воротилось-таки на народную почву и признало соединение с народным началом и спасение в почве. Мы, с своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность его, что в теперешнем, чуть не всеобщем (кроме некоторых крайних и смешных исключений) повороте к почве, сознательном и бессознательном, влияние славянофилов слишком мало участвовало, а даже, может быть, и совсем не участвовало. Партия движения шла собственным путем и осмыслила свой путь собственным анализом. Но и признав необходимость почвы, она прежнею жизнью, прежним развитием убедилась, что дело не в проклятии, а в примирении и в соединении, что реформа, отжившая век свой, все-таки внесла к нам великий элемент общечеловечности, заставила нас осмыслить его и поставила его в нашем будущем как главное назначение наше, как закон природы нашей, как главнейшую цель всех стремлений русской силы и русского духа. И заметьте себе: западникам сочувствовала всегда у нас масса общества. Не презирайте ее, эту зарождающуюся массу! не говорите о ней, как уж и слышится с некоторых сторон, что масса нашего общества слишком ничтожна, слишком невежественна, слишком изуродована на европейский лад и уже подгнила, прежде чем хоть во что-нибудь успела сложиться. Не утешайте себя этим, не пренебрегайте инстинктами общества, каковы бы они ни были. Вспомним, что общество страстно сочувствовало западникам и разделяло все их ошибки и увлечения, тогда как постоянно принимало славянофильство за маскарад. А где тайна этого сочувствия массы? Тайна в том, что жизнь, хоть какая-нибудь, что действительность, что обновление, что залоги будущего, что даже самый возврат на родную почву и первый шаг к тому — все-таки в руках реалистов, потому что европеизм, западничество, реализм — все-таки это возрожденная жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жизни. Западничество шло путем беспощадного анализа, и за ним шло всё, что могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анализа. Пусть ложь в этой массе, пусть в ней сброд тех лжей, которые с таким ярым наслаждением вы пересчитываете. Мы не боимся этого злорадного исчисления наших болезней. Все эти лжи, если есть они, — заране определенные судьбою станции пытливого ума и анализа. Пусть это лжи, но движет нас правда. Мы в это веруем. Движение остановиться не может, и общество дойдет-таки до окончательного результата по крайней мере теперешних усилий своих; будьте в этом уверены.
Но вы являетесь с газетой. Вы не хотите стоять в стороне от всеобщего движения. Вы хотите отзываться на современные явления жизни живым, неустанным словом, войти с усиленною против прежнего деятельностью в эту толчею почти чуждых вам (как вы сами заявляете) интересов. Мы рады товариществу; но ведь товарищем вы не будете. Вы все-таки будете нас учить нестерпимо свысока… учить, беспрерывно учить; смеяться над нашими ошибками; не признавать наших мук и страданий; осуждать их со всею жестокостью исступленного идеализма и… и… Но вы уж и начали. Смотрите, как тот же К. Аксаков, в статье своей, в 1 № «Дня», относится сплошь ко всей русской литературе. Он смотрит на нее враждебно-скептически, он отрицает в ней всё свое, с легкостью нестерпимою от серьезно болеющего сердцем человека, с улыбкой свысока-оскорбительной. Даже если б он был прав совершенно в суждении своем, то легкость, скептицизм статьи, это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего*, этот презрительный взгляд, скользящий сверху и не удостоивающий ни над чем серьезно остановиться, не удостоивающий ничего оценить, — уж одно это было бы в высшей степени бессердечно и легкомысленно. У него вся литература наша — сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу*. Он отрицает всякое проявление сознания общественного в нашей литературе, не верит анализу, в ней проявлявшемуся, самоосуждению, мукам, смеху, в ней отражавшимся. Нет, господа; вы с нами не жили, вы в наших радостях и скорбях не участвовали; вы приехали из-за моря!
Да, конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отозвалось в созданиях нашей литературы, отражается идо сих пор. Но разве мы рабски воспринимали их, разве не переживали их жизненным процессом, разве не выработывали своего русского взгляда на эти иноземные явления, разве не убедились, не прочувствовали самою жизнью, что общечеловечность есть, может быть, самое важнейшее и святейшее свойство нашей народности? Разве, наконец, мы не сознавали народности, не сознали необходимости почвы и обращения к ней? К. Аксаков говорит, что все попытки обращения к народности оказались в литературе нашей неудачными. «Портрет купца похож, — говорит он, — у Островского; речь сходна: говорит должон, а не должен». Неужели ж К. Аксаков у Островского только и заметил это должон, а не должен? По смыслу и по тону статьи так выходит. Нет, мы не поверим в этом К. Аксакову; он прикидывается. Ведь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вставить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную, — ну хоть так, как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу пополудни, на Невском проспекте… И как вы думаете, чего требует К. Аксаков? Где же, говорит, настоящий купец? где душа его? где то, что в нем жить должно?* То есть, ни больше ни меньше, требует изображения положительных сторон русского человека, с патетической его стороны. А каково? то есть последнего слова сознания, последней степени красоты мелькающего нам и манящего нас идеала. Безделица! Мы не упрекаем К. Аксакова, что он не разглядел в Островском следов положительной русской красоты, уже кое-где намеченной во всем его «Темном царстве», что он не подивился на то: как это так рано удалось, так рано случалось, так рано начало высказываться это новое слово, — вместо того, чтоб попрекать и подсмеиваться? Мало ли что человек может не заметить, особенно под влиянием известного идеального настроения. Но нам нестерпимо суждение барича в желтых перчатках* и с хлыстиком в руке над работою чернорабочего: «А что урока отчего не сработал? По восьми пудов не можешь носить? Неженка!» Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но, сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались*. Вы скажете: нелепо и грубо нам так рассуждать. Извольте, мы согласимся с вами, но только тогда, когда вы не будете рассматривать ваших же русских свысока, как букашек, как кучу каких-нибудь муравьев, и забавляться над нашими усилиями, муками и ошибками. Бросьте ваш тон свысока и вспомните, что вы сами русские и принадлежите к тому же самому обществу, один фатализм нас связал, и свысока, со стороны вы судить не можете, себя выгораживая. Вы как будто хвалитесь, что у вас есть свое, особое, не такое, как у нас. Ведь согласитесь, в словах «должон, а не должен» лежит столько насмешки, столько лукавой про себя насмешки: «Ведь вот, дескать, чего этот жалкий народ не знает! каких основных вещей не понимает! Как совратился, как отупел!» Ну и покажите нам то, что у вас есть, не скрывайте сокровище; да не в наставлениях, не в надгробных над нами речах покажите его, а в настоящем деле, — ну хоть в искусстве, так как это всего невиннее и… сподручнее. Иначе ведь странно со стороны: что ж это в самом деле, подумаешь, люди, говорят, постигли тайну русского назначения, русского духа, привилегированно отмежевали себе знание русских судеб русского человека и то, «как он быть должен», a смотришь — на деле от них и нет ничего. И не могут сами-то показать, «как он быть должен»! И добро бы не было у них литераторов!
Литераторы-то есть, да жизни-то нет!
Да, ее нет! Чутья действительности нет. Идеализм одуряет, увлекает и — мертвит, и вы сами не ясно понимаете то, пониманием чего хвалитесь перед нами. Вот почему мы и сказали, что у вас есть чутье некоторых основных элементов русской жизни, но не всех. Чутья как не быть: вы русские, люди честные, любите родину; но идеализм губит вас, и иногда вы даете ужасные промахи, даже в понимании именно этих-то основных элементов русской жизни. Ну вот, например, еще тирада, из 2-<го> № «Дня». Полюбуйтесь:
«Что видим мы… хоть в нашей литературе? Какие — теории?.. С одной стороны, пустое, голое отрицание, волнение без содержания и без цели, какой-то призрак жизни и движения, — а в сущности нет ни жизни, ни движения, все полумертво и гнило, и заимствует силу только от силы враждебного напора; с другой — грубая, тупая, бессмысленная сила, только в насилии и бездушном механизме полагающая спасение! С одной стороны, ложь разрушения, с другой, — ложь созидания; с одной стороны, неверие, поклоняющееся, как богам, людским, временным кумирам; с другой, — мнимая вера, поклоняющаяся и богу, как кумиру, и силою божьего имени служащая своим корыстным целям и выгодам! Тут — раболепство пред каждым последним словом науки, там — грубое презрение к науке, к мысли, к подвигам разума и духа; тут — злоупотребление, нечестное обращение со словом, там — преследование слова, любовь немоты и мрака, тайное сочувствие с бессловесными! И тут и там одинаковое умерщвление духа там — через внешнее насилие, а тут — через оскудение и огрубление духа. И тут и там одинаковое подобострастное, рабское отношение к иноземному, бессмысленная покорность подражания, измена народному духу, при наружной грубой подделке под русскую народность. В безысходный мрак погружены обе враждующие стороны во мраке терзают и истребляют друг друга! И если народ наконец подымет усталые от долгой дремоты очи и взглянет на наших литераторов и всякого рода художников (кроме некоторых исключений), взглянет на этих незваных гостей, устроивших свой буйный пир у его ложа, прислушается к их оглушительным кликам, к треску и грому их велений и вещаний, — что скажет он? „Куда девали вы порученные вам дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ее духовные сокровища? Что сталось с моим обычаем верою, преданием, моею прожитою жизнью, моим долгим и горьким опытом? Что совершили вы на досуге? Где цельность и единство жизни и духа? Где наука, вами взрощенная? Где мое живое, изобразительное, свободное слово? Какого хламу нанесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безобразные снимки с чужих народов! подите к ним, если они вас примут: я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне…“ — скажет народ, пробуждаясь к сознанию, — и сметет их, как сор, свежая струя воскресшего народного духа!
Но еще не наступила пора. И хотя мы почти уверены, что голос наш раздается напрасно, но, применяясь к предмету настоящей речи нашей, скажем и мы: „Глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь господень… Покайтеся!..“»*
Хорошо-с. Но так ли скажет народ? Так ли (и это главное) рассудит он? Не приписываете ли вы ему своего суда, своих мнений? Вы говорите про наших художников и литераторов. Про художников мы теперь ничего не скажем и не будем гадать о том, какая участь постигнет нашу Академию художеств. Но другим, о которых вы говорите, он скажет, по-нашему, вот что: «Успокойтесь! вы те же русские, и я признаю вас русскими за то, что вы меня сами, наконец, признали и догадались, что без меня вам жить плохо и что без меня вы ничего не сделаете. Честь и слава вам, что как только проснулась ваша мысль, как только вы выросли и возмужали, тотчас же вспомнили обо мне. Честь и слава вам, что вы скорбели моими скорбями и других научали скорбеть, что вы заступались за меня и решили сообща — воротиться ко мне, на родную почву. Научите ж вы меня теперь тому, что вы за морем узнали, и опишите мне в точности все ваши странствования и страдания. Я же вас научу тому, что вы своего позабыли. Во многом вы ошибались, но ошибку в фальшь не ставят*. Ошибок умышленных вы промеж себя не терпели и не хотели терпеть, а я это выше всего ценю. Все мы из одной благородной почвы и, как русские, все мы друг перед другом равны…» И уж если пошло на тексты, то не грозный текст пророка приведет он тогда, а милосердое слово бесконечной любви… Так нам кажется. Нам кажется, что мы заслужим в его сознании, а сознательно он не сметет нас как сор… Ведь и у вас он говорит сознательно как же вы сознательно вложили ему такие слова в уста! Нет, господа, не клевещите на русский народ, не приписывайте ему своего суда!
Есть у вас и еще тирады, но об них как то не приходится нам судить (чтоб не распространять статью, разумеется). И тем более странно для нас, что ведь вы сами знали, что об этих тирадах не будут судить и на них не будут вам возражать. Но несмотря на то, вы увлеклись и — судили до конца. И ведь как судили-то, каким судом! Сами же признавались, начиная суд, что будете говорить только об одной стороне, выслушаете только одного подсудимого. В каком же суде выслушивают только одну сторону? А вы выслушали, да еще положили решение, то есть осудили одну сторону. Хорошо это вы сделали? Оставляем это на вашу совесть. Дело, конечно, шло об русской литературе. Это еще не так важно. Ну а если бы шло о чем поважнее? Поверьте, что это нехороший прием. Дурные «Дни» вы сулите нам впереди. Мы с симпатией думали встретить журнал ваш, но вы хоть какую симпатию потушите. Или вот еще: проявился у вас в 4-м номере один корреспондент — H. Б. Пишет он о крестьянах. Трудно представить себе что-нибудь более ограниченного и самодовольного, как суждения господина H. Б. Редактор «Дня» самым обязательнейшим образом возится с ним в продолжение всей статьи, возражает ему поминутно; уверяет его, что там, где г-н H. Б. видит одну дичь, глупость и невежество крестьянина, не только нет дичи и глупости, но что даже, напротив, видно много ума*. На некоторые возмущающие душу суждения г-на H. Б. редактор возражает необыкновенно снисходительно и деликатно и даже спешит, в одном месте, заявить, что г-н H. Б. совсем не обскурант. «Нам слишком хорошо известен образ мыслей и действий автора, — замечает редактор, — чтоб допустить возможность подобного об нем отзыва».* Ну да положим… то есть не то что г-н H. Б. не обскурант: этого мы никак допустить не можем, несмотря на отзыв редактора, а положим, что у всякого своя фантазия, что редакции нравится помещать такие статьи, на которые она сама принуждена писать в том же нумере критику. Ну а вот это как вам покажется? на одно мнение г-на H. Б. редактор уже сам делает следующую заметку о бывшем крепостном состоянии:
«Мы даже думаем, что в общей сложности личные отношения помещиков и крестьян были довольно человечны.* Покоясь на лоне, по-видимому незыблемого, крепостного права, наивно уверенный в его совершенной человеческой и божеской законности, помещик не имел надобности оправдывать это право клеветами на крестьян и относился к ним довольно дружелюбно и простосердечно. Этому доказательством служит между прочим и то, что помещики допустили образование и развитие крестьянских общин и мира, совершившееся вовсе не вопреки их воле и не в ограждение только от помещичьего произвола. У нас никогда не было ничего подобного отношениям феодальных владельцев к их вассалам. Крестьянин не был для помещика „виленем*“ (vilain), a „рабом божиим“ таким-то, „християнскою же душою“, хотя подчас и „с глупым крестьянским разумом“! Совершались иногда страшные злоупотребления, но они не возводились в закон, как на Западе. Такие пошлины, какие взимались там, такие «права» владельцев, как знаменитое Jus p<rimae> n<octis>*,[24] у нас просто немыслимы. Когда же критика общественного сознания обличила всю внутреннюю неправду крепостного права и нарушила блаженный мир бессознательных, деспотических и в то же время каких-то простодушных отношений, возникли действительно со стороны многих помещиков клеветы на крестьян, и вообще ложные оценки крестьянского права, не помешавшие, впрочем, совершиться делу освобождения.
Гораздо сильнее клевет крепостного права были клеветы на русский народ, создаваемые неистовыми поклонниками западной образованности, отрицавшими в народе всякое право на свободное и самобытное народное развитие».
Хорошо «Покоясь на лоне, по-видимому незыблемого, крепостного права, наивно уверенный в его совершенной человеческой и божеской законности, помещик относился к крестьянам довольно дружелюбно и простосердечно»…
Во-первых, до какой же отупелости должен дойти человек, чтоб быть уверенным в божеской законности крепостного права. А если так, то как же можно ручаться, что такой человек мог относиться к своему крестьянину дружелюбно? Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с; одно другого, верно, стоило. Спросите у мужиков.
«Крестьянин, — говорите вы, — не был для помещика виленем, а рабом божиим, християнскою душою». А холоп, хам, халуй, хамлет? — что, эти названия, по-вашему, благороднее виленя? Но позвольте, что вы разумеете под именем дружелюбных помещиков? Да помещик, при тех правах, которыми он обладал, даже самый добрый, самый добрейший, не мог относиться в некоторых случаях к своим крестьянам «дружелюбно и простосердечно» Но что говорить!.. Об этом так уже много сказано, и это так для всех ясно, что трудно в настоящее время не понимать этого.
Вы замечаете, наконец, что клеветы западников на русский народ были сильнее клевет помещиков на крестьян, когда блаженный мир «простосердечных» отношений нарушился усиленным присмотром правительства. Ну нет-с, это вам только кажется…
Но довольно. Ведь нам еще, может быть, несколько раз придется повстречаться с газетою «День» на дороге.
<предисловие к публикации «заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских темниц (Пломб)[25] (Эпизод из его мемуаров)»>
Книга Жака Казановы «Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt» совершенно неизвестна на русском языке. Между тем французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа*. Так ярко, так образно рисует он характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ! Подробный разбор сочинения Казановы завел бы нас слишком далеко. Об его книге мало сказать несколько слов. Большой же о ней статьи мы в настоящее время в нашем журнале поместить не можем. Но чтоб познакомить читателей с этой замечательной книгой, мы выбираем из нее один только эпизод: «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских темниц». Этот эпизод издан был им особою книгой и потом уже вошел в его мемуары. Прибавим, что этот отрывок не дает точного понятия о всей книге, да и характер Казановы рисуется в нем только с одной стороны, правда с самой лучшей. Личность Казановы одна из самых замечательных своего века. Казанова выражает собою всего тогдашнего человека известного сословия, со всеми тогдашним и мнениями, уклонениями, верованиями, идеалами, нравственными понятиями, со всем этим особенным взглядом на жизнь, так резко отличающимся от взгляда нашего девятнадцатого столетия. По крайней мере, мы убеждены, что доставляем читателям занимательное чтение. Прибавим еще, что бегство Казановы из венецианских пломб наделало тогда большого шуму в Европе и доставило ему чрезвычайную известность. Из этих темниц бежать почти невозможно. Это рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями непреоборимыми. Правда, этот рассказ, представленный в виде отрывка, много теряет в силе и занимательности. Перевести же всю книгу невозможно. Она известна некоторыми эксцентричностями, откровенное изложение которых справедливо осуждается принятою в наше время нравственностию. Один только эпизод во всей книге не заключает в себе этих эксцентричностей. Его-то мы и представляем теперь нашим читателям.
<предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>
Два-три рассказа Эдгара Поэ уже были переведены на русский язык в наших журналах. Мы передаем читателям еще три рассказа. Вот чрезвычайно странный писатель — именно странный, хотя и с большим талантом. Его произведения нельзя прямо причислить к фантастическим; если он и фантастичен, то, так сказать, внешним образом. Он, например, допускает, что оживает египетская мумия гальванизмом*, лежавшая пять тысяч лет в пирамидах. Допускает, что умерший человек, опять-таки посредством гальванизма, рассказывает о состоянии души своей* и проч., и проч. Но это еще не прямо фантастический род. Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности. Не такова фантастичность, например, у Гофмана. Этот олицетворяет силы природы в образах: вводит в свои рассказы волшебниц, духов и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновенном мире, принимая этот мир за высший, как будто сам верит в непременное существование этого таинственного волшебного мира… Скорее Эдгара Поэ можно назвать писателем не фантастическим, а капризным. И что за странные капризы, какая смелость в этих капризах! Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека! Кроме того, в Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей. Попробуйте, например, вообразить сами что-нибудь не совсем обыкновенное или даже не встречающееся в действительности и только возможное; образ, который нарисуется перед вами, всегда будет заключать одни более или менее общие черты всей картины или установится на какой-нибудь особенности, частности ее. Но в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете. Например, в одном из его рассказов есть описание путешествия на луну, — описание подробнейшее, прослеженное им почти час за часом и почти убеждающее вас, что оно могло случиться. Так же точно он описал в одной американской газете полет шара, перелетевшего из Европы через океан в Америку*. Это описание было сделано так подробно, так точно, наполнено такими неожиданными, случайными фактами, имело такой вид действительности, что все этому путешествию поверили, разумеется только на несколько часов; тогда же по справкам оказалось, что никакого путешествия не было и что рассказ Эдгара Поэ — газетная утка. Такая же сила воображения, или, точнее, соображения, выказывается в рассказах о потерянном письме, об убийстве, сделанном в Париже орангутангом, в рассказе о найденном кладе* и проч.
Его сравнивают с Гофманом. Мы уже сказали, что это неверно. Притом же Гофман неизмеримо выше Поэ как поэт. У Гофмана есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку. Это всего виднее в его нефантастических повестях, каковы, наприм<ер> «Мейстер Мартин» или изящнейшая, прелестнейшая повесть «Сальватор Роза». Мы уже не говорим о его лучшем произведении «Кот-Мурр». Что за истинный, зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты, и рядом — какая жажда красоты, какой светлый идеал! В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б только можно было так выразиться. Видно, что он вполне американец, даже в самых фантастических своих произведениях. Чтоб познакомить читателей с этим капризным талантом, представляем пока три его маленькие рассказа.
<примечание к статье «Процесс Ласенера»>
Мы думаем угодить читателям, если от времени до времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода, — не говоря уже об этом, чтение таких процессов, нам кажется, будет небесполезно для русских читателей. Мы думаем, что кроме теоретических рассуждений, помещаемых так часто в наших журналах, узнание практического, наглядного применения этих теорий к разным процессам на Западе было бы тоже небесполезно для наших читателей. Выбирать процессы мы будем самые занимательные. За это ручаемся. В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И всё это при безграничном тщеславии. Это тип тщеславия, доведенного до последней степени. Процесс был веден доблестно-беспристрастно, передан с точностью дагерротипа, физиологического чертежа…
«Свисток» и «Русский Вестник»
Я сейчас говорил о чистосердечии. Я совершенно уверен, что статья «Русского вестника», в первом номере за нынешний год: «Несколько слов вместо современной летописи» — вполне чистосердечна; тем не менее она произвела на меня чрезвычайно странное впечатление; какая-то в ней раздражительность, можно даже сказать, какая-то страстность, конечно происходящая от благородного негодования, но вместе с тем и вредящая делу. Говорят же, что порывы страстей губительны; это вы прочтете в любой прописи. Дело вот в чем: в этой статье «Русский вестник» уведомляет своих читателей (которых у него очень много, и дай ему бог еще больше, потому что «Русский вестник» стоит читать*), что с нынешнего года у «Русского вестника» происходит перемена в способе издания журнала: его «Современная летопись», удерживая по-прежнему характер преимущественно политический, получила отдельное существование, впрочем неразрывное с «Русским вестником», а вместо этого отдела в самом «Русском вестнике» заведется с нынешнего года отдел критический. Это, по-моему, очень хорошо. Остается только ждать, что нового скажет «Русский вестник» в своем новом отделе. Вторая книжка «Русского вестника» уже вышла с библиографическим отделом, покамест еще незначительным*, но мы подождем: мы терпеливы. А теперь я хочу обратить внимание читателей только на вышеназванною мною статью в первом номере «Русского вестника», которую можно принимать за что-то вроде вступительного слова к его будущей критической деятельности. Начинается она уведомлением, что «Русскому вестнику» в начале его деятельности другие журналы некоторое время ставили в упрек, что он мало занимается литературною критикой, потом упрек этот замолк, и журналы, делавшие его, сами потеснили свою литературную критику и дали обширное место политическим обозрениям. Из этого читатель видит, замечаю я от себя, что «Русский вестник» первый угадал потребность или, лучше сказать, непотребность нашей критики в данный момент и изгнал ее из русской литературы, что непрозорливые наши журналы долго ставили ему это в упрек, но наконец догадались, что критика в настоящее время — лишнее, и завели политическое обозрение, конечно по примеру «Русского вестника». Русские журналы сделали хорошо: умным людям подражать всегда следует. Но представьте, как мы мало знаем современную действительность! Я-то ведь думал до сих пор, что отдел политики завелся в русских журналах вовсе не из подражания «Русскому вестнику», а просто вследствие расширения поля действия русской литературы несколько лет тому назад. Но хорошие вещи никогда не поздно узнавать. Далее «Русский вестник» уведомляет, что в тогдашних журналах исчез также обычай литературно обозревать друг друга, что «Современник» доказывал, что «Отечественные записки» никуда не годятся, а «Отечественные записки» — что «Современник» никуда не годится; но что как только начал издаваться «Русский вестник»*, обычай этот вдруг прекратился. «В первый год существования „Русского вестника“ мы указали на эту черту наших литературных нравов, — говорит статья «Русского вестника», — на этот процветавший тогда в журналах обычай: под видом литературных обозрений зазывать к себе публику. Обычай этот тогда же прекратился, но ненадолго: натура взяла свое». Итак, видно из достойных и в высшей степени сознательных слов статьи, что «Русскому же вестнику» обязана наша литература и уничтожением этих смешных обозрений друг друга, хотя, к несчастью, и ненадолго, потому что натура русских журналов взяла свое. Мне, конечно, очень жаль русских журналистов, что у них такая натура; но насчет журнальных обозрений, уничтоженных «Русским вестником», к моему ужасу и даже стыду, я не совсем с ним согласен. Ведь литература совокупилась в журналах. Следственно, если в «Отечественных записках» появится прекрасная статья, то ведь издатель другого журнала уж по обязанности своей должен указать на нее публике. Наконец, есть такие странные журналисты и их сотрудники, которые даже любят литературу и сочувствуют ее явлениям с порывами неопытного, но горячего юношества: так и тянет поговорить о новом интересном литературном явлении, и вдруг благоразумие заставляет всех молчать. Вышла какая-то странная противоположность. Прежде обозревали друг друга для зазыва к себе публики, а теперь молчат друг о друге, может быть, тоже для зазыва к себе публики. И потому мне кажется, что нападать следовало бы не на взаимные обозрения друг друга, а на пристрастность и недобросовестность этих обозрений. А то теперь как будто все журналисты, изгнав у себя взаимные обозрения и признав их смешными и нелепыми, тем самым точно согласились перед всей публикой, что они (то есть журналисты) и не способны быть беспристрастными и добросовестными; тем же самым как будто признались перед всей публикой, что они и прежде, во время взаимных обозрений, были пристрастны и недобросовестны, а обозревали друг друга только для зазыва публики. Странное признание, даже, по-моему, немного смешное, хотя, конечно, достойное уважения, потому что показывает много искренности. Но не знаю почему, может вследствие молодых моих лет, мне кажется, что можно взаимно обозревать друг друга и остаться честным и добросовестным. А польза и литературе была бы, и нравственный пример хороший. Ведь публика сейчас увидит, кто пристрастен, кто беспристрастен, поймет это и будет уважать литературу и литераторов. Это было бы даже что-то вроде золотого века. Согласен, что это слишком молодая мысль… Но, странное дело, ведь говорит же «Русский вестник», что обычай этот хоть и прекратился сейчас же после его указания, но ненадолго и что натура взяла свое. Мне даже кажется, что натура и «Русского вестника» взяла то же самое. Он, например, ужасно сердится на «Свисток», и дельно, дельно, хорошенько его! и первое вступительное свое слово начинает ненавистью к «Свистку». Везде у него «Свисток», в каждом факте нашей литературы он видит «Свисток», в истории тоже, даже на будущность России имеет, по его мнению, ужасное влияние «Свисток»!.. Но что я! Проговорился прежде срока. Впрочем, если проговорился, то замечу уж тут кстати, что именно это-то и есть та страстность, та раздражительность, доходящая до страстности, которая меня поразила в статье «Русского вестника». Но читатель увидит это сам: мы вместе с ним прочтем эту статью. Будем же продолжать это чтение.
«Итак, натура взяла свое, — говорит статья, — брань возвратилась, только уже не литературная, сброшенную маску литературных объяснений поднять было совестно, и раздались объяснения более откровенные, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов* (тут сделана выноска. «Современник», № 1. Мы так и ожидали, что «Современник»). Не служит ли это также некоторым доказательством, что время наше есть время не совсем литературное?»
Печальное явление, истинно печальное явление. Но вот что надо заметить: эти балаганы с песнями и с свистунами, с визгом и проч. напрасно упомянуты негодующим журналом во множественном числе. «Свисток» в строгом, так сказать, в официальном смысле, у нас один — это в «Современнике». Если «Русский вестник» не употребляет здесь известной риторической фигуры умножения: наши Пушкины, наши Лермонтовы, наши свистки и проч., то я беру на себя смелость заметить ему, что уж одним этим умножением он придает этому досадному «Свистку» слишком уж большое значение. Не смею решать (я слишком молод), но мне кажется, что такой серьезный, такой деловой журнал, как «Русский вестник», мог бы даже не обращать ни малейшего внимания на этот «Свисток»; а вместо того, у «Русского вестника» даже двоится в глазах от негодования (конечно, благородного). Он уже видит «Свисток» везде; «Свисток» умножается в глазах его; обращается в целые балаганы. Мало того, почтенный журнал даже меряет всю нашу литературу по «Свистку» и заключает, по «Свистку» же, что наше время «есть время не совсем литературное». Если уж высказывать свое мнение, то, по-моему, наше время именно литературное; «Свисток» же ни мало не служит доказательством его нелитературности. Но продолжаем следить за статьей.
Статья говорит, что до сих пор «Русский вестник», следуя характеру времени, воздерживал себя от интересов и вопросов, которые имеют характер более общий и теоретический и которым не благоприятствовали время и требования общества. Наступило ли теперь другое время, появились ли новые задачи, чувствуется ли в обществе потребность других интересов, кроме чисто практических, сопряженных с трудом гражданского строения и преобразования, — «Русский вестник» решить не берется; но, однако ж, думает, что до некоторой степени существует эта потребность… а затем и объявляет, что вследствие этой потребности и открывает у себя новый отдел критики и библиографии.
Я этому очень рад. Правда, в последние годы нам как будто было не до литературы. Всё у нас как будто зашевелилось, как будто куда-то собиралось. Мы как будто вдруг открыли Америку. Ожиданий, надежд была бездна. Но мало-помалу мы не то чтоб успокоились, не то чтоб и разочаровались, а так, перестали ожидать чего-то немедленного. Нам даже вдруг показалось, что под нами как будто нет почвы, нет и указчика в смысле центростремительной силы; что мы не согласились в чем-то, не умеем еще чего-то, одним словом, обвиняли сами себя и отчасти напрасно, потому что, по-моему, всё происходило оттого, что мы — дилетанты. В самом деле, у нас, например, есть потребности, мы хоть и толкуем об них, но как-то не так, как в других местах, где толк тотчас же прилагается к делу, а следственно, каждый толкующий заинтересован так, как только можно быть заинтересованным в своем собственном деле. Мы же хоть и с теми же потребностями, но принуждены были толковать об них отвлеченно, в виде искусства для искусства, упражнялись в диалектике, говорили о высоком и прекрасном… и только. Правда, мы в это время учились; вот, например, «Русский вестник»: он нас учил неутомимо; он толковал и о судах, и о присяжных, и о тюрьмах, и об общине, и о полиции; даже приятно было слушать со стороны. Но всё тем и кончилось, что мы слушали со стороны. Ваши споры, задоры, ваша диалектика, ваша полемика оставались для нас одной книгой, а потому и отзывались чем-то книжным, а не живым. Как будто и под вами не было настоящей почвы, как будто и вы в настоящую жизнь не вошли. И всё более и более от вас веяло таким ораторством, пальмерстонством, кавурством*…У вас, например, был хороший отдел политики, а в сущности, для чего нам политика? так, хорошенькая игрушка. Я читал статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием; с удовольствием даже читал я и об тротуарах, посыпаемых песком в июле месяце* по приказанию полицейского служителя. Очень умно было написано; но если б умному человеку, написавшему эту обличительную статейку, было что делать, он бы не распространил ее на столько страниц, что было довольно смешно. Я и вывел из этого заключение, что если у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность. Мало того, еще так недавно, с небольшим десятилетие, литературная деятельность была для нас так полезна, что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколение, немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались всё больше и больше… Это было в последнее время деятельности Белинского. Одним словом, литература входила органически в жизнь. Вот почему мне кажется, что литературная критически-синтетическая, если можно так выразиться, деятельность наших представителей литературы приятна бы была нам и теперь. Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья… Мы даже видим, что нам еще много надо бы сделать в этом смысле и что многое в этом смысле еще не сделано. Вот почему я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее и с обоих концов: с нас и с тех, которые недавно милосердой волей получили такое огромное расширение своих прав гражданства. Мне даже кажется, что без нравственного очищения, без внутреннего развития, — никакие специальности, ни Пальмерстоны, ни Громеки, ни даже обличители посыпанья песком, не войдут настоящим образом в наше сознание; конечно, и они тоже способствуют нравственному развитию, даже очень; но вместе с этим не мешает и чего-нибудь посинтетичнее, даже очень бы не мешало. Жаль, что не умею я выразиться. Мне даже кажется, что теперь даже так называемая изящная литература, какой-нибудь, например, Пушкин, Островский, Тургенев всё еще полезнее для нас даже самых лучших политических отделов и premiers-Moscou[26] наших журналов. (Батюшки! что это я такое сказал! Но — слово не воробей: вылетело, не воротишь). Я потому, впрочем, это думал, что всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово, — слово великое дело! А к сформированному погуманнее человеку получше привьются и всякие специальности. Человек-то этот еще не совсем сформирован у нас — вот беда! Специальности-то хоть и понимаются нами, да как-то не прививаются еще к нам. Конечно, специальности и теперь необходимы. Это наука. Необходимы, необходимы! — Это одно из самых первых дел. Но и то хорошо и это хорошо. Всё бы вместе, в стройном согласии — самое лучшее. По крайней мере, в одной только литературе мы еще как будто не дилетанты. Конечно, литература и все ее впечатления далеко не составляют всего, но она способствует к составлению всего. Правда, тогда был Белинский, а теперь человека-то такого симпатичного нет. Безделица! А новый-то человек нам бы, наверно, сказал что-нибудь новое, успокоительное. Разве подождать, что скажет «Русский вестник». Но «Русский вестник» еще не начал нового отдела, а уж начинает говорить странные вещи. Вот это-то меня и озадачивает, даже как будто разочаровывает. Он заговорил было о том, какой характер будет иметь их новый отдел, и тотчас же опять свернул на «Современник» и на «Свисток» его; даже подумаешь, пожалуй, что «Русский вестник» и заводит-то у себя новый отдел не для чего иного, как в пику «Современнику» и «Свистку» его, — мысль нелепая и которой, по-настоящему, я бы должен был стыдиться. Я, впрочем, и стыжусь ее и всеми силами стараюсь не верить ей. Впрочем, об «Современнике» говорится в «статье» то, что об нем теперь все говорят*; но порыв, но страстность статьи поражают невольно:
«Только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература, — говорит статья, — роется в собственных дрязгах, не видя перед собой божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».
Сильно сказано, но верно. Согласитесь сами. И далее:
«Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедовалась теория, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право национального поэта… и т. д., и т. д.».
И далее:
«Книжки этих журналов, где требовалось от литературы полнейшее самоотречение, где во имя дела и практических интересов уничтожалось все, без разбора и смысла, книжки этих журналов наполовину наполнялись самыми бездельными литературными рассуждениями и сплетнями, бескорыстными или корыстными упражнениями в искусстве для искусства. Ни одна литература в мире не представляет такого изобилия литературных скандалов, как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык. Очевидно, что такого рода занятие литературой не есть признак чего-либо доброго, выражение какой-либо силы, а, напротив, признак бессилия и выражение ничтожества».
Мне кажется, что «Русский вестник» судит уж слишком под влиянием гнева и даже как-то безотрадно. Это жаль. Мне кажется, что уж слишком большую долю дают этим скандалам в развитии русской литературы. Право, так. Мне кажется даже, что наши литературные скандалы происходят только отчасти от бессилия и ничтожества, и я всё еще держусь мысли, что они происходят от тузов и столпов нашей литературы, именно от тех, которые кричат против них. И тому есть причины; я их изложу ниже. Но отчасти и потому, кажется, они происходят, что иным делать больше нечего. Младая кровь играет. Беспокойство, потребности жизни, потребности чего-то, потребности хоть как-нибудь пошевелиться, — вот и скандальчики. Оно хоть и скверно, но все-таки это не признаки какого-нибудь бессилия и ничтожества. А вот та часть скандалов, и самая огромная, которая остается на совести тузов и столпов литературных, вот эта может быть признаком их бессилия и ничтожества, хотя между этими столпами есть чрезвычайно много не ничтожных людей, а, напротив, очень умных, которые могли бы быть очень полезны. Но какое-то самолюбие поедает их. Всё это распалось на кружки, на приходы. Всё это готово считать, как мы уже сказали где-то, свою домашнюю стирку за интересы всего человечества.* Каждый считает себя исходным пунктом, спасением, всеобщей надеждой. Каждый лезет в триумфаторы. Умных людей много, да и роль их пришла: все к ним обращаются; все от них ждут и разрешений и указаний, на них надежда; а они как догадались, что пришло их время, то есть догадались, что они указатели и стали потребностью общества, тотчас же и свихнулись с дороги. Проповедовали прежде гуманность и все добродетели, а чуть-чуть дело коснулось до них практически, они и передрались: куда девались все совершенства! Я и рад действовать, говорит иной столп, но с условием, чтобы меня считали центром, около которого вертится вся вселенная. Потребность олимпийства, пальмерстонства заедает наших литературных кациков до комического, до карикатуры. Один даже и с талантом писатель вдруг среди бела дня сходит с ума и кричит на вора караул:
Другой, бесспорно умнейший человек, встречается с другим литератором и долго колеблется, что ему протянуть: палец или два пальца, чтоб, дескать, не счел меня тот как-нибудь своей ровней; пожалуй, сдуру-то и сочтет. Третьего освистали, кончено дело! Значит, всё падает, всё разрушается, светопреставление наступает — меня освистали! Эта мания считать себя центром вселенной и объяснять всемирные события своими домашними обстоятельствами напомнила мне недавний прием Лакордера в Французскую академию*. Гизо, отвечая на его речь и упомянув в своей речи о том, какие славные надгробные слова произносил Лакордер и еще над какими знаменитыми покойниками, прибавил: «Провидение как будто выбирало для вас покойников, достойных вашего красноречия, и ваше красноречие оказалось достойным этого выбора». Что за бессмыслица, вот дичь-то! Подумать только о том, что провидение нарочно будет подбирать хороших покойников, единственно для того только, чтоб аббату Лакордеру можно было поблистать над ними своим красноречием! Фу, какая ерунда! и это сказал Гизо — человек умный. Печальный пример того, что и умный человек может иногда ужасно провраться, и даже в хладнокровном виде. Что ж будет, если он обуреваем страстью? Но обратимся к нашим: мне кажется, по молодости моих лет разумеется, что всё это разъединение, а за ним и скандалы происходят у нас отчасти и оттого, что уж слишком много развелось одинаково умных людей; будь над ними один, самый умный, они бы, может быть, как-нибудь и подчинились ему, и всё бы пошло хорошо. Но шутки в сторону: человека нет — это главное, центра нет, горячей, искренней души нет, новой мысли нет, а главное — человека, человека прежде всего! Есть книжки, есть правила о гуманности, есть расписание всех добродетелей, есть много умных людей, наследовавших гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении, — вот что есть. Но этого мало. С этакой обстановкой, даже на лучшем пути, придется, пожалуй, самих себя обвинять, а не то, что дороги плохи.
Всё это я наговорил теперь только так, для упражнения в слоге и красноречии; но, разумеется, все это нисколько не касается «Русского вестника». Напротив, мы многого ждем от него. Мне вот только кажется, что он немного увлекся, говоря выше о русской литературе и даже побранив ее за то, что она «маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык», — «Русский вестник» был, очевидно, рассержен, хотелось хоть на ком-нибудь сердце сорвать; подвернулась литература — вот ей и досталось: не подвертывайся. Мне кажется тоже, что литература наша, хоть и новая, хоть и недавняя, но вовсе уж не такая мизерная. Она совсем не скудная: у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский, и это уже литература. Преемственность мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Кроме этих писателей, есть много и прежних и новых, которых не отвергла бы любая европейская литература. И неужели явление Пушкина выработало нам один только язык? Неужели ж «Русский вестник» не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения русского духа и русского смысла? Литература без науки, говорите вы; но зато с сознанием, говорю я, и это сознание, хоть и молодое, хоть и не установившееся, но широко начавшееся и уже благонадежное. У нас уже давно сказано свое русское слово. Блажен тот, кто умеет прочесть его. За что же вы хвалите Пушкина, за что же вы сами говорите выше, что он национальный поэт, когда признаете за ним только одну выработку языка? Уж не для того ли вы и похвалили Пушкина, чтоб сказать что-нибудь в пику «Современнику»?* Не верю этому подозренью! Постыдная мысль, оставь меня! Просто-запросто вы разгорячились; я подожду, когда вы будете хладнокровнее.
Но увы, к ужасу моему, «Русский вестник» не становится хладнокровнее, напротив, всё раздражительнее и раздражительнее, и, что всего досаднее, всему причиною опять тот же «Свисток». Досадный «Свисток»! и сколько еще он вперед наделает у нас бед? Да вот судите сами. Только что «Русский вестник» разговорился о том, как мало бывают действительны принудительные сближения племенных особенностей, как, напротив, легко и успешно совершается это дело свободным развитием нравственных сил; только что он заговорил было, для примера, о печальном положении славянских племен и их наречий и для контраста— о приятном положении немецких племен и их языка, он вдруг заключает:
«В славянском же мире, забытом или подавленном историей, до сих пор еще ни одно из племенных начал его не достигло бесспорного могущества, не возобладало даже над ближайшими элементами. Россия представляет, бесспорно, великое государственное могущество, страшную громаду, занимающую неизмеримые пространства Европы и Азии, но что такое русская народность? Что такое русская литература, русское искусство, русская мысль? Выгодно ли будет для России, чтобы русская народность и русское слово оставалось позади всякой другой народности и всякого другого слова в Европе? Хорошо ли будет для России, чтобы мы оставались вечными мальчишками-свистунами, способными только на мелкие дела, на маленькие сплетни и скандалы?»
Господи боже! — восклицаю я, — да неужели ж «Свисток» имеет такое всенародное значение в русской жизни и в русской будущности? От таких великих вопросов переходить прямо к «Свистку» и находить в нем только завязку и развязку всех русских недоумений! Да неужели ж вся Россия, все русское общество обратилось в свисток? Разумеется, невыгодно оставаться позади всех, но Россия, я уверен, мы все в этом уверены, вовсе не считает выгоднее обратить все свое население в свистунов, и совершенно напрасно вы задаете всему русскому обществу такой вопрос. Оно, может быть, и не слыхало, что такое «Свисток». Да этот «Свисток» вам просто не дает покою; спать не дает; вы всюду его видите, всюду встречаете, из-за него ничего не замечаете. После этого понятны и ваши предыдущие вопросы. Я оставляю в покое ваше предположение, что Россия не возвысилась еще ни над одной славянской народностью; но вопрос ваш: «Что такое русская народность?» — нельзя не поднять. Странно, что вы ее не замечаете. Конечно, сидя в кабинете, трудно что-нибудь заметить, даже и при великой учености. Надобно, чтоб обстоятельства заставили нас пожить вместе с народом и хоть на время, непосредственно, практически, а не свысока, не в идее только разделить с ним его интересы, тогда, может быть, мы и узнаем народ и его характер, и что в нем кроется, и к чему он способен, и какие его желания, осмысленные им и еще неосмысленные, и узнав народ, может быть, и поймем его народность, и что она обещает, и что из этих обещаний непременно разовьется и исполнится. Русский народ трудно узнать, не принадлежа к нему непосредственно и не пожив с ним его жизнью. А когда поживете с ним, то его характер напечатлеется в вашей душе так сильно, так ощутительно для вас, что вы уже потом не разуверитесь в нем. Русский народ отстал от высшего своего сословия, раздвоился с ним еще со времен реформы. С тех пор тяжелые обстоятельства, уничтожающиеся всё более и более в наше время, еще более усилили это разъединение. И потому к народу заглянуть трудно. Он и говорит с нами, он и служит нам, он и всегда около нас, но мы его не знаем. Но неужели ж вас не поражали по крайней мере факты: одинаковость языка в огромной полосе России, одинаковость привычек, обычаев, умозаключений, правил, надежд и умственного развития? Посмотрите, как он одинаков даже в своих уклонениях, в своих таинственных и иногда уродливых уклонениях мысли и попыток сознания, но всегда сильных и глубоких в своем основании. Нет, в нем таится мысль, и великая мысль, и, может быть, скоро выразится. Не понимаю, что вы разумели под вашим вопросом: что такое русская народность? Не то ли, что она до сих пор не заявила себя вполне? Так ведь в этом она не виновата. Она заявила только в истории свою необъятную силу отпора и самосохранения; ведь и этого уже очень довольно, взяв в соображение все бывшие неблагоприятные обстоятельства, и если далеко еще не развилась, то сомневаться в ней уж никак нельзя. По крайней мере, наверно можно сказать, что «Свисток» не будет иметь на нее никакого влияния и бояться нечего. Вы спрашиваете: где русская наука? Про науку я скажу только то, что, по моему убеждению, наука создается и развивается только в практической жизни, то есть рядом с практическими интересами, а не среди отвлеченного дилетантизма и отчуждения от народного начала. Вот почему у нас и не было до сих пор русской науки. В этом вы правы. Но, спрашивая: «что такое русская литература, русское искусство, русская мысль?», — решительно неправы. Русская мысль уже во многом заявила себя. Надобно получше глядеть, непосредственнее принимать факты, поменьше отвлеченности, кабинетности, не принимать своих частных интересов за общественные, и тогда можно многое разглядеть. Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе, и так плодотворно, так сильно, что трудно бы, кажется, не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: «что такое русская литература?» Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всечеловечности, всеотклика. Он усвоивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает ее в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира. Подражатель, скажут нам, отсутствие собственной мысли. Но ведь так не подражают. Он является везде en maître;[27] так подражать, значит творить самому, не подражать, а продолжать. Неужели такое явление кажется вам несамостоятельным, ничтожным, ничем? В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность всепонимания, такое свидетельство о всечеловечности и, главное, в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть, главнейшая особенность русской мысли; она есть и в других народностях, но в высочайшей степени выражается только в русской, и в Пушкине она выразилась слишком законченно, слишком цельно, чтоб ей не поверить. (Я уже не говорю про то, что был Пушкин собственно для нас, собственно для выражения нашей русской национальной поэзии? Неужели ж вы сходитесь с странными мнениями г-на Дудышкина и его чудовищных последователей в «СПб. ведомостях» № 61, 1861 года?)* С Пушкина мысль идет, развиваясь всё более и шире. Неужели такие явления, как Островский, ничего для вас не выражают в русском духе и в русской мысли? Неужели ж потому только, что где-то свищут, вы уж так во всем отчаялись! О пагубное влияние «Свистка»! Да пусть его свищет. Послушайте, «Русский вестник», между нами, под секретом, ведь иногда свист и полезен, ей богу! Неужели ж, по крайней мере у вас, ни одной надежды не осталось? Проклятый «Свисток»!
Нет! мы ошиблись! есть надежды. И мы с жадностью читаем дальше:
«При благоприятных условиях русскому языку могла бы быть суждена великая будущность в славянском мире; он мог бы стать бесспорно центром единения его разрозненных племен. И, по-видимому, история готовила наш язык к этому назначению».
Ну, слава богу! Уж по крайней мере теперь наверно можно сказать, что уж тут «Свисток» не помешает: «Свисток»! крошечный отдел в «Современнике», изредка появляющийся, да еще помешает такому великому факту «великой будущности русского языка в славянском мире»!
Затем «Русский вестник» излагает слегка, из каких стихий сложился теперешний русский язык, и восклицает:
«Когда же этот русский язык, слагавшийся так долго и так трудно, как бы предназначаемый к чему-то великому и всемирному, когда же окажется он в своей литературе достойным этого предназначения? Когда этот тысячелетний ребенок будет признан человеком совершеннолетним, способным к самостоятельной жизни и мысли? Когда перестанет этот язык чувствовать себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и не способного ни к чему, кроме свиста и визга?»
Что такое! глазам не верю! Опять «Свисток» помешал; такой великой будущности России и русского языка мешает — и кто же? — «Свисток»!
Не верю; перечитываю еще раз, два, три, и недоумение, даже ужас овладевают мною. Уж не случилось ли чего-нибудь с «Русским вестником»?
Как же можно весь русский язык, то есть всю русскую литературу, приравнять к одному «Свистку»! Да неужели ж она в самом деле, без шуток, заключается только в одном «Свистке»? Неужели и всё прошедшее ее был до сих пор только один «Свисток»? Читайте, сказано прямо: что весь русский язык, весь (весь!) чувствует себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и неспособного ни к чему, кроме свиста и визга? Да в прошедшем-то! — кричу я, — в прошедшем-то он по крайней мере доказал, что хоть к чему-нибудь был способен, кроме свиста и визга! Как же можно еще сомневаться в нем, если даже согласиться с вами, что в настоящей, в современной литературе, кроме свиста и визга, нет ничего и не может быть ничего?
«Станет ли он действовать орудием зрелой мысли и знания, — продолжает «Русский вестник», — живым выражением великих интересов гражданственности, окажется ли в нем действительно всемирная, связующая и созидающая сила? Будет ли он готов к жизненной пробе, которая наступит рано или поздно, и не застанет ли она его врасплох? История не ждет, время не задерживает своего хода…»
Грозные и торжественные слова. Да неужели ж всё это по поводу «Свистка»? Неужели ж «Свисток» до того поразил «Русский вестник», что он и в будущем видит одни только ужасы для всего и для всех, и всё оттого, что в «Современнике» есть маленький отдельчик — «Свисток»! Да бог с ним, с «Свистком»! Какое дело до него русской литературе? Вот уж подлинно-то сами поражены, раздражены да и думаете, что уж всё погибает, всё рушится, светопреставление, и всё от существования «Свистка»!
Несчастный, безнравственный «Свисток»! несчастный уже одними своими пороками! к тебе обращаюсь я: заруби себе на нос, что время не ждет; наступит жизненная проба, застанет тебя врасплох, за ней нагрянет история, а уж эта и подавно не ждет, — ну что ты скажешь тогда в свое оправдание? Ведь вся Россия через тебя может не получить своего развития, — понимаешь ли ты это? Ведь это у тебя останется на совести. И не стыдно тебе после этого!
Взгляни, что сделал ты с «Русским вестником»!
Но «Русский вестник» ополчается и хорошо делает; между прочим, он говорит в заключение:
«Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести».
И хорошо, очень хорошо! Одного бы только желалось, чтоб прошло всё это раздражение. Я уверен, что в «Русском вестнике» не может быть бесполезного и совершенно неудавшегося отдела. В новом отделе своем он скажет нам что-нибудь новое и полезное. Но раздражение, раздражение! Вот, например, выше: «воры, воришки…» — можно бы и помягче. А впрочем, во всяком случае, статья совершенно чистосердечная.
Ответ «Русскому Вестнику»
Прежде всего мы решаемся сделать одно признание, которое, может быть, удивит «Русский вестник». Именно: мы получили его книжку за день до выхода нашей. Прочтя его злую статью против нас, мы наскоро успели сделать одну заметку в смеси нашего журнала*. В этой заметке, уведомив наших читателей, что «Русский вестник» до того уж рассердился, что потерял всякое хладнокровие, всякую возможность владеть собой, мы упомянули, что будем отвечать ему тогда, когда он успокоится и хоть несколько придет в себя. Заметка наша была написана резко, заносчиво — соглашаемся в этом. Прошло несколько дней, и мы раскаялись: нам показалось, что мы сами вышли из себя, что если б даже мы были не согласны с убеждениями противников, то все-таки должны уважать всякое честное и серьезное убеждение, каково бы оно ни было. «Русский вестник» нашими выражениями мог обидеться, да и перед публикой мы как будто рекомендовали себя за людей, не умеющих спорить и с достоинством отстаивать свое мнение. Если б «Русский вестник» мог нам поверить, то, конечно, он удивился бы такому признанию.
Но мы уверены, что он не только нам не поверит, но даже не может поверить. Такое раскаяние, во всяком случае, должно казаться ему слишком смешным и нелепым. Мы решились извиниться; но, не отлагая намерения отвечать на его статью, мы перечли ее снова.
Каково же было изумление наше, когда мы увидели, что вторичное, спокойное чтение ее еще усилило в нас наше чувство негодования. Нам показалась она не только злою и заносчивою в высшей степени, — она показалась нам дурным поступком со стороны «Русского вестника». Кроме того, мы увидели, что в ней столько самой крупной невежливости, столько самой мелочной нетерпимости, столько неуважения к личности других, что прежняя заметка наша нам показалась даже слишком нежною. По крайней мере, мы уже не обвиняли себя более в том, что свое личное оскорбление приняли за негодование против взглядов враждебной нам статьи. Да это мнение было самое естественное негодование против направления статьи, а не эгоистическое чувство. И потому мы не только не желаем отказываться от нашей заметки, но даже хотим подкрепить ее доказательствами и тем оправдать себя перед публикой в нашей кажущейся заносчивости.
Прежде всего надо объяснить, с чего началась вся история «Русский вестник» был крайне обижен и ужасно рассердился за юмористическую статью нашу, в мартовской книге «Времени» под названием: «„Свисток“ и „Русский вестник“», — он обиделся до скрежета зубов: в противном случае не обрушился бы он на нас такою громовою и, главное, длиннейшею статьей, — он, молчавший пять лет и доселе едва замечавший своих противников, разумеется из презрения к ним. В нашей статейке мы, видите ли, осмелились подивиться, что «Русский вестник» придает слишком большое значение «Свистку» «Современника», до того, что даже боится за будущность всей России. Скажите, как можно было не смеяться над таким преувеличением, тем более что самая комическая сторона его было оскорбленное самолюбие? В этом промахе «Русского вестника» выразилось самое наивное самолюбие и самым наивнейшим образом: он до того себя возвеличил в собственных самодовольных мечтах и грезах о самом себе, что уж невольно, бессознательно придал и противнику своему необыкновенные размеры, вероятно соображая, что противник «Русского вестника» не может быть не значителен. Так, когда подыскивают партию в преферанс какому-нибудь мандарину с золотым шариком, то непременно подбирают приличных его мандаринскому значению партнеров «Русский вестник» теперь отговаривается и хочет уверить нас, что мы преувеличили и исказили смысл его статьи о «Свистке» и что он будто бы вовсе не по поводу «Свистка» грозил нам всемирной историей. Может быть, «Русский вестник» и прав, разумеется, трудно представить себе такую нелепую самонадеянность, выраженную в такой художественной полноте; мы готовы теперь верить объяснению «Русского вестника» и говорим это совершенно искренно. Но однако ж, прочтите его статью (№ 2 за этот год). Там буквально, слово в слово, напечатано так, как мы представили в нашей статье «„Свисток“ и „Русский вестник“». Можно справиться: дело налицо. Чтоб зацепить и уязвить нас, «Русский вестник» предполагает, что мы будто бы обиделись его статьей и приняли его выходку против «Свистка» «Современника» на свой счет*. Мы уверяем почтенное издание, что мы на свой счет ничего чего не принимали, в статье его не было никакого, даже отдаленнейшего намека на нас. А если б даже мы и завели у себя отдел под названием «Свисток», то опять-таки уверяем почтенное, но враждебное нам издание, что и тогда не обиделись бы его выходками против нашего «Свистка». Написали же мы нашу статью просто смотря со стороны на грозного литературного бойца, протрубившего еще в начале года с олимпийским величием о том, что он «идет, идет!*Внимайте, трепещите и покоряйтеся» и вдруг споткнувшегося на простом «Свистке».
Была у нас и еще причина для нашей статьи, и, пожалуй, мы ее выскажем.
Дело в том, что вы, «Русский вестник», толкующий о приличиях, читающий нам на целых страницах правила мудрости, до того сами невоздержны и задорны, что не терпите ни малейшего противоречия, когда дело дойдет до вас. Пять лет величаво молчали вы, хотя, впрочем, изредка и поскрипывали зубками, и вдруг прорвались. Вы хотели поставить себя сначала в благородное положение и презрительно смотрели на ругающиеся между собою журналы, но не выдержали и сами пустились в ругательства, да еще в какие! Таких давно не бывало. А между тем мы ждали от вас совсем другого, признаемся в этом искренно и правдиво. Мы сами, пять лет тому назад, встретили ваш журнал с радостью и надеждами, и не говорите нам, что мы будто бы глумились над г-ном Громекой и хотели имя его превратить в собрикет*. Если мы сказали, что читали статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием, то сказали истинную правду, опять-таки уверяем, что говорим это искренно. Тогда внове был этот раздавшийся вдруг по всей России горячий говор о новых делах и новых вопросах. Как будто все вдруг об чем-то догадались, что то увидели новое, встрепенулись, ободрились и помолодели. О, с какими надеждами мы вас тогда встретили! Помню я это время, помню! Надо отдать справедливость и вашему журналу, впрочем, он и теперь, по некоторым отделам своим, один из самых лучших наших журналов. Но время проходило, и нам все более и более стало не нравиться направление его В нем все более и более проявлялась какая-то ограниченная самонадеянность, безграничное самодовольство, жажда воскурений и поклонений. Мы сказали уже раз, что от вашего журнала повеяло таким пальмерстонством, кавурством. Слово кавурство тут вовсе не означало Кавура. Этим названием мы хотели только выразить всё это мелкое самоупоение, эту кичливость, юпитерское величие, детскую раздражительность. Нам, например, казалось, что вы до того упоены успехом прекрасного политического отдела в вашем журнале, что воображаете себя действительно при месте, живете в сладких мечтах и до того довольны ими, что даже и не желаете ничего лучшего, даже готовы отказаться от всего лучшего; почему это мы назвали «кавурством», право, не можем вам дать полного отчета, именно не можем; над всякой же мечтою о лучшем вы величаво улыбались и, наконец, стали называть не согласных с вами мальчишками и крикунами, тогда как сами проповедуете при всяком удобном случае об уважении к чужому мнению, было бы только оно честно и проч., и проч. С высоты своего величия вы не захотели, наконец, даже признать возможности честного убеждения в этих «крикунах и мальчишках». Всякой мелочи, касающейся вас, вы придаете размеры колоссальные, исторические. Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется.* Но главное, мы ждали от вас нового слова и ничего не дождались, кроме долго сдерживаемой и вдруг вырвавшейся злости и желчи, дошедшей наконец до самой цинической откровенности. «Докажите же это всё!» — скажете вы нам в негодовании. «Прочтите нашу статью до конца, — отвечаем мы, — и, может быть, вы догадаетесь, почему мы составили о вас такое мнение». По крайней мере, мы намерены быть вполне откровенными. Свиста вы очень не любите, и, конечно, кто может поставить вам это в упрек? Вы считаете свист постыдным, последним делом и, кажется, ошибаетесь; мы сказали прежде, что «Свисток» был бы для вас даже полезен. По крайней мере, мы находим в нем несколько более мысли, чем в иных нравоучениях, и, например, хоть в вашей желчи. Впрочем, в припадках желчи, вы даже иногда решаетесь подражать ему, но озлобление ваше мешает вам смеяться искренно и простодушно, и у вас это как-то нехорошо выходит. Мы вовсе не увлекаемся свистящим направлением «Современника». Свист его иногда чрезвычайно легкомыслен и даже пристрастен, так, по крайней мере, нам кажется. Но все-таки повторяем, мы находим его во многом полезным. «Свисток», по-нашему, даже отчасти нормальное явление в нашей литературе. Он не хочет утешать себя побасенками и разными приятными грезами. От деятелей он требует деятельности, а не тупого самодовольства. Он хочет называть каждую вещь ее собственным, настоящим именем, а не принимать журавля за соловья. «Свистуны» не считают, например, что уж итого довольно, если они сделают честь литературе своим в ней участием. Видя, что невозможно называть каждую вещь по имени, они предпочитают иногда посвистать, то есть похохотать над самодовольными болтунами, над скороудовлетворяющимися деятелями, над пошлым буквоедством, над литературным чинобесием и проч., проч. Пусть они иногда не правы, далеко заходят, опрометчивы, неумеренны. Но мысль-то их недурна. Она нова в нашей литературе. Это наша Диогенова бочка*, и держат они себя в ней довольно стойко и самостоятельно. Может быть, мы преувеличиваем, поэтизируем значение этого смеха, но нам было бы очень неприятно в этом случае ошибиться…
Конечно, мы понимаем и вашу мысль: вы видите кругом себя хаос и хотите хоть за что-нибудь уцепиться. Вы хотите успокоить себя и знать, за что держаться. Вы требуете под собой почвы, и если б вы знали, как искренно мы вам готовы сочувствовать! Но если вы обвиняете других в крайности, в выходе из меры, в хаотичности, то ведь вы и сами из мерки выскакиваете. Вам хочется что-то создать, слепить, несмотря даже на непрочность и негодность материала. Вы хотите настойчиво уверить нас и даже себя, что ваш материал годен, и не видите, что всё это грезы, и то, что вы хотите лепить, — не лепится. Вы не замечаете, что для своей идеи вы жертвуете даже правдой, даже убеждениями своими, и ставите себе идолов. У вас поневоле всё выходит как-то книжно, безжизненно. Вы ищете жизни, а у вас нет ни надежд, ни молодости. Тут еще замешалось упрямство. Вы, например, не можете простить всем увлекающимся и ошибающимся и с презрением на них смотрите. Презрение это доходит у вас до того, что вы считаете их всех сплошь мальчишками и крикунами, даже не верите, что в этих крикунах может быть иногда честное, сурово-честное убеждение. А уж это слишком цинично, даже грязновато. Вы только любите одних безгрешных, а безгрешным считаете, кажется, только себя. Боязнь же ошибиться и обидчивость ваша показывает даже какое-то старчество. Но к делу.
Всем известен вопрос, возникший в начале года в нашей литературе по поводу оскорбления одной дамы, так называемым «безобразным поступком „Века“». Этот вопрос до того наконец надоел всем и каждому, что о нем даже говорить теперь боятся печатно; и даже до того, что журналы готовы стыдить друг друга за участие в этом вопросе. Сознаемся откровенно: мы тоже увлеклись этим вопросом и даже напечатали о нем две статьи — одну от редакции, а другую — доставленную нам со стороны. «Русский вестник», между прочим, ставит нам это в большой стыд. Мы действительно показали мало литературной ловкости, слишком разгорячились, но особенного стыда в атом не видим никакого. Нам хотелось заступиться за жестоко обиженную женщину и показать, что не вся литература разделяет мнение обидчика. Мы представляем на вид всем негодующим на излишнюю горячность нашу, а вместе с тем и «Русскому вестнику» следующее обстоятельство: что, если б, например, они сами были таким образом семейно и всенародно обижены? Вероятно, обличительные статьи против обидчика не показались бы им тогда слишком длинными. Впрочем, успокоим наших читателей: мы вовсе не хотим прикасаться теперь к этому вопросу; но «Русский вестник» — последний говоривший о нем — высказал при этом такие неожиданные мнения, что их нельзя не поднять и не представить в настоящем виде. Он выказал по этому поводу настоящий характер своего направления и выяснил самого себя. Прежний вопрос принимает, стало быть, теперь совершенно другое значение. Дело в том, что «Русский вестник», покамест дело шло между мальчишками и крикунами, величаво молчал и только посмеивался. Наконец, когда дело дошло до смешного, решился ввязаться в него и вымолвить окончательное, мудрое, безапелляционное слово, долженствовавшее разрешить все недоумения разом. Разумеется, он обрушился всем гневом и сарказмом своим прежде всего на нас и, признаемся искренно, чрезвычайно ловко приступил к делу. Он даже обнаружил при этом необыкновенную практичность и понимание действительности. Для этого он употребил старый способ, старый, как весь мир, и, кроме того, чрезвычайно пошлый, даже зазорный, но вместе с тем чрезвычайно выгодный, разумеется для человека не слишком разборчивого в средствах. Ведь всякая дорога хороша, если только ведет к цели, сказал какой-то практический мудрец нашего времени. «Русский вестник» начал с того, что объявил нас «эманципаторами» и стал нас дразнить и стыдить этим прозвищем. Дело ловкое: это значило польстить большинству и таким образом расположить его в свою пользу и, опираясь на него, подавить противника. Вот каким образом это делается. Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, незыблемо и неподвижно. Эту незыблемость и неподвижность они любят преимущественно за то, что она совпадает с их материальными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. В интересах своих они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и тени. Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, — явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности самосохранения. Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам, а главное, на извратителей, угодников и обольстителей толпы, действующих почти всегда из собственной личной выгоды. В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны. А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди честные и высоких нравственных качеств. Между меньшинством являются иногда люди гениальные; кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически переносить всевозможные гонения. Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. Они суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайности, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошливая ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства. Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. А между тем как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей честно и благородно преданных делу. Да и вообще между людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. Прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями. Но те, которые льстят большинству из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать, и дело в шляпе. Поклеветать же необходимо. Выдуман, например, громоотвод — все в городе приходят в смятенье: как? идти против судеб божиих, прятаться от его гнева, усмирить молнию, управлять громами? — да ведь это новая вавилонская башня, да ведь это безнравственно, нерелигиозно, это значит прямо идти против всевышнего, навлечь на себя гнев господень. В тюрьму изобретателя, судить его, казнить! Тут сейчас являются и услужливые: молнию хочет поймать за хвост, ха-ха-ха! — и все смеются. И вот изобретателю проходу нет в городе. Клеветать, извращать идею и грубо насмехаться над нею — это главное средство всех льстецов большинства. Жорж Занд, например, пишет романы и защищает женщин, — чего медлить? Надо тотчас же провозгласить, что она требует уничтожения брака и позволения женщинам всенародно развратничать. Да побольше, да получше глумиться над ней, карикатурить ее, чем грубее — тем лучше; тем больше будут смеяться! Помню я, как у нас Жорж Занд называли Егором Зандом, а Барбеса — балбесом*. Боже мой, как эти остроты казались тогда смешными и как им смеялись! Это глумление чрезвычайно ловко и выгодно для всех «умеющих разрешать загадку жизни»*. Они имеют влияние даже на честнейших людей, незнакомых с делом, отбивая у них своими клеветами и смехом даже и охоту с ним знакомиться.
К этому способу обыкновенно прибегал Фаддей Булгарин с компаниею. Помню тоже, как на театре глумились у нас над прогрессом и тогдашними современными идеями. Видел я тогда один водевиль: в нем представлен был почтенный коллежский советник, выдававший дочь свою за офицера. Само собою разумеется, что добродетели этого коллежского советника были неисчислимы, тем более что он беспрерывно прикладывал к глазам платок и о чем-то плакал. Офицер с своей стороны гремел шпорами и сиял совершенствами.
Наконец, девица, невеста и дочь коллежского советника, долженствовала обозначать собою воплощение невинности. Но из числа претендентов на ее руку выставлен был на смех и на позор публике некто Виссарион Вихляев; имя Виссарион сильно намекало на одно из действующих лиц тогдашней литературы*. Этому Виссариону предназначено было изображать собою новейшее направление. Жаль, что я забыл сюжет водевиля. Несчастный Виссарион врал без милосердия и нес такую дичь, что публика покатывалась со смеху. Он говорил беспрерывно, ни к селу ник городу, об эманципации, о прогрессе и обскурантизме; говорил всё иностранными словами, еще не вошедшими в состав русского языка. Изъяснялся темно и глупо, одним словом, совершенно по-философски. В конце водевиля он, помнится, начал красть платки из карманов. Его трясли за шиворот, давали ему в нос щелчки, причем особенно отличался офицер, били во все места, — и в райке ужасно смеялись. Разумеется, чем больше крал Виссарион платков, тем ярче и ярче обозначалось скромное величие и добродетели коллежского советника. Этот способ оплевания, осмеяния и даже заушения прекрасен. Главное — удобен и выгоден. Тотчас же можно собрать толпу, которая, окружив преступника, будет высовывать ему язык, плясать перед ним на одной ножке, показывать ему шиши и кричать: «У-у! эманципатор! эманципатор! смотрите, эманципатор идет! хочет понравиться дамскому полу; ишь, пачулей надушился, обольститель, ловлас, эманципатор!» Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнул относительно нас и «Русский вестник»*, провозгласив и нас эманципаторами, чтоб сразу одним ударом оглушить нас и представить нас всем благомыслящим людям в самом худшем и неблагородном виде. Эманципаторами он назвал нас, не имея к тому ни малейшего основания. Если мы и отговариваемся от этого названия, то вовсе не потому, чтоб мы боялись его, а просто потому, что мы в журнале нашем не успели еще ничего сказать об этом вопросе. В обеих статьях наших по поводу известного вопроса мы тоже не заявили нашего мнения об эманципации. Просто «Русскому вестнику» показалось ловкою старинная уловка прежних фит, и он употребил ее для нашего разгромления. Впрочем, уж не выводит ли «Русский вестник» нашего участия в эманципации из того, что мы соглашаемся, что в романах Дюма-фиса и во французских водевилях чрезвычайно много сального, цинически-обнаженного, грубо извращенного, и что читать и смотреть их несравненно опаснее, чем слушать «Египетские ночи»?* Не из того ли, наконец, что мы находим безнравственными свадьбы молодых девушек с сладострастными и богатенькими старичками; что мы находим эту продажу тела, совершаемую во имя нравственности и покорности, по крайней мере так же безнравственною и позорною, как и всякую другую продажу тела. Конечно, и в этом случае часто виновата не бедная жертва, а ее палачи. Итак, за эти-то мнения «Русский вестник» нас называет эманципаторами и всенародно стыдит этим названием? Но позвольте же наконец спросить, что же вы называете эманципацией? В этих спорах надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под эманципацией вы разумеете право всякой женщины ставить своему мужу, при всяком удобном случае, рога, то, разумеется, вы правы, в вашей ненависти к эманципации. Но мы никогда не разумели так эманципацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но для нас, то есть, собственно, для нас, вся эманципация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу, — любви, которой имеет право требовать себе и женщина. По-нашему, весь вопрос об эманципации сводится на обыкновенный и всегдашний вопрос о прогрессе и развитии. Чем правильнее разовьется общество, тем оно будет нормальнее, тем ближе подойдет к идеалу гуманности, и отношения наши к женщине определятся сами собою безо всяких предварительных проектов и утопий. Тем не менее заниматься этим вопросом, представлять обществу на вид о необходимости более человеколюбивых отношений к женщине, даже устраивать эти отношения в теории (хотя бы иногда и ошибочно) мы считаем чрезвычайно полезным. Ошибку в фальшь не ставят, если б даже и была ошибка; по крайней мере, эманципаторы подвигнуты были началами человеколюбия и достойны сочувствия и уважения. Педант же, сидящий в своем кабинете и ожидающий, что развитие, прогресс, гуманность упадут к нему с неба совершенно готовыми, без исторической жизни, без усилий, без увлечений и ошибок, которые он грубо и слепо презирает, по-нашему, есть равнодушный лентяй, потерявший свой здравый смысл. Итак, вот что мы разумеем под словом «эманципация» и вместе с тем признаем, что теперь пришло наконец то время, когда женщина может и имеет право требовать к себе уважения и некоторого, по крайней мере нравственного, равенства прав с мужчиною.
Права женщины! «Но кто же отнимал эти права?», — восклицает «Русский вестник» и затем пускается в рассуждения, что в гражданском отношении она, именно у нас, ничем не уступает мужчине, не подлежит опеке, совершенно самостоятельна и проч. — одним словом, прибегает к законам. Послушайте, «Русский вестник», неужели вы думаете уверить нас, что об этом свидетельстве законов вы говорите серьезно, а не для толпы? Неужели вы думаете, что мы поверим, что вы сами, говоря это, верите словам своим? Вам именно хочется только успеха в толпе для верха в споре, а не для истины; вам только хочется добиться того, чтоб в толпе закричали: «Вишь какой молодец! тотчас разбил, по законам доказал; юрист, дескать! так их и надо!» Этих мнений, этих криков вам хочется? Ну кого вы морочите? Разве о законах тут идет дело? Дело о наших домашних нравах, о наших обычаях, о принятых правилах и верованиях. Читали вы «Семейную хронику»? Помните там, как жена Багрова целый год прикладывала к голове своей пластырь?* «Ха-ха-ха! — восклицаете вы, — ведь это было восемьдесят лет назад*; теперь уже не бьют женщин». Ну да, вы совершенно правы; мы ошиблись; теперь не бьют женщин. «Правда, у нас нет амазонских полков и женских департаментов, но неужели ж женщина этого хочет? Неужели ж это ей нужно?» — восклицаете вы. Браво! Фаддей Булгарин не сказал бы лучше. Зато смотрите, какой успех. «Ха-ха-ха! — кричат кругом, — амазонские полки, департаменты, ха-ха-ха! Молодец „Русский вестник“, молодец, выдумает же!» — «Нет, — отвечаем мы, — женщина у нас не требует вступления в амазонские полки и департаменты; об этом теперь и речи нет. Но вот чего она может и имеет право требовать; чтоб не смели ее обижать за ошибочный ее поступок опубликованием в газетах без всякого основания и правды, что у этой женщины должны быть свои грязные тайны».
«Века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине в образованном обществе», — продолжает «Русский вестник». С своей стороны, мы хотим ему рассказать один коротенький анекдот. В этом номере нашего журнала мы печатаем подробнейшее изложение известного процесса госпожи Лафарж*, обвиненной, по нашему мнению, совершенно несправедливо, в отравлении своего мужа. Впрочем, это не одно только наше мнение. Суд, разбирая и обсуживая отношения г-жи Лафарж к ее покойному мужу, набрел, между прочим, на следующий случай: что мосье Лафарж, женившись на мадам Лафарж, повез ее к себе в поместье. Это было спустя только несколько дней после свадьбы. По дороге, на станции, г-жа Лафарж потребовала себе ванну. Когда она сидела в ванне, муж начал стучаться в дверь и непременно хотел, чтоб ему отворили. Жена отвечала ему сквозь затворенную дверь, что она сидит в ванне и не может принять его; но муж продолжал настаивать, чтоб его впустили. Судьи, жюри и публика решили, что мосье Лафарж был муж, а в качестве мужа имел полное право требовать, чтоб его впустили. Не будем прибавлять никаких объяснений к этому анекдоту. Но, скажете вы, это только частный случай; да, отвечаем мы; но решение судей, жюри и всей публики нельзя считать за частный случай, а, напротив, за полное выражение нравов большинства в образованнейшей нации Европы, в которой «века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине» и проч., и проч. Века рыцарства! ну кого вы морочите? Впрочем, может быть, «Русский вестник» тоже согласен с мнением большинства образованнейшей нации и находит, что мосье Лафарж, как муж, имел право требовать, чтоб его впустили. По крайней мере, он, как кнутом, резнул по вопросу о женщине: «Каких еще прав ей надобно?»
Это «каких еще прав…» достойно самого забористого субботнего фельетона блаженной памяти Фаддея Булгарина! изящно и превосходно!
«Чего же может хотеть женщина? — продолжает «Русский вестник» с прежней своей уловкой, — неужели того, чтоб быть эманципированной во всех тех отношениях, в каких считает себя эманципированным мужчина? Но хорошо ли, что мужчина считает себя эманципированным во всех отношениях? Приятно ли будет ей самой сравниться с ним во всех отношениях? А если приятно, так что ж мешает и женщине пользоваться теми же правами? Увы, как много женщин, которые ими пользовались и пользуются, не слыхав ни о какой эманципации и без помощи особых доктрин о своих правах! Для этого не нужно образования, не нужно развития умственного или нравственного; эта благодать достается сама собою, и лишь высшее нравственное развитие, вкореняя в душу чувство долга, спасает как мужчину, так и женщину от этой даровой и всем доступной эманципации».
Да послушайте, вы в самом деле нас морочите? Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии; именно о том, чтоб чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины. Мы именно уверены, что тогда только и определятся вполне, правильно, гуманно и ясно, отношения мужчины и женщины между собою и разрешатся все недоумения, и способствовать этому нравственному развитию мы и хотим всей душой, по мере слабых сил наших.
— Да ведь это вовсе не эманципация! — скажет нам «Русский вестник».
— Да понимайте ее как хотите, — отвечаем мы, — только мы сами-то понимаем ее именно так, как теперь объяснили, то есть следствием высшего нравственного развития…
Право, у «Русского вестника» есть такая уловка: он прикидывается, что сам уверен, будто никто не знает того, что он знает. И вдруг начинает лекцию, читает наставления, умиляется душой, впадает в красноречие. А между тем это давно уже всем известно. Подумаешь, что ему приятнее всего собственно процесс, манера наставлений и болтовни. Но подумав лучше, ясно увидишь, что умысел другой тут был*, «Один, дескать, один я это знаю, а вы-то не знаете. Я умнее всех, разумейте и покоряйтеся» и т. д., и т. д. Разумеется, все это делается для толпы, для большинства…
Далее следует у «Русского вестника» страница до того блестящая своей логической непоследовательностью, что мы решительно не знали, что и подумать, читая ее. Здесь каждое слово драгоценно. Мы не можем не выписать этой страницы:
«… Как бы то ни было, однако, — говорит «Русский вестник», — представим себе женщину эманципированною наравне с мужчиной. Пользуясь совершенно одинаковым с мужчиной положением, женщина тем самым отказывается от всех особенностей собственно женского положения. Она уже не должна хотеть и не может требовать от мужчины того особого уважения, той деликатности, на которые имеет право женщина, оставаясь в своем положении, высшем и привилегированном, которого никто у нейне оспаривает, которым, напротив, все дорожат, которое все охраняют, удаляя от женщины эмансипаторов с грязными руками…»
Например, как вы, замечаем мы, оправдывая кровных обидчиков женщины. Но это в сторону, а вот что главное; стало быть, вы серьезно считаете, что для женщины уже всё сделано в настоящий момент, что дальше ничего не надо делать, решительно ничего, даже желать ничего не надо, даже гуманного смягчения нравов, о котором мы говорили, стало быть, всё хорошо, всё прекрасно, всё благоухает? И можно поверить вам, что вы, «Русский вестник», верите словам своим? что это не фальшь с вашей стороны, что вы не имеете в виду вашей выходкой польстить инстинктам массы, для того чтобы иметь ее на своей стороне? Можно смеяться над увлечениями эманципаторов, но отвергать самые законные желания, развитие и законное совершенствование во имя правды и любви — это значит уже слишком далеко зайти. А ведь вы именно вашей фразой всё это отвергаете. Вы в ней изображаете такую высшую точку развития в современном нам обществе, что, по-вашему, уж и желать нельзя лучшего.
И наконец, позвольте: почему же женщина, если б даже она и сравнялась в общественном положении своем с мужчиной, если б только это могло когда-нибудь случиться, — почему она не могла бы требовать тогда от мужчины того особого уважения, той деликатности, как теперь?
«Эманципаторы, — продолжаете вы, — не понимают того, что их учения не дают никаких новых прав женщине, а ведут только к тому, чтобы снять с мужчины его обязанности относительно женщины».
Опять спрашиваем вас: что разумеете вы под словом «эманципация», как понимаете вы ее? Вы, кажется, составили о ней такое чудовищное понятие, что вам, естественно, приходится делать теперь и странные заключения. Не будучи эманципаторами, мы все-таки считаем справедливым сказать, что они, наверно, гораздо умнее, рассудительнее и человеколюбивее, чем вы о них думаете. Под словом «эманципация» вы, кажется, разумеете сброд самых чудовищных, самых ненормальных и невозможных правил и потешаетесь тем, что пугаете ими публику. Мы уверены, что эманципаторы могут тоже во многом ошибаться и, наверно, ошибаются, во-первых, потому, что они люди, но повторяем, почему, в случае одинакового общественного положения мужчины и женщины, с мужчины снимаются его обязанности относительно женщины, даже относительно уважения, деликатности, как вы говорите? Если женщина получит одинаковые права со мной, так уж я, по-вашему, тотчас же получаю право ее оскорблять? Да зачем же это? Почему я должен ее не уважать, если она достойна уважения? Почему мужчина не должен защищать и любить ее, как жену свою, если она его любит и исполняет вполне свой долг к нему? Может быть, вы именно напираете на то, что долга-то этого не будет при эманципации? Разве это может быть хоть когда-нибудь? Что вы народ-то морочите и пугаете? Брак создала природа: брак есть закон ее, и если в вас осталась хотя одна капля веры в прогресс, то вы не должны сомневаться, чтоб естественный, взаимный долг людей одного к одному, равно как мужчины к женщине и обратно, мог когда-нибудь уничтожиться. Вот некоторые другие долги и обычаи не естественные, а выдуманные человеком, часто ошибочно, неумело, глупо, — вот те могут уничтожиться и уничтожаются почти ежедневно. История ведь не что иное, как картина этого уничтожения и постепенного приближения человечества к законному, естественному, нормальному долгу… А ведь вы знаете историю; вы часто о ней говорите.*
Морочите вы нас! ох, хитрите!
«С мужчиной не церемонятся, как с существом полноправным во всех отношениях, — продолжает «Русский вестник». — Зачем же церемониться и с женщиной, которая должна быть также существом полноправным во всех отношениях?»
Что за странность! Да и что вы подразумеваете под словом «церемониться»? Если вы подразумеваете какие-нибудь китайские церемонии, так их и теперь довольно, даже между мужчинами. Если же выражением «не церемонятся» вы грозите женщине какими-нибудь обидами, грубостью, невежливостью, щипками, пинками, циническими речами или клеветами, то почему же вы так уверены в их неизбежности? Ведь и теперь порядочный человек всегда заставит себя уважать, а не бить. Что значит: «с мужчиной не церемонятся»? — странно! Это какие-то детские угрозы.
«Кто хочет построить отношения между людьми без помощи идеи долга, не останавливаясь на ней, кто не ею ориентируется (что за красноречие!), а чем-нибудь другим, тот отбрось в сторону, как хлам негодных фраз, все толки о взаимном уважении людей друг к другу и о достоинстве женщины».
— Что за ненужное красноречие! — невольно восклицаем мы. — Да кто же хочет построить отношения между людьми без помощи идеи долга? Кто когда-нибудь строил иначе или думал иначе строить? Назовите хоть кого-нибудь. В чем именно состоит этот долг — вот это действительно отыскивали, разрешением этого вопроса всегда занимались, спокон веку, занимаются теперь и будут заниматься, кажется, до скончания мира. Но ведь это уже совершенно другое. Ой, пугаете!
«Так точно, — продолжает «Вестник», — кто видит в человеке не более как химические щелочи, кислоты и соли, в том самом смысле и силе, как они открываются нам в реторте, тот не говори о правах человека, об его пользе, об улучшении его быта; тот засмейся, взглянув в глаза своему единомышленному другу; тот перестань бессмысленно выходить из себя и щеголять пафосом, который не может иметь другого смысла, кроме авгурского шарлатанства; тот оставь попечение об этих ничтожных эфемеридах и знай живи как случилось, по воле всемогущих обстоятельств. В самом деле, заботимся ли мы о червяках и думаем ли задавать себе серьезный вопрос: сыты ли они или голодные, когда давим их ногою нечаянно или чаянно…»
Вот ведь охота-то говорить!
Уверяю вас, что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел весь из реторты. Я не могу этому верить. Но если б я и верил именно так, почему же тогда я не мог бы говорить о правах человека, об его пользе и об улучшении его быта? для чего было бы мне «смеяться в глаза моему единоверцу и жить как случилось?» Да из одной механической выгоды люди для того только, чтобы существовать, должны бы были согласиться между собою, условиться, а следственно, и связать себя взаимно долгом друг к другу. Вот уж и долг, а следственно, и цель в жизни. Без этого немыслимо общество. Каковы бы их убеждения ни были, ведь они все-таки остались бы людьми, природу свою не могли бы уничтожить? Чувство самосохранения было бы в них непременно; но, кроме того, человек, потому что он человек, ощутил бы потребность любить своего ближнего, потребность самопожертвования в пользу ближнего, потому что любовь немыслима без самопожертвования, а любовь, повторяем, не могла бы уничтожиться. Для этого человек должен бы был возненавидеть собственную природу свою. А уверены ли вы в этом? По крайней мере, это вопрос мудреный, и решить его так вдруг, как вы решаете, — невозможно. Это:
А вы решаете его что-то слишком спокойно, слишком торжественно, уж это одно подозрительно…
Вот вы, например, и о гуманности толкуете, и о развитии, а защищаете же обидчика, против обиженного. Вам так хочется его защитить, что вы решаетесь даже на неправду, говорите против очевидности, и вам это, кажется, ничего не стоит. Вы прямо говорите: «Он не выдумал каких-нибудь фальшивых фактов, не сообщил за истину каких-нибудь мерзких сплетен»; вы говорите это спокойно, хотя и знаете, что говорите неправду. Он не выдумал мерзких сплетен! А намек о тайнах? Что же это такое, по-вашему? И этот намек явился печатно; что вы ребенок, что ли, что не можете всего видеть и называть вещи их именами?
Много кой-чего и еще говорил «Русский вестник», но нам более всего понравились его суждения о Пушкине.
Именно о «Египетских ночах». Он и перед этим еще говорил о Пушкине много оригинального*; но теперь мы не будем разбирать его окончательного мнения. Говорим: окончательного, потому что оно высказано им, кажется, именно с той целью, чтоб окончательно и безапелляционно решить весь вопрос о Пушкине, возникший в нашей литературе с появлением бессмертной статьи г-на Дудышкина. На все эти мнения мы будем отвечать в особой статье, как мы уже обещали прежде, в начале появления нашего журнала.* Но не можем не сказать нескольких слов, по поводу суждения «Русского вестника» о «Египетских ночах». Из этого суждения перед нами ярко выставляется вся сила «Русского вестника» в понимании поэзии. Вообразите: он называет «Египетские ночи» «фрагментом» и не видит в них полноты — в этом самом полном, самом законченном произведении нашей поэзии! Он говорит, что «это только намек, мотив, несколько чудных аккордов, в которых что-то темно чувствуется, но ничто еще не раскрывается (!) для полного и ясного созерцания…»
«…Надобно слишком много условий, — продолжает он, — чтобы, кроме прелести стихов и очарования образов, уловить в этой пиесе намеки ее внутреннего смысла, который раскрылся бы в ней для всех доступно, если б художник совершил свое произведение вполне. Перед художественным созданием действительно не могут держаться мелкие соблазны, но не прежде, как идея целого покорит себе и одухотворит все частности. Этот демонский культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, — всё это, облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы всё, что теперь выступает слишком рельефно. Если б из этих мотивов вышла трагедия, она могла бы быть созданием гениальным…» и т. д., и т. д.
Вы говорите о трагедии, о развитии этого, как вы называете, фрагмента; но неужели вы не понимаете, что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно, и что тогда вышло бы нечто совершенно другое, совершенно в другой форме, может быть равносильное, может быть высшее по достоинству, но только совершенно другое, чем теперешние «Египетские ночи», и, следовательно, утратило бы всё впечатление и всю мысль теперешних «Египетских ночей». Пушкину именно было задачей (если только возможно, чтоб он заранее задавал своему вдохновению задачи) представить момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента тогдашней жизни, так, чтоб по этому моменту, по этому уголку, предугадывалась бы и становилась бы понятною вся картина. И Пушкин достиг этого и достиг в такой художественной полноте, которая является нам как чудо поэтического искусства. Вы говорите, что всё это не облечено в плоть и кровь чарующих подробностей? Но тут до того ярки некоторые подробности, что приходишь в изумление и благоговение перед художественной силой поэта. Часто иная из таких подробностей очерчивается здесь одним стихом, одним словом, одним намеком, но до того цельно, метко и полно, что этот стих не забывается. Он переходит в потомство и становится выражением нарицательным для известного рода понятий; правда, эти подробности доведены именно до того предела, что прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность, и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами. Тут всё составляет один аккорд: каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха — всё приноровлено к цельности впечатления. Впрочем, может быть, вы требуете более подробного описания, костюмов, архитектуры залы, города Александрии, Египта, Римской империи в ее географическом, статистическом, этнографическом и поэтическом отношении? Может быть, вам этих подробностей надобно? Что касается до г-на Дудышкина, то он непременно бы их потребовал.
Кстати, вы смеетесь над нашими словами по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской.* На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская, сказано у нас, произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту не смущаясь…
«Но разве Венера Медицейская или Венера Милосская, — возражаете вы, — представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры? Разве эти олимпийские типы не представляют собою самых целомудренных образов, проникнутых тем чистым изяществом, которое составляет живую душу приличия? Не являются ли эти образы сами олицетворением этой тонкой стыдливости, этой чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка, доходил когда-нибудь до последних, выражений страстности?*»
И далее:
«Разве Рашель доходила когда-нибудь на сцене до чего-нибудь похожего на клятву Клеопатры?* Разве где-нибудь в Европе ли, в Америке ли могла бы артистка произнести перед публикой этот фрагмент, поневоле выдавая рельефно только то, что прямо указывает на последние выражения страсти, не будучи в силах одухотворить их тем намеком идеи, которая в неоконченном фрагменте не могла высказаться с полною силой, не могла бросить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной?»
Далось вам это «последнее выражение страсти». Но послушайте, неужели вы думаете, что если б статуи Венеры Медицейской и Милосской, при всем том, что они представляют собою целомудренные образы и самое тонкое выражение стыдливости, привезенные в Москву к нашим простодушным предкам, во времена хоть, например, Алексея Михайловича*, могли бы произвести на них какое-нибудь другое впечатление, кроме грубого и даже может быть соблазнительного? Не говорим, чтоб и тогда совершенно не было людей развитых, мы говорим вообще о впечатлении, которое бы произвели тогда на отцов наших эти немецкие «болваны». И неужели мы не правы, говоря, что надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту не смущаясь. Целомудренность образа не спасет от грубой и даже, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства, потому именно, что они сами произведение искусства. Тут действительность преобразилась, пройдя через искусство, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На неприготовленную же, неразвитую натуру, или на грубо-развратную даже и искусство не оказало бы всего своего действия. Чем развитее, чем лучше душа человека, тем и впечатление искусства бывает в ней полнее и истиннее.
Но вот вопрос: почему именно вы думаете, что «Египетские ночи», хоть и произведение искусства, но, будучи фрагментом (дался вам этот фрагмент!) и будучи последним выражением страсти (опять-таки это последнее выражение страсти), не могут произвести чистого художественного впечатления, а, напротив, произведут зазорное и непозволительное? Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада*? Фрагментность и неоконченность произведения не могла, по-вашему, бродить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной.
Но, во-первых, где тут и какая тут открытая тайна? Доходит ли тут дело до открытия тайн? И наконец, так ли вы понимаете «Египетские ночи», то ли вы в них видите, что надо видеть и что поневоле видишь, если только хоть сколько-нибудь способен чувствовать поэзию и подчиняться обаянию искусства. Напротив, по-нашему тут впечатление страшного ужаса, а не впечатление «последнего выражения». Мы положительно уверены теперь, под этим «последним выражением» вы разумеете что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление. У Пушкина импровизатор, представ пред публикой «Северной Пальмиры», был тоже встречен смехом, когда простодушно спросил «О каких любовниках тут говорится, perche la grande regina n'aveva molto (y великой царицы их было много)?»* Эта публика состояла тоже из знатоков и ходоков по клубничной части. Тут было много, «два журналиста в качестве литераторов»* тоже, должно быть, тертые калачи. Жаль, что Пушкин не передает нам впечатления, произведенного импровизацией на этих слушателей.
Но припомним сами эту импровизацию, проверим сами это впечатление.
Пир; его картина.* Царица была весела, она оживляла своих гостей, но вот она задумалась, она склонилась головой над золотой чашей, гости безмолвны, все молчит. Эти гости, вероятно, знают свою царицу и ждут чего-нибудь чрезвычайного. Это рабы ее, а она — это представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера, надежда кажется одним бесполезным обманом, мысль тускнеет и исчезает божественный огонь оставил ее, общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего, надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно, но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв*. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех этих гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон. Но все это упоительно, безмерно развратно и… страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов.
Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах гостей своих и с бесконечным презреньем обводит их взглядом. Но страстью дрогнули сердца; нашлись трое — они выходят. Вызов принят.
Жрецы вынимают жребий. Первый — Флавий. Это старый солдат: он поседел в римских дружинах и в битвах за республику. Ему не надо наслаждений. Он принял вызов, потому что в нем воспрянула гордая душа римлянина, не могшая снести презрения от женщины. Конечно: это только тупая гордость, это ограниченное чувство воинской чести, но это чувство благородное, смелое; это уже человек, а не раб; стало быть, еще не всё потеряно; разврат и разрушение не охватили еще своим огнем всего, не спалили, не заразили еще всей души общества. В нем еще есть силы для борьбы, но надолго ли! Смотрите на представителей будущего: вот Критон, молодой эпикуреец, его божество-Киприда, его культ — наслаждение. Он еще молод; еще слишком велики в нем жизненные силы; он отдается наслаждению со всем жаром молодости и необъятных сил ее; но ведь это только молодость. Он делает хорошо, что умирает теперь, когда его впечатления еще свежи и богато-жизненны. Он еще не знает ни разочарования, ни отчаяния… Если б он остался жить, он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории*…
Но душа поэта сама не вынесла этой картины; он не кончил бы с Клеопатрой-гиеной, и на одно мгновение он очеловечил свою гиену.
Вот отрок; его имя неизвестно; но восторг любви сияет в очах его; неопытная сила юной, беспредельной страсти кипит в молодом его сердце. Он с радостью, даже с благодарностью отдает свою жизнь, он о ней и не думает; он глядит в лицо царицы, и в глазах его столько упоения, столько беспредельного счастья, столько светлой любви, что в гиене мгновенно проснулся человек, и царица с умилением взглянула на юношу. Она еще могла умиляться!
Но только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву… Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух… и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель…
И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!
Мы же не можем отказать себе в удовольствии поместить здесь же отрывок из письма к нам одного приятеля*,— письма, написанного после чтения мартовской статьи «Русского вестника». Оно, кстати, дополнит нашу статью. Вот оно:
«Если бы „Египетские ночи“ были и отрывком, то и тогда о таком поэте, как Пушкин, нельзя бы было сказать, что его отрывок не вполне одухотворен. Но „Египетские ночи“ вовсе не отрывок. Где же вы нашли в них признаки неоконченности, фрагментарности! Напротив — какая полная картина! Какая дивная соразмерность частей, определенность и законченность! Читатели знают, в какой драгоценной оправе представил нам Пушкин этот особенно дорогой и для него самого перл своей поэзии. „Египетские ночи“ — импровизация, но это полная, доконченная импровизация. Вообще великий поэт сам сделал всё, что можно, чтобы растолковать нам свое произведение. Он заставил читать его итальянца, человека, выросшего на богатейшей почве искусства, художника до мозга костей, человека простодушного и чуждого всякой щепетильности. Спокойно произносит он в аристократической зале: у великой царицы было много любовников, и с изумлением видит, как северные варвары начинают ухмыляться и хохотать.
Такая история идет, как видите, и до наших дней. В „Египетских ночах“ Пушкин сам художественно выразил дорогой для души его вопрос о некоторых отношениях искусства к обществу. Вопрос остался до сих пор. И теперь импровизатор „Ночей“ мог бы слышать новый смех над ним северных варваров. Странный мы народ, в самом деле! Очень справедливо, кажется, Пушкин применил к нам стихи Петрарки*:
Когда нам говорят о смерти, когда клянутся богами ада и указывают нам на смертную секиру и падающие головы, мы слушаем с северною холодностью; нас это не трогает, не ужасает. Но чуть заговорили о мощной Киприде, и о золотом ложе, у нас уже встрепенулись уши, нас это волнует и подмывает… Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном.
Да, дурно мы понимаем искусство. Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется, преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца. Только это дурное понимание может объяснить нам все целомудренные толкования „Русского вестника“ о страстности и о ее различных выражениях.
Вот какие черные сомнения пришли мне на мысль, когда я старался вникнуть в статью „Русского вестника“. Как понять странное его упорство? Чем объяснить, с одной стороны, его робкие умолчания, с другой — его дерзко-смелые уверения? С невольным ужасом спрашивал я себя: что же будет с нами, что мы, несчастные, будем делать, если он, если сам „Русский вестник“ станет учить нас так дурно в таких важных вопросах?
„Русский вестник“ смотрит на наше общество и на нашу литературу с большим высокомерием. Скажу вам прямо, этот взгляд мне нравится; я рад бы был всякому высокомерию, лишь бы только высокомерные люди имели действительное право смотреть свысока. „Русский вестник“ упрекает нашу литературу в полумыслях и получувствах, он называет наше общество „порожним, лишенным собственных интересов, не имеющим собственной мысли, не жившим умственно, бесхарактерным и слабым“.
По моему убеждению, всё это сказано метко и, говоря вообще, справедливо в величайшей степени.
Но как же вздумал „Русский вестник“ помочь такому печальному состоянию дел? Что сам он делает в этом обществе и в этой литературе?
Какая странность! Чувствуя под ногами эту же самую колеблющуюся почву, находясь среди общества хаотического и подверженного брожению, он вдруг вздумал заговорить языком общества с твердыми правилами и с крепким общественным мнением. Чтобы доказать нашу незрелость, он вздумал заговорить зрелым языком, и, не имея его у себя в наличности, взял его напрокат в Англии или в какой-нибудь другой зрелой стране.
Фальшивость такого приема всего яснее, кажется, обнаруживается в настоящем случае. Маска падает, и комедия прекращается, как скоро дело дойдет до действительности. В самом деле, напрасно „Русский вестник“ кричит, что всё ясно и просто, что стоит только не отступать от здравого смысла, чтобы отчетливо разрешить цель; напрасно замазывает и заглушает вопросы; они живы и выступают с прежнею силою, несмотря на громкие фразы и тучи витиеватых слов.
Неловко русскому принимать на себя вид англичанина или француза. Там, в обществах окрепших и определившихся, действительно, дело решилось бы быстро и определенно. Но пусть примет это во внимание „Русский вестник“: там вовсе бы не стали рассуждать, там даже и не вздумали бы сравнивать актрис с благорожденными дамами. „Русский вестник“, как русский, принужден был пуститься в рассуждения и дошел до полных промахов.
„Русский вестник“ кричит, что дело просто и ясно; но в его громких фразах невозможно отыскать никакого определенного мнения. Да мне кажется, что такого мнения нет, да и не может быть у „Русского вестника“.
Если разглядеть это, то какою неотразимою фальшью отзовется этот громкий тон, этот самоуверенный язык статьи. К чему же служит эта страшная шумиха? Кого и зачем нужно обманывать с таким великим усердием?
Дурной пример дает „Русский вестник“ русской литературе!»
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>
«ВРЕМЯ»
Журнал литературный и политический
будет издаваться и в 1862 году ежемесячно книгами
от 25 до 30 листов большого формата
Первый год издания нашего журнала оканчивается, и мы приступаем к объявлению подписки на второй. Публика поддержала нас; она отозвалась на прошлогоднее объявление наше и тем укрепила в нас уверенность, что идея, во имя которой мы предприняли наш журнал, — справедлива. Не в похвальбу себе говорим, что поддержка, оказанная нам публикой, была в размерах, давно уже неслыханных в нашей журналистике.* Но вопрос: как служили мы нашей идее? Не обманули ль мы публику в тех ожиданиях, которые в ней возбудили? Успели ль мы высказаться хоть сколько-нибудь? Отвечаем: мы еще не могли много сделать, хотя и желали и надеялись сделать и высказать больше. Мы сознаемся в этом первые. Если публика и оказывала нам свое внимание до конца, до последней книжки, выданной нами, то относим это к тому, что она верит в честность и искренность нашей идеи; а это главное, что нам нужно, и веры ее мы не обманем. Почти год издания журнала — и обстоятельства, сопровождавшие его, не только не поколебали наших убеждений, но даже еще более усилили их. Мы не теряем надежду высказать нашу мысль вполне. А говорить еще надо о многом. Договориться до чего-нибудь надо непременно. Не следует, чтоб события, факты, застали литературу нашу врасплох.
Все объявляют, что они за прогресс; без этого нельзя, это sine qua non.[29] Но что за прогресс, когда мы de facto[30] всё еще сидим на европейских учебниках? Движение вперед — явление нормальное, законное, и боже нас сохрани противоречить ему! Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва, свой климат, свое воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще, пожалуй, поедешь назад или свалишься с облаков. Как не согласиться, что многие явления даже прошедшей, отжившей жизни нашей мы меряли слишком узкой меркой? Мы ко всему сплошь прикидывали наш новый аршинчик торопливо, с заранее готовым взглядом. Мы поскорее хотели успокоить себя, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? Даже во многих явлениях, прямо отнесенных нами к «темному царству», мы проглядели почвенную силу, законы развития, любовь*. На всё это надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальновиднее. Мы уничтожали всё сплошь, потому только, что оно старое. Боже нас сохрани от старых форм в жизни… Не в них совсем и дело, и не про то совсем мы говорим.
Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть старую почву — старую мать их, за то, что иссякли и иссохли сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам, в вечное, благоговейное воспоминание. Но проходит время — и правнуки уже дивятся тому, что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы; у них давно уже есть своя, новая почва, уже им служившая, их кормившая. Но у нас, у нас! какая у нас новая почва? Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплавателя, поднявшегося на 7000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется слишком отвлеченных, не совсем близких, и главное — как-то нестерпимо свысока; а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю. Даже трусит немножко один-то… дышать трудно, упасть можно… Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может и лопнуть как мыльный пузырь…
Да уж согласимся наконец, вымолвим всю правду: мы и русскую-тο нашу землю любим как-то условно, по-книжному. Мы приучились наконец к тому, что нам уж ни до чего дела нет. Мы так обленились, что привыкли к тому, чтоб за нас всё другие делали, а нам уж подавали готовое, хоть и нехорошо приготовленное, но готовое. Зато самолюбия, желчи в нас накопилось бездна; немудрено — сидячая жизнь! Справьтесь с медициной. Мы жаждем практики и сердимся лежа за то, что у нас ее нет. Может быть, если б умели любить, то нашли бы себе, пожалуй, и практику; ведь любить-то можно и при разлитии желчи…
Но покамест у нас еще только раздоры и споры, правда всё о предметах высоких: о русской мысли, о русской жизни, о русской науке и проч. Мы даже дошли до того, что многие из мыслителей наших откровенно спрашивают: «Какая же это русская мысль? Что это за слово такое: народная почва?» Откровенность этих вопросов — факт очень значительный и многое оправдывающий. Мы говорим серьезно. Значит, уж очень хочется договориться, коли об этом не затрудняются спрашивать. Впрочем, блаженной памяти «западники» были еще последовательнее: те тоже в крайних случаях никогда не хитрили и прямо говорили, что нам надо сделаться, например, хоть французами. Если они и не высказали этого прямо, то по крайней мере уже раскрыли рот, чтобы высказать, и остановились единственно потому, что поперхнулись… слово-то у них в горле поперек стало. Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, то есть попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся, в развитии своей мысли, никакого полымя. Слишком уж много любил человек! Многие из теперешних стоят на той же точке, на которой остановился Белинский, хотя и уверяют себя, что ушли дальше.* Другие наши мыслители, оттого что они во фраках, не хотят признать себя за народ.* Третьи хотят выписывать русскую народность из Англии, так как уж принято, что английский товар самый лучший.* Четвертые бродят накануне открытия общих законов, общей формулы для всего человечества, лепят общую всенародную форму, в которую хотят отлить всеобщую жизнь, без различия племен и национальностей, то есть обратить человека в стертый пятиалтынный.*
Мы будем следовать вполне всё тем же идеям, которые выразили в прошлогоднем объявлении о нашем журнале.
И хоть мы немного еще могли сказать до сих пор, но делу своему служили совестливо. То, что мы считаем за истину, — мы любим и ценим. Литературу мы отстаивали. На литературу мы смотрели как на силу самостоятельную, а не как на средство, хотя и признаем нормальность и законность многого в уклонениях нашего последнего литературного времени. Перед авторитетами мы не преклонились. Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбия, доходящего до пожертвования истиной, мы не щадили в других и даже, может быть, увлекались до ненависти. Мы увлекались во многом, сознаемся в этом, но очень не раскаиваемся. Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восставать против иных мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику резкостью и излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направления благородного. Мы потому извиняемся в этом, что обещали полемику беспристрастную. Мы не думаем, впрочем, чтоб мы были очень пристрастны; мы отвечаем за наши беспристрастия и впредь. Полемику же идей мы считаем в наше время необходимою. Скептицизм и скептический взгляд убивают всё, даже и самый взгляд наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным сном. А ведь теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни. К нам почти все привилось извне, все досталось нам даром, начиная с науки до самых обыденных жизненных форм; литература же досталась нам собственным трудом, выжилась собственною жизнью нашей. Оттого-то мы и ценим и любим ее. Оттого-то мы и надеемся на нее.
Не перечисляем наших будущих сотрудников, не хвалимся нашими надеждами. Не выставляем тоже на вид ряда имен писателей, участвовавших доселе в нашем журнале, и статей, ими написанных. Если публика осталась ими довольна, то помнит их и без этого перечня.
В будущем 1862 году наш журнал будет издаваться по той же программе и в том же составе. Для лиц, не подписавшихся на наш журнал и не читавших его, излагаем программу.
I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь. а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. с) Статьи юмористического содержания.
Далее следует: «Время» выходит каждый месяц, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.
Редакциею будут приняты все меры к правильной и скорой доставке журнала подписчикам. Цена издания для Петербурга и Москвы 14 р<ублей> 50 коп. С пересылкою и доставкою на дом 16 р<ублей> сер<ебром>. Подписка принимается для жителей Петербурга и Москвы в конторах журнала «Время»: в Петербурге — в книжном магазине Базунова, на Невском проспекте, в доме Энгельгардт; в Москве — в книжном магазине Базунова, на Страстном бульваре, в доме Загряжского.
Иногородние адресуют свои требования просто: в редакцию журнала «Время» в С.-Петербурге. Почтамту известно помещение редакции.
Редакция отвечает за исправность доставки своего журнала только подписавшимся в вышеозначенных конторах или в самой редакции.
По поводу элегической заметки «Русского Вестника»
Стонет сизый голубочек*…
Прежде всего выпишем то, что мы, между прочим, говорили «Русскому же вестнику» в майской книжке нашего журнала. Это нужно к делу:
«Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, незыблемо и неподвижно. Эту незыблемость и неподвижность они любят преимущественно за то, что она совпадает с их матерьяльными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. В интересах своих они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и тени. Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, — явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности самосохранения. Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам; а главное, на извратителей, угодников и обольстителей толпы, действующих почти всегда из собственной, личной выгоды. В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны. А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди честные и высоких нравственных качеств. Между меньшинством являются иногда люди гениальные; кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически переносить всевозможные гонения. Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. Они суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошливая ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства. Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. А между тем как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей, честно и благородно преданных делу. Да и вообще между людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. Прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями. Но те, которые льстят большинству из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать — и дело в шляпе. Поклеветать же необходимо».
Теперь выпишем для читателей наших всю главную часть тирады «Русского вестника», которую он тиснул в своей последней (августовской) книжке, под названием «Элегическая заметка». В том же номере есть и другая «заметка»…* Но мы только скажем об элегической.
«Обо многом были мы намерены поговорить в этой книжке; но человек предполагает, а бог располагает. Обстоятельства заставляют нас отложить наблюдения наши над русскою литературой до другой, более благоприятной минуты.
Бедное русское слово, бедное русское образование! Какая-то участь ожидает вас? Позади немного, впереди смутно и темно. Во всем чувствуется пустота и бессилие, отсутствие жизненной почвы, недостаток мысли, вытекающей из дела и идущей к делу. Никогда еще в таком обилии не распложалось у нас слов и фраз, как в теперешнее время, когда все толкуют о самостоятельной мысли, никогда еще не доходила до такого всевластного господства самая пошлая рутина, самое бессмысленное и раболепное повторение мнений из чужой жизни, остывших и забытых, или случайных и отрывочных, лишенных связи и смысла, как именно теперь, когда все, по-видимому, из того лишь и бьются, чтобы жить своим умом и не поклоняться авторитетам. Если бы не разные обстоятельства, как легко было бы проследить генеалогию каждой фразы, выдаваемой за мысль, как легко было бы изобличить ее ничтожество и пошлость! Будущий историк нашего образования, конечно, сделает это, и тогда сами собой обнаружатся причины тех эфемерных явлении, которые представляет наша жизнь. Явления эти сменяются с поразительною быстротою, мы переживаем фазу за фазой; по-видимому, неистощимые творческие начала таятся в основе нашей жизни и без отдыха работают, ежеминутно покидая старое, ежеминутно слагая новое.
В действительности же, как известно, ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития — не более как мыльные пузыри. Нет ничего забавнее той серьезной мины или того задора, с которым наши мыслители толкуют о жизни и прогрессе. Они думают, что занимаются очень горячими вопросами, и издеваются над теми, кто посвящает свои труды науке, по предметам отвлеченным или далеким. Но в науке нет ничего такого, что не шло бы к делу, для серьезного знания нет вопроса, нет факта, которые не заслуживали бы изучения или были бы бесплодны. Зато, наоборот, в этих доктринах, которые пекутся для жизни и величают себя жизненными, часто нет ни одного слова, годного для дела, ничего годного для жизни. Эти доктрины, где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абструзные выкладки математики, чем самые дробные исследования эрудиции. Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения. Всякая эрудиция, как бы ни была она специальна, имеет своим предметом факт действительной жизни и также необходима для ее уразумения. Но все эти пустяки, все эти пряности слов, весь этот перец фраз, выдаваемый за живое дело жизни, по большей части выражает только отсутствие жизни в умах своих виновников, бессилие и косность мысли. В этих учениях не высказывается ничего заслуживающего внимания, ничего сколько-нибудь годного. Интерес их заключается не в том, что ими высказывается, а в самом их существовании, в возможности их появления, в тех причинах, которые порождают их. У нас причины этих явлений очевидны. В обществе нашем нет жизни мудрено ли, что отсутствие жизни ознаменовывается этой гнилью, этою фосфорическою блескотней, этим потоком слов без мысли? У нас до сих пор нет ничего похожего на науку, до сих пор наука не пустила в нашей почве никаких побегов. Науку считали у нас роскошью, делом излишним, даже опасным. Науку прилаживали к разным посторонним ей условиям, ее презирали, ею пренебрегали, она была жалким педантом в нашем обществе, запуганным, прибитым Тредьяковским. И вот затоптанные начатки умственной деятельности дают себя знать. Дух знания, свободный и не имеющий других целей, кроме истины, мысль, не имеющая других целей, кроме знания, блистательно заявляют свое отсутствие нашею литературой, этими мыльными пузырями наших доктрин, всеми этими отвратительными карикатурами на мысль, знание, прогресс. Чему учат пустозвоны наших дней? Не говорят ли они точно так же, что наука сама по себе есть дело излишнее и негодное? Не готовы ли они лаять на всякого, кто в области знания не признает других целей, кроме чистой истины? Не возводят ли они в теорию то, что у нас так долго было на практике? Не являются ли они достойными толкователями и выразителями того духа презрения и недоверия к высшим дарам человеческой природы, который господствовал у нас в жизни?
У нас нет общества, нет общественного дела, в котором каждый принимал бы живое участие и которое давало бы предметы, направление и внутреннюю форму для деятельности. У нас нет общества, но есть кружки, фальшивые подобия общества. В этих то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких, ничтожных подобиях общества, в этих кружках, с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше, здесь-то совершаются эти быстрые развития, — быстрые, потому что пустые, — здесь-то, на словах, передвигаются горы и на фразах перевертывается мир, здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса.
Вот причины жалкого состояния нашего образования, вот причины пустоцветов, которыми наша литература беспрерывно наполняется с отчаянным изобилием, вот причины этого ребяческого нахальства, этого невежества, прикрытого фразами, украденными у науки, этого непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на перестройку ее оснований, на разрешение ее задач. Вот также причины, почему всякая нелепость может иметь у нас ход и рассчитывать на успех. В самом деле, нет такой нелепости, которая могла бы у нас отчаиваться в успехе. Нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться, что они вдруг, к изумлению окружающих, не пустятся в трепака. Кого же винить и что делать? Должно ли с сугубою силой налечь на те незаметные, на те ничтожные зачатки знания и мысли, чтоб окончательно подавить их? Должно ли усиливать те причины, которыми порождаются праздные кружки, праздные доктрины, те причины, которыми поддерживаются ребячество мысли и бессовестность слова. Будем ли мы придавать серьезное значение всем этим нелепостям, которые зарождаются в атмосфере кружков, как бы эти нелепости ни казались нам чудовищны? Будем ли мы усиливать их и давать их raison d'être,[31] считая их чем нибудь существенным, а не тем, что они есть в действительности— пустыми миражами?
Наши esprits forts,[32] наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего, все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой».
Мы нарочно перепечатали всё это место целиком; мы не хотели передавать его своими словами, чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватали из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде.*
Итак, вот каково мнение «Русского вестника» о современном положении вещей в нашей литературе, в нашей науке и даже в нашей жизни. Нет у нас «совестливых» людей, говорит он обо всех без исключения. «У нас ничто и ничего не представляет никаких задатков будущего: все это одна гниль разложения» Одним словом: всё гниль, и все гниль!..
Сильно сказано.
И пусть «Русский вестник» не придирается к нам; пусть не говорит потом, что мы сами выдумали про все и про всех·, а он никогда ничего не говорил подобного. Если б он говорил не обо всех без исключения, то он отнесся бы к этой «гниющей» среде так же, как мы определили ее место в общем движении. (Ссылаемся на выписку из майской книжки нашего журнала). Он не принял бы крикунов за деятелей, бездарных фразеров и пустозвонов — за всех и за всё. «Всё, все! Но ведь это неслыханная дерзость против здравого смысла!» — кричит читатель.
Конечно так; но «Русскому вестнику» какое дело до криков и даже в иных случаях до здравого смысла. Ему надо доказать, что всё гниль, одна гниль и даже вовсе не от обстоятельств каких-нибудь гниль, а просто от собственной нашей бессовестности… Впрочем, он ведь и не доказывает. Он только кричит… Но разберем, однако же, так ли он кричит?
То место вашей заметки, где вы, «Русский вестник», сравнивали нашу науку с «Тредьяковским», нам показалось значительным. Показалось нам, что вы именно указываете на больное место и недалеки от настоящей причины плачевного состояния нашей образованности. Но надежды наши тотчас рассеялись. Как обернули вы дело? Вы начали ругать наших «прогрессистов», наших «борзописцев», наших «крикунов» не только за их увлечения и малоумие, — это пусть бы! — нет, вам надо было еще доказать, что они нечестные люди, что они бессовестные. Мы даже убеждены, что вы, собственно, для этого-то и пустили ваш элегический плач… Без этого что ж за выгода была бы вам повторять, что у нас нет науки, нет литературы? Ведь это всё так старо! Вы уж так часто об этом говорили и прежде…* Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет…* Нет, у вас была другая цель, и именно та, на которую мы указали. Вы раздражены. Мы знаем, отчего произошел ваш задор… Но об этом после.
Итак, между борзописцами, между заблуждающимися (уж уступим вам это, на время, вполне), нет ни одной чистой совести, ни одного честного существа, ни одного непустого человека, ни одного действительно трудящегося, заботящегося, страдающего, мученика мысли и науки. Как же вы говорите: «начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой»? Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему веленью?
Но, позвольте, мы начнем по порядку.
Вы говорите, что никогда еще не распложалось так много слов и фраз, как теперь, когда все толкуют о самостоятельности мысли. Согласны; но это понятно: готовым ничего не дается; всё нужно сделать, выжить и даже выстрадать, и всё начинается сначала, а начинается всегда так. Никто разом не доходит до последнего слова, до окончательной гармонии в жизни. Вы говорите: «никогда еще не доходила до такого всевластного господства рутина, бессмысленное и рабское повторение мнений из чужой жизни, как теперь, когда все, по-видимому, из того лишь бьются, чтоб жить своим умом и не поклоняться авторитетам». Но ведь и вы знаете, что если нет почвы и если невозможна деятельность, то стремящийся дух именно выразится в явлениях ненормальных и беспорядочных, именно примет фразу за жизнь, накинется на готовую чужую формулу, обрадуется даже ей и ею заменит действительность! В фантастической жизни и все отправления фантастические. Но, по-нашему, это страдания, это безвыходные муки. А по-вашему, все фразеры. Да разве это возможно? Разве увлекающийся фразой, готовой формулой непременно должен быть бессовестный человек, пустой крикун, мыльный пузырь? Разве не может увлекаться и ошибаться истинная, честная пытливость ума, честный и совестливый человек? С страданием ища выхода, он спотыкается, падает… Да такие-то люди и спотыкаются. Зачем же пятнать их названием бессовестных? Кому придет в голову, особенно в иную минуту, смеяться над такими людьми, кроме вас, из глубины кабинета, в котором вы сидите с вашим олимпийским спокойствием? Вы даже как будто рады этому. Блажен тот, который и в уродливом явлении способен увидеть его историческую, серьезную сторону! Блажен тот, который не думает, что к нему в рот будут готовые галушки падать! Блажен тот, кто от залезшего, чуть не в трубу, трубочиста не потребует непременно академических поз и красоты Аполлона Бельведерского! Блажен, наконец, тот, который не оскорбляет своим свистом несчастного в минуту его несчастья!
«Эти доктрины, — говорите вы, — где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абструзные (абструзные! эко словечко-то! тридцать педантов, сойдясь вместе, не выдумают ничего лучше этого слова!) выкладки математики… Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения…»
А вы знаете ее, эту формулу? Что ж вы нам ее не откроете, коли знаете? Вы так свысока говорите, что можно подумать, вы уж ее и нашли, и бережете про себя это сокровище. Ведь вам всё так легко: у вас вон жизнь придет когда-нибудь сама собою; вы сердитесь, что нет до сих пор общества, а есть кружки, как будто общество так само собой и устроится без первоначальных кружков? Вам всё так легко! Что ж, если другие-то именно и ищут эту формулу, о которой вы говорите; не довольствуются одним утешением, из прописей, что она есть и должна быть, а именно хотят сами найти ее, или споспешествовать ее открытию, ищут, иногда пресмешно ошибаются, падают, а вы только стоите да посмеиваетесь над ними, над их судорогами и ошибками, пальцем не желая к делу притронуться, чтоб не замарать ручек. Да уж не вы ли и есть один из тех фразеров, на которых вы так сердитесь? И вот что еще: вы ужасно легкомысленны. Вы думаете, что так легко обмануть людей: «да я-то, дескать, и тоскую, я науку защищаю, которую унижают и уничтожают крикуны и мальчишки; я сам тоскую и скорблю, глядя на это, и вот пустил свой элегический плач». Но при всем вашем уменьи фразерствовать вы ведь так наивно высказываете свою настоящую цель! Вы не за науку стараетесь, вы ровно ни о чем не тоскуете. Вам просто надо было назвать всех «прогрессистов» бессовестными, пустозвонами и манкенами. Ведь такое презрение не может быть у серьезно и свято сочувствующего делу человека, у умеющего хоть что-нибудь различать человека. С каким цинизмом вы обнажили себя! О боже! если б вы говорили только о крикунах и мальчишках, бездарных, бездарно и грубо схватывающих одни верхушки идеи, толкующих ее односторонне, с предательским легкомыслием вредящих всякой новой идее уж тем одним, что они кричат и звенят о ней, опошливающих ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства, — о, тогда мы бы сами присоединились к вам, рады бы вы или не рады были такой компании! Но вы, во-первых, поголовно всех мыслящих и желающих света, кроме себя, считаете крикунами, а во-вторых, всех этих, по-вашему, крикунов и прогрессистов считаете бессовестными, и именно на это-то напираете, именно это хотите доказать. Вы говорите: нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться… Это ваши собственные слова. Вы говорите далее, что мы (мы тут, разумеется, для красы) оттого прогрессисты, что боимся прослыть людьми отсталыми, что «мы готовы нести или выслушивать всевозможную чепуху, чтоб только не подать подозрения, что мы не прогрессисты» (следовательно, сознательно бессовестны), что, наконец, «гаркни кто-нибудь, что прогресса нет, что всё в жизни бессмысленно и случайно… и мы готовы смиренно подчиниться и такому решению, лишь бы только остаться на счету прогрессистов».
Так ли? так ли? Ради здравого смысла, возможно ли это для всех, для всех поголовно? Возможно ли, чтоб в целом обществе не было ни малейших признаков жизни? Что за безотрадный, что за ужасный, невозможный взгляд? Очень может быть, что усилия этих прогрессистов не отвечают жизни; но неужели ж не жизнь, не стремление жить и формулировать эти стремления управляют их действиями, а одно тупое, бессовестное желание прослыть прогрессистами, как уверяете вы? Неужели ж все они только манекены, а не живые люди? Неужели же все те, которые в последнее время порывались хоть что-нибудь высказать, хоть что-нибудь формулировать, — одни бездушные, выпускные куклы, которых двигали бездушные, механические пружинки, а не действительная жажда познания и истины? И все, все такие? Неужели ж вы только один и есть на всей Руси, вы, профессорствующий «Русский вестник», которому так легко на всё плюнуть и всё раздавить ногой? Да уж не вы ли один и остались для спасения нашего? Так скорее, скорее спасайте нас! «Иван Александрович! ступайте управлять департаментом!»*
И что проповедуете вы? Кто ж не знает (и уверяю вас, даже самые бездарные крикуны и мальчишки это понимают), что действительность и настоящая деятельность облагородили бы нас, дали бы каждому из нас свой удельный вес и значение, измерили бы силы наши и привели бы нас к самопознанию. Кто же не знает, что с прикосновением к действительности, с началом деятельности исчезла бы эта вереница предзаданных идеек, успокоительных формул и проч., и проч., чем задается в наше время чуть не всякий человек, жаждущий деятельности. Но, по-вашему, так легко успокоиться и не тосковать; так легко избежать грез, мечтаний, не упасть, не наделать ошибок. Это спокойствие, эта легкость подозрительны. Они показывают равнодушие и обнаруживают самолюбивый до сладострастия (уж позвольте так выразиться) эгоизм. Да ведь вы сами формулами задаетесь! Праздный, но беспокойный, пытливый ум, без действительности, естественно, должен отклониться от нормального пути и увлекаться теоретическими бреднями. Чем бы осмыслить это явление, чем бы проникнуть в него (как было и начали вы), вы кончили тем, что этих же несчастных, этих же алчущих и жаждущих назвали чуть не подлецами и даже отняли у них всякое право жизни, признав их одними пустыми фарсерами и даже отказав им в человеческих чувствах. Да разве ошибающийся человек непременно подлец? Да иногда, именно, чем уродливее проявляется жизнь, чем судорожнее, чем безобразнее, чем неустаннее это проявление, тем больше, значит, жизнь хочет заявить себя, во что бы то ни стало, — а вы говорите, что и жизни-то нет. Тут тоска, страдание, да вам-то что за дело! Всё это не соответствует вашей тайной идейке, следственно, нечего и признавать в этом ни тоски, ни жажды жизни. Всё мыльные пузыри!
Вот вы, например, говорите свысока и даете уроки, а ведь всё это такая пропись — ваши уроки, такая тупая отвлеченность, такая абструзность (о милое словечко! где это вы его достали? по делу виден художник). Те, отверженцы-то, хоть что-нибудь делают, хоть копаются, чтоб выйти на дорогу, хоть ошибаются, и таким образом избавляют других, последующих деятелей от подобных же ошибок, следственно, хоть отрицательно, да полезны; а вы, мелодраматически скрестив руки, стоите да посмеиваетесь. Нанял жид работника рубить дрова: мужик рубит и кряхтит с каждым ударом. Жид смотрит и спрашивает: «Зачем ты кряхтишь?» — «А так легче». — «Ну так ты руби, а я буду за тебя кряхтеть», — говорит жид. Мужик как ни взмахнет топором, а жид подкряхтывает. Изрубив дрова, мужик просит денег; жид и дает меньше, чем уговаривались. «Как же так? — говорит мужик, ведь я всё изрубил?..» — «А я кряхтел, — говорит жид, — тебе легче было». Жидки хитрый народ! Уж не кряхтите ли и вы понапрасну-то? Но нет, у вас на уме выгода: вам именно хочется провозгласить: все фальшиво поют, один я соловей. Так мы и поверим вам? Нет, вы нам сами сделайте свое собственное фью-фью-фью, как говорит г-н Щедрин*, которого вы так хорошо знаете*. Нет, если уж вы желаете добра, так покажите-ка сами, как бы вы сделали, без ошибок-то. Но вижу, вы высокомерно улыбаетесь. Вы ведь уверены, что жизнь придет сама собою и принесет что-нибудь самое лучшее, аглицкого товару-с*, а до тех пор и нечего беспокоиться. Налагаете бремена тяжкие и неудобь-носимые…* и т. д. Разумеется, вся ваша выгода — стоять теперь перед всеми в загадочном спокойствии. Чего доброго, пожалуй, за такого непочатого мудреца примут, что и в Англии не найдешь!
Да и к чему в самом деле вам со всякой этой «гнилью» якшаться? Вы уверены, что «придет жизнь— и гниль исчезнет сама собою». Когда же она придет? как же она придет? Какое удивительное знание действительности! Правда, Булгарин и Аскоченский разрешают загадки жизни еще легче. У них всё так готово, так всё разлиневано. «Когда придет жизнь».. видно, что вы об этом не очень задумываетесь; да и зачем? Те, кто об этом заботятся, могут ошибаться, скомпрометировать себя, ну а вам неприлично ошибаться и себя компрометировать. На это есть чернорабочие; над ними смеются, они крикуны, свистуны, пустозвоны; и работа такая черная, скучная, хлопотливая даже. Надо лазить, трубы чистить, тяжести таскать, крючиться… Неприлично. Академической позы не выйдет. А ведь мы герои!
И ведь мы вам уступили. Мы согласились, что крикуны ошибаются.* Оно так, ошибаются. Вот они науки не признают, они легкомысленны, они на всё бросаются… правда! А знаете ли вы, что исторический ход дела — странная вещь? И так не похож иногда на теоретический! Да почти всегда. Кажется, смекнешь всё теорией, у себя в кабинете: вот так, вот именно так всё должно случиться, и пример есть — так вот и в Англии было. Смотришь: вовсе не так выходит на деле. Ничего предсказать и предугадать нельзя заранее. Странная вещь; даже предосадная вещь!
А знаете ли, что мы вам скажем в заключение? Ведь это вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотами»*, вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным.* Такая обида! Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним.* И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «полемических красот»… Господи! Подымается скрежет зубовный, раздается элегический вой… «Отечественные записки» после этих красот поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество.* Один шутник даже сказал, что в той книжке «Отеч<ественных> зап<исок>» только в «Десяти итальянках» и не было упомянуто имя г-на Чернышевского*. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском.* К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!
Но так как уж пошло на отгадки — скажите, «Русский вестник», к чему вы напечатали стихотворение князя Вяземского* «Заметка» в той же августовской книжке, в которой и элегическая ваша заметка? Конечно, это стихотворение для нас замечательно не само по себе, а потому, что вы его у себя поместили. Не за такие же стихи, как:
или
поместили вы это стихотворение. Конечно, не такие стихи соблазнили вас. Но к чему расспрашивать? к чему задавать такие затруднительные вопросы?..
Да, «Русский вестник», мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли поворотите на одну дорожку*. Дорожка эта торная, гладкая. Вероятно, найдете и товарищей… Счастливый путь! И весело, и выгодно! Останавливать не будем!
1862
Два лагеря теоретиков
(По поводу «Дня» и кой-чего другого)
Именно в настоящее время мы нуждаемся в честном, прямом и, главное, верном слове о нашем народе… Народ теперь выступает на сцену, призванный к общественной жизни законоположениями 19 февраля. Что же он такое, что же это за неизвестная страна, о которой мы что-то слыхали, к которой, по-видимому, близко и подходили; что это за новый элемент русской жизни, который скоро обновит нашу общественную жизнь? Что это, одним словом, за земство русское? Исторически о нем знаем мы только то, что когда-то оно было одним из главных заправляющих начал нашей жизни, потом постепенно отодвигалось на задний план разными обстоятельствами, что долгое время оно, по-видимому, замирало и только по временам заявляло себя в часто грозных протестах против горькой действительности*…Вопрос о народе в настоящее время есть вопрос о жизни… От того или другого решения его зависит, может быть, судьба будущего русского прогресса. И это потому так, что вопрос о русском народе видоизменяется следующим образом: есть ли у нас в настоящее время земство как элемент, отличный от служилых сословий, есть ли еще в нем теперь какая-нибудь жизнь, может ли оно обновить наше небогатое жизненностью общество?..
Такой жизненный вопрос никогда не решится по теории. Он возникал у нас, хотя и не с такой силой, давно уж, когда наше общество пришло к сознанию своей особности от других западноевропейских народов. Но любовь к теории помешала теоретикам взглянуть на факты прямо, понять их как следует. Теория хороша, но при некоторых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то должна подчиниться ее строгому контролю. Иначе она станет посягать на жизнь, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, нагибать к себе действительность. Западники, составив себе теорию западноевропейской общечеловеческой жизни и встретясь с вовсе непохожей на нее русской жизнью, заранее осудили эту жизнь. Славянофилы, приняв за норму старый московский идеальчик, тоже зараз осудили в русской жизни всё, что не укладывалось в их узкую рамку. Иначе, конечно, и быть не может. Раз положенное ложное начало ведет к самым ложным заключениям, потому что теория любит последовательность. Раз положенное узкое, одностороннее начало непременно, по той же самой последовательности теории, поведет к отрицанию тех сторон жизни, которые противоречат принятому принципу.
Но в том-то, пожалуй, и заслуга теоретиков, что они в иных случаях слишком последовательны и не боятся никаких заключений… Одна фаланга нынешних теоретиков не только отрицает существование русского земства, не признает его началом, которое должно жить, но просто отрицает в самом принципе народность.* Мы не станем слишком подробно разбирать мнение этой фаланги, потому что это отняло бы у нас слишком много времени и места, а главное, потому, что теория эта слишком узка и поверхностна, да и стара тоже. Еще у Шиллера маркиз Поза мечтает о космополитизме.* Относительно предмета, который нас занимает теперь, она не выдерживает в наше время критики, и мы ограничимся о ней несколькими словами.
«Наш идеал, — говорит один лагерь теоретиков, — характеризуется общечеловеческими свойствами. Нам нужен человек, который был бы везде один и тот же — в Германии ли то, в Англии или во Франции, который воплощал бы в себе тот общий тип человека, какой выработался на Западе. Всё, что приобретено им общечеловечного, смело давайте всякому другому народу, вносите общечеловечные элементы во всякую среду, какова бы она ни была. К чему тут толки о почве, с которой будто бы нужно справляться, при усвоении ей начал, выработанных другим народом?» Таким образом, из всего человечества, из всех народов теоретики хотят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы странах земного шара, при всех различных климатических и исторических условиях, оставалось бы одним и тем же… Задача тут, как видно, широкая, и цель высокая… Жаль только, что не в широте задачи и высоте цели тут дело. Нам бы сильно хотелось, если б кто-нибудь из этого рода теоретиков решил бы следующие вопросы: точно ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стертый грош, и какая именно будет оттого польза? Пусть кто-нибудь из теоретиков укажет нам тот общечеловеческий идеал, который выработать из себя должна всякая личность. Целое человечество еще не выработало такого идеала, потому что образование, собственно, только в какой-нибудь двадцатой доле человечества. А если тот общечеловеческий идеал, который у них есть, выработан одним только Западом, то можно ли назвать его настолько совершенным, что решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток принести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвоением себе идеала по западным книжкам? Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону. Может быть, тогда только и можно будет мечтать нам о полном общечеловечном идеале. Иногда приходят нам в голову и такого рода мысли, что каждый, развиваясь при особых условиях, исключительно свойственных той стране, которую он заселяет, неизбежно образует свое миросозерцание, свой склад мысли, свои обычаи, свои уставы в общественной жизни… И думается, что если физически невозможно заставить народ отрешиться от всего им нажитого и выработанного в пользу, положим, и общечеловечного идеала, только добытого в других странах, то неизбежно надобно обращать внимание на народность, если мы хотим какого-нибудь развития народу… Народные инстинкты слишком чутки ко всякому посягательству со стороны, потому что иногда рекомендуемое общечеловечным как-то выходит никуда не годным в известной стране и только может замедлять развитие народа, к которому прилагается. Мы думаем, что всякому растению угрожает вырождение в стране, где недостает многих условий к его жизни. Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично. Оно отказывает народам во всяком праве саморазвития, умственной автономии. А по поводу тысячелетия России в нынешнем году нам пришли в голову вот какого рода соображения. За тысячу лет хотя кое-какой, но все-таки исторической жизни мы нажили некоторый опыт… Запад приходил уже спасать нас в лице Петра и целые полтораста лет различными манерами принимался он благоустроивать нашу жизнь. Но что вышло из всех подобных предприятий? Если и сделали что-нибудь они для нас хорошего, так это именно то, что доказали нам, что есть почва у нас, что на нее в некоторых случаях должно обращать очень и очень большое внимание. Петровские реформы создали у нас своего рода statum in statu.[33] Они создали так называемое образованное общество, переставшее не квас пить, как уверяет «Современник», а вместе с квасом и мыслить о Руси,* общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение. И нужно было много трудов и времени, чтоб наконец в лучшей части этого оторванного от почвы общества пробудилась мысль о народе, о народном развитии, пробудилось сознание необходимости усвоения себе народных интересов и сближения с народом.
По тому самому, что теоретики отвергают существование всякой народности, они не понимают и того, что значит «сблизиться с народом». Они не могут понять того, что земство — самый нужный элемент в нашей русской жизни, не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение.* «Мы ли к народу должны подойти, — говорит «Современник», — или он к нам?» — «Народ должен подойти к нам, или, лучше, мы должны подвести его к себе*, потому что ведь в нас, собственно, витают общечеловечные идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа*». Но нам приходит иногда в голову, что народ не подойдет к нам прежде, нежели мы убавим у себя олимпийского величия, прежде чем сами подадим ему не на словах, а на деле руку. Ведь народ-то не сознает в нас нужды: он будет крепок и без нас… Он не исчахнет, как чахнем мы, не чувствуя под своими ногами точки опоры, не имея за своими плечами массы народа. Он тверд сам собою… Не крепки силами, безжизненны ведь, собственно, мы сами, имеющие честь называться образованным обществом. Нас убеждают согласиться в том, что народ — наше земство — глуп, потому что г-да Успенский и Писемский представляют мужика глупым*…Вот, говорят, они не подступают к народу с какими-либо предзанятыми мыслями и глупого мужика — называют глупым. Но такие рассказы — вроде рассказа г-на Успенского «Обоз» — по нашему убеждению, составляют клевету на народ. И это ли не предзанятость взглядов? Ведь в них есть кое-какая задняя мысль, которая в иное время бывает слишком некстати. Тут не утешает нас даже и то соображение, представленное «Современником», что массы везде глупы, слишком стадообразны и во Франции, в Англии и Германии, что рутина глубоко засела в их голову и что во всем они поступают большею частию машинально*. Так зачем же и хлопотать о массах, если они глупы, действуют машинально и т. п. Жаль только, что в этом случае теоретики не доводят своих заключений до конца…
И знаете ли, читатель, нам всё кажется, что во взгляде этой фаланги теоретиков страшный аристократизм. Они как будто делают себя аристократией просвещения и центром, которого должно держаться наше земство… И это учение теоретиков не симптом ли — только симптом под другой формой — борьбы, так часто возникавшей в древней Руси, — боярства с земством? такой факт нельзя ли назвать некоторым посягательством на народ наших чиновных сословий?.. Впрочем, бог их знает…
Но есть и еще другая фаланга теоретиков, которая, ради последовательности, тоже отвергает очень и очень многое: разумеем московских славянофилов, издающих теперь газету «День». В свое время славянофильство много сделало пользы для изучения быта нашего народа… Оно показало много сторон в русской жизни, указало значение земства в нашей истории и непосредственное его выражение — общинный быт*. Оно оказывает услуги нашей литературе даже и теперь. «День» издается только с 15 ноября прошлого года; но и в это короткое время он успел привлечь к себе внимание нашего читающего общества. И мы должны сказать, что недаром на «День» публика обратила внимание. В нем есть сила, которая невольно привлекает читателя на его сторону. Вы не можете не сочувствовать этому усиленному исканию «Днем» правды, этому глубокому, хотя иногда и несправедливому негодованию на ложь, фальшь. В едкости его отзыва о настоящем положении дел слышится какое-то порывание к свежему воздуху, слышно желание уничтожить те преграды, которые мешают русской жизни развиваться свободно и самостоятельно. В голосе «Дня» есть много честности. Он хочет действовать в интересах нашего земства, ратует за его интересы, поэтому он с особенной силой отрицает современный строй общества… И его отрицание обращено большею частию на дело. Он не тратит даром силы, не стреляет в воздух, как это часто случается с дешевыми отрицателями, тоже своего рода поклонниками «искусства для искусства». «День» затрагивает самые существенные стороны нашей русской жизни. Его отрицание идет вглубь, поднимает, так сказать, самое нутро вопроса, а не расплывается в воздухе, не сражается с воображаемым злом, не донкихотствует. Поставляя выше всего, хотя и понимая по-своему интересы земства*, он сказал такое живое и дельное слово о крестьянском деле и тесно связанном с ним вопросе дворянском*, о цензе, широко им понятом*…Он поднял в интересах русской народности и польский вопрос*, чрезвычайно важный при настоящих обстоятельствах… А ведь подобные вопросы для нас в настоящее время — вопросы плоти и крови. От того или другого их решения зависит вся наша будущность, весь ход русского прогресса и цивилизации. Разбирать, в частности, поднимаемые «Днем» вопросы мы не будем, потому что они — чрезвычайно важные вопросы и стоят обстоятельнейшего обсуждения, чего мы не можем сделать в тесных границах одной критической статьи. О них нужно поговорить о каждом особо и немедленно, от чего мы отнюдь не уклоняемся. Прибавим еще, что голос «Дня» мы считаем очень важным и нужным в нашей литературе, особенно ввиду постоянно возникающих новых вопросов жизни. Если в решении иных мы и разойдемся с ним, то ведь чем больше будет по ним полемики, тем лучше. Но в интересе той же правды, которую хочет «День» найти на Руси, мы должны сказать, что беспощадное отрицание в иных случаях слишком беспощадно и потому несправедливо. Ратуя за русское земство, он несправедлив к нашему так называемому образованному обществу. Признавая жизнь только в народе, он готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, обществе — мы тут разумеем лучшую часть его. В этом случае он большой ригорист. «Всё ложь, всё фальшь, — говорит он в одной передовой статье своей, — всё внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, заражены ею (то есть ложью).* Ложь в просвещении… Ложь в вдохновениях искусства… Ложь в литературе…» Мы понимаем, что этот голос может быть искренен; но очевидно также, что это голос фанатизма… «День» не хочет спуститься с своей допетровской высоты, презрительным взглядом окидывает настоящую русскую жизнь, лорнирует ее сквозь свое московское стеклышко и ничего-то не находит в ней такого, к чему он мог бы отнестись сочувственно…
Назад тому два месяца мы спрашивали у «Дня»:
Неужели мы в полтораста лет хотя бы quasi-европейской жизни не вынесли ничего доброго и только внутренне развратились*, изжились, потеряли всякие задатки жизни?
Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь — всё, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни, всё, что свежило русскую жизнь и светило в ней, — всё это равняется нулю?
Неужели все это порывистое стремление литературы последних годов к прогрессу, к цивилизации, страстное желание сколько возможно улучшить русскую жизнь, это внимание к общественным вопросам в той мере, в какой позволяют внешние обстоятельства, неужели самое это глубокое недовольство современной жизнью — всё это нуль, ложь, фальшь?
Неужели общечеловечные элементы, проводником которых с Запада в русскую жизнь всегда по возможности была литература, — мы должны признать источником лжи и фальши, разъединяющей наше общество?..
Всё ложь, всё фальшь, повторяет нам «День». Вот в этом-то голосе мы узнаем московских славянофилов-теоретиков. И у них, как у западников, то же непонимание жизни, то же посягательство на нее, та же беспощадная последовательность. И тем более досадно на это поголовное обвинение в фальши всего общества, что ведь в нем скрывается глубочайшее противоречие «Дня» самому себе. Для чего, спрашивается, он издается? Конечно, для того, чтобы принести хотя какую-нибудь пользу обществу, чтоб указать ему путь к жизни, уничтожить конечно разъедающую его фальшь? Ведь не издавался бы «День», если б фальшь до того разъела наше общество, что в нем не осталось бы никаких задатков жизни? О мертвых заботиться много нечего; с безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, чтоб его возвратить к жизни, а поскорей убрать его из человеческого жилья, чтоб не заразились от него и живые, здоровые… Зачем же хлопочет «День» о присуждении нашего общества к жизни, о возвращении к среде народной, если, по его мнению, всё в нем ложь и фальшь?
В том-то и беда теоретиков, что они или вовсе не хотят понимать, или плохо понимают жизнь… Нам припомнилась одна тирада из передовой статьи «Дня» против некоторых увлечений. Присвоивши себе право заявлять живой, сильный протест против лжи, фальши общества, он отрицает у молодости это же самое право. Преследуя то, что составляет мертвечину, хлопоча о жизни, он презирает молодую жизнь… Твердя о непочатых силах народных, о свежести и крепости его — славянофилы запрещают всякую деятельность молодым, крепким, в первый раз столкнувшимся с действительностию силам… Взывают к голосу народному, от народа, еще неискусившегося во зле, ожидают плодов, а молодому поколению, на которое возлагаются лучшие надежды общества, отказывают во всяком голосе… Если б «День» судил о вещах не по своему московскому идеальчику, не поверял бы жизнь теориею, а теорию — жизнью, он не напечатал бы статьи, которую мы всегда будем считать неизгладимым пятном на редакции.*
Самая отрицательная часть «Дня» теряет в наших глазах часть своей силы от одного следующего обстоятельства… Мы объясним свою мысль следующим примером. Представьте, что человек подошел к безобразной куче сору, где наряду с песком, лохмотьями зарыто много и драгоценностей. Он начинает перебирать кучу; он с силой отбрасывает лохмотья, песок, разную дрянь… Стоя в стороне, вы не можете не согласиться, что называемое им дрянью действительно дрянь; вы готовы даже удивляться меткости его приговоров… Но беда-то в том, что этот разметатель сору ищет не драгоценностей там, чтоб воспользоваться ими для себя, а старый, поношенный башмак. Вы удивляетесь, почему же это он ищет не того, чего по всем вашим предположениям ему нужно бы было искать… И вот вы видите, как та же беспощадная рука, которая отметала грязь, с тою же силою и едкою насмешкой отбрасывает и то, что вы считаете золотом. Таким образом, пред вами разбрасывается песок, лохмотья, не во имя тех дорогих вещей, которые зарыты вместе с ними, а во имя старого, поношенного башмака… Тут уже невольно приходит в голову: правда ли, что поношенный башмак, из-за которого отвергается и дурное и хорошее, лучше самых лохмотьев в этой куче?.. И вы не можете не пожалеть, что ослепление человека не дает ему возможности видеть в куче дряни и хлама действительно хорошее… Это сравнение, кажется, может несколько быть применимо к «Дню». Отрицательная его сторона, как мы уже сказали, бесспорно — хороша… Но во имя чего он отрицает в нашей теперешней русской куче сору и хорошее и дурное?.. Мы сказали, что он ратует за интересы земства… Но значение его, условие жизненности этого начала он понимает по-своему. Он берет не земство — то здоровое, свободное земство, которое жило широкой жизнью в первые шесть веков нашего исторического быта, а берет за норму отношений земства к другим началам быт московский XVI и XVII века, когда централизация уже страшно посягнула на права и свободу земства. Одним словом, «День» отрицает теперешнюю жизнь во имя московской теории…
Но ведь она тоже кабинетное создание, плод мечты и пылкого воображения… Одним словом, она походит на старый, поношенный, хотя и не совсем еще стоптанный, башмак. В некоторых частях своих она годна еще к кое-какому употреблению, но ее нужно обновить чем-нибудь новым. Допетровская Русь привлекает к себе наше внимание, она дорога нам — но почему? Потому, что там видна целостность жизни, там, по-видимому, один господствует дух; тогда человек, не так, как теперь, чувствовал силу внутренних противоречий самому себе или, лучше сказать, вовсе не чувствовал; в той Руси, по-видимому, мир и тишина… Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней вглядеться в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не всё то золото в ней, что блестит… Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при искусственном освещении. Несмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры аляповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное… Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно… Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или апатия или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность… В допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то, скажите пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую, допетровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной.* «День» говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь…* Выражение слишком неопределенное… пороки в семейных и общественных отношениях… Да что же, спрашивается, после этого ложь? Не ложь ли производит и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси?
И по этому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь… Для них всё наше развитие, положим небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, — всё это равняется нулю… Они ужасно бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку*, а сами немного уступают ему в своей крутости. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью… Для славянофильства теория — такая же беспощадная, такая же скорая на всё, как и всякая другая… Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад или вовсе ее уничтожить… Положим, вы бы, например, вздумали дать сток стоячей воде и для этой цели начали бы копать канал… Давно уж вы начали эту работу, прокопали большое пространство… Но работа ваша идет очень плохо, медленно; ваш канал слишком неглубок, и впереди не предвидится вам возможности углубить его, потому что в распоряжении вашем слишком мало рабочих рук, да и рабочая ваша масса не подновляется свежими силами… Вот вы разузнаете причину своей неудачи… Оказывается, к вашему изумлению, что направление вы своему каналу дали не такое, какое нужно дать, что главная масса рабочих, которая главным образом составляет вашу силу, на которую хотели опираться вы, которая могла бы весть ваш канал вперед, и широко, и глубоко, и прочно, — эта главная масса рабочих, вся, так сказать, суть вашей силы, отстала от вас, закопала свой канал и пошла пробивать себе дорогу по другому направлению. Ну что вы тут станете делать… Оставить всю сделанную вами работу? Но как-то чувствуется вами, что и ваша работа, как бы ни была, положим, мала она и не достаточна, все же работа вы сознаете, что и вы кое-что сделали и что добытое вами могло бы пригодиться и той главной массе рабочих, которая отстала от вас. Таким образом, воротиться нельзя, потому что зашли-то очень далеко. И нельзя идти далее, потому что это значило бы только еще более расходиться с главной силой, еще сильней чувствовать свое бессилие и глубже сознавать необходимость общего соединения. Что тут делать? Не лучше ли вам, не бросая своей работы, открыть сообщения с главной массой и поэтому узнать направление вашего канала, сама главная масса против желания придвинется к вам, когда увидит искренность вашего намерения соединиться, если она прежде и смотрела на вас слишком недоверчиво, то это потому, что она не видела от вас никакой помощи себе. Ведь тогда только и пойдет у вас отлично дело, когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий, добытой уже опыт и начнете дружно пробивать себе вперед дорогу. Вот этого-то и не хотят понять славянофилы, им того только и хочется, чтобы все добытое нами в продолжение полутораста лет уничтожить и воротить наше общество назад. Возможно ли это дело? Не теория ли это, мало берущая во внимание жизнь?
Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало — земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдает справедливости нашему образованному обществу. Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?
Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной. Реформа шла сверху вниз, а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела. Оно, конечно, при тех реформаторских приемах, какие употребтял Петр, преобразование и не могло охватить весь народ: народ переделать очень трудно. Для этого мало железной воли одного человека. Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков… Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу — за свою одну жизнь— переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа. Деспотизм реформаторских приемов возбуждал только реакции в массе; она тем крепче усиливалась сохранить себя от немцев, чем сильнее последние посягали на ее народность. С другой стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая бюрократия — чиновничество. Не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнет, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое общечеловечное значение реформы Петра… Она, по прекрасному выражению Пушкина, прорубила нам окно в Европу, она указала нам на Запад, где можно было кой-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно бы было видеть, училась вовсе не тому, чему должна была там учиться… Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу. Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух… Так мы по крайней мере понимаем исторический факт — наш раскол. Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской почве, конечно, не чудом каким. Оно подновлено, несомненно, временем… В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание — дать новое направление нашей исторической жизни… Но характер всяких переходных эпох таков, что во время их чувствуется сильнейшее желание выйти из пошлого порядка вещей, но как выйти, куда идти, — плохо сознается и понимается… В том-то и была беда Петра, что желание Руси обновиться он понял по-своему, исполнял его тоже по-своему — деспотически прививал в жизнь не то, в чем она нуждалась. Поэтому Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более простору жизни — но только до сих пор он и был народен… Выражаясь точней, одна идея Петра была народна. Но Петр как факт был в высшей степени антинароден… Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов, сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом своего только произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского народа… Он слишком миролюбив и любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и воздвигались эшафоты для людей, не сочувствовавших его преобразованиям… То самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменою народному духу… Русский народ не любит гоняться за внешностию: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и т. д. Народ и отрекся от своих доброжелателей-реформаторов, не потому, конечно, чтобы любил бороду, гонялся за одеждой, а потому, что такой преобразовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплачивался, сжимался. Борода и одежда сделалось чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура. Как бы то ни было, только факт стал очевиден, что народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой — врозь с путями высшего общества… Земство разошлось с служилыми сословиями. Последовавшие за петровской эпохой исторические обстоятельства только усиливали это раздвоение общества от массы народной. О народе — о главном — часто забывали, думали больше о самих себе. Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам, давление сверху становилось тяжелей и тяжелей, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось, об образовании народа думали только немногие горячие головы*. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утеряли самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развился в небывалых размерах, и по обстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходившее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью, даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике: горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своекорыстия скрывается иногда под видимым участием. В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа, именно потому, что народ не верит в их искренность. Обвинять тут народ в невежестве, непонимании хорошего, ставить подобные вещи ему собственно в укор чрезвычайно недобросовестно. Согласитесь, что иногда наши ласки к народу только нам кажутся ласками, а зачастую, в сущности-то, они бывают медвежьи. Мы ведь, нужно говорить правду, не умеем подойти к народу. Уж в этом отношении никогда нет средины. У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и только. Hу поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на «вы»? Сами, конечно, виноваты. Зато редко, редко бывает, что народ верит нам и пользуется нашими советами. Из усердия к народным интересам мы являемся его советниками, например, по земледельческому его делу. Говорим ему устно и печатно, сочиняем нарочно для этой цели книжки. Но читает ли их народ, даже те, которые ему попадаются случайно в руки? Слушает ли он наши наставления? Да! читает и слушает из простого любопытства, как о новых, прежде им неслыханных вещах, с такой же охотой читает, как и Еруслана Лазаревича. Но он и не думает применять наши наставления к делу, потому, дескать, это не наше дело, а барское, писаны книжки не для нас, а для господ. И не то чтоб он тут не понимал нас, а просто потому, что не верит нашим книжкам, нашему усердию в пользу его. — С трудом прививаются народной массе и нравственные и религиозные понятия людьми, которые не из ее среды. А посмотрите, с каким напряженным любопытством, с какою жадностию, лихорадочным вниманием безмолвная толпа слушает грамотного мужика. Факт, например, и то, что сколько ведь напускной лжи и двоедушия принимает на себя мужик пред нашими судами, как иногда усиленно ловит он случай стянуть из барского кармана лишнюю копейку. Между тем нередко этот лжец, двоедушный обманщик сам-то в себе честный человек, честный пред своей общиной, пред своим миром, и не подумает обмануть своего брата мужика или схитрить пред миром… Потому, видите ли, делаются тут дела так, что суд мира есть суд в высшей степени народный, обмануть своего считается бесчестьем. А к нашему брату он не чует никакой привязанности, нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями, с которыми не грех обойтись помудреней, чем с своим братом. В нашем присутствии мужик уже вовсе не тот, каков он со своими: он стесняется, он официален, хочет казаться. До такой степени наше общество разъединилось с народом!
Вот почему нельзя говорить, что, дескать, зачем отделять высшее общество или, точнее выражаясь, образованное общество от массы народа. По идее-то оно выходит как будто и так, да и в сущности-то оно так. Только беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно, этого то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш», и, конечно, самым лучшим благочестивым желанием передовых русских людей всегда будет настолько соединиться с народом, чтоб он не отделял образованных людей от себя и считал образованное общество своим. Но это будет задачей долгого времени, и блаженное время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества — еще впереди. До того же времени называть себя de facto[34] народом, частию той массы, которая составляет наше крестьянство, земством — будет самообольщением Ведь нельзя, например, не задуматься над тем, почему это мы не можем теперь найти язык, на котором могли бы искренно, сердечно беседовать с народом, почему это так сильно чуждается нас народ, так трудно нам, если только не невозможно, войти в дух, понятия и интересы народа; почему это инстинкт народный так упорно не хочет узнать в нас своих друзей? Конечно, такое явление происходит оттого, что мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть…
И снова повторяем, что невозможно обвинять народ в том, что он плохо понимает нас, что он не развит, что он чуждается нас… Опять скажем, что в неразвитости народа виноваты и мы сами. Отчего же мы целых полтораста лет забывали о нем, не хлопотали об его развитии, предоставили его самому себе на произвол судьбы — и судьбы тягостной. Можем ли мы после этого требовать от него нравственной развитости? Во-первых, сколько есть и между нами людей, которые по своим нравственным понятиям не только не стоят выше мужика, но даже гораздо его ниже. Где, как не в этом образованном обществе, скрывается такая подлейшая ложь, такой грубый обман, такая нравственная подлость, что ей и названья не найдешь? Образованная ложь всегда выражается в жизни циничнее; тем отвратительней становится она нравственному чувству человека, чем, по-видимому, толще покрыта лаком внешней образованности и прогрессивных понятий. Если бы вы взяли простого балалайщика с рынка и он не стал бы понимать, в чем заключается вся суть очаровательной гармонии Моцарта или Бетховена, стали бы вы на него претендовать? Чтоб понимать высшую гармонию звуков, для этого нужно иметь очень развитое ухо; на каком же основании станете вы требовать от полуразвитого уха совершенного пониманья высшей гармонии? Ведь это значило бы требовать от яблони апельсинов. И то еще нужно заметить тут, что не всегда верны те наблюдения над простым народом, какие делаются, например, г-ми Успенским и Писемским. Наблюдение над нашим простым мужиком делается, как известно, чрезвычайно поверхностно; глубь-то его душевная упускается, о ней часто и не знают те, которые, по-видимому, вблизи изучают народ, и это опять потому, что мужик не любит весь раскрываться пред господами. Оттого недоверие к бесчестности, глупости мужика, не только не бесполезно, а даже обязательно. Жаль только, что наши скептики, прилагающие свое отрицание ко всему, не употребляют его в дело на указанном нами пункте.
И от этого раздвоения народа страшно страдают обе его части. Отсутствие общих пунктов у высшего общества с низшим; противоположность интересов, созданная историческими обстоятельствами, заставляет его относиться враждебно к народу. Народу некогда идти вперед, потому что при настоящих отношениях к высшему обществу у него хватает времени только на отстаивание того, что у него есть. Предоставленный самому себе, он коснеет в невежестве, совершенно лишен всякого участия в тех общечеловеческих результатах европейской цивилизации, которыми, впрочем, только в некоторой мере владеет образованное общество. Он и прозвал себя горемыкой, потому что сам-то по себе находит весьма трудным выйти из того незавидного положения, в какое поставили его исторические обстоятельства. Редко, редко находит он себе вождей, которые указывают ему новые пути, собирают в одно его разрозненные, рассеянные силы и мощно двигают их к одной цели. И сколько тут пропадает силы! Эта тучная, могущая быть плодовитейшею земля должна лежать если не совсем впусте, то приносить вовсе не те плоды, какие могла бы приносить…
От разрыва с народом страдают и высшие классы. Их силы сравнительно с силами народа — чрезвычайно малы, если не ничтожны.
Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами — оттого чахнут, ничего не выработывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленной и точно обозначенной цели. Оттого их существование принимает какой-то бесцельный характер. Не сливая своего дела с земским делом, они по необходимости должны были поставить впереди себя только узкие цели. Оттого все лучшие порывы вперед нашего общества неизбежно отпечатлеваются каким-то характером безжизненности, чахлости… Говорят, что у нас в России не привилась наука… именно потому и не привилась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем сколько сил хранится в этих сорока миллионах людей, которые чужды вовсе науки, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни, если б открыты были двери для талантов, таящихся в ней… Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны. Самая сфера мысли образованного нашего общества приняла характер какой-то условности, потому что в нее не вносится новых, свежих мыслей из массы народной, потому что не являются на умственную арену новые, свежие бойцы. И только тогда у нас явится и прочно установится наука, когда она будет достоянием не одного или нескольких привилегированных сословий, а всей массы народа… Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни.
И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой — мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное… Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо национальные, потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь в состоянии отличать и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, — нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за всё возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека… только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубь, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?
Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтоб мы возвратились самым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно:
1) Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не оттого, чтоб у него мало было средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии.
2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях.
3) Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядом. Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде, да он не терпит и оскорбительной для него французской вежливости. Нужно полюбить народ, но любовью вовсе не кабинетною, сентиментальною.
Да! нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам. Так мы понимаем сближение с народом. Читатели видят, что оно вовсе не фраза, пустое слово, а имеет большое значение в теперешней нашей общественной жизни.
Но в том-то и дело, скажут нам скептики, что мы и народ не способны ни к какому лучшему будущему. За целую тысячу лет своей исторической жизни ничего не сделали ни мы сами, ни народ. Применяя к Руси известную мысль Монтескье — всякий народ достоин своей участи*, что можем сказать хорошего о нас и этом народе, который и т. д.? Об этом вопросе мы скажем следующее:
Во-первых, на что указывает нам русский раскол?.. Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит оттого, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, чтоб в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал. Руси православной, не могут с сочувствием отнестись к народу, изменившему православию. Западники, судя об исторических явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, видят в расколе только одно русское самодурство, факт невежества русского, гнавшегося за сугубым аллилуйя, двуперстным знамением и т. д. Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностию. Оно и неудивительно, потому что, судя о вещах по теории, легко закрыть глаза на многое, легко напустить на себя своего рода ослепление. И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни.
Во-вторых, скептики забывают, что народ удержал до сих пор, при всех неблагоприятных обстоятельствах, общинный быт, что, не зная начал западной ассоциации, он имел уже артель. Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала*. Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь; ему ход будет только в будущем… На Руси оно существует уже как данное жизнью и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все таки отстоял… Что ж это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни?
В-третьих, посмотрите, какой иногда такт в суждении, какая зрелая практичность ума, меткость в слове проявляется в этом народе, который не имеет никакой юридической подготовки, не знает римского права. Законоположение 19 февраля вызвало народ к жизни, поставило его в новые условия, — и он вовсе не оказался неспособным обсуживать свое новое положение… Если вы следили за крестьянским делом, вы не можете не согласиться, что в фактах его проявляется не одно только невежество и глупость…
Да наконец, хотя бы эта способность самоосуждения, которая проявляется на Руси с такой беспощадно-страшной силой, не доказывает ли, что самоосуждающие способны к жизни? Не в русском характере иметь такой узкий национальный эгоизм, какой нередко встретить можно у англичанина, у немца, у француза. Так ли народ наш привержен к своим обычаям, поверьям, своему быту, как, например, англичанин к своим учреждениям. Не потому русский народ слишком крепко держится своего, что оно свое, а потому, что он не слыхал ничего лучшего, потому что все другое, рекомендованное ему со стороны, он нашел худшим. Он потому и держится своего, что оно лучшим ему кажется из всего, что он слыхал и видал. А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями*. Ему дорог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает в этом отношении, а потому, что это свое. Или посмотрите на ту сальную иногда сентиментальность, с какою немец рассуждает о своей полиции или своих Rath'ax,[35] и о превосходстве немецкой нации пред другими. Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, потому только, что, заговори он иначе, он изменил бы своей славной нации. Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя, иногда даже он несправедлив к самому себе, — во имя негодующей любви к правде, истине. С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма.*
И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни. Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильней портит организм, чем, по неведению, долее она остается непримеченною. Так и в обществе… Сила самоосуждения прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье.
И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется и это место останется пустым пожарищем?.. Неужели мы настолько задохнулись, настолько замерли, что нет надежды на наше оживление? Но если в нас замерла жизнь, то она несомненно есть в нетронутой еще народной почве… это святое наше убеждение.
Мы признаем в народе много недостатков, но никогда не согласимся с одним лагерем теоретиков, что народ непроходимо глуп, ничего не сделал в тысячу лет своей жизни, не согласимся, потому что излишний ригоризм нигде не уместен… Если друзья будут о нем такого мнения, то что же останется для его недоброжелателей?
<предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»>
«Le laid, c'est le beau»[36] вот формула, под которую лет тридцать тому назад самодовольная ратина думала подвести мысль о направлении таланта Виктора Гюго, ложно поняв и ложно передав публике то, что сам Виктор Гюго писал для истолкования своей мысли. Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж, нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появление его романа «Notre Dame de Paris»,[37] явились «Les Misérables»,[38] роман, в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Конечно, аллегория немыслима в таком художественном произведении, как например «Notre Dame de Paris». Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих.
Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия, хотя, впрочем, принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.
Виктор Гюго бесспорно сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во Франции. Идея его пошла в ход; даже форма теперешнего романа французского чуть ли не принадлежит ему одному. Даже его огромные недостатки повторились чуть ли не у всех последующих французских романистов. Теперь, при всеобщем, почти всемирном успехе «Les Misérables», нам пришло в голову, что роман «Notre Dame de Paris» по каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. Слова нет, что его все прочли на французском языке у нас и прежде; но, во-первых, рассудили мы, прочли только знавшие французский язык, во-вторых, — едва ли прочли и все знавшие по-французски, в-третьих, — прочли очень давно: а в-четвертых, — и прежде-то, и тридцать-то лет назад, масса публики, читающей по-французски, была очень невелика сравнительно с теми, которые и рады бы читать, да по-французски не умели. А теперь масса читателей, может быть, в десять раз увеличилась против той, что была тридцать лет назад. Наконец — и главное — все это было уже очень давно. Теперешнее же поколение вряд ли перечитывает старое. Мы даже думаем, что роман Виктора Гюго теперешнему поколению читателей очень мало известен. Вот почему мы и решились перевесть в нашем журнале вещь гениальную, могучую, чтоб познакомить нашу публику с замечательнейшим произведением французской литературы нашего века. Мы даже думаем, что тридцать лет — такое расстояние, что даже и читавшим роман в свое время может быть не слишком отяготительно будет перечесть его в другой раз.
Итак, надеемся, что публика на нас не посетует за то, что мы предлагаем ей вещь так всем известную… по названью.
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 г.>
«ВРЕМЯ»
Журнал литературный и политический, издаваемый M. Достоевским
С будущим годом начнется третий год издания нашего журнала. Направление наше остается то же самое. Мы знаем, что некоторые из недоброжелателей наших стараются затемнить нашу мысль в глазах публики, стараются не понять ее. Недоброжелателей у нас много, да и не могло быть иначе. Мы нажили их сразу, вдруг. Мы выступили на дорогу слишком удачно, чтоб не возбудить иных враждебных толков. Это очень понятно. Мы, конечно, на это не жалуемся. иной журнал, иная книга иногда по нескольку лет не только не возбуждают никаких толков, но даже не обращают на себя никакого внимания ни в литераторе, ни в публике. С нами случилось иначе, и мы этим даже довольны. По крайней мере, мы возбудили толки, споры. Это ведь более лестно, чем встретить всеобщее невнимание.
Конечно, мы оставляем в стороне пустые и ничтожные толки рутинных крикунов, не понимающих дела и неспособных понять его. Они с чужого голоса бросаются на добычу, их натравливают те, у которых они в услужении и которые за них думают. Это — рутина. В рутине никогда не было ни одной своей мысли. С ними и толковать не стоит. Но в нашей литераторе есть теоретики и есть доктринеры, и они постоянно нападали на нас. Эти действуют сознательно. И они понимают нас, и мы их понимаем. С ними мы спорили и будем спорить. Но объяснимся, почему они на нас нападали.
С первого появления нашего журнала теоретики почувствовали, что мы с ними во многом разнимся. Что хотя мы и согласны с ними в том, в чем всякий в настоящее время должен быть убежден окончательно (мы разумеем прогресс), но в развитии, в идеалах и в точках отправления и опоры общей мысли мы с ними не могли согласиться. Они, администраторы и кабинетные изучатели западных воззрений, тотчас же поняли про себя то, что мы говорили о почве, и с яростью напали на нас, обвиняя нас в фразерстве, говоря, что почва — пустое слово, которого мы сами не понимаем и которое мы изобрели для эффекта. А между тем они нас совершенно понимали, и об этом свидетельствовала самая ярость их нападений. На пустое слово, на рутинную гонку за эффектом не нападают с таким ожесточением. Повторяем: было много изданий и с претензией на новую мысль и с погоней за эффектом, которые по нескольку лет издавались, но не удостаивались даже малейшего внимания теоретиков. А на нас они обрушились со всею яростью.
Они очень хорошо знали, что призывы к почве, к соединению с народным началом не пустые звуки, не пустые слова, изобретенные спекуляцией для эффекта. Эти слова были для них напоминанием и упреком, что сами они строят не на земле, а на воздухе. Мы с жаром восставали на теоретиков, не признающих не только того, что в народности почти все заключается, но даже и самой народности. Они хотят единственно начал общечеловеческих и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что все сливается в одну форму, в один общий тип, который, впрочем, они сами никогда не в силах определить. Это — западничество в самом крайнем своем развитии и без малейших уступок. В своей ярости они преследовали не только грязные и уродливые стороны национальностей, стороны, и без того необходимо долженствующие со временем уступить правильному развитию, но даже выставляли в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют залоги его будущего самостоятельного развития, которые составляют его надежду и самостоятельную, вековечную силу. В своем отвращении от грязи и уродства они, за грязью и уродством, многое проглядели и многое не заметили. Конечно, желая искренно добра, они были слишком строги. Они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видали светлых и свежих сторон. Нехотя они иногда почти совпадали с клеветниками народа нашего, с белоручками, смотревшими на него свысока, они, сами того не зная, осуждали наш народ на бессилие и не верили в его самостоятельность. Мы, разумеется, отличали их от тех гадливых белоручек, о которых сейчас упомянули. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважат! их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними. Но эти чувства не заставят нас скрывать и наших убеждений. Молчание было бы пристрастием, к тому же мы не молчали и прежде. Теоретики не только не понимали народа, углубясь в свою книжную мудрость, но даже презирали его и, разумеется, без худого намерения и, так сказать, нечаянно. Мы положительно уверены, что самые умные из них думают, что при случае стоит только десять минут поговорить с народом и он всё поймет; тогда как народ, может быть, и слушать-то их не станет, об чем бы они ни говорили ему. В правдивость, в искренность нашего сочувствия не верит народ до сих пор и даже удивляется, зачем мы не за себя стоим, а за его интересы, и какая нам до него надобность. Ведь мы до сих пор для него птичьим языком говорим. Но теоретики на это упорно не хотят смотреть, и кто знает, может быть, не только рассуждения, но даже самые факты не могли бы их убедить в том, что они одни, на воздухе, в совершенном одиночестве и без всякой опоры на почву; что всё это не то, совершенно не то.
Что касается до наших доктринеров, то они, конечно, не отвергают народности, но зато смотрят на нее свысока. В том-то и дело, что весь спор состоит в том, как нужно понимать народ и народность. Они понимают еще слишком по-старому; они верят в разные общественные слои и осадки. Доктринеры хотят учить народ, согласны писать для него народные книжки (до сих пор, впрочем, не умели написать ни одной) и не понимают главнейшей аксиомы, что только тогда народ станет читать их книжки, когда они сами станут народом, от всего сердца и разума, а не по-маскарадному, то есть когда народные интересы станут совершенно нашими, а наши его интересами. Но подобное возвращение на почву для них и немыслимо. Недаром же они так много говорят о своих науках, профессорствах, достоинствах и чуть ли не об чинах своих. Самые милостивые из них соглашаются разве только на то, чтоб возвысить народ до себя, обучив его всем наукам и тем образовав его. Они не понимают нашего выражения «соединение с народным началом» и нападают на нас за него, как будто это какая-то таинственная формула, под которой заключается какой-то таинственный смысл. «Да и что нового в народности? — говорят нам они. — Это тысячу раз говорилось и прежде, говорилось даже в недавние давнопрошедшие времена. В чем тут новая мысль, в чем особенность?»
Повторяем: всё дело в понимании слова «народность». В наших словах о соединении не было никакого таинственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сих пор убеждены, что мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говорим, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче; что надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица. Вот что мы говорили и до сих пор говорим. Такого полного соединения, конечно, теоретики и доктринеры не могли понимать. Не могли понимать и те, которые уже полтораста лет поневоле привыкли себя считать за особое общество. Мы согласны, что совершенно понять это довольно трудно. Из книг иногда труднее понять то, что понимается часто само собой на фактах и в действительной жизни. Но, впрочем, нечего пускаться в слишком подробные объяснения. За нашу идею мы не боимся. Никогда и быть того не могло, чтоб справедливая мысль не была наконец понята. За нас жизнь и действительность. И боже! какие нам иногда делали возражения: боялись за науку, за цивилизацию!.. «Куда денется наука? — кричат они. — И неужели нам всем воротиться назад, надеть зипуны и куда-нибудь приписаться?» На это мы отвечаем и теперь, что за науку опасаться нечего. Она — вечная и высшая сила, всем присущая и всем необходимая. Она — воздух, которым мы дышим. Она никогда не исчезнет и везде найдет себе место. Что же касается до зипунов, то, может быть, их и не будет, когда мы настоящим образом поймем, что такое народ и народность. Может быть, оттого-то именно, что мы искренно, а не на шутку воротимся к народу, и начнут исчезать у него зипуны. Разумеется, это замечание мы делаем для робких и белоручек, им в утешение. Мы же уважаем зипун. Это честная одёжа, и гнушаться ею нечего.
Мы признаемся: нам труднее издавать журнал, чем кому-нибудь. Мы вносим новую мысль о полнейшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваем Русь, наш корень, наши начала. Мы должны говорить патетически, уверять и доказывать. Мы должны выказать идеал наш и выказать в полной ясности. Обличителям легче нашего. Им стоит только обличать, нападать и свистать, чтоб быть всеми понятыми, часто не давая отчета, во имя чего они обличают, нападают и свищут. Боже нас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно нелегко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журнал наш за все это время. Мы хотим только сказать, что обличителю легче найти сочувствие. Даже разномыслящие и не совсем согласные с обличителем готовы примкнуть к нему ради обличения. Разумеется, мы вместе с нашими обличителями, и дельными и дешевыми, отвергаем и гнилость иных наносных осадков и исконной грязи. Мы рвемся к обновлению уж, конечно, не меньше их. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота, а жизнь и опыт убедили нас, что оно есть в земле нашей, свое, самородное, что залегает оно в естественных, родовых основаниях русского характера и обычая, что спасенье в почве и народе. Этот народ недаром отстоял свою самостоятельность. Над ним глумятся иные дешевые критики, говорят, что он ничего не сделал, ни к чему не пришел. Вольно ж не видать. Это-то мы и хотим указать, что он сделал. Это укажут и последствия, разовьет и наука; мы верим в это. Уж одно то, что он отстоял себя в течение многих веков, что на его месте другой народ, после таких испытаний, которые тысячу раз посылало ему провидение, может быть, давно стал бы чем-нибудь вроде каких-нибудь чукчей. Пусть на нем много грязи. Но в его взглядах на жизнь, в иных его родовых обычаях, в иных уже сложившихся основаниях общества и общины есть столько смысла, столько надежды в будущем, что западные идеалы не могут к нам подойти беззаветно. Не подойдут и потому, что не нашим племенем, не нашей историей они выжиты, что другие обстоятельства были при созданьи их и что право народности есть сильнее всех прав, которые могут быть у народов и общества. Это аксиома слишком известная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающие народ несостоятельным, готовые только обличать его за его грязь и уродство, считающие его неспособным к самостоятельности, уже тем самым про себя презирают его? В сущности, один только наш журнал признает вполне народную самостоятельность нашу даже и в том виде, в котором она теперь находится. Мы идем прямо от нее, от этой народности, как от самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двести лет прожившая в угрюмом одиночестве. Но мы верим, что в ней-то и заключаются все способы ее развития. Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что всё надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания. Мы прямо шли от того, что есть, и только желаем этому что есть наибольшей свободы развития. При свободе развития мы верим в русскую будущность; вы верим в самостоятельную возможность ее.
И кто знает, пожалуй, нас назовут обскурантами, не понимая, что мы, может быть, несравненно дальше и глубже идем, чем они, обличители наши, доказывая, что в иных естественных началах характера и обычаев земли русской несравненно более здравых и жизненных залогов к прогрессу и обновлению, чем в мечтаниях самых горячих обновителей Запада, уже осудивших свою цивилизацию и ищущих из нее исхода. Возьмем хоть один из многих примеров. Там, на Западе, за крайний и самый недостижимый идеал благополучия считается то, что у нас уже давно есть на деле, в действительности, но только в естественном, а не в развитом, не в правильно организованном состоянии. У нас существует, например, так, что, кроме ограниченного числа мещан и бедных чиновников, никто не должен бы родиться бедным. Всякая душа, чуть выйдет из чрева матери, уже приписана к земле, уже ей отрезан клочок земли в общем владении, и с голоду она умереть не должна бы. Если же у нас, несмотря на то, столько бедных, так ведь это единственно потому, что эти народные начала до сих пор оставались в естественном, в неразвитом состоянии, даже не удостоивались внимания передовых людей наших. Но с 19 февраля уже началась новая жизнь. Мы жадно встречаем ее
Мы долго сидели в бездействии, как будто заколдованные страшной силой. А между тем в нашем обществе начала сильно проявляться жажда жить. Через это-то самое желание жить общество и дойдет до настоящего пути, до сознания, что без соединения с народом оно одно ничего не сделает. Но только чтоб без скачков и без опасных salto-mortale совершился этот выход на настоящую дорогу. Мы первые желаем этого. Оттого-то мы желаем благовременного соединения с народом. Но во всяком случае лучше прогресс и жизнь, чем застой и тупой беспробудный сон, от которого всё коченеет и всё парализируется. В нашем обществе уже есть энтузиазм, есть святая, драгоценная сила, которая жаждет применения и исхода И потому дай бог, чтоб этой силе был дан какой-нибудь законный, нормальный исход. Разумеется, свобода, данная этому выходу, хотя бы в свободном слове, сама себя регуляризировала бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждем и желаем того.
Нам кажется, что с нынешнего года наша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм (если можно так выразиться) должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала. Необходимость народного элемента в жизни становится очевидной и ощутительной. Иначе не будет основания, не будет поддержки ни для чего, ни для каких благих начинаний. Это слишком очевидно, и на деле в этом согласны и прогрессисты и консерваторы.
Мы уважаем всякое благородное начинание; в наше время, когда всё запуталось и когда повсеместно возникает спор об основаниях и принципах, мы стараемся смотреть как можно шире и беспристрастнее, не впадая в безразличность, потому что имеем свои собственные убеждения, за которые горячо стоим. Но вместе с тем и всем сердцем сочувствуем всему, что искренно и честно.
Но мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих всё, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют, свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются им убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Тут одни слова, слова и слова, а нам довольно слов; пора уж и синицу в руки.
Мы не боимся авторитетов и презираем лакейство в литературе; а этого лакейства у нас еще много, особенно в последнее время, когда всё в литературе поднялось и замутилось. Скажем еще одно слово: мы надеемся, что публика в эти два года убедилась в беспристрастии нашего журнала. Мы особенно этим гордимся. Мы хвалим хорошее и во враждебных нам изданиях и никогда из кумовства не похвалили худого у друзей наших. Увы! неужели такую простую вещь приходится в наше время ставить себе в заслугу?..
Мы стоим за литературу, мы стоим и за искусство. Мы верим в их самостоятельную и необходимую силу. Только самый крайний теоретизм и, с другой стороны, самая пошлая бездарность могут отрицать эту силу. Но бездарность, рутина отрицают с чужого голоса. Им с руки невежество. Не за искусство для искусства мы стоим. В этом отношении мы достаточно высказались. Да и беллетристические произведения, помещенные нами, достаточно это доказывают.
Мы не станем говорить здесь о тех улучшениях, какие намерены сделать в будущем году. Читатели сами их заметят.
Вот наша программа:
I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь. а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. с) Статьи юмористического содержания.
Щекотливый вопрос
Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями
В нашей литературе раздался недавно очень щекотливый вопрос, именно: «кто виноват?». Это «кто виноват?» крикнуло недавно «Современное слово», и его крик немедленно слился с бесчисленным хором тех голосов, которые давно уже спрашивают и справляются, кстати и некстати: «Кто виноват?» Кто ж, наконец, виноват? Статья «Современного слова» продолжалась четыре номера,[39] ее многие читали с жадностию; мы тоже с крайним любопытством прочли ее и все-таки не узнали, кто виноват. Мало того, нам показалось, что вопрос поставлен сбивчиво и что дело затемнено. Оговоримся: мы вовсе не хотели нападать на «Современное слово». Вопрос, конечно, поставлен неточно, но нам понятна и цель, с которой он так поставлен. Тут точность сознательно была пожертвована известному результату. Собственно, с этой точки зрения всё ясно. Но вопрос в том: можно ли таким способом достигать известных и заранее поставленных результатов? Достигает ли, наконец, статья какого-нибудь результата? Такой вопрос показался нам в своем роде любопытным. Мы соображали, подводили, решали и некоторую часть наших выводов хотим теперь сообщить нашим читателям. Но прежде всего изложим содержание статьи «Современного слова».
В последнее время раздавались повсеместно крики, обвинявшие нашу молодежь; раздаются и теперь. Худо то, что рядом с дельными, заботливыми вопросами нередко раздавались и предположения опасные, нелепые, вредные, которые были даже гораздо вреднее для самих обвинителей, чем для обвиненных. Нелепица подобных обвинений падает каждую минуту и со временем падет окончательно, а нелепость иных обвинителей перейдет в историю. Это хоть бы и ничего, в историю-то, но ведь и современное мнение высказывается. Оно есть и теперь. Некоторые даже рады были приписать всё зло молодежи и, конечно, на этом одном не успокоились. Естественно, что тотчас же и сам собою, во всем обществе, возник вопрос: «Кто ж виноват? Кто наущал молодежь и с пути ее совращал?» Эти вопросы раздались и в литературе, посыпались яростные обвинения и обличения. Но замечательно, что из всех яростных особенною яростию отличались именно те, которые чувствовали, что у них самих рыльце наиболее в пушку. Они искали виновных всюду, и вблизи и вдали, ругались, из себя выходили и кричали таким голосом, что их чуть не в Париже было слышно. К ним приставало всё более и более литературного народу (что ж делать, мода!), и еще недавно Николай Филиппович Павлов бросил всему этому народу, всему этому новому направлению и новому слову свое горькое слово проклятия, свой стих,
то есть хоть и не стих, а прозу, но эта проза стоит стиха. Он говорит в своем объявлении об издании газеты «Наше время»* в 63 году следующее: «В литературе и в настроении общества произошла перемена. Разные общественные вопросы выяснились. Теперь в нашем смысле говорят столько голосов, что мы боимся остаться назади и уступить им в рвении».
Такая филиппика от Николая Филипповича многознаменательна. Его обвиняют, что он ретроград.* Нам кажется, что к Николаю Филипповичу такое слово как-то нейдет: не по носу табак. Впрочем, положим, что он и действительно ретроград, если судить его теперь сравнительно с его прежней деятельностью в то молодое прогрессивное время лет пять тому назад, когда роль прогрессиста сулила почет и выгоду. Но к обвинениям в ретроградстве он, кажется, совершенно равнодушен. Есть такие люди, которые не только не жмутся от иных обвинений, но от этого цвет лица у них становится лучше. По крайней мере, обвинения сходили с него, как с гуся вода. Разумеется, защита его одна, как и у всех в таких случаях: «говорю, дескать, по убеждению». Мы не спорим и о том, что г-н Павлов был убежден; даже обходим вопрос: чем именно он был убежден? Ведь нам лично никакого и дела-то нет собственно до г-на Павлова и его убеждений. Заинтересовало нас только теперешнее интересное его положение: вдруг такой человек, как он, начинает замечать, что многие, даже из тех самых, которые еще так недавно смотрели на него свысока, которые подчас изливали на него свою желчь, свой яд и насмешки, что те самые рвутся теперь взапуски, чтоб говорить и писать в том же тоне и духе, как он. Мало того, рвутся до такой степени, что он уже опасается, чтоб эта накинувшаяся вдруг толпа не оттерла его совсем от тех благ и плодов, которые он завоевал своим литературным талантом. Он боится за свою литературную идею, за свою литературную собственность; ею пользуются, ее расхищают, и вот, с горьким смехом он принужден свидетельствовать, что он, он сам, боится отстать от новых литературных талантов, он! отстать!!! Разве это не стоит стиха, облитого горечью и злостью? разве это не демонический хохот из Москвы? разве это не монолог московского в некотором роде Гамлета над черепом Йорика, королевского шута:
«Ах бедный Йорик! Знал я его, Горацио; он был весельчак и умница…»
Шут Йорик, разумеется, представляет в этом случае русскую литературу. Весельчак! Умница! Даже сам г-н Краевский, наиневиннейший г-н Краевский, который вовсе никогда не бывал ни весельчаком, ни… ну и так далее*,[40] даже и г-н Краевский и тот кричит в своем пискливом объявлении о «Голосе», что отказывается от республики, что он не хочет вторично впасть в ошибку, которую уже до него сделала Франция.* Морген-фри, дескать, теперь уж не надуешь Андрея Александровича. Как будто он был надут и прежде! Как будто и прежде-то кто-нибудь стоял собственно за республику! Как будто собственно республики искала и добивалась Франция в сорок восьмом году? Как будто республики желает кто-нибудь и теперь!* О невинность! о рутина рутин! Но… это всё покамест в сторону. Мы остановились на том, что повсеместно у нас раздались вопросы: кто виноват? Затем стали искать виноватых. Затем стали намекать, указывать, обличать. Ярость распространялась всё сильнее и сильнее; иных и не спрашивали, но они лезли сами. Иных обвиняемых, особенно таких, которые почему-либо не могли защищаться, окричал и наиболее, даже с ругательствами. Всех злее в этом смысле работал профессор от литературы «Русский вестник» и его редактор г-н Катков.* И вот теперь «Современное слово», занявшись окончательно формулированием и решением этого вопроса, выводит презабавную вещь: именно что г-н-то Катков и был родоначальником всех наших злокачественных увлечений; что он, он — главнейший преследователь виновных, так сказать, Немезида всех неблагомыслящих, сыщик и изобличитель преступников, совлекавших нашу молодежь с пути истинного, что он, этот самый г-н Катков и есть этот самый главный преступник; что он начал первый, что примером своим он расплодил и последних, что от него весь сыр-бор загорелся, что, наконец, и так далее, и так далее, и так далее. Надо отдать справедливость «Современному слову»: процесс г-на Каткова изложен чрезвычайно ясно, удовлетворительно, изобличительно и поразительно. С поразительною ясностию выводится, как еще в древние времена, во времена баснословные, тотчас же после осады Трои — виноват — Севастополя, начался «Русский вестник» в Москве. Общий дух всех русских был тогда настроен и расстроен в высочайшей степени! Требовали реформ, заговорили о злоупотреблениях, решали колоссальные вопросы в один присест, преследовали г-на Владимира Зотова*, решались докопаться до корня, откопать этот корень, и ничего не выкопали. Чтоб откопать этот корень, и начался «Русский вестник», с английским началом и пробором, в Москве
«Современное слово» с необыкновенною последовательностию повествует, как «Русский вестник» соблазнил сначала всё поколение и всю молодежь развратной картиной английских начал, а уж потом начал проповедовать и московские думы. Затем «Современное слово» приступает к истории московских дум и проникает при сем даже в самую таинственную сущность вещей. Мало того, пускается в археологические изыскания, стряхая пыль с древнейших хартий, и цитует древнейших мудрецов, так сказать Гостомыслов «Русского вестника»*, а именно Николая Филипповича Павлова, г-на Леонтьева, г-на Байбороду и проч., и проч. Стряхнули даже пыль с мирно почивающих, но незабвенных статей г-на Громеки «О полиции вне полиции»*. Привели цитаты из «Биографа-ориенталиста» и «Чиновника»* — статей драгоценных и наполнивших в свое время весь мир изумлением. Как жаль, что ничего не цитировали при сем удобном случае из замечательной статьи того же автора о дерзости и нелепости посыпанья песком московских тротуаров в июле месяце.* Уж все бы одно к одному! Наконец, к довершению картины, изображено было пространно и тоже с поразительной ясностью, как г-н Катков, столь заботящийся о сохранении невинности и нравственного целомудрия учащихся юношей, заботящийся об укоренении в их сердцах почтительности к профессорам и авторитетам и обличающий всех тех, которые лишь подозреваемы были в соблазне невинности этих отроков, — как этот же самый г-н Катков, единственно из удовольствия повредить профессору Крылову, помещал, допускал и поощрял в своем журнале статьи, которые именно вели к возбуждению юношества против их наставников и учителей*, и тем самым зарождал скептицизм, цинизм и нигилизм в их сердцах, достойных лучшей участи. И так далее, и так далее, всего не пересчитаешь; одним словом, из четырех номеров «Современного слова» выходит ясно как день, что г-н Катков, выдающий теперь себя в некотором смысле за гения-хранителя нашего, грешнее того козла*, на котором исповедывались древние евреи, а потом навьюченного грехами своими пускали в степь. Родоначальником всех вин и провинностей, всех прогрессистов и нигилистов наших, «Современное слово» выставляет г-на Каткова, великодушно щадя при сем случае товарища и сотрудника его, г-на Леонтьева. После всего этого ответ на вопрос становится ясен! Вопр. Кто виноват? Отв. Катков.
Вот беспристрастное и по возможности полное извлечение статьи «Современного слова».
Какой же вопрос зародился у нас после этой статьи? Мы упомянули, что и мы начали соблазняться многоразличными вопросами и привели один из этих вопросов: достигает ли такая статья хоть какого-нибудь результата? В самом деле: что руководило публициста? К какой цели стремился он? Неужели к одному только скандалу? Но ведь это всё равно, что искусство для искусства. А уж выше позора, как служить искусству для искусства, в наше время не существует.
Заметим, что мы уже не станем теперь распространяться о том, что сам по себе вопрос неясен и поставлен сбивчиво, хотя мы и упомянули об этом вскользь на первой странице и хотя матерья эта очень интересная. В самом деле, если уже сказано «кто виноват?», значит, несомненно признается существование «вины», а если признается существование «вины», значит, допускается и виновник как отдельное лицо, как единица. Так и делает «Современное слово», называя и допуская виновника. А это невозможно. Виновника при такой постановке вопроса найти трудно: тут можно еще, пожалуй, допустить зло, но не вину, следовательно, нельзя найти и первоначального виновника. В этом смысле г-н Катков в виновники не годится, — ни г-н Катков, ни Белинский, ни кто бы то ни был. В этом столько же, как и они, виноваты и Пушкин, и Фонвизин, и Кантемир, и Ломоносов. Пойдем дальше: столько же, именно столько же, если не больше, виноваты и Лаплас, и Галилей, и Коперник. Это дело-клубок. Тут, действительно, можно добраться до Аргонавтов*, или по крайней мере до призвания трех князей варяжских, до сих пор неизвестно откудова*.
Нам, может быть, и очень бы хотелось распространиться на эту тему побольше, но разные обстоятельства мешают на этот раз. К тому же нас особенно завлекает вышепоставленный вопрос о цели статьи «Современного слова», о чем мы уже и начали говорить. Мы упомянули о скандале; но мы первые и отвергаем эту причину. Статья слишком серьезно и горячо написана. Тут цель была другая. Какая же? Неужели «Современное слово» имело в виду подействовать на самого г-на Каткова лично, на его сознание, совесть, упрекнуть его, убедить его и вывесть на путь истинный? Нет, и такая цель была бы нелепою. Такие господа, как г-н Катков, не выводятся такими путями на путь истинный. Прием совершенно не тот. Но если и это не так, то не имело ли в виду «Современное слово» подействовать своими доводами на иных специалистов, чтоб им помочь и направить их при решении иных вопросов? Но, сколько мы можем судить, специалисты таких извещений в руководство не принимают и ими никогда не стесняются. Одним словом, чтоб не перебирать всех наших догадок, скажем одно: мы остановились на единственно возможной причине, а именно: цель «Современного слова» была — донос публике. Так-таки формальный донос, для настоящего и полного обличения настоящих виновников дела, виновников, разумеется, в смысле «Современного слова». Такие доносы и извещения, разумеется, сами по себе допускаются, потому что представляются всей публике. Они — гласность, обличенье, они даже иногда необходимы. Представляется характер и образ деятельности известных лиц, верно рисуется эта деятельность, выводится абсурд и зазор этой деятельности и всё это, по возможности, освещается бенгальским огнем, для удобства рассматриванья.
Но если и так, что же выходит и из этого? Неужели в самом деле «Современное слово» работало только для того, чтоб изобличить г-на Каткова лично и выставить всю его суть. Но если так, то, по-нашему, оно оказало г-ну Каткову даже услугу. Вопрос теперь именно так поставлен, что г-н Катков имеет превосходный предлог отвечать на него со всеми выгодами на своей стороне, между прочим и потому, что вопрос задан ему в самом крайнем виде:
— Ты виноват? признавайся.
— Кто, я виноват? — может спросить г-н Катков. — В чем? в том, что от меня сыр-бор загорелся? — Хорошо, пусть, но ведь я раскаялся. В том ли, что я преследую теперь моих же последователей? Но чем же другим мог бы я сильнее заявить мое раскаяние, заявить поворот в моих убеждениях? Преследую зло — значит, ненавижу его; преследую моих же последователей — значит, преследую самого себя за прежнюю деятельность. В том ли, что я переменил убеждения, но…
Но тут нам внезапно представилась другая картина. Это было виденье, сон, мечта, что угодно, но факт тот, что она нам представилась. Пред нами явилась величественной архитектуры комната, блистательно освещенная огнями. Что это: клуб, манеж, парламент? Нет, это не парламент; пьют и едят, а в парламенте только говорят. Длинные столы тянутся через всю комнату, а за столами сотни гостей. Это, верно, какой-нибудь обед по подписке, что-то торжественное, клубное, пахнет митингом. Кушать кончили, но по британскому обычаю всё еще пьют. Вдруг подымается издатель журнала и просит слова. Он желает сам перед почтенным собранием изложить свое дело, он хочет объясниться; он говорит, что его принуждают к тому его обвинители (слушайте, слушайте!), он присовокупляет, что их находится немало и в числе гостей… (шум), что вся Москва, а следовательно, и вся планета интересуются решением вопроса. (Слушайте, слушайте!) Он хочет сказать речь… (браво, bis!) Раздаются вопли одобрения и радости Поспешно назначается президент (лицо без речей и занимающееся римскими древностями)*, воздвигается трибуна. Оратор всходит на нее с торжественною важностью. Он бодр, в лице его сияет самоуверенность; несколько насмешливая, но чрезвычайно идущая к делу улыбка бродит на губах его. Он прилично щурит глаза, пытливо обводит взглядом всё общество и несколько минут наблюдает молчание. В это время усилиями президента и нескольких джентльменов, его помощников, молчание и тишина восстанавливаются. Взоры всех жадно устремлены на оратора. Он начинает: «Милорды и господа!
Я намерен говорить о себе. Меня побуждают к тому мои обвинители. Не думайте, впрочем, что я хочу защищаться, оправдываться. О нет! Я просто хочу поговорить о своих делах, так, после обеда, так сказать, за бокалом вина. Очень приятно говорить о себе в таком почтенном собрании. Но не думайте, однако же, что я особенно люблю говорить о себе. Не скрою, я самолюбив и очень люблю помечтать иногда о своем значении и о своей славе. Но говорить, — о, я говорю только в редких случаях, когда надо, так сказать, выпалить из пушки, когда надо раздавить, скосить, уничтожить. И я раздавливаю, скашиваю и уничтожаю. Но к чему скрывать? Признаюсь вполне: если я взошел теперь на эту трибуну и объявил, что начну говорить о делах моих и о себе лично, то единственно в том убеждении, что таким разговором доставлю необыкновенное удовольствие всему почтенному собранью. (Шум). Скажу более: я уверен, что с тех пор, как стали существовать на свете собранья, клубы, парламенты, митинги и проч., не было и не будет предмета более интересного, любопытного, важного и благородного, как тот, о котором я намерен сейчас повести речь перед почтенным собраньем.
(Начинается страшный шум. Несколько сот членов собранья ревут во всё горло. Президент тщетно звонит в колокольчик. Шум не умолкает. Во всё это время оратор гордо стоит в благородной позе и снисходительно улыбается. Он не сердится за шум и как бы любуется им; он уверен в победе. Левая рука его опирается на стол, правая заложена за жилет. Но в собраньи чрезвычайно много приверженцев и обожателей оратора. Мало-помалу они одерживают верх, и шум затихает. Несколько ярых прогрессистов с левой стороны еще долго не могут успокоиться. Особенно отличается своим волнением один джентльмен из нигилистов, с растрепанными волосами, крайний левый. Он решительно не может успокоиться. Оратор прикладывает к глазу стеклышко и минуты две его рассматривает как букашку. По-видимому, это выводит противников его из последнего терпения. Раздаются возгласы: «Ретроград! отступник! милорд!» Но молчание все-таки наконец восстановляется, и оратор продолжает, уже уверенный в победе).
Милорды и господа! Я совершенно был уверен, что вы затеете из-за моих слов шум, и вовсе не сержусь за него. Не думаю, решительно не думаю, чтоб я хоть чем-нибудь мог нарушить законы парламентских форм. Они для меня священны. Прошу вникнуть в дело: я признаюсь, что очень уважаю себя и считаю свои интересы выше всего на свете. Но разве найдется здесь хоть один нобльмен, из всего почтенного собранья, который бы не уважал себя и не считал своих интересов выше всего на свете? Что же, если я, сверх того, признаюсь, что не только люблю и уважаю, но даже несколько обожаю себя? Скажу более: я даже желаю, чтоб все обожали меня, и считаю, что это только мне должное. Обращаюсь опять к почтенному собранью: есть ли здесь хоть один нобльмен, который бы не желал себе того же самого? Вся разница в том, что я говорю об этом публично, а другие нет, потому что не умеют говорить о себе публично. Но, во-первых, почему же не говорить об этом публично? Всякий британец имеет привилегию оригинальности. Я хочу говорить то, что думаю, и уверен, что, выражая мнение о важности моей особы и моих интересов, не только не манкирую перед почтенным собранием, но даже делаю ему честь моею снисходительною откровенностью».
Голос с правой стороны (сквозь зубы). Остроумно и… и… и забавно.
Другой голос. Чувства настоящего британца.
(Лицо оратора выражает ощущение удовлетворенного самолюбия. Собранье, очевидно, склоняется, в огромном большинстве, в его пользу, а на левой стороне ропот усиливается. Начинают кричать: «Без лишних слов, без фразерства! к вопросу, к вопросу!»)
Оратор. Начну с необходимых объяснений. Я даже занимался литературой. Я перевел «Ромео и Джульетту»*, я написал еще одну статью, кажется о Пушкине. Я писал еще… но, право, я уже забыл, об чем я писал.* Тем не менее мне очень хотелось быть известным. К чему ложная деликатность: я откровенно считал себя и считаю выше всех моих современников. Надеюсь, что никого не оскорбляю в почтенном собраньи. Но случая для меня не было. Он наступил во время нашего всеобщего обновления. Я затеял тогда мой удивительный журнал* и пустил в ход английские начала. Само собою, что я тотчас же завоевал значение, деньги и бессмертную славу. И вдруг, теперь, несколько странных джентльменов (не скажу жалких, хотя и сожалею о них) объявляют… намекают… одним словом, вздумали нафискалить на меня публике и доносят, что я веду дела свои по последним вопросам не совсем… как бы это выразиться понятнее… одним словом, будто бы не совсем честно.
Разъяренный нигилист с левой стоpоны (громким голосом): Совсем нечестно!
(Ропот пробегает по собранью. Оратор несколько смущается от такого прямого и громкого восклицания. Улыбка, впрочем, не сходит с уст его. Разъяренный член, чувствуя, что совершил подвиг, смотрит на него отчаянно, прямо в упор. Воцаряется глубокое молчанье. Все ждут с напряжением, чем разрешится ссора).
Оратор (сдержанным, но глубоко внушительным голосом). Я не вслушался и желаю, чтоб почтенный член повторил слова свои.
Нигилист (громовым и страшно внушительным голосом). На вашу уклончивую фразу: «Не совсем честно» — я возразил, что совсем нечестно! Ну, что вы на это скажете?
Оратор. В таком случае я принужден обратиться к нашему почтенному спикеру и препоручить ему спросить у почтенного члена, в обидном или не в обидном для меня смысле сказаны слова его?
Нигилист. Пусть понимает как хочет, в каком угодно смысле.
Оратор. При всем уважении к почтенному члену, я не могу удовлетвориться его ответом и потому принужден снова утруждать высокородного спикера. Я желаю положительно знать: в обидном или не в обидном смысле сказаны были слова почтенного оппонента?
Нигилист (сверкая глазами и стукнув кулаком об стол). В обидном! и жалею, что не могу еще сильнее выразиться.
(Сильный шум. Нигилист вскакивает с места, как бы не помня себя от ужаса. Оратор, хотя несколько бледный, еще раз спокойно обращается к спикеру).
Оpатор. В таком случае я должен особенно просить уважаемого друга моего передать почтенному оппоненту, что я, к величайшему моему сожалению, должен буду немедленно упомянуть о четвертаке, внезапно пропавшем со стола редакции.
(Неистовый шум. Оппонент в высшей степени ярости. Его успокаивают всем и средствам и. Кричат со всех сторон, что он мешает, что чрез него может прекратиться речь, чтоб он убирался вон. «Вон его, вон!» Прогрессисты на этот раз уступают. Оратор пытливо и с достоинством оглядывает собранье).
Нигилист (в волнении с видимым отвращением). Я говорил не в обидном, а во всеобщем смысле.
Оратор (с поспешностью). В таком случае я объявляю почтенному члену, что, с своей стороны, готов взять назад вопрос о внезапно пропавшем четвертаке.
Нигилист. Отвяжитесь с вашим четвертаком!.. Я говорил не в обидном, а во всеобщем смысле и… и довольно с вас!
Оратор торжествует и объявляет, что он совершенно доволен; он предлагает даже выпить с почтенным оппонентом рюмку вина. Оппонент что-то рычит про себя в знак согласия. Подымают бокалы, выпивается вино. Спокойствие восстановляется совершенно. Оратор продолжает внушительным голосом, ударяя на каждом слове:
— Итак, я говорил, что несколько странных, скажу более, — жалких (язвительно смотря на нигилиста), вредных, сумасшедших крикунов (надеюсь, что слова мои не могут быть приняты за личную обиду почтенным оппонентом) вздумали стоять на том, что будто бы я поступаю теперь не совсем честно. Да, не совсем честно; я стою на выражении, хотя, может быть, оно всё еще не имеет счастья нравиться почтенному джентльмену. Но на чем же основываются их обвинения? Во-первых, если я и проповедовал английские начала, то кто же уверил их, что и поступать буду по этим началам? (Смех). Но это в сторону. Это только вопрос о свободе личности и действий. Признаюсь, я до такой степени презираю всех моих обвинителей, настоящих и будущих, что никогда не соглашусь сделать им честь защищаться перед ними. И если говорю теперь перед таким почтенным собраньем, то единственно для того, что сам хочу позабавиться. Наш митинг дело семейное, и я уверен, что ни одно слово, произнесенное здесь, не перейдет за эти двери. А впрочем, мне всё равно… (Кое-где раздаются крики одобрения: «Слушайте! Слушайте!»)
Нигилист ворчит заглушенным голосом: «Да ведь это маскарад… Мы не в Англии… шутовство!»
Оратор. Продолжаю со всем достоинством, которым
я обязан самому себе. Во-первых: утверждают что будто бы я изложением английских начал развратит общество и особенно юную часть его, что я возбуждал… и проч., и проч. Это мне просто смешно. Обхожу на время вопрос о возбуждении общества и займусь его «юною частию», то есть школьниками. Точно никто не знает эту юную часть, точно никто сам из них не был юным и не помнит, как развивается юношество, особенно на нашей почве! Но разве можно что-нибудь скрыть от нашего юношества, от этих не сформировавшихся, но вострых, пытливых, скептических умов? Замечательно, что всё наше юношество полно скептицизма и недоверия к авторитетам. Это, кажется, закон нашей почвы. Но кому они вверятся, кто заслужит их уважение, за тем они идут с энтузиазмом. Признаюсь, мне некогда было заслуживать их энтузиазм к моей персоне. К тому же пришлось бы, пожалуй, заслуживать средствами неприличными моей особе, моему значению в свете, моему достоинству. Фамильярности и всего этого прочего я не терплю; а все эти нравственные равенства, духовные братства и проч., и проч. — всё это уже фамильярность. Тем не менее я желал поклонения, хотя бы и от этих бестяглых мальчишек. Я вообще люблю поклонение. Я люблю его даже от тех, которых в высшей степени не уважаю и презираю. Я слишком горд, чтоб скрывать что-нибудь в этом случае перед почтенным собранием.
Нигилист. Да мы не в Англии! что вы? Вы просто заигрались.
Оратор (с презрительным взглядом на нигилиста и делая намеренно вид, что подавляет насмешливую улыбку). Продолжаю: я надеялся, что у меня достанет ума, чтоб овладеть нашими юношами без большого труда. Но они увлеклись в другую сторону и пошли за моими последователями. Так и должно было быть; я тотчас же увидел, что этот труд потерянный да и, собственно, выгоды приносит немного. Школьниками можно всегда овладеть, хоть бы и розгой. (Браво, браво!) Кажется, моему почтенному оппоненту розги не нравятся?* (Язвительно смотрит на нигилиста, тот отвечает ему тем же). Итак, я предпочел заняться самим обществом, о чем и поведу теперь речь перед почтенным собранием. Положим, я и действовал на него английскими началами. Но, во-первых, я остановился на известном пункте. Разумеется, я во всё время поступал и поступаю чрезвычайно ловко, так что сначала все думали, что я никогда не остановлюсь в прогрессивном движении, но вольно ж им думать! Тогда поднялись разные общественные вопросы. Мы разрешили их в известной степени и в известном виде представляли свой идеал. Мы знали, что мы могли это делать, и пользовались обстоятельствами! О том, о чем мы говорили, можно всегда говорить, и мы это знали. Иначе надо уничтожить и математику, и железные дороги, и инженеров, и всё. Ну, я и трактовал до известной степени об известных матерьях. Кто ж виноват, что они сунулись дальше? Чем в этом случае я зачинщик? Я остановился на известной точке и знать ничего не хочу. (Браво!) Кто мне велел идти дальше? Какое мне дело? Мы в стороне. Мало того, мы должны преследовать их, обвинять их для нашей же пользы, для нашего самосохранения. Это вообще выгодно, даже во всех отношениях. А я люблю выгоду во всяком случае и прежде всего придерживаюсь практической стороны во всех обстоятельствах. (Страшные аплодисменты. Левая сторона выражает сильное беспокойство).
Оратор (продолжая с наслаждением). Сейчас я сослался на практицизм. Практицизм — свойство всякого истинного британца. Но сознаюсь с гордостью: есть один пункт, на котором я страшный идеалист, и даже, при случае, готов пожертвовать и практической стороной дела. Этот пункт — собственное мое самолюбие. Не советую в этом случае раздражать меня. Тут уж я не смотрю на выгоды, и рука моя, готовая всегда пожать дружески руку моего обожателя, — рука моя всегда и везде найдет непочтительного к моим достоинствам. Будь он хоть под землей, за морями, я достану его везде и задам ему такой бокс, что до новых веников не забудет! Вот этим-то самолюбием и объясняется вся моя литературная деятельность. Из самолюбия я и журнал основал. Я хотел первенствовать, блистать и покорять.
Я ввел английские начала. Расскажу вам откровенно, как было дело: английские начала для нас тем хороши, что тут и то, и другое, и третье, и парламент, и пресса, и присяжные и т. д., и т. д., а тогда, с непривычки, все это было как-то особенно соблазнительно, все этим бредили, начинали с азов; я очень хорошо знал, до чего дойдут.
Николай Филиппович (с своего места). Или лучше ни до чего не дойдут.
Оратор. Я совершенно согласен с высокородным баронетом и очень благодарен за его замечание… Итак,
я очень хорошо знал, до чего дойдут, но как же было не воспользоваться случаем? К тому же английские начала— это для нас, не совсем приготовленных (то есть я, разумеется, говорю о публике, я-то приготовлен), ну-с, это для нас есть до такой степени что-то неуловимое, растяжимое-и свободой пахнет, и аристократическим элементам льстит, — до такой степени способное, в крайнем случае (то есть когда припрут к стене), к переливанию из пустого в порожнее, что невозможно было упустить случай и не схватиться за них. Наконец, и то, что эти начала способны вполне отвлечь общество от начала народного, национального, а я его терпеть не могу (браво, браво, yes, yes!).[41] Скажу более: я ненавижу его. Я уже объявил раз, что даже самой народности не признаю, и очень был рад, когда петербургские передовые ревели со мною заодно* во все горло и называли ретроградами тех, которые стоят за народ и признают его самостоятельность, то есть желают освободить его от будущего, вторичного, нравственного крепостного состояния, от будущей опеки иностранных книжек, от всех говорунов, желающих его осчастливить, отняв у него наперед самостоятельность и свободу. Все эти крошечные Петры Великие возбуждали во мне ужасный смех, но я рад был за них: пусть идут вперед, думал я, пусть идут; пусть идут! (Смех и крики одобрения).
Нигилист. Вздор! болтовня!
Оратор (сияя самодовольством и намеренно не замечая нигилиста). Но я отвлекся. Я сказал, что в России английские начала вообще имеют нечто обаятельное. В Москве же они популярны. Не помнит ли кто из почтенных джентльменов князя Григория, того самого, о котором упоминает поэт в своей комедии, в разговоре Репетилова с этим бестолковым Чацким (впрочем, превосходным и истинным джентльменом)
Я знал этого превосходного и незабвенного нобльмена, князя Григория Он даже занял у меня книгу, которую и забыл отдать, но я уже давно простил ему это. Он тоже стоял на английских началах. Те же, которые шли далее его, ушли потом очень далеко.* (Смех, браво, браво!) Князь Григорий испугался и уехал в свою деревню. Помню, я видел его потом в деревне, в его развалившемся деревянном замке. Он разорился и носил стеганый ватный халатишка, хандрил, кис и расправлялся на конюшне с своим камердинером Сенькой, ходившим в сюртуке с продранными локтями. От английских начал почти ничего не осталось. Вся английская складка исчезла безвозвратно. И после этого обвиняют меня, что я развращал общество? Я очень хорошо знал, что английская складка у нас в Москве, когда доходит до дела, исчезает тотчас же и безвозвратно. Разумеется, я сам смотрю на дело неизмеримо серьезнее… гм… да, я всегда уважал Великобританию… (браво, браво, yes, yes!) Я только в том смысле сейчас говорил, что за нее уж никак нельзя обвинять в развращении. Почему ж не позабавиться этой складкой, когда она так невинна и прилична? Конечно, общество требовало обновления серьезного. Но на первых порах и англомания могла послужить. Я и употребил ее в дело. В англомании есть и еще одно драгоценное свойство (о боже, сколько в ней драгоценных свойств!), именно: она — дело готовое, устроенное, оконченное. Говоришь, проповедуешь и, разумеется, ни одной йоты не уступаешь из своих убеждений (именно потому, что ничего уступить нельзя, ничего изменить, потому что всё без нас уже сделано, а мы-то форсим и куражимся над готовым!* одним словом, дело цельное и устроенное). А тем самым вы тотчас же достигаете двух выгод. Во-первых, прослываете крепко убежденным и стойким, потому что ничего не уступаете, а во-вторых, можно проповедывать без конца, а на деле…
Нигилист (с левой стороны). Ни с места!
Оратор. Именно ни с места! я совершенно согласен с джентльменом.
Нигилист. А еще лучше два шага вперед, а три назад.*
Оратор (с некоторой злобой). Я вдвойне согласен с почтенным джентльменом, который любит так часто меня прерывать, и благодарю его за его замечание.
Почтенный нобльмен (с правой стороны). Два шага вперед и три назад, это значит ровно один шаг назад.
Оратор (нетерпеливо и не без иронии). Я совершенно согласен с высокородным маркизом и нахожу догадку его чрезвычайно остроумною. Но продолжаю…
Президент (прерывая оратора). Так как пошло на перерывы, то и я осмелюсь позволить себе одно замечание. Высокородный лорд и почтенный друг мой, вероятно, позволит ему заметить, что он отчасти на себя клевещет. Теперь он выпил несколько бокалов вина и увлекается некоторыми великосветским и замашкам и. Он, видимо, форсит перед нами и ставит себя гораздо хуже, чем он есть на самом деле. Надеюсь, благородный друг мой не рассердится за мое замечание. Подымаю этот бокал за его здоровье и считаю за честь во всеуслышание провозгласить, что благородный лорд искал истинной пользы при основании своего журнала и уже многократно заявлял себя самой разнообразной полезной деятельностью. (Хнычет от умиления).
Николай Филиппович (с своего места). Мне хочется сделать одно сравнение по вопросу о полезной общественной деятельности. В нашем детстве, я думаю, мы все любили играть с котятами. Если привязать бумажку к ниточке и дергать ее перед котенком, он начинает ловить ее. Потом раздражается, увлекается игрой и наконец совершенно принимает ее за настоящую мышь, ловит ее, грызет, теребит лапками. Вот точно так же бывает и с нами по поводу этой общественной пользы. Мы большею частью эгоисты (и это прекрасно), люди положительные и самолюбивые. Я не про нас одних говорю; я говорю про весь свет, про всех без исключения, даже про самых передовых наших прогрессистов. Ну кто из нас, в самом деле, способен увлечься общественной пользой? Что до меня, так я даже убежден, что заботы об общественной пользе и быть не может ни у кого на свете, да никогда и не было; всё это обман и надуванье, но надуванье превосходное и необходимое; оно закон природы. Но несмотря на это, при случае, мы, действительно, можем увлечься игрой, как и тот котенок. При всех начинаниях наших мы уверяем публику, что стремимся к ее пользе и даже готовы за нее свою жизнь отдать. Так как у нас бывают всегда и конкуренты, то мы до того иногда раздражаемся и увлекаемся этой игрой, что наконец даже самих себя уверяем, что служим общественной пользе, что хлопочем только о ней и что она-то и есть венец всех наших желаний. Так ли я говорю? Обращаюсь к совести всего почтенного собрания и спрашиваю: есть ли хоть один джентльмен на свете, который поступал бы иначе? Впрочем, предупреждаю, мне даже приятнее будет, если вслух со мной никто не согласится. Это будет гораздо приличнее. А формы приличия — это всё, самое главное. Все мы ведь такая дрянь (я говорю про всех, то есть, пожалуй, хоть про всё человечество), что не будь этих спасительных форм, мы бы тотчас же передрались и перекусались. И потому блаженно общество, которое выжило себе эти формы, остановилось на них и умеет их отстоять. Я за формы. Но вся беда, что мы, русские, еще до них не доросли. Что же касается до мнения моего об общественной пользе, то я в нем убежден совершенно.
(Громкий крик одобрения. Но прогрессисты вскакивают с мест своих и неистово протестуют. Многие кричат, что готовы сейчас на костер за свои убеждения. Им отвечают с правой стороны: «Что костер! и костер из самолюбия, всё из самолюбия!» Шум продолжается долго, наконец мало-помалу стараниями президента видимое спокойствие возобновляется).
Оратор. Милорды и господа! Я торжественно объявляю, что совершенно согласен с высокородным баронетом, сделавшим свое остроумное замечание о бумажке и котенке. Да, в основание всеобщей пользы полагается всегда наша собственная. Это совершенно согласно с личным началом, то есть началом западным, а следственно, и британским, в противоположность началу стадному, общинному, которого я никогда не пойму. Кстати, по поводу чисто личной выгоды: припоминаю теперь одно бессмысленное обвинение, которое воздвигают на меня мои оппоненты. Говорят, что будто бы я, когда-то преследуя моим гневом и сарказмами одного профессора, старался повредить его авторитету даже в стенах аудитории и тем самым нарушал в студентах уважение к профессору. Но это дичь, совершенная дичь! Разве я того именно добивался, чтоб искоренить в студентах уважение к профессору и вообще к авторитету наставника? Я просто был увлечен самолюбием, положим раздражительным, мелким (я слишком горд, чтоб скрывать это); но мне надо было излить свой гнев на профессора, и я не остановился даже и перед аудиторией, потому что в таких случаях не останавливаюсь ни перед чем. Я не пощадил юношей, говорят мне. Но что значат для меня юноши, когда меня самого задевают? Зачем они сами подвернулись мне на дороге! (yes, yes, браво! браво!) Развращал, возбуждал, возмущал! Но это смешно и противно. Кроме того, что вы уже знаете мой взгляд на юношество и мое мнение, что они и без наших возбуждений и развращений всё видят и понимают насквозь, кроме этого, спрашиваю вас окончательно: хотел ли я их возбуждать? У меня было в виду только доконать профессора, и я доконал его! (Вторичные аплодисменты).
Голоса с левой стороны. Это, наконец, несносно! всё только о себе! К делу, к делу!
Оратор. Кстати, насчет возбуждений. Вот уже более месяца как высокородный маркиз Андрью выпустил свое объявление о новой газете «Умеренный басок»*. Но после этого и этот почтенный нобльмен возбуждает общество? Посмотрите, в объявлении сказано:
«Мы верим, что хорошие учреждения способствуют к развитию в обществе гражданских доблестей, но вместе с тем убеждены, что даже наилучшие учреждения останутся мертвою буквою, если само общество будет равнодушно к делам общественным. Деятельная инициатива самого общества необходима.
Вследствие этого, мы, с своей стороны, постараемся постоянно и настойчиво возбуждать деятельность общества на таких предметах, которые указаны ей законом» и т. д., и т. д.
— Слышали? Он хочет, да еще постоянно и настойчиво возбуждать общество к деятельности и когда же? Теперь, теперь, когда мы не знаем, куда деваться от деятелей и от жажды деятельности? А он еще возбуждать хочет? (Смех). Положим, уважаемый маркиз написал это от невинности…
Голос с правой стороны. Позвольте! Высокородный лорд, очевидно, забывает, что высокородный и уважаемый маркиз говорит о деятельности, указанной законом. Следственно, тут возбуждение иного рода.
Оратор. Я ничего не забываю. Но все-таки не могу понять объявления.
Николай Филиппович. Я совершенно его понимаю. Маркиз, конечно, говорит о гражданских и военных чиновниках и хочет их возбуждать к лучшей деятельности, то есть чтоб они служили верно и прилежно и т. д., и т. д. Одним словом, это тирада из прописей, чтоб чем-нибудь наполнить объявление. Впрочем, иначе и понять нельзя.
Оpатор. Во всяком случае, я хотел только поставить на вид, как легко можно злоупотреблять словом «возбуждение». Но оставим это. Я…
Гневные голоса с левой стороны. Да кончите ли вы наконец! всё я да я! Это несносно! к вопросу! к вопросу!
Оратор. Джентльмены, я полагаю, что нахожусь в самой сущности вопроса Я защищаюсь, или, лучше сказать, забавляюсь анализированием всех способов, которыми могу защищаться. Это, так сказать, игра… И так как, собственно, меня она забавляет, то надеюсь, что и почтенное собрание с удовольствием меня слушает (Yes! yes!). Я именно хочу рассмотреть тотчас же еще один способ к моей защите. Неловкие враги мои оборачивают на меня теперь мое же оружие и хотят меня добить упреками в неблагонамеренности. Но уж если на то пошло, то с этой точки зрения мои способы к защите великолепны: вы доказываете, друзья мои, что я теперь то и то, но что я сам был неблагонамерен и возбуждал… Но, боже мой, ведь это было, да сплыло. Теперь я благонамерен и не возбуждаю. Я одумался, я воротился (хотя я никогда не возвращался, а всегда стоял на той же точке, как и теперь. Вольно ж было им самим еще сначала меня выпихнуть на такой пьедестал. Но это только способ защиты). Я принес, наконец, богатые и сладкие плоды:
Наконец я…
Николай Филиппович. Я тоже принес плоды, но за мой десерт рассчитываю на весь обед.*
Оратор. Кричат: зачем я не объявил, что изменяю убеждения? Смешной вопрос. Но если вы и без того заметили, что я их изменил, к чему ж объявлять? И однако же, в чем и когда я их изменил? повторяю, я точно таков же, как и был в самом начале. Но положим еще раз, что я изменился. Кричат, что я преследую тех, которые пошли дальше меня. Но, во-первых, чем же иначе я бы мог заявить мои новые убеждения? А во-вторых, я именно преследую их за то, что они пошли дальше меня.
Голоса. Браво, браво, ловко, хорошо!
Оратор. Но я все насчет этих убеждений, милорды. Признаюсь, подчас меня это даже начинает бесить: все с убеждениями! у всех какая-то мода, какая-то ярость убеждений. И всё эго шарлатанство и вздор!
С левой стоpоны. Не вздор! не вздор.
Нигилист (с левой стороны). Нет! здесь невозможно сидеть: я уйду!
Оратор. Кстати, я намерен еще раз повеселить почтенное собрание. Тот же самый высокородный маркиз, о котором мы сейчас говорили, подписался и под другим объявлением вместе с одним чрезвычайно почтенным и уважаемым нобльменом. Они оба издавали и продолжают издавать вместе один известный своею древностию толстый журнал «Старухины записки»*. Вот слово в слово тирада из объявленья об издании этого журнала в будущем году. Всё это по поводу убеждений:
«Вопросы общественные, политика внешняя и интересы литературные и исторические — вот главные предметы, которым обыкновенно посвящены все периодические издания, ежемесячные, точно так же, как и ежедневные. Если газета преимущественно следит за интересами дня и летучими известиями, то журнал, по нашему глубокому убеждению, должен быть преимущественно посвящен более подробному, менее торопливому рассмотрению вопросов, возникающих в жизни. Иначе какая же его цель при существовании ежедневных газет, гораздо раньше овладевающих событиями, фактами?»
— Что ж и это убеждение, что ли? Оба думали целый год и выдумали удивительную новость: что газета говорит только про ежедневные новости, а журнал за весь месяц. Да еще уверяют, что это их глубокое убеждение. (Смех). Это какая-то мода на убеждения, мания…
Николай Филиппович. А я так просто думаю, что это сатира. Оба нобльмена хотели написать пародию на современные объявления.
Почтенный нобльмен (с правой стороны). Непременно… Высокородный маркиз очень остроумен… когда захочет.
Оратор. Совершенно готов согласиться с высокородным нобльменом, сделавшим это замечание, но уж если пошло на примеры, то я приведу сейчас один из замечательнейших примеров неловкости врагов наших. В журнальном мире существует один джентльмен…
Голоса с левой стороны. Но вы злоупотребляете терпением нашим! К вопросу, к вопросу!
Оратор (с досадою). Джентльмены, я убежден, что я нахожусь в самом центре вопроса и продолжаю…
Голосас правой стороны Yes, yes, всё это очень забавно.
Оратор. Я знаю, что это забавно. Случай, который я хочу рассказать, имеет даже некоторое сходство с моими собственными обстоятельствами (браво! браво!). Итак: в журнальном мире существует один, впрочем весьма почтенный джентльмен, издающий один журнал с весьма мрачным направлением. Человек он ловкий, а потому выезжает на благонамеренности. Враги его отыскали, что когда-то у него была какая-то Лурлея, полногрудая Лурлея, к которой он писал в свое время стишки…*
Один голос. Ax это тот… как его… из кувыркателей.
Оратор. Совсем не из кувыркателей. Почтенные члены ошибаются положительно: вовсе не из кувыркателей и трясучек. Именно на благонравии он и основал свою защиту. Я хочу показать, на какую подходящую для него же самого точку опоры его ставят враги его. Откопали они эту Лурлею и ужасно обрадовались. «А! так вот как! Толкуешь о благонравии, а у тебя Лурлея была полногрудая». — «Да что ж такое, — мог бы отвечать им издатель мрачной газеты, — что ж такое, что была. Она была, а теперь и нет. Чем же может такой случай поколебать направление моего мрачного журнала? Да тем паче (я увлекаюсь и говорю даже слогом почтенного журналиста), тем паче, что она была. Тем явственнее спасение мое, ибо утопал в смрадной нечистоте, а теперь прозрел и просиял. Тем внушительнее обращение мое, и тем паче оправдалось то, что обратило меня. Что тычете вы мне теперь сию Лурлею? О моего окаянства! О смрада бесовского! Да пусть я похотствовал с Лурлеей за ее полногрудие. Но теперь ее нет, и неужели вы, окаянные невегласи, не видите, что тем паче слава спасения моего объявляется?..»
Голос с правой стороны. Да, пожалуй…
Дряхлый, козлиный голос (оттуда же, от дряхлого джентльмена с вставными зубами). И… и… пол-но-грудая?
Оратор. На этот счет, к сожаленью, я не могу доставить почтенному виконту точнейших сведений. Но однако же, милорды и джентльмены, не похож ли хоть отчасти этот случай на мой? Я тоже могу защищаться в этом же роде. Что упрекаете вы меня за прежнее, скажу я им всем: прежнее давно прошло, и теперь я не только принес плоды, но даже сами вы замечаете, что пробиваюсь статьями «о сухих туманах»*. В портфеле редакции…
Нигилист (с левой стороны). Просто в шкапу. Какой там еще портфель редакции!
Оратор (несколько язвительным тоном). Мне кажется, почтенный член еще не привык к парламентским формам выражений.
Нигилист. И слава богу, если они только в этом и состоят! Какие тут формы! По-моему, и в парламенте режь правду.
Оратор. Правду? А четвертак?
Нигилист (в исступлении). Послушайте, если вы еще раз скажете слово об этом проклятом четвертаке, то я… я…
Оратор. Что?
Нигилист. Я… я уж и не знаю, что тогда сделаю!
Николай Филиппович (язвительно). Почтенный член хоть и не любит парламентских форм, но, очевидно, наблюдает их… в крайних случаях…
Hигилист. Вздор! Я ничего не наблюдаю… Я… я… я требую, положительно требую, чтоб оратор немедленно объяснился об этом проклятом четвертаке! Он до меня не касается! ни до кого из наших!.. Вся моя жизнь на виду… Я требую, я настаиваю! Я обращаюсь к президенту!..
(Начинается чрезвычайный шум, но оппоненты поднялись все вместе и на этот раз не хотят уступить. Президент, по их требованию, принужден формально поднять вопрос о пропавшем четвертаке. Оратор отделывается сначала парламентскими формами, но оппоненты на этот раз не хотят парламентских форм. Оратор утверждает, что сказал не в обидном смысле. «Вздор! — кричат оппоненты, — это все формы, а нам надо правду. Правду! правду!» Оратор сознается наконец, что он сам не знает, про что говорил, и что четвертак надо принимать в каком-то аллегорическом смысле, а что прямое значение придали ему крикуны. Прогрессисты удовлетворены. Обиженный, но удовлетворенный нигилист громко говорит «Это сон! Это невыносимо! Прочь из этого зверинца!» И с негодованием выходит из залы. Собранье взволновано. Члены, очевидно, перессорились. Оратор чувствует себя почти обиженным).
Оратор (язвительно). Это все от убеждений… вот пример… Мы были в таком прекрасном, джентльменском настроении духа, так свободно, так легко говорили… и что же!..
Крики слева. Нет, нет, не отвертитесь. Вы нападаете на убеждения! Вы смеете не признавать убеждений!
Оратор. Напротив, я именно требую к ним уважения, и если я переменил их, то можете не уважать моих новых убеждений, но свободу перемены их не ставьте в порок.
Крики слева. Свободу так. Но разве всякое убеждение почтенно? И разве вы свободно меняете их?
Оратор. Джентльмены, я даже не понимаю, чего вы хотите. Игнорирую совершенно. Говорю окончательно, я убежден только в одном: было б мне хорошо, а если и другим, то, пожалуй, хоть и другим, но только в таком случае, когда это лично мне не мешает.
Крики справа. Yes, yes, браво, урре! урре! Это чувства настоящего британца.
Крики слева. Вздор! вздор!.. Это не так…
Николай Филиппович. Но, джентльмены, я убежден, совершенно убежден, что вы то же самое исповедуете; подумайте!
Крики слева. Вздор! Только честные убеждения почтенны! Прочь, прочь! мы довольно наслушались!.. assez causé.[42]
(Подымается шум, какого еще не было. Президент принужден прекратить заседание; джентльмены и нобльмены, после многих препинаний, схватываются наконец за палки…)
Николай Филиппович. Вот этого-то я и боялся! Драка за убежденья, беда! Нет уж давай бог ноги!
(Цитуя эти стихи, он тихонько пробирается между сражающимися и выходит, коварно улыбаясь.)
Оратор (в смущении наблюдавший с трибуны всю кашу). Не дозрели до форм, не доросли! Это противно, это абструзно!* А можно бы было так хорошо, так сладко проболтать, хоть до утра! (Печально сходит с трибуны).
Затем начинается страшная нелепость, которую можно только увидеть во сне. Это наводит меня на мысль, что я, может быть, действительно, вижу сон. Палки, президенты, парламентские формы, высокородные маркизы, лурлеи и милорды бледнеют, переменяют лица, стушевываются и исчезают сами собой; усилие с моей стороны, и я просыпаюсь окончательно. Уже час за полночь, свечи догорают, на столе начатая статья и 102 номер «Современного слова» с вопросом: кто виноват?
Невозможно, чтоб я заснул от статьи «Современного слова», статья чрезвычайно любопытная; нет, это был сон магнетический. Но не явись в «Современном слове» эта статья, я бы не видал и такого сна, то есть нет, хоть и увидел бы, но, может быть, не записал бы его.
1863
Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов*
В последнее время в текущей литературе объявилось множество голосов и мнений против нашего журнала. Нападения раздались особенно дружно тотчас по выходе в свет нашего прошлогоднего сентябрьского объявления об издании «Времени» в 63 году. Иные из этих нападений основаны чисто на конкуренции и имеют в виду одну только подписку. Купеческое дело. Так, например, г-н Краевский*, сей Тамберлик* русской литераторы с своим новым «Голосом» и ценящий свой «Голос» чуть не вдвое того, что дают Тамберлику, разразился против нас в самое подписное время. Разражаться друг против друга в подписное время — старинная привычка старинных журналов, а отвыкать от старинных привычек, известно, нехорошо… Но этим разражениям мы теперь и отвечать не будем. В настоящую минуту мы имеем в виду других обидчиков наших, и именно тех, которые особенно рассердились за одно словцо в нашем «объявлении». До сих пор мы им совсем не отвечали, хотя вот уже четыре месяца как они выходят из себя*. Но, начиная новый год издания, мы находим не лишним с самого начала года сказать несколько слов всем этим выходящим из себя господам — не в виде оправдания нашего перед ними, а так в смысле некоторого назидания. Да к тому же не худо иногда кое-что и поразъяснить…
Словцо, о котором мы сейчас говорили, они до сих пор забыть не могут. Они корчатся от него, как будто мы их посадили на булавку. Это именно то место в объявлении нашем, где мы говорим, что «ненавидим пустозвонных крикунов, свистунов, свистящих из хлеба»* и т. д. Все они, видимо, приняли это место на свой счет. А между тем что же дурного мы написали? Что мы ненавидим свистунов, «свистящих из хлеба» (то есть не свистунов вообще, а именно тех, которые свищут из хлеба). Да кто же таких любит? Что может быть гаже такой деятельности? Что может быть возмутительнее, когда какая-нибудь совершенно спокойная, сытая и вседовольная верхоглядка, чаще всего пошлейшая бездарность, думает выиграть на моде к прогрессу, обличает, свищет и выходит из себя за правду по заказу и по моде? Мы полагали, что такая деятельность, особенно при случае, даже в высшей степени вредна общему делу. Вот почему мы так резко и выразились о подобной деятельности и думаем, что выразили нашу мысль удачно и метко. Мы именно имели в виду честь и преуспеяние общего дела прогресса и добрых начинаний. Скажем всю правду: Говоря о «свистунах из хлеба», мы не предполагали, да даже и теперь еще не хотели бы предполагать, что у нас существуют экземпляры «свистунов из хлеба» в самом чистом, то есть в самом омерзительном их состоянии, но, однако, некоторые следы такого духа и направления мы и тогда еще заметили. Хоть начало, да было. Признаки такие существовали… Вот мы и сказали несколько слов в виде обличения и предостережения, да сверх того желая заявить, что с этим направлением у нас нет, не было и не будет ничего общего, потому что мы уже и тогда предвидели дальнейшее развитие этого хлебного направления. И что же? На нас вдруг поднялись целые тучи врагов. Всякий из них, даже вовсе и не хлебный свистун, принимал наше выражение на свой собственный счет. Мы полагаем, что хлебные-то и соблазнили всех, даже и не хлебных, подняться на нас, уверив тех, что мы вредим общему делу. Заметим вообще, что наши не хлебные, хоть и бывают иногда чрезвычайно хорошие люди, но все-таки большею частию народ чрезвычайно легкомысленный, спешливый и доверчивый. Самый отъявленный свистун из хлеба их надует, и они ему вверятся и примут его в сотрудники и т. д., и т. д. Даже так бывало: кто бы ни был сотрудник, хоть и зазнамо хлебный свистун, — им все равно, свистал бы только с их голоса. Это хоть и теория, хоть и принцип, но в сущности глубокая ошибка. Для всякого хорошего дела надо, чтоб и делатель был хороший, не то — тотчас же не тем голосом закричит и повредит хорошему делу и оскандалит его в публике своим в нем участием. А при перемене обстоятельств, при дороговизне хлеба, все эти хлебные господа первые несут свои «таланты» на толкучий рынок и продают их туда, где больше дадут, то есть в другие редакции. Это называется у них благородно переменять свои убеждения. Такие сотрудники везде невыгодны, но мы полагаем, что они-то и соблазнили своим куриным криком всех других принять наше выражение о свисте из хлеба на свой собственный счет. А так как мы все без исключения обидчивы до истерики и щекотливы, как жены Цезаря, на репутации которых не долженствовало быть ни пушинки сомнения*, то дело и пошло на лад. Всем известно, что благороднейших людей у нас чрезвычайное количество, но с грустию надо сознаться, что многие из них необыкновенно мелко плавают. Вот и поднялись на нас, один за другим, все эти мелкоплаватели, которых мы и не думали называть «свистунами из хлеба», «униженные и оскорбленные» нами. Поднялись даже самые невиннейшие деятели, красненькое словцо принимающие за дело; поднялись дешевые обличители и рифмоплеты, составители современных буриме с направлением; поднялись всё готовые разрешить мыслители, преследователи соображения и науки; поднялись крошечные Петры Великие, в душе администраторы и чиновники*, с холодным книжным восторгом (а иные без восторга), пренаивно считающие себя за представителей прогресса и глубоко не подозревающие полнейшей своей бесполезности. Но мы не удивлялись всей этой ярости. Большинство всех этих благороднейших, но не совсем глубоко плавающих господ чаще всего нападает именно на то, во что само же верует; слепо не различает своего в другой форме, проповедует прогресс, а чаще всего отстаивает глубочайшее варварство, и, отстаивая во что бы ни стало цивилизацию, санктифирует*, не ведая, что творя, неметчину и регламенты. Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать. Чутья русского и во сне не предвидится. Тут, например, патриотизм без церемонии становится на фербант*, потому что патриотизм— исключительность, а следственно, ведет к ретроградству. Искусство бесполезно. Самое лучшее произведение искусства — это «Илиада», а в «Илиаде» разные боги и суеверия, а боги и суеверия ведут к ретроградству. Кроме шуток. Хоть именно об «Илиаде» и не было говорено, но понятия об искусстве всех этих художников можно именно подвести под эту формулу об «Илиаде». Червонорусы ретрограды, потому что враждебно относятся к чужому вероисповеданию и фанатически стоят за свое в наш век веротерпимости и прогресса. Не говорите им, что в вопросе о вероисповедании у червонорусов именно все заключается, что в этот вопрос, исторически, веками сошлись все остальные национальные вопросы, что этот вопрос после четырехсотлетних страданий народа* обратился у него в формулу, в знамя, что он знаменует в себе разрешение всех обид, всех остальных национальных недоумений и заключает в себе национальную независимость, что все это случилось и сложилось так исторически и что судьба червонорусов была совершенно не похожа на нашу. Нужды нет: ретроградство! одно ретроградство, ибо в наш век, век прогресса и веротерпимости, не может быть того-то и того-то, а следовательно, и т. д., и т. д.
Правда, что многие из этих мыслителей давным-давно уже ни о чем не задумываются. Сомнений, страдании у них, по-видимому, никогда ни в чем не бывало, но самолюбия, доходящего до какой то бабьей истерической раздражительности, у них чрезвычайно много. Самолюбие есть основание их убеждений, и для самолюбия очень многие из них готовы решительно всем пожертвовать, то есть всякими убеждениями. Убеждения их удивительно ограничены и обточены. Сомневаться им уже не в чем… Для них жизнь что-то такое маленькое, пустое, что в нее не стоит и вдумываться. Самые вековечные вопросы, над разрешением которых страдало и долго еще будет страдать человечество, возбуждают в них только смех и презрение к страдальцам, которые их разрешали, а которые и теперь от них страдают и мучаются их разрешением, — это у них ретрограды. У них же все разрешено и вдруг. «У меня это вдруг», — говорит Хлестаков.* Какой-нибудь вопрос, вроде того, как, например, устроить на будущей неделе счастье всего человечества? — для них также легко разрешать, как, например, высморкаться. Вера в иностранные книжки у них фанатическая. Впрочем, многие из них даже и книжек-то не читают, а так только хватают вершки от тех, которые прочли. Слыхал когда-то о лорде Джоне Росселе, Кобдене и хлебных законах*, слыхал, что это было тогда либерально, ну вот для него это и теперь либерально, и не смей и не думай сомневаться, — как можно сметь свое суждение иметь!* Это уж ретроградство, так и в книжке написано. Вот все-то эти преследователи вдруг и осадили нас, чрезвычайно досадуя на то, что мы им не хотим отвечать, а только обличаем их иногда, единственно чтоб каким-нибудь одним удачным примером выставить разом характер их деятельности. Мало того, они, чтоб принесть нам как можно больше вреда, видимо, стараются представить в другом виде характер нашего выражения насчет «свистунов из хлеба». Поверив настоящим свистунам из хлеба, приняв это выражение на свой собственный счет и ужасно обидевшись, они теперь ужасно хотят выставить и доказать, что мы, нападая на них, нападаем вообще на прогресс и отстаиваем мракобесие, и таким образом прямо ставят себя представителями прогресса. Вот на это-то мы и хотим теперь отвечать. Вопрос о «свистунах из хлеба» мы теперь кончим. Мы считаем его разъясненным достаточно. Гадко поддерживать этих свистунов, господа, а ведь вы знаете, что они существуют, по крайней мере сильно наклевываются. На свой собственный счет вы, господа, или, лучше сказать, огромная часть из вас, его не может принять, тем более что хлебные люди в последнее время слишком ярко определились в нашей журналистике: их со всех сторон видно. Мы объяснились, мы верим, что вы большею частию «не из хлеба» свищете. Вы свищете из чести*, из представительства, но вот об этом-то представительстве мы и хотим поговорить. Послушайте, господа, какие же вы представители? Что общего между вами и прогрессом, или между вами и молодым поколением? скажите, пожалуйста! Вот это-то и возбуждало в нас всегда глубочайший смех, на вас глядя. Любимая повадка ваша — прятаться за справедливую идею и за громкие литературные имена писателей, то есть прикрываться авторитетами, преимущественно такими, которые стяжали себе особое уважение. «Нападают на нас, а! Значит, нападают на прогресс. Мы свистуны из хлеба, а! Значит, и Чернышевский, и Добролюбов свистуны из хлеба*». Но, господа, мы вовсе не принимаем вас за Чернышевских и Добролюбовых. Что же касается до справедливой идеи, которою вы прикрываетесь, то надо признаться — это наиболее употребительный в нашей литературе прием. Все заслоняются более или менее авторитетными идеями и уверяют, что действуют по убеждению. Иные, действительно, действуют по убеждению; честь им и слава за это. Другие же хитрят, натягивают идею за уши, а под идеей-то и оказываются какие-нибудь «казенные объявления». Но положим, что вы все не хитрите, а наивно считаете себя жрецами, представителями и просветителями (пусть уж это будет дело совести многих из вас) Скажите по правде, можно ли хоть сколько-нибудь серьезно поверить вам, когда вы кричите: «Мы за прогресс, мы работаем на фабрике, а вы только мешаете» и проч. Помилуйте! да вы-то всему и мешаете! Мы именно считаем вас неумелыми, неспособными и всему повредившими. Извините, что мы так прямо говорим вам; но ведь это потому только, что с вами иначе никак нельзя рассуждать. Вы это сами знаете. Мы и говорим-то не для вас, а для публики. Вы же рассуждений не терпите, вы сердитесь и обижаетесь истерически, когда кто вас останавливает и не соглашается с вами, с вами, всё знающими, всё разрешившими. Вы приходите в бешенство, когда кто-нибудь требует от вас чутья, русского духа, гуманности, совестливости и логики. В наш век да логики! «Наш век — дело прогресса, а вовсе не логики, подите вы с логикой, assez causé!..»[43] — скажут или подумают иные из вас, читая это. Но на этот пункт мы хотим вам дать ясный ответ. Пожалуйста, не принимайте наше выражение о логике буквально. Никакое движение к прогрессу не исключает логики, и мы очень хорошо знаем, что никто из вас не захочет сказать буквально: «Наш век — дело прогресса, а вовсе не логики…» Даже напротив: самые фанатические-то прогрессисты всего больше и претендуют на логику, и претендуют именно в мгновения самого большего проявления их фанатизма тогда, когда уж действительно не до логики. Нашей фразой мы хотели только обозначить всё негодование прогрессистов, и преимущественно молодежи, на тех, которые рассуждают и сомневаются, когда надо дело делать. Это негодование, этот антагонизм всегда был и будет между двумя поколениями — юным и_ зрелым; он был и пребудет во все времена и у всех народов. Мало того, мы считаем его вполне законным. Нетерпеливая часть прогрессистов физически не может сделаться терпеливой. У ней и пульс ходит скорее. Она и факты должна принимать поспешнее; она удовлетворяется умозреньями, потому что и не подозревает еще всего того, чему после придется ей научиться у жизни. Была бы только идея великодушна и вела бы к развитию, — вот ей чего надобно! И без этих нетерпеливых, передовых и свет не стоит. Мало того, если б все были одни рассуждающие, одни сомневающиеся и осмотрительные, ничего бы и не было. Передовая часть общества так же законна, как и осмотрительная. Но зато те, которые себя считают представителями прогрессистов и прогрессивной идеи, о! те всегда должны уметь дать отчет, хотя бы самим себе, своей совести. Они должны знать, куда идут, должны уметь указать и направить, а главное, главное — должны быть вполне совестливы в своих указаниях. Повторяем теперь вопрос: можем ли мы вас принять за представителей и указателей прогрессивной идеи? Бьемся об заклад — вы думаете, что мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны до неосмотрительности. Разуверьтесь: мы именно потому считаем вас неспособными и неумелыми, что вы мертво-холодны, что в вас нет жару, нет духа, что убеждения у вас не свои, а заемные, а если и случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком малой совестливости, с которой они приняты; что гражданского чутья нет у вас, иначе бы вы знали, на что и куда указывать, а вы в этом поминутно даете промахи; что с места вы не можете сдвинуться, а уверяете, что идете вперед, что самолюбие и выгоду вы чаще всего соединяете с общим делом и что, наконец, если уж взять всё, опять-таки вы всему мешаете. И главное, тем мешаете, что опошлили и измельчили в глазах общества самые правдивые идеи и начинанья. Вы бездарно волочили великую мысль по улице и, вместо того чтоб произвести энтузиазм, надоели публике, а надоесть в этом случае публике — великое преступление. На бездарность-то вашу мы и досадовали, и часто нам бывало очень больно, когда вы дело проигрывали. Мы болели за вас душой, когда год назад вы проиграли дело с г-ном Писемским, по поводу фельетонов Никиты Безрылова.* А между тем вы были совершенно правы. Проигрывать такие дела не годится. Вы били своих и не ведали, что творили, да и теперь не догадываетесь. Хоть общество и давно смотрит на вас двусмысленно, но постоянным опошливанием того, чего не надо опошливать, все-таки можно принесть много вреда. А вы именно это делаете. Поминутно делаете. Оставляет же вас общество (а оно оставляет вас действительно) вовсе не потому, что оставляет идею, которой вы (будто бы) служите, а потому, что сами-то уж вы слишком плохи. Поверьте нам: давно уже видят и понимают, что Лев Камбек и стулья на Невском проспекте* вовсе не исчерпывают собою всех современных задач, вопросов и недоумений, возникших в нашей земле в последнее время. А ведь серьезно-то говоря, у вас больше ничего и нет. Вы простодушно уверены, что именно в Льве-то Камбеке и состоит вся суть. Да я вам откровенно признаюсь: я в ужас пришел, когда вдруг разнеслась было весть, что Лев Камбек оставляет литературное поприще. Что ж будут делать наши виршеплеты, фельетонисты и вообще все они, гордо считающие себя предводителями прогресса нашего, подумал я с горестью? Ведь «Век» и Лев Камбек служили к пропитанию целых туч прогрессистов наших с их малыми детьми такие долгие, длинные годы!.. Страшно было прогрессу и обществу, когда еще года полтора тому назад (экая старина!) исчезла первая рифма — «Век», похороненная журналистами-гробокопателями. И вот теперь исчезает и вторая: Камбек. «Стулья сняты, о боже! Что ж оставляешь Ты после этого для движения прогресса и преуспеяния нашего? — восклицал я с горестью, — вечно юного и вечно возможного Аскоченского да еще кукельван.* Больше-то ведь ничего, ровно ничего не остается…»
Увы, господа! Не считайте, что мы кривляемся или говорим в насмешку. Мы прямо уверены, что, кроме Льва Камбека да кукельвана, у вас нет ничего, — нет, не было и не будет!
Пожалуйста, не говорите нам, что у вас и про городничих, и про исправников, и про корнета, играющего на пистоне, и про Сорокина* и даже про эманципацию женщин. Уверяем вас, господа, что всё, о чем бы вы ни заговорили, всё это будет только Лев Камбек да кукельван. Поймите нас.
Про кукельван говорить, положим, можно, про г-на Каткова, фаддейбулгаринствующего на Москве*, можно и должно, даже про Льва Камбека иногда простительно, даже про городничего А., в губернии Б., в уезде В., обидевшего бабу Д., в году от P. X. E. и в месяце Ж., тоже подчас позволительно и необходимо. Но ведь говорить надо своей инициативой, со смыслом и с толком, а не с чужого голоса. Обличаете вы иногда так, что у вас правого от виноватого не отличишь, потому что вы сами-то зачастую не знаете, кто прав, кто виноват! Видно до очевидной ясности, что дорогого у вас самих в этом святом деле обличения нет ничего. Для чего, для каких причин вы обличаете, — этого совершенно не видно, а видно то, что вы и сами-то об этом, может, не ведаете. Всё с чужого голоса. Спроси вас: где причина? где узел? где разгадка такого факта? хорош или дурен этот факт? что означает и из чего происходит? — об этом вы и намека не дадите или окончательно промахнетесь. Взгляду у вас нет никакого. Что вам подскажут, о том вы и затрещите. Скажут вам, например, что вот в том-то кое-что есть, а вы тотчас и подумаете, что в том и вся суть заключается, — то есть вся, решительно вся, и что более ничего не надо. А так как у вас чувства меры нет никакого, то и тянется у вас городничий да кукельван полтора года сряду. Внутри России, о которой вы понятия не имеете, совершаются тем временем события, возникают вопросы. Читатель требует от вас живой мысли, объяснения дела, источника, откуда оно происходит, указания на средства, хоть намека какого-нибудь, а у вас premier Petersbourg[44] начинается эмансипацией женщин. Помилуйте, да ведь все хорошо к месту и к времени, иначе тотчас же можно опошлить великую мысль, и ваши юмористы будут только ворон пугать, а не дело делать. Вот это-то все и называется рутиною в высочайшей степени. Гражданского чутья нет, а ведь это, как хотите, видно, заметно. За одно святое дело нечего прятаться, великой мыслью нечего прикрываться. Сквозит, видно. Надобно заставить и себя уважать, чтоб обличение было действительное и плодотворное. А как это сделать? Да как: прежде всего надо быть самому гражданином. Гражданское чутье различит, о чем говорить и на что показывать, что право, что нет. Надо, чтоб видна была любовь к делу, энтузиазм. А какие мы граждане? Все мы, в сущности, раздраженные эгоисты, для которых собственные, домашние препинания дороже всякого общего дела. И таким-то соваться прямо в учители, быть пренаивно уверену, что мы-то одни и остались теперь предводителями молодых сил и начинаний общества! Да ведь это всё равно, что слепому слепого водить; да и прекомическая, в сущности, мысль! Мы благоговейно верим в наше юношество. В нем прежде всего настоящая естественная молодая сила, в ней действительные задатки начинаний, нам доселе неведомых. В нем должны быть и есть стремления и позывы до страдания, волнующие их молодые души. Им ли успокоиться на Льве Камбеке? А мы ведь успокоились видимо вседовольно. Что правду-то таить! Ну что в том, что мы обличаем? Ведь и Булгарин писал нравственно-сатирически. Вы не сердитесь и выслушайте. Захочется вам обличить, а выйдет у вас сплетня. Захочется вам сострить, посмеяться над чем-нибудь, а выходит какая-нибудь угрюмая, тяжелая ярыжность, что-то деревянное, мрачное, какое-то бездарное, однообразное, всем наскучаюшее тыканье пальцем. Надо выказать негодование, а так как негодование самая святая вещь, так как для негодования нужно сердце, так как нельзя изобрести или подделать негодование, если его, в сущности, нет и не может быть, то вы отделываетесь раздражительною, вас же унижающею злостью и завистью, и кто знает, может, и в самом деле принимаете это раздражение за негодование. С вами это случалось: ведь вы унижались даже до попрека редактору «Времени» за его табачную фабрику, карикатуря нас за это и ставя нам это в стыд*. Вы на «Время» очень злитесь, это понятно: «Время» не хочет подчиняться вам и считать вас за деятелей, и вдруг это же невежливое «Время» имеет успех, несмотря на все ваши крики и возгласы, а может быть, отчасти и благодаря вашим крикам и возгласам. Даже наверно так. Кстати: в ненависти своей вы не раз упрекали нас, что мы не исполняем обещанного в нашей программе и поклоняемся авторитетам. Мы только улыбались, читая это. Помилуйте! Да «Время» начало с того, что не соглашалось и даже нападало на Чернышевского и Добролюбова, а они в то время были боги; оно не соглашалось и с вами и негодовало всегда на ваш казенный либерализм, застегнутый на все форменные пуговицы и занятый по частям, но без большого толку, у тех, которые понимали дело; а ведь вы еще тогда имели влияние «Время» обличало г-на Каткова и предрекало ему новобулгаринский путь, еще тогда, когда вы все млели перед г-ном Катковым, по крайней мере ожидали от него великих преуспеяний на пути прогресса. И мы знали, что делали и на какую опасность шли нашими нападениями на авторитеты. Вы-то, впрочем, были не очень страшны, но Чернышевский и Добролюбов были другое дело. Добролюбов особенно: это был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду. Чернышевский работал с ним вместе. Мы не согласны были с некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления. Он мало уважал народ: он видел в нем одно дурное и не верил в его силы. Мы противоречили ему, а ведь опять-таки тогда он был бог. Вот это так авторитеты! А вы думали, что мы так же, как вы, будем нападать на тех, кого не бьет кто не хочет. Ну смели бы вы напасть на Тургенева, если б не раздался голос «Современника»!* Вы так и думали, что мы начнем лупить, начиная с правого фланга: Пушкина, Гоголя, Островского, Тургенева, Писемского. Эх, вы! В самом деле, вы именно на тех только и нападаете, на кого вам старшие укажут и на кого, по-вашему, не опасно. Ну, а насчет табачной фабрики, так мы подчас и краснели за вас. Да вы-то что за аристократы, позвольте вас спросить? Либеральным изданиям уж это бы и неприлично. Ведь это напоминает нападки на Полевого за то, что он был купец. Это стыдно и бездарно. Говорилось тоже у вас, что «Время» издается для спекуляции, для поправления каких-то денежных обстоятельств. Да ведь после того каждому банкруту стоило бы только основать журнал, вот и обстоятельства поправлены, вот и денег куча. Как легко это у вас делается. Да ведь на наших глазах основывалось много журналов и газет, с величайшим желанием подписчиков, и издания падали. Другие до сих пор не могут набрать столько, чтоб окупить себя. Почему же нам-то удалось? Счастье, что ли? Да ведь помилуйте: один год — счастье, другой год-вдвое более счастья, третий — еще больше, чем прежде, счастья: «воля ваша, нужно немного и ума»* для такого постоянного счастья.
Вы нападаете еще на нас за почву, за народное начало, за соединение и примирение; но об этом мы с вами говорить не будем, потому что считаем это дело серьезным. Мы об этом поговорим с другими. Прощайте.
Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях
Мы хотим сказать слова два о новопоявившихся и обновившихся периодических изданиях наших, преимущественно о газетах. Говорить в частности, подробно о каждом издании на этот раз мы не будем. Мы тотько постараемся уловить новую мысль, новое слово новых литературных органов наших, а признаки мысли, признаки нового слова и нового направления существуют. Нас, равно как и всю читающую публику (так по крайней мере надо предполагать), еще с осени поразило необыкновенное увеличение числа газет наших. Издатели новых органов настойчиво заявляли о своем появлении к 1-му января 63 года и уверяли, что им что-то надо и даже необходимо сказать. Все спрашивали, что же именно они хотят сказать, с какими новыми мыслями и анекдотами они явятся, что будут проповедывать? Очевидно, одни из них чувствовали, что не договорено какое-то слово и его надо договорить во что бы ни стало. Другие (из прежних деятелей) настойчиво хотели продолжать прерванное обстоятельствами. Третьи стремились явиться, так сказать, как плющ на развалинах, как новая жизнь на старом разоренном пепелище или как Марии на развалинах Карфагена и, кажется, были уверены, что пришло-таки наконец время и ихнему слову, что кончилось l'abomination de la désolation,[45] что пора русскому миру услышать мужей трезвых, солидных, положительных, так сказать, практически понимающих глубину вещей и которым по праву давным-давно следовало бы захватить бразды русской литературы, но до сих пор как-то не захватывалось. Господа Краевский, Скарятин, Катков и проч. засвидетельствовали о себе и о своем призвании в пышнейших объявлениях.* Даже господин Розенгейм с своей «Занозой» пристегнет себя к сонму сих прозорливых и, главное, практических мужей. Даже предчувствовался отчасти г-н Илья Арсеньев* в этой многознаменательной толпе новых или, лучше сказать, самообновившихся столпов нашей деятельности; даже потянуло откуда-то самим господином Дудышкиным… Но в последнем случае нас, может быть, обманывает наше литературное обоняние, в чем и сознаемся заранее. Одним словом, ясно было, что это внезапное увеличение и самообновление наших периодических органов хотя, конечно, есть спекуляция, но все-таки не одна же спекуляция. Мы почувствовали, что тут кому-то зачем-то хочется что-то сказать. И если б даже вся эта газетомания, всё это надувающееся что-то сказать оказалось бы впоследствии чем-нибудь вроде опухоли, чем-нибудь вроде флюса отечественной словесности, то и тогда, решили мы, было бы недурно, потому что даже опухоли и флюсы не бесполезны для зараженных организмов. Через опухоли и флюсы вытягивается из них всякая дрянь… Но главное, повторяем еще раз, предчувствовалось какое-то новое, наклевывающееся словечко… И предчувствия нас не обманули. Оказалось, что и действительно было словечко.
Видали ль вы, господа, а если видели, то не можете ли себе припомнить и представить стадо куриц, — ну как есть, положим, хоть и с петухом, — внезапно испуганное каким-нибудь прохожим, какой-нибудь старушонкой, али мальчишкой, али, наконец, какой-нибудь собачонкой, бросившейся догонять какую-нибудь хохлатку для своего удовольствия? Стадо, с криком, немедленно рассыпается и бежит куда попало в паническом страхе. Да курица и постоянно, всю жизнь свою, до самого супа, живет в паническом страхе. Но вот гроза, чаще всего небывалая, прошла: хохлатки собираются опять в кучу. Их усиленные крики, тревожное, нервное и уторопленное кудактание всё еще продолжаются и свидетельствуют об их душевном настроении. Но в этих криках уже нет отчаяния. Малодушные и раздирающие их вопли перешли уже в какой-то даже солидный тон. Это уже какое-то новое, амбиционное кудактание, в котором чувствуется обида, амбиция, негодование, подавленное самолюбие; так и слышится: «Как это, дескать, смели нас потревожить? да кто это? да как это? Кудак-так-так!» В этом кудактании уже проглянуло чувство собственного достоинства, звучит солидарность с прежними интересами; кудактается что-то такое как будто о морали; слышится даже что-то как будто о семействе, о собственности. Проступает, наконец, доктринерство и в заключение гордое торжество: «Мы говорили, мы предсказывали, вот плоды! Кудак-так-так!..» и проч., и проч. Разумеется, наше грубое сравнение новых органов с хохлатками ни к кому не может относиться лично. Мы разумели только новый тон, новые идеи, новые принципы, новый настрой наших органов и всё это — в самом отвлеченном и наиневиннейшем смысле. Употребили же мы это сравнение, потому что оно нам кажется чрезвычайно верно.
Например: испуганная курица всё преувеличивает. Новым органам, всем вместе (потому что у всех у них виднеется одна общая мысль), тоже всё кажется в преувеличенном смысле. Они толкуют с усиленным кудактанием, в котором еще слышится волнение, что что-то потеряно, что-то проиграно, что общество в чем-то оказалось несостоятельным. Они собираются в прежнее стадо и тревожно повторяют: «Мы говорили, мы предсказывали — вот плоды… и т. д.». Они как будто уверены или себя уверили, что была какая-то битва, какая-то катастрофа, «что уж республикой теперь не надуешь Андрея Александровича»*, что что-то упало, что-то погибло… А между тем, в сущности, ничего не упало, ничего не погибло, ничего не пропадало, всё тянется через пень-колоду по-старому, и ничего такого особенно не произошло, под чем бы можно было провести черту и подписать «Finis…»[46] Господин Скарятин («Русский листок», № 1) намекает даже на подметную литературу, на зарево пожаров и удивительно высоким слогом всё это расписывает. С господином Скарятиным, по крайней мере в направлении, очевидно, сходятся отчасти и прочие новые и обновленные издания. А ведь такое смешение фактов по-нашему неверно. Что общего с прогрессивным движением общества вообще и подметными листками неизвестной кучки? Смешивать то и другое значит прямо обвинять всё прогрессивное общество и преднамеренно умалять до микроскопических размеров всё, что заявилось нашим обществом дельного, серьезного, святого, неоспоримого во все эти шесть лет. Говорить, что народ прямо обвинил в пожарах наше юношество, опять неверно. И хоть г-н Скарятин и прибавляет, что между юношами виновников не нашлось, соболезнует, жалеет о том, что народ обвинял юношество, но, видимо, намекает, что народ и не мог не обвинить. По крайней мере в длинной диатрибе он прямо завершает несостоятельность нашего прогрессивного движения пожарами, и о пожарах он заговорил, видимо, не просто для эффекта. А между тем и о народе тут не так. Совсем не так, прямая клевета. Народ действительно обвинял, но кто подвигнул его к этому обвинению, кто надоумил — а? Хохлатки и тогда уже бегали в паническом страхе? Закудактали они первые? Не они ли всему и виною, они, которые теперь перемешивают факты и трубят победу…
Мы, конечно, не стали бы задевать лично г-на Скарятина, изобретающего удивительные вещи и максимы, но, повторяем, это кудактающее направление слышится и в других газетах, в новых и обновленных; даже «День» и тот в первых двух номерах своих вышел с сильнейшей диатрибой против нашего общества*, обвиняя его в несостоятельности перед событиями. Но «День» проводил по крайней мере свою всегдашнюю идею; ему нужно было обвинить общество в неспособности и несостоятельности, чтоб кончить, что всё это от разрозненности с почвой. Мы с ним совершенно согласны, что общество наше разрознено с почвой и рано или поздно заметило бы само свою несостоятельность. Но покамест бы оно заметило — оно заявляло себя. Оно чувствовало свое право; оно начало всё, что можно было начать; сделало всё, что могло сделать; если чего не сделало, значит невозможно было то сделать; если что сделало нехорошо, то обвинять его опять-таки невозможно, потому что ему даже времени не дано было поправить свои ошибки. Отрицать это значит преднамеренно искажать или с намерением не видеть фактов. Так и делает «День», и нам очень жаль, что он сходится в этом случае с всеобщим кудактанием. Надо быть прежде всего справедливым, и искажать факты в этом случае очень грешно, потому что таким искажением фактов запутывается общественное сознание.
Но по крайней мере «День» обвинял общество на серьезном основании. Прочие же органы обвиняют, кажется, сами не зная почему и с легкомыслием изумительным. Даже трудно представить, как можно так мало вдумываться в факты и не видать того, что всем ясно. Они думают: теперь, когда поле опять стало чисто, отчего ж и не попробовать запеть в новый тон? Только тон-то этот, господа, слишком старый и избитый. Он сводится на тон тех приживалок и старых бабушек, которые молчат до первой катастрофы, вяжут чулки и переругиваются втихомолку. И потом вдруг, при первом удобном случае, все они подымаются и начинают стучать своей благодетельнице, матушке-помещице: «Вот, мы говорили, мы предсказывали, не хотели слушать, что ж вышло». А они даже и не предсказывали прежде ничего, только зевали, да при этом рот крестили по обычаю.
Разумеется, все новые органы выходят с девизом: «умеренность и аккуратность». Это бесспорно очень хороший девиз; но злоупотреблять им тоже нельзя. А как же тут не злоупотребленье, господа, когда вы все кричите и с детским легкомыслием обвиняете общество, что оно одно во всем виновато, что оно лениво, что в нем недостаток самодеятельности, что эту самодеятельность надобно возбуждать, что дитя не плачет, мать не разумеет, что общество по всем пунктам оказалось несостоятельным и проч., и проч.?
Да справедливо ли это? Вдумывались ли вы хоть сколько-нибудь в минувшие факты? Неужели они только прошли по головам вашим, нисколько не задев вашего соображения? Мы ведь верить не хотим, что у вас недостало внимания или понимания. Ведь это слишком было ясно и не в углу происходило. Ведь труднее было не понять, чем понять. А если, действительно, недостало ни внимания, ни понимания, так уж не надо бы и газет издавать. Слепой слепого водить не может.
Вникните и рассудите.
Вы обвиняете общество в несостоятельности, в лености, в недостатке самодеятельности и проч. Но, повторяем вам: общество заявляло себя по всем пунктам, всегда и везде, кто ж этого не помнит? — и именно заявляло себя ровно до тех пор, ровно до той самой черты, до которой возможно было ему заявлять себя. Вспомните: общество заявило себя и по вопросу о распространении обществ трезвости, и по вопросу о грамотности, и по вопросу о воспитании, и по вопросу о гласности, и по вопросу крестьянскому: оно составляло по этому вопросу съезды, комитеты, адресы. И большинство и меньшинство этих съездов заявляло, печатало свои мнения, подавало их по начальству. Потом происходили другие съезды и другие собрания… Потом, особенно в городах, деятельная часть общества заводила воскресные школы, собирала сотрудников, деньги, подписки. По делу о воспитании достаточно указать хоть на деятельность графа Льва Толстого и его сотрудников… И не знаем, насколько именно все эти заявления, отдельные мнения, адресы были полезны правительству. Но что они были полезны — это несомненно. Даже бедная литература наша и та составляла собрания и записки начальству по вопросу о цензуре, и ее соображения, заявленные ею и представленные начальству, во многом послужили потом на пользу высочайше утвержденной комиссии по делам книгопечатания, о чем и сама комиссия свидетельствует в своем новом проекте устава о книгопечатании*. Одним словом, общество сделало всё, что могло сделать, заявляло всё, что могло заявить. Если чего желает, жаждет общество, так это, именно, возможности и теперь делать и заявлять. Вам всё это известно. А между тем вы лезете с обвинениями. Вы, положим, и теперь не уйметесь и все-таки будете обвинять: «Если так, скажете вы, кончились все эти заявления и все эти начатки деятельности нашего общества, то оно само виновато, потому что само не так действовало. Мало того, оно увлекалось, в нем недоставало порядка, рассудительности. Слышались буйные порывы, слышалось легкомыслие… Оно не внимало гласу мужей доктринствующих. Юная часть его стремилась к погибели. Страсти были не обузданы. Везде проявлялись неумелость, неловкость, поспешность, горячка… горячка… одним словом и т. д., и т. д.».
Господа, это, положим, всё легко теперь говорить; теперь, как дело уже прошло, можно говорить как по писаному. И все-таки из ваших разговоров дела не выйдет, а одна болтовня. Потому что ведь вы только болтаете и даже теперь не в состоянии научить, как надо бы было сделать. Да если б даже вы и учили, то и тогда бы ваша наука никуда не годилась, потому что всё бы это было только одна теория, а нам уж довольно теорий, нам надобно дела. А делу иначе никто не научится как на практике, и именно рядом ошибок, понеся, может быть, даже «значительную ссадку на бока». Следственно, дело во всяком случае останавливать нельзя было, если вы хотели дела. Но объяснимся точнее:
Вы обвиняете общество, что оно не так действовало, что в нем недоставало рассудительности и практического понимания собственных интересов, что оно увлекалось легкомыслием и т. д., и т. д. Но, позвольте, господа: где, когда, в каких снах, в каких доктринерствах видели вы, чтоб общество, столетиями отучавшееся и наконец совершенно отучившееся от дела, сразу, без науки, с первого шагу своего стало бы действовать не ошибаясь, не падая, солидно и безошибочно? Бывало ли такое общество когда на всей земле? Разверните какую вам угодно историю и справьтесь, — французскую, английскую. Ведь это только г-н Катков никогда не падает, так ему и «Теймс» в руки. А мы люди простые, обыкновенные. В самом начале, лет шесть тому назад, приобретен был великолепный результат: всё общество проснулось, восстало в одном великом движении и с верою и надеждою стало заявлять свои требования. Дитя заплакало горько, и добрая, чуткая мать начала его жадно слушать. Повторяем: этот результат был великолепный. Им надо было воспользоваться. Что ж делали тогда вы, господа доктринеры? Вы смотрели разиня рот и ждали, что вам тотчас сами влетят в рот жареные дрозды и куропатки. О вы, погубившие всё дело, вы неумелые, вы сначала накричавшие больше всех и потом первые закудактавшие! Да кто же вам велел, кто наталкивал вас ожидать немедленных дроздов и куропаток? Какой юродивый, какая старуха уверила вас, что всё пойдет безошибочно, солидно, без увлечений, без легкомыслия? Зачем вы поверили этому? Неужели у вас недостало сообразить, что никогда, нигде, ни в каком народе, от начала мира сразу никто не выступал безошибочно и тем более против предрассудков, укоренившихся в почве столетиями и имевших за собой — привычку к ним общества. Надо было именно приготовиться ко всем ошибкам, ко всем падениям, ко всем легкомыслиям и не смущаться и не пугаться пустяков, из которых вы, в паническом страхе, наделали драконов и чудовищ, напугали ими общество и таким образом шесть лет, работая, силились остановить движение. Если б вы не были мертво-холодны по натуре вашей, если б вы любили общее дело и желали его преуспеяния, то вы бы поверили в наивность и в искренность заплакавшего дитяти. Но вы ничему не поверили и успели остановить и пресечь всё в самом начале. Были, конечно, неловкости, бестактности, было неуменье вести дело. Оговоримся, однако ж: было много и хорошего, не только заявленного, но даже уже сделанного этими бестактными, плодами которых даже и вы теперь пользуетесь. Но оставим это хорошее, обратимся единственно к бестактному, неумелому и легкомысленному. Позвольте, господа, ответьте мне еще на один вопрос: можно ли научиться плавать, никогда не сходя в воду и не прикасаясь воды? А ведь вы именно этого требуете. Опять-таки говорим: ошибки нужно было предвидеть и к ним приготовиться терпеливо и с достоинством. Надо было сообразить, что ведь не карточный домик начинался строиться. Надо было сообразить и поверить, что от ошибок дошло и до безошибочности, по крайней мере дошло бы до каких-нибудь действительно выжитых, не теоретических, а практических результатов. Надо было сообразить и поверить, что общество сознательно не может идти против собственных своих интересов, что сознательно оно не стало бы легкомысленничать, когда дело до собственной шкуры доходило, что общество не стало бы свистать и шалить, а, след<овательно>, само и безо всякой посторонней помощи сумело бы обуздать и горячих и легкомысленных, вредивших делу своей торопливостью, и именно потому бы так поступило, что никакое общество не может быть врагом собственных своих интересов. А следственно, что надо было вам делать? Поддерживать действия общества, ободрять публику, а не кудактать в паническом страхе. Стараться, чтоб никаким образом не могла быть пресечена начинавшаяся самодеятельность общества; мало того, стараться о твердых гарантиях для продолжения этой самодеятельности и с уверенностью ждать результатов. А то что вышло? Действия общества, вследствие вашего же панического страха и кудактанья, тотчас же пресекались в самом начале, и таким образом сами же вы дали право этим окудактанным вами прогрессистам и деятелям вам же в глаза сказать: «Ведь вы нам не дали ничего докончить, следственно, и не имеете права судить о том, что бы вышло». Да, это вы, вы и вам подобные всё накудактали и смутили других, от которых зависело продолжение общественной деятельности. Честь и слава только этим другим, что они во многом вас не послушались, твердо верили в успех и реформу и многое хорошее успели-таки совершить и докончить.
И теперь, господа, теперь, по-вашему, выходит, что надо приучаться к практическому смыслу теорией. Помилуйте, да в теориях мы давно уже и учителей за пояс заткнем, да еще как! Ведь вот учите же вы, например, а ведь известно, что сами вы ровно ничего еще не сделали. И в чем заключается ваша теория практической деятельности? В кудактании, в покивании главами своими и потом в правиле: сложить руки, заткнуть по возможности свои пять чувств и возложить упование. Ну этак-то мы давно уже действовали. Что ж «Русский вестник», что ли, практичен, по-вашему, с своими английскими началами?* Мы потому указываем на «Русский вестник», что считаем его за петуха и предводителя всего стада вашего, хотя вы и не претендуете, что у каждого у вас свое особое мнение. Не беспокойтесь, в кудактаньи вы все сходитесь. У «Русского вестника» английские начала, он доктринер, его слушают. А между тем, по-нашему, скорей систему Фурье можно у нас ввести, чем идеалы г-на Каткова, теймствующего в Москве. Чем виноваты мы, что ему мерещится поклонение лордам, раздробление собственности на личном начале, вместо нашего дворянства маркизы и лорды à l'anglais,[47] образование, принимаемое как привилегия аристократии*, увеличение платы студентов и проч., и проч. Последнее, то есть вопрос об образовании, есть со стороны «Русского вестника» посягновение на самое драгоценное право народа русского, право, дарованное ему Петром Великим, и единственное, может быть, что только и есть безукоризненного в реформе Петра Великого. Это право на образование установлено им на самом демократическом и плодотворном основании. В этом вопросе Петр Великий сознательно презрел права породы, выдвинул вперед образованного и поставил его выше боярина. Он хотел, чтобы все образовывались; потомки его это поняли и поддерживали русское образование не иначе как на демократическом петровском начале. «Русский вестник» этого не хочет. В Англии так не делается… Но что говорить о «Русском вестнике» и о московских теймсах. Игра в карточные домики нашему обществу давно уже наскучила. Мы только указали на «Русский вестник» как на практического представителя кудактающих доктринеров… А теперь обратимся к тому, на чем остановились.
Положим, что наше общество не остановилось бы в свободном заявлении своих нужд и в отыскании немедленных средств для удовлетворения их; оно тогда, может быть, и дошло бы до того, до чего дошел «День» путем глубокого убеждения, то есть до ясного сознания своей разрозненности с почвой и с народом и, главное, до необходимости возвращения на родную почву и соединения с народным началом. Так что «Дню» нечего было бы и тревожиться и писать горькие диатрибы на наше общество, как пишет он теперь и еще долго будет писать, потому что на словах дело никогда не кончается, а, напротив, продолжается в бесконечность. Следственно, и «Дню» следовало бы стоять за практическую самодеятельность общества и верить, что она до добра доведет. Да и как не верить? Чуть только началось у нас хоть какое-нибудь практическое и свободное столкновение интересов общества и народа (столкновение, необходимо вызванное последними реформами повсеместно), как тотчас же и началось повсеместно сближение народа и общества и тотчас же, повсеместно, стала сознательно появляться мысль о необходимости этого соединения. Это так очевидно, что нечего и доказывать этого. Этого только слепой теперь не видит. И чем далее, тем очевиднее будет. Мы с твердым убеждением начинали наш журнал, провозгласив необходимость сближения общества с народным началом, и до сих пор заявляем и разъясняем эту мысль по возможности. Сколько насмешек и язвительных криков мы вынесли от всех литературных лагерей наших. Но теперь, несмотря на усиленные насмешки, переходящие даже в ругательства, мы с удовольствием видим, что с нами в унисон начинают петь чрезвычайно много голосов в литературе. В иных изданиях повторяются наши мысли до буквальной точности выражений. И однако ж, мы всегда будем стоять за правую сторону дела, и хоть, надо признаться, наше общество заявляло себя, свои нужды и требования, действительно, иногда легкомысленно, выставляя слепо западную цивилизацию и свысока смотря на народ, но мы все-таки жалеем, что кудактающее направление успело повредить начинающейся саможизненности нашей. Они испугались даже до того, что в малодушном ослеплении своем стали смешивать подметную литературу с общею деятельностью всего общества. Поверьте, что саморазвивающееся общество само сумело бы остановить и подметную литературу. Не стало бы оно легкомысленно жертвовать своими собственными интересами и не потерпело бы и у себя легкомыслия, а следовательно, и подметной литературы, которая была бы буквально невозможна.
Зачем же вы теперь, господа, когда уже всё успели испортить, кричите, что общество лениво, не самодеятельно и не печется о своих интересах? Вы же да еще обвиняете общество? Что это насмешка иль нет? Оговоримся: мы никого из вас не обвиняем лично. Но направление теперешних изданий ваших есть то же самое доктринерствующее направление, которое еще так недавно остановило своим влиянием так много задатков и возможностей. И поэтому, кто бы вы ни были лично, мы обвиняем теперь вас, потому что у вас то же самое направление. Вот что, господа, мы вам скажем насчет лености, необразованности общества, и мы скажем нашу мысль без дальних рассуждений, для краткости присказкой. В новой газете «Очерки» помещена была довольно умненькая побасенка: «Продолжение летописи села Горохина»*, той самой летописи, которую начал еще Пушкин. (Кстати об «Очерках» мы отчасти исключаем эту новую газету из числа других новых изданий и смотрим на нее особо. В ней встречаются иногда довольно верные мысли и недурные статейки, а статьи, принадлежащие г-ну Щапову*, положительно хороши. Жаль только одного, что в этой газете есть один капитальный и, кажется, неисправимый недостаток, именно тот, что она — не газета. Берете вы какой-нибудь номер, желаете что-нибудь знать о современном, вчерашнем, сейчашнем, а читаете пятое или шестое продолжение о русском быте и о судьбе русской женщины при царе Алексее Михайловиче. Потом идет кяхтинская торговля, потом еще что-нибудь в этом роде, потом следуют производства в чины, и — дело кончено. Номер наполнен. Нет, газеты так не издаются. Это что-то издающееся по какому-то вдохновению. А как издатели еще с первого шагу, с первых номеров не успели спохватиться и догадаться, что так не издаются газеты, то мы, к сожалению, и считаем этот недостаток издания «Очерков» и впредь неисправимым). В этой «Летописи села Горохина» изображено, как крестьяне села вначале даже не верили посреднику, что они уже свободны вполне, и недоверчиво выслушивали убеждения посредника к полнейшей их самодеятельности. Приходит мужик с просьбою о позволении поженить парня. Добрый и благородный посредник даже выгоняет его: «ты свободен, свободен, пойми ты это наконец, посконная твоя голова! К чему ты лезешь с такими просьбами, венчай сам как хочешь!» После этого мужики начинают наконец верить и радоваться. Вдруг посредник собирает сходку. Сошлись охотно. Посредник предлагает миру завести школу. Мужики почесываются: «Нет, батюшка, у нас испокон века школы не бывало, и отцы и деды наши грамоте не учились, так уж школу и теперь нечего заводить. Не согласны». (Заметим в скобках, что с 19 февраля, то есть с манифеста о свободе, школы по России увеличились вчетверо; это цифра официальная. Следовательно, «Горохинская летопись» выставляет факт совершенно частный. Но это всё равно: во всяком случае свободу решения мирского приговора, если уж дана эта свобода, стеснять невозможно). Посредник убеждает. Мужички стоят на своем. Тогда посредник начинает кричать. Мужички почесываются, но видя, что дело доходит до употребления власти, — соглашаются. Малое время спустя посредник опять собирает сходку: надо положить жалованье старшинам. Мир опять не согласен. Посредник опять кричит и власть употребляет. Кончается наконец в Горохине тем, что мужички всем миром идут к посреднику и просят его управлять ими так же, как ими правили прежде. «Невежды, ленивцы! — кричит посредник: — вы свободны! вы вполне свободны! я бьюсь, чтоб образовать вас, чтоб возродить в вас чувство самодеятельности, а вы…» Но гороховцы падают в ноги и стоят на своем. Посредник расставляет руки и, разумеется, решает про себя, что общество наше не приготовлено, что мужик ленив, груб и нелеп, что он не понимает благородных чувств, привык к палке, не хочет стоять за свои интересы, бежит самоуправления, самодеятельности, что он необразован, что даже и дурной помещик несравненно выше мужика, потому что образованнее, что мужиков прежде всего надо образовать, чтоб они понимали настоящую свободу, а для того надо опять взять в руки, опять надеть крепостной хомут и хорошенько, хорошенько, хорошенько их, даже хоть палкой, чтоб они знали, как об них заботятся, и понимали, что хотят возбудить их благородные чувства…
«Очерки», к удивлению нашему (к удивлению потому, что почти все журналы наши решили бы иначе), оправдывают горохинцев. Если уж дана им была свобода, то уж они свободны были и школ не заводить. (Бедный, но благородный духом прогрессист-посредник и не догадался в своем доктринерстве, что горохинцы, лет через пять, смотря на соседей и на всеобщий пример, сами бы завели у себя школу, и, не догадавшись об этом, чтобы завести только школу, подрезал самый основной принцип, на котором всё зиждилось, который был источником всего дальнейшего и сохранение которого было дороже всех школ на свете). «Очерки» уверяют, что так было в прошлом столетии и в немецких государствах, когда там тоже начали заводить самодеятельность, и что горохинцы оказали даже при этом признаки здравого смысла. Господа доктринеры! положим, вы посредники, а мы, то есть общество, — горохинцы. Вот вы вызываете нас на самодеятельность. Что нам делать?
Ответ, по-нашему, ясен, и толковать нечего. Вот почему все ваши вызовы к самодеятельности нам и показались насмешкой.
Мы сейчас удивлялись, что «Очерки» решили в пользу горохинцев, и выразили наше убеждение, что все наши доктринеры и даже отъявленные краснейшие прогрессисты, может быть решили бы иначе, а если б не решили, то должны были бы решить иначе, чтоб быть верными своим принципам. Не удивляйтесь нашему удивлению; мы вовсе не преувеличиваем. Но это бы еще ничего. А теперь вот начинаются даже признаки какого-то желания зла нашему мужику, какого-то отмщения ему за то, что до сих пор все так за него стояли и так за него распинались. Проглядывает даже ненависть. Это мы особенно заметили в новом органе, в газете «Русский листок». Это самый куражливый из всех новых органов, хотя, впрочем, в нравственном смысле, «Русский листок» из того же стада курица; хоть и силящаяся пропеть петухом курица, но все-таки тоже простая, обыкновенная, паническая курица. О мужике мы прочли в статьях г-на Скарятина. Оговоримся: мы не думаем, чтоб г-н Скарятин увлекался каким-нибудь пошлым плантаторским мщением. Мы толкуем его чувства иначе. Нам просто кажется, что ему надоела рутина сочувствия мужику. Бездарность, с которою иногда доводится до последней нелепейшей крайности прогрессивная мысль, у нас неудивительна. Мало того, эти бездарные до того долго волочат иногда по улице, грязнят и марают иногда самую святую идею, что повторять за ними общие либеральные и прогрессивные фразы иногда даже претит. Таким-то образом, полагаем мы, были оскорблены и эстетические чувства г-на Скарятина. Но все-таки это не дает ему права плевать на логику. Логика не рутина и не рутинный прогрессизм. Долго толковать о г-не Скарятине нечего, но на выдержку, как вам кажется, например, следующий афоризм его:
«В глазах многих достаточно быть крестьянином, чтобы быть правым, и помещиком, чтобы быть виноватым, тогда как известно, что наш крестьянин не только не лучше помещика, но, напротив, хуже его, потому что необразованнее, и если справедливо, что помещики нередко нарушали права крестьян, то еще справедливее и то, что крестьянин не упустит случая запустить лапу в чужое, если может сделать это безнаказанно».
(«Русский листок», № 1)
Что же это такое? Представлены на суд помещик и крестьянин. Хорошо. Вопрос, кто из них лучше? Г-н Скарятин уверяет, что помещик, потому что он образованнее. Ну положим, без спору, что и это хорошо. Что ж дальше? Дальше говорится: если справедливо, что помещик нарушал нередко права крестьянина, то и крестьянин не упустит случая запустить лапу в чужое добро.
То есть: если крестьянин запускает лапу в чужое добро, то не отрицается и то, что помещик нарушал права крестьянина, то есть брал себе у крестьянина то, что принадлежало крестьянину, а следовательно, тоже запускал лапу в чужое добро.
Итак, оба они, и помещик, и крестьянин (по г-ну Скарятину) запускали лапу в чужое добро. Но помещик лучше крестьянина, потому что он образованнее.
Помилуйте, г-н Скарятин! Что же, как же вы после этого понимаете образованность? За модный фрак или за бритье бороды? По-нашему, уж если человек образован, то он получил нравственное развитие, по возможности правильное понятие о зле и добре. Следственно, он, так сказать, нравственно вооружен против зла своим образованием, а следственно, владеет для отражения зла средствами несравненно сильнейшими, чем крестьянин (мы уже не говорим про то, что помещик во всяком случае материально обеспеченнее крестьянина; что он реже голодает, чем крестьянин, и разве только проиграется в картишки, но уж никогда не ведет на базар последнюю кобыленку, с тем, чтоб продав ее, заплатить оброк или подати).
А если так, если иной помещик нравственно и физически гораздо обеспеченнее от зла и порока, чем крестьянин, и если, несмотря на всё это, он попадается в одном и том же преступлении, как и крестьянин, то есть запускает лапу свою в чужое добро, то во имя справедливости и логики: кто из них нравственнее, кто из них лучше?
Согласитесь сами, что вину крестьянина облегчает еще сколько-нибудь его невежество и необразованность.
Воля ваша, г-н Скарятин: вы так сами поставили вопрос и подвели на него ответ, что обвинить непременно должно помещика. Непременно должно выйти так: он хуже крестьянина, потому что, будучи образованнее и материально обеспеченнее, сделал такое же преступление, как и крестьянин.
Это по-вашему, по-вашему же так выходит, г-н Скарятин! А между прочим, вы решаете иначе. Это уже скандал, а не логика!
Чего же после того лезть в учители, когда и свою-то собственную мысль прилично изложить не умеете.
Журнальные заметки
I. Ответ «Свистуну»
В сороковом номере газеты «Очерки» было напечатано о нас следующее постороннее письмо, присланное одним посторонним лицом в вышеупомянутую газету.
Г-н Редактор!
Надеюсь, что вы дадите место моей заметке в вашей газете. Цель ее — уличить редакцию «Времени» в явной недобросовестности и непоследовательности и отметить характеристическую черту для будущего историка русской литературы и журналистики.
В январской книжке этого года редакция «Времени» по поводу объяснений своих в нападении, произведенном на свистунов в объявлении об издании журнала на 1863 год, выгораживает, между прочим, из числа этих злокозненных людей покойного Добролюбова, признавая его за человека, «глубоко убежденного, проникнутого святою, праведной мыслью, за великого бойца за правду». Далее редакция почтенного журнала говорит, что по силе и значению в литературе Добролюбов был бог, и восхваляет себя за борьбу с ним против неуважения его к народу и неверия в его силы.
Справедливость последнего подлежит суду критики; что касается до первого, то во имя уважения к памяти покойного следует остановить г-на редактора «Времени» и указать ему на руководящую статью его журнала, помещенную в № 3 прошлого года, — вскоре после смерти Добролюбова.
Голос «Времени» прозвучал не без резкости и резюмировался окончательно в мнении о Добролюбове таким образом на стр. 32: «Мы чувствуем желание взглянуть свысока на Добролюбова, потому что находим у него очевидные недостатки, промахи всякого рода, мысли неточные, недодуманные, мелкие, фальшивые, вопиющие противоречия и плоскости; концы, вовсе не идущие к началу, начала, не доведенные до конца, и т. д. Этих ошибок, этих примеров всякого рода путаницы и бессвязицы можно было набрать столько, сколько угодно» и т. д.
Пусть редакция «Времени» сравнит сама это прежнее свое мнение с новейшим и объяснит, путем какой логики и какого чувства пришла она к мнению о покойном как о человеке, проникнутом святою, праведной мыслью, как о великом бойце за правду?
Примите, и проч.
Свистун.
Вот наш ответ:
Господин Свистун!
Мы решились вам отвечать, хотя ваше письмо адресовано не к нам, а редактору «Очерков». Но так как дело касается лично до нас и в вашем письме говорится только об нас, то вы, конечно, и не удивитесь, что мы берем на себя приятную обязанность отвечать на это письмо. Решились же мы вам отвечать по трем нижеследующим причинам:
Причина первая: По тону вашего письма в газету «Очерки» мы убедились, что вы, милостивый государь, человек совершенно посторонний, то есть что вы не принадлежите к раздраженным против нас лично редакторам и издателям и, кроме того, что вы браните нас не из каких-нибудь выгод. Извините нас за эту откровенность; но вы имени вашего не подписали, а на нас столько пишется ежедневно ругательств, столько гаденьких пошлостей, что мы невольно принуждены быть подозрительными и различать между нашими оппонентами. Иным отвечать — так слишком уж много им чести будет. В вашем же письме мы не видим никаких намеков, никаких посторонних затаенностей. Вы прямо заботитесь о деле и добиваетесь решения противуречия, поразившего вас в нашем журнале. Вы, видимо, тоскуете и беспокоитесь и, несмотря на все старания и напряжения ваши, вы все-таки не в состоянии своими собственными средствами разрешить вопрос. Мы искренно спешим вам на помощь, — вам, человеку благородному (потому что вы заботитесь о правде), человеку добрейшему (это видно) и, наконец, человеку, бескорыстно питающему благородную любовь к отечественной словесности (это уже очевидно).
Причина вторая: Кроме чрезвычайно резкого выражения вашего, милостивый государь: «уличить редакцию „Времени“ в явной недобросовестности», всё остальное написано у вас без особенных ругательств. Значит с вами говорить еще можно. Теперь нам стоит только уличить вас в некотором непонимании дела, и вы, как человек, прежде всего отыскивающий правду, вероятно, тотчас же сознаетесь в своей ошибке и возьмете выражение ваше о нашей недобросовестности (единственное оскорбительное для нас выражение в письме вашем) назад.
Причина третья: Мы отвечаем вам, милостивый государь, еще и потому, что вы в письме вашем подписались: «свистун», без прилагательного «хлебный». В противном случае, то есть если б вы подписались: «хлебный свистун», мы бы не стали вам отвечать.
Собственно, против свиста мы ничего не имеем. Это только особенная форма проведения мысли, употреблявшаяся в последнее время с большим успехом в отечественной словесности. Мы сами иногда посвистывали.* И потому ваша подпись: «свистун» — очень хорошая подпись. Но хлебный свистун есть тот, который продает свой свист и, главное, направление своего свиста за деньги тому, кто больше даст, и таким образом свищет на первого встречного по заказу. Согласитесь сами, что иметь дело с такими господами неприлично. Да и такие случаются между ними ярыги, что и представить себе нельзя. Не отвечать же им. Теперь, окончив всё предварительное и обстоятельно перечислив вам почти по пальцам все побуждения, склонившие нас отвечать вам, мы просим у вас извинения, милостивый государь, за некоторое многословие наше, заставившее вас, очевидно, потерять несколько драгоценных минут вашего драгоценного времени (потому что время для человека, ищущего правды, всегда драгоценнее, чем для человека, ищущего неправды). Мы всё это очень хорошо понимаем. Но ведь возможности нет, милостивый государь! Иной раз изложишь свою мысль, кажется уж ясно; а смотришь: тут же, перед вами же так ее перевернут, что сам не узнаешь и дивишься. Вот хоть бы и вы, милостивый государь (говорим это с горестью), вы, почтенный любитель отечественной словесности! Ну как бы, кажется, не понять вам наших слов о Добролюбове? А между тем вот не поняли же вы!.. И потому извините за излишнее теперешнее многословие наше: такую уж манеру взяли; просто разжевываем и в рот кладем, точно грудным детям или старикам беззубым. Побольше-то наговоришь, так оно как будто и яснее.
Итак, к делу:
Помилуйте, почтенный свистун, где же у нас противоречие? Вы свидетельствуете, что мы, с одной стороны, выставляем покойного Добролюбова за человека, «глубоко убежденного, проникнутого святою, праведной мыслью, за великого бойца за правду», называем его богом (не для нас, разумеется, богом, а для его яростных последователей, вы забыли разъяснить это) и, по вашему же заявлению, тут же, после этих похвал, мы восхваляем себя за борьбу с ним против неуважения его к народу и неверия в его силы.
Но, смотря с другой точки зрения, в другой статье нашей (написанной прежде) мы пишем, что находим у него «мысли неточные, недодуманные, мелкие, фальшивые, вопиющие противоречия и плоскости: концы вовсе не идущие к началу, начала, не доведенные до конца, и т. д. Этих ошибок, этих примеров всякого рода путаницы и бессвязицы можно было бы набрать столько, сколько угодно» и т. д.
Мы уже не говорим о том, милостивый государь, что оба эти отзыва выхвачены вами отрывками из средины статей наших. Представляясь отрывками, без последовательной связи с своим предыдущим, они кажутся гораздо более резкими, и видимое противоречие их между собою гораздо неожиданнейшим, чем на самом деле. Но мы все это вам уступаем и не хотим прибегать к таким мелким оправданиям, потому что, в сущности, и не нуждаемся в оправдании. Мы только вам разъяснить хотим, да и то только вам лично, потому что чувствуем к вам особенную симпатию.
Если вы, милостивый государь, хоть капельку потрудитесь углубиться в нашу мысль и рассудите вместе с нами, то вы сейчас же сами всё поймете. В самом деле: чем первый наш отзыв о Добролюбове противоречит в сущности второму? Всё дело в том, что вы никак не можете себе представить, чтоб человек, «глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью, великий боец за правду», мог хоть когда-нибудь ошибиться и наврать вздору. Помилуйте, да это случается на каждом шагу, каждый день. Оглянитесь кругом. Вот, например, стоит перед вами человек, по житию чуть не праведник, убежденный в правде глубоко и свято, вы его уважаете, вы его, наконец, любите, и вдруг этот прекрасный господин, в одно прекрасное утро и единственно, чтоб достигнуть своей благороднейшей цели, начинает в ваших же глазах колотиться об стену головою. Что вы скажете, тогда, милостивый государь? Откажете ли вы ему тогда в возвышенности духа и в том, что он проникнут святою и праведной мыслью? Очевидно, нет: он в жертву самого себя, свою голову приносит, так что всё это может оставаться при нем — то есть и глубокое убеждение, и святость, и праведность. Откажете ли вы ему в том, что он великий боец за правду? Очевидно, нет. С этой-то целью он и стукается перед вами головой об стену, да как еще — в кровь! и всё это за правду. Разве вы таких бойцов не видывали? В чем же вы найдете, наконец, ошибку этого господина, его изъян, абсурд? Очевидно, в средствах, им употребляемых для достижения его цели. Он в средствах и только в средствах ошибается, не так взглянул на предмет, и в этом смысле вы, разумеется, найдете в поступке его столько «путаницы и бессвязицы, сколько вам будет угодно».
Но, скажете вы, ваш прекрасный человек был сумасшедший, дурак. Неправда, милостивый государь, он мог быть не только не сумасшедшим и не дураком, но даже очень умным человеком. Он только ошибался, и больше ничего. Разве умные люди не могут ошибаться? Да гениальные-то люди и ошибаются чаще всего в средствах к проведению своих мыслей, и часто чем гениальнее они, тем и крупнее ошибаются. Вот рутина, так та реже ошибается. Вы не верите: разверните историю, оглянитесь кругом, и вы каждую минуту найдете преумного человека, который для благороднейшей цели стукается лбом об стену. Нужно только глаза иметь и увидите. Возьмите людей исторических: ну, Петра Великого*, например, или помельче, возьмем хоть Сперанского*…Разве они не ошибались и в то же время не имели благороднейшей цели — счастья отечества? Возьмите других европейских людей: Игнатий Лойола, например. Ну для чего он употребил столько благороднейшей энергии, столько силы духа и упрямства, столько огромного ума! А между тем цель его была высокая — счастье человечества. Чем он хотел достигнуть его? — усилением католичества, — значит, колотил головой об стену.*
«Да, но Добролюбов не мог так, как они, ошибаться! — говорите вы, и это — голос всех последователей Добролюбова. — Он был без ошибок, он не мог ошибаться». Но в этом-то мы с вами и разнимся, милостивый государь; такого детского и смешного поклонения мы не можем иметь, хотя эта разница и не составляет предмета настоящего противуречия. Не забывайте этого. Дело идет теперь только о нашей непоследовательности, о нашей нелогичности и о нашей недобросовестности, в которых вы нас обвиняете. Что же касается до Добролюбова, то будь он разгений, он все-таки мог ошибаться, по крайней мере так же, как ошибались и те нами названные великие люди. А ведь Добролюбов далеко был не гений, а разве только что умный человек. Для своего времени он мог делать те же самые ошибки, как те для своего. Конечно, были умные люди, которые и тогда не ошибались, но, по нашему убеждению, Добролюбов не принадлежал к их числу…
Ясное дело, что довольно грубое сравнение наше о стуканьи лбом не может быть отнесено к Добролюбову во всей его резкости. Но отчасти — непременно да. Предположите же теперь, что мы действительно и глубоко убеждены, что Добролюбов не понимал народа, видел в народе и в обществе по преимуществу одно только темное царство; грубые и наносные явления, так сказать, кору принимал за сущность дела; даже иногда явления самые светлые и отрадные в нашем народе, грубо не поняв их, относил к мерзейшим; в силах народных усомнился и придавал значение по преимуществу одной только западной выкройке. Положим, что мы глубоко и свято убеждены во всем этом. Ну вот это-то и есть его стуканье об стену. Что ж из того? Разве такое убеждение разрушает в нас веру, что Добролюбов был в то же время благородный деятель, что он стремился неуклонно к правде, то есть к освобождению общества от темноты, от грязи, от рабства внутреннего и внешнего, страстно желал будущего счастья и освобождения людей, а следовательно, был благороднейший деятель в нашей литературе. Даже, может быть, самые ошибки его происходили иногда от излишней страстности его душевных порывов. Добролюбов мог даже, если б остался жив, во многом изменить свой взгляд на вещи, поправить свои ошибки, найти другую, настоящую дорогу к своей цели, только одной своей благородной и праведной цели он не мог изменить никогда. Цели и средства — это разница, милостивый государь. Белинский был благороднейший из благороднейших деятелей русских, но раза три в жизни основным образом менял свои убеждения.* Одной правде он не изменял никогда. Это чрезвычайно яркий пример, милостивый государь, зачем вы его не припомнили?
Мы боролись с Добролюбовым и убеждены, что хорошо делали. Некоторые из бездарных последователей его в настоящую минуту довели презренье к народу и неверие к силам его до такого абсурда, что разве только один безобразно громадный размер их нелепости, пошлости и бездарности делает их безвредными. Скоро сделает и смешными; это непременно, потому что это уже и теперь начинается. А между тем, благодаря свято-чтимой молодежью памяти Добролюбова, эти бездарные, единственно только тем, что прикрываются авторитетом Добролюбова, который бы их сам отверг, все-таки имеют некоторое и чрезвычайно вредное влияние на молодежь. Против этого надобно бороться, и мы будем бороться.
Прибавим наконец, чтоб кончить о Добролюбове, что мы всегда признавали в нем талант и, кроме того, во многом соглашались с ним, в том именно, в чем он не ошибался, и тут он был увлекателен и высокоталантлив, а следственно, если мы умели это заметить и оценить (и поверьте, получше многих других), то опять-таки имели право и хвалить его. А в похвале-то вы нас и упрекали. Теперь перейдем к нашему главному вопросу.
Итак, милостивый государь, где ж оно, где ж это противоречие? Вся штука вышла из того, что вы не хотели даже и предположить, чтоб умный и свято проникнутый любовью к правде человек мог ошибаться! Да что это за безграничное поклонение перед авторитетами! Что за служебность (мы нарочно выбираем словцо помягче) перед человеком, которого почитаем и уважаем. По нашему мнению, можно уважать безо всякой служебности. Нет, почтенный свистун, всё это обличает только некоторую вашу неумелость, некоторую вашу скороспелость, некоторую неудачу вашего мышления, а… не нашу недобросовестность. Согласитесь, милостивый государь, что взваливать на людей такое тяжкое обвинение нужно осмотрительнее, совестливее, не торжествуя заранее, конечно, если вы только сами человек…
Ax, милостивый государь! Вы не поверите, в какое положение мы иногда бываем поставлены. Кажется, уж на что разжевываем, кажется, уж ясно говорим, — нет, хоть что хочешь делай с иным деятелем, просто хоть кол теши. Это что еще вы! С нами, может быть, уже сотни таких примеров случались. Многие лезут-то ведь не для правды, а с тем, чтоб как-нибудь оскорбить, оговорить. Самолюбие в них до последней болезненности раздражено, так что отца родного готов на рынке продать, только чтоб дали ему вас ущипнуть. Не отвечать же таким, разумеется. Притом же тупость, тупость… Да, кстати, вот вам один анекдотик из сотен с нами случившихся. Позвольте вам его рассказать, тем более что он имеет необыкновенное сходство с вашим письмом (то есть сюжет другой, но прием-то мышления тот же, логика одинаковая). Наконец и то, что случай этот вовсе не заключает в себе той злокозненности и злокачественности, об которых мы сейчас говорили. Это просто замечание, сделанное нам одним любителем отечественной словесности, таким же бескорыстным и добродушным искателем правды, как и вы. Замечание это было сделано нам в «Сыне отечества» в прошлом году, в одном из воскресных нумеров в ноябре месяце. Будьте так добры, выслушайте.
Разительное сходство с настоящим случаем.
Рецензент «Сына отечества» разбирал октябрьскую книжку «Времени». В сентябрьской книжке нашей была статья г-на Родевича* «По поводу общественной нравственности». В октябрьской же помещена была другая статья на ту же тему, г-на Сокальского*. Далее будем говорить словами самого рецензента:
«Указанными статьями мы и можем кончить обзор вышедшей книжки „Времени“ (октябрьской). В заключение мы укажем в ней только на одну странность. В разбираемой нами книжке, между прочим, помещено письмо г-на Сокальского: „Заметка по вопросу об общественной нравственности“, вызванное статьей г-на Родевича о том же предмете. В том, что явились эти заметки, удивительного нет ничего, но удивительно следующее примечание, сделанное к письму редакцией: „Хотя эта статья и противоречит статье г-на Родевича, недавно напечатанной в нашем журнале, но так она прогрессивна и гуманна и трактует о деле с особенной оригинальной точки зрения, то нам кажется, что подобные противоречия служат к дальнейшему разрешению вопроса“. Мы позволяем спросить: считает ли после этого редакция самую статью г-на Родевича прогрессивной и гуманной?»*
Ax, боже мой, да почему же нет? Точно прогрессивный и гуманный человек не может ошибаться? Сошлись, положим, г-н Родевич и г-н Сокальский. Оба они и прогрессивны и гуманны; оба стремятся к той же цели. Но во взгляде на дело, но в средствах к достижению цели они расходятся радикально и вот — заспорили. Неужели один из них должен уж непременно сейчас же сделаться и не прогрессивным и не гуманным, потому только, что он не согласен, противоречит? Противоречие противоречию розь. Ведь у них цель одна. Да они и оба могли ошибаться и в то же время оставаться и прогрессивными и гуманными. По тысяче человек иногда сходятся и спорят в парламентах, и бывает, что один идет против всех, и впоследствии оказывается, что он-то и был прав. Что ж, неужели все остальные 999 мошенники и дураки или не прогрессивные и не гуманные? Прямо приходится вывести, что прогрессивные и гуманные люди никогда не ошибаются, никогда друг другу не противоречат, а ведь это явный абсурд, особенно среди нашей действительности. Ну как бы, кажется, не понять этого абсурда, как бы, кажется, не домыслить! А ведь вот же не понял, не домыслил человек!
Ну, посудите сами, милостивый государь, ну как прикажете отвечать на такие вопросы? А ведь почти всё такие. В наше-то, в наше-то положение вникните. Мы, разумеется, и не отвечали «Сыну отечества», да вот теперь кстати по поводу вашего письма припомнили… Сходство-то уж очень с вами разительное.
А впрочем, милостивый государь, относительно вас мы не тяготимся. Обращайтесь к нам и впредь, присылайте, присылайте нам ваши противоречия! Всё, что можем, — мы для вас сделаем, ценя вашу благородную жажду правды и вашу прекрасную любовь к отечественной словесности. Еще раз извините за многословие; но что ж делать! разжевываем, разжевываем…
II. Молодое перо
По поводу литературной подписи. «Современник», № 1 и 2
Брамбеус! решительно Брамбеус! Прочел с удовольствием. Фыркал, прыскал со смеху. Пыхтел, задыхался. Потел! Игриво. Молодое перо. Талант. Каратель пороков. Упование России… Игрун, визгун, танцует. Далеко пойдет. Молодец.*
* Невинное подражание слогу барона Брамбеуса, сделанное не без цели.
И всё-то дело из-за г-д Скавронских. Г-н А. Скавронский поместил в декабрьской книжке «Времени» заявление о том, что подписью его злоупотребляет какой-то другой г-н H. Скавронский, в Москве. Г-н А. Скавронский испугался, чтоб его как-нибудь не смешали с г-ном H. Скавронским. Ну так вот, как смел г-н А. Скавронский испугаться и напечатать, что он А. Скавронский, а не H. Скавронский? Он — простой, обыкновенный сочинитель. По крайней мере, если б был генерал от литературы, какой-нибудь Катков, а то — А. Скавронский! И туда же! Обличить, обличить скорее, неотлагательнее! Страждет литература, страждет общество. Надо карать, свистать, плевать. Даже непочтительность к старшим замечается. Если всё это спускать, так ведь что из этого выйдет?
Впрочем, дело ясное: Молодое перо. Надо было дать пищу сатирическому уму. Искусство для искусства. А действительно, игриво написана статейка (в «Современнике», в номере первом и втором. Вообще в «Современнике» как будто начинается опять искусство для искусства.* Новая похвальная струя). Я, действительно, смеялся (кроме шуток): очень, очень забавно и с несомненным талантом. Только вся штука мне кажется несправедливою. Извините, молодой рецензент, но у меня болит сердце. Вы начинающий талант, блестящий — это правда, но послушайте, однако, нас, стариков. Не тратьте даром молодых сил, сил юных, пылких, неопытных. Еще у Кошанского сказано, что хорошие мысли предпочитаются блестящему слогу.* Слог — это, так сказать, внешняя одежда; мысль — это тело, скрывающееся под одеждой. Взгляните на старую кокетку: одежда ее блестит совершенствами, разубрана розами, пахнет мускусом. Но, однако, что скрыто под сей одеждой? Фальшивые зубы, фальшивые косы, фальшивые, так сказать… впрочем, опасно пускаться в дальнейшие подробности. Одним словом, молодой человек, вы убежали бы от ветхой прелестницы с отвращением и ужасом. Убегайте же подобным образом от наружного литературного блеска, берегите себя от соблазнов блестящего слога, дуньте на тень Брамбеуса, которая носится перед вами, соблазняя вас на мишурные подвиги, и она исчезнет, как исчезает колечко табачного дыма, выпущенное ловким военным курителем. Вместо всего этого заботьтесь о содержании, о мысли. Размыслите, moлодой, но блестящий писатель, ведь вы ошибаетесь.
Почему, скажите, г-н А. Скавронский не имеет права досадовать, что другой писатель подписывается его именем? Потому что он не генерал, не великий писатель? Но ведь всякому свое дорого. Что ежели б вы сами изобрели себе какой-нибудь псевдоним и приобрели себе славу, а другой какой-нибудь проказник в Москве взял бы да и стал подписываться вашим же псевдонимом, да еще, положим, где-нибудь в «Русском вестнике». Ну что бы вы тогда сказали? Конечно, и вы бы тотчас же «впились» в нарушителя собственности*. Или нет? Не верится что-то. Ведь впились же вы теперь в почтенного А. Скавронского за то только, что, по вашему мнению, он суется в калашный ряд. Ну что ж, что он не так славен, как вы? Он, может быть, еще будет так же славен, как вы? Вспомните разговор престарелого Аннибала и молодого Сципиона при их свидании:
Аннибал. Я был славен, когда ты еще не родился.
Сципион. Я буду славен, когда ты умрешь.
Не правда ли, что это величественно? Это из древней истории. Все эти римские анекдоты тем хороши, что с успехом прилагаются к современной русской литературе. Повторяю вам, молодой человек, всякому свое дорого. Если г-н А. Скавронский ценит свой труд (а это благородная черта), то и ревнив к своему труду. Как он смеет представляться генералом, говорите вы? Но он, может быть, вовсе и не представляется генералом, а требует себе только своего, своего собственного. Кто знает, если б вы могли отдать ему свое блестящее имя, то он, может быть, и не взял бы его. Мне, дескать, мое дорого, а чужого не надо. Я не знаю ваших сочинений, молодой поэт, знаю только одну теперешнюю статью вашу о «Литературной подписи» в «Современнике». Она игрива, бесспорно, но, может быть, А. Скавронский и не захотел бы подписаться под вашей статьей. Всякому свое, да и только. Употреблю сравнение. Представьте себе, молодой, но талантливый рецензент, представьте себе какой-нибудь великолепный дом на Невском проспекте или где-нибудь поблизости на канавке. Дом, так сказать, палаццо, вилла, дворец, полы парке, ну и все там эти роскоши. Прохожие любуются величественной архитектурой. Какой-нибудь скромный и отчасти голодный чиновник, с ветхим портфелем под мышкой и даже без замочка, потому что ключик лет десять тому назад затерян семерыми детьми, пробирается мимо, в притруску, в департамент, но, подняв нечаянно голову, встречает дом, и сердце его оживляется. Архитектура производит свое действие, потому что искусство неотразимо. Он ощущает удовольствие и с новым рвением спешит на службу. В этом великолепном доме живет богач и, разумеется, радуется. Но вот рядом с великолепным домом богача стоит еще маленький деревянный домик, в один этаж, окна в четыре не больше и осененный березками. В этом доме живет бедняк и наслаждается невозмутимым спокойствием совести. Всех этих мраморов и этажерок нет у него, но он об них не тужит: у него есть хорошая книга, испытанный друг, всегда готовая котлетка — и чего же больше для счастья человеческого? Но вот однажды утром молодое поколенье зажигает дом богатого владельца. Через два часа остается один только пепел (разумеется, владелец спасается; так нужно для сравнения, вы увидите дальше). На другое же утро молодое поколенье зажигает и деревянный домик скромного счастливца.* Через полчаса от него не остается и камня на камне. Разумеется, и богатый владелец и бедный счастливец будут горько плакать, но кто вам поручится, что бедняк не заплачет еще горче, чем великолепный вельможа… Теперь оборотим медаль и разъясним аллегорию. Представьте себе, что богатый вельможа — это вы, генерал и блестящий писатель, владелец бедный — это А. Скавронский. Различие качеств обоих домов пусть означает различную степень ваших литературных талантов; таланты здесь изображены под видом домов, что употребляется в литературе (см. дом Краевского на Литейной и дом Старчевского на Мойке).* Представив всё это, вы тотчас же догадываетесь, что А. Скавронскому точно так же дорог и, может быть, еще дороже его скромный талант, чем вам ваш блестящий. Но вы, может быть, не согласитесь и с этим сравнением, молодой рецензент; вы, может быть, скажете, что поступок А. Скавронского омерзителен, что воображать себя генералом, которым интересуется публика, смешно и что надо карать общественные, так сказать, язвы. Что это, наконец, святое дело журнала, его направление, его назначение. Что А. Скавронский самолюбив, тогда как А. Скавронский не должен быть самолюбив. О молодое перо, молодое перо! — восклицаю я. Согласен, согласен, что всё смешное в литературе надо искоренять и преследовать, но мало ли в литературе нашей что делается? Мало ли в ней не только смешного, но даже омерзительного делается, а между тем вы обратили внимание только на А. Скавронского, и избрали его предметом блестящей статьи своей, и пропустили омерзительное. Да ведь это сплетня, только сплетня и ничего больше. Какое уж тут святое дело журнала, его направление и назначение, какие тут язвы. Тут просто литературная игривость молодого пера — и ничего больше. И наконец, зачем вы смотрите на весь этот факт только с смешной стороны? Возьмите его хоть со стороны коммерческой. За литературный труд получается у нас плата. Если господин под вашим псевдонимом начнет писать плохие статьи, так ведь, пожалуй, подумают, что это вы пишете плохие статьи и будут вас пропускать в журнале, не разрезывать. Справятся немногие, уверяю вас. Так ведь это, так сказать, подрыв. А г-н А. Скавронский имеет известность. Г-н А. Скавронский с талантом, уж это как хотите-с. Жаль вот, что я не читал его «Бедных в Малороссии», о которых вы упоминаете в вашей блестящей рецензии. Но я зато читал его «Беглых в Новороссии» и знаю наверно, что роман этот имел очень большой круг читателей и приобрел писателю значительную известность.* Ну вот, г-н А. Скавронский и дорожит этой известностью. Да если б даже он преувеличил немного свое значение (хотя, право, его протест во «Времени» нисколько этого не доказывает), так ведь это так возможно, так всякому безобидно. Ведь это со всяким, ей богу со всяким, может случиться. Ведь вот вы, например, чего доброго, пожалуй, вопьетесь теперь в меня за то, что я не согласен с вашей рецензией. Вы же так щекотливы, так обидчиво чувствуете чужое самолюбие… А знаете что, молодой человек: ведь это вы нарочно написали «Бедных в Малороссии» вместо «Беглых в Новороссии» — для усиления своего остроумия. Будто, дескать, и название-то романа забыл, потому что не стоит и помнить. О молодое перо! Истинно говорю, мое сердце скорбит, что столько остроумия потрачено с такою эфемерною целью. Заботьтесь о мыслях, молодой человек, о мыслях и вспомните мое сравнение с престарелой кокеткой.
Ведь еще это знаете что? Ведь это литературная, так сказать, халатность, да еще халатность-то с распахиванием халата (Vous comprenez?[48] «Ничего, ничего, молчанье!»*).
Нет, опять-таки, почему ж непременно только генералы смеют писать о себе заявления, почему именно вы за генералов одних стоите, почему они так вам милы, блестящий и талантливый аристократ? Но ах… Что ж это я… Позвольте… да!.. ах, боже мой, да ведь я дал маху. Вы тоже и генералов литературных отделываете. Хотя, впрочем, этот генерал уже не генерал, а статья совершенно особенная. У вас написано:
«Поверит ли, например, кто-нибудь, что один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил недавно в „Северной пчеле“, что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор? Что должна думать и чувствовать публика, которую потчуют подобными заявлениями?»
Да это про Тургенева, про известное заявление Тургенева, напечатанное в «Северной пчеле» прошедшей осенью!* А другой-то литератор, который видел сны, это, разумеется, г-н Некрасов. Всё ведь это теперь заявлено официально, следовательно, можно называть и имена. А ведь, однако, вы и тут покривили, молодой человек. Ведь Тургенев вовсе не заявлял, «что он так велик», как вы утверждаете и что поэтому его и видят во сне да вовсе и в мыслях этого не имел, ошибаться тут уж никак нельзя было. История эта слишком известная: человека приглашают в журнал, боятся, что потеряли его сотрудничество, заискивают в нем, для чего и пишут ему чувствительные письма, напоминая о прежней дружбе и о том, что даже и теперь его видят во сне, и только что человек не подался на чувствительность, не поверил и отказался от журнала, — начинают распространять и писать в журнале, что его чуть не выгнали, потому что не согласны с его направлением. Нет, уж согласитесь сами, что тут уж не только сны, тут уж и наяву-то было другое. Покривили, покривили душою, молодой человек! Ведь вы всё это знали и зазнамо иначе выставили, а ведь это уж не совсем честно (в литературном отношении, разумеется). Вы добиваетесь славы Сенковского, Жюль-Жанена, Дружинина*, это похвально, добивайтесь, но:
гласит пословица. Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?* Конечно, талантливый молодой человек, вы защищаете новых друзей ваших; дружба дело святое, прекрасное, но вы напрасно думаете, что г-н Тургенев уж так обидел г-на Некрасова, напечатав о его ежедневных снах: видеть во сне отсутствующего друга — факт, по-нашему, очень похвальный, которого стыдиться нечего, если он искренен и если наяву всё продолжалось точно так же, как и во сне. Но г-н Тургенев доказывает, что не так продолжалось, а для этого и напечатал это письмо. Конечно, может быть, и лучше бы было совсем не печатать об этих письмах: ведь г-н Некрасов и, в самом деле, да еще очень мог видеть известного человека во сне и даже с самою бескорыстною целью. Но ведь что ж прикажете делать, когда наяву-то совсем напротив было. Ведь тут терпенье потерять можно. И презабавная у вас, право, мысль, молодой человек: одного пусть щиплют, теребят и душат, а тот и не пикни. Сложи руки да улыбайся. Про одного два года пишут, что его выгнали из журнала, а тот, с фактическими доказательствами в руках, два года молчит и не объявляет, в чем правда, и вот только что успел заявить настоящую правду, он уж и виноват выходит. И вот уже молодое, но талантливое перо скрыпит всему свету о новом его преступлении. Проказники!
Опять «Молодое перо»
Ответ на статью «Современника» «Тревоги „Времени“»
(«Современник», март, № 3)
Впился-таки!* Не выдержал самого первого натиска! Я и предрекал, что вопьется… О молодое перо! Какой визг из-за того, что вам отдавили ножку. А вспомните-ка, молодой, но блестящий талант, вспомните, как вы куражились в феврале над А. Скавронским за его «Литературную подпись»![49] А вот как коснулось до вас самих, так и наполнили тотчас же вселенную своими воплями:
Вот потому-то сейчас и видно, что еще молодой талант, да еще без всякой дрессировки. А еще обижается за слово «молодой»!
Вы рассердились на статью во «Времени». Вы проговорились и упоминаете о ней в вашей статье «Тревоги „Времени“».* А не надо бы было упоминать, не надо бы было проговариваться, что от нее пострадали, а следственно, что вас злость берет и тянет выругаться в предупреждение разлития желчи. Статья ваша точно доктором вам прописана, по рецепту. Она пахнет аптекой, гофманскими каплями, уксусом и лавро-вишневой водой. Вот это-то и значит свои бока подставлять.* Тут именно надобен вид, что и видом не видал враждебной статьи и слыхом не слыхал о ней. А кто спросит: «Читали, как вас отделали?» — Э, вздор! что читать! есть мне время читать такие статьи! A propos, mon garçon,[51] ведь «у испанского посланника вчера был, кажется, раут?»[52] Ну и замять разговор испанскими-то делами.
Важности, солидности, великосветской небрежности было бы больше. А то: «Ой, больно!» Сейчас надо и показать, что больно. А вышел водевиль: «Отдавленная ножка, или Отмщенный А. Скавронский». Ну что ж, что больно? До свадьбы заживет.
В ваших же интересах говорю, добру учу; о неопытность!
Вы вообще ужасно спешите. Молодая прыть. Вам ужасно хочется оправдаться, поскорей, как можно поскорей уверить публику, «что это не я; что это всё от злобы, а я самый блестящий талант». Правда, ваше положение понятно, и я искренно ему сочувствую. Как в самом деле: столько времени подвизался на прихотливом поприще российского юмора, столько лет повременные издания похваливали, столько лет срывал цветы удовольствия, — «розы рвал и фиалки поливал»* и вдруг — ругань! да еще какая: называют «молодым пером», «молодым человеком» (что может быть ужаснее!), ставят на одну доску с А. Скавронским, говорят, что подражает Брамбеусу, Дружинину (согласитесь, что «Дружинину-то» вас наиболее и кольнуло. Так ли? Знаю я сердце человеческое иль нет?). Говорят, наконец, будто ваши критические статьи — одно искусство для искусства, цветы удовольствия, «часы досуга», перлы, скатившиеся с молодого пера, употребленного с эфемерною целью.
Шумиха слов, колечки табачного дыма, выпущенные ловким военным курителем, и (что всего хуже) некоторое литературное виляние туда и сюда, литературные, так сказать, прибавления к «Инвалиду-Современнику»*. По поводу прибавлений дают вам разные советы, вам, прогрессисту-то! Да еще не простому прогрессисту, а перепеченному недавно в нигилисты по редакционной надобности. И это в первый раз еще так относятся к вам, в первый раз в жизни в продолжение стольких приятных лет дешевенькой литературной игривости. Да как тут не взбеситься, как тут не прорваться, как тут не провраться. О! мой нигилист du lendemain*![54] Будьте уверены, что я слишком хорошо понимаю ваше положение…
Но остановимся на минуту для одного щекотливого объяснения.
Вы горько жалуетесь, что мы называем вас «молодым человеком», «молодым пером», «молодым, но блестящим талантом» и проч. Всё — молодым.* Вам кажется это неуважительно, и вы дуетесь. (Если б вам не было горько, вы бы не высказались). О неопытность! Да жалоба-то ваша и есть первое доказательство вашей молодости. Какой юноша не обижается, когда его называют молодым человеком? Какой юноша не скоблит себе усов перочинным ножичком, чтоб они поскорее росли? Я соглашаюсь, что всё это признаки нежные, грациозные, признаки весны и молодого поползновения… Тем не менее вы сами себя с головой и выдали. Но успокойтесь; объявляю вам торжественно, что, намекая на вашу молодость, я не прямо разумел ваши лета, а говорил метафорически. В сущности мне и дела-то нет, молоды вы или стары. В статье моей «Молодое перо» я разумел только вашу молодость и неопытность в российской журналистике, так сказать, нововыпеченность. И не в злом каком-либо смысле я разумел это, о нет! Я искренно любовался, глядя на вас, — любовался этой прытью, этим молодым прискоком и вывертом, этими, так сказать, первыми, радостными взвизгами молодого литературного дарованья. Я люблю эти первые взвизги, молодой человек! Вы показались мне в некотором смысле гусаром в русской литературе, молодым, краснощеким корнетом отечественной словесности (вроде «Корнета, играющего на пистоне», о котором упоминалось как-то раз в «Головешке»*). Итак, успокойтесь. Вы промахнулись, вы не сумели скрыть, что вам отдавили ножку. Но кураж!* Поправитесь после. Какой солдат не надеется быть фельдмаршалом!
Но однако ж (я все-таки не могу забыть этого!), к чему, к чему доходить до такого бешенства, до такого нервного сотрясения, до такой пены у рта! До гофманских-то капель для чего доходить? Ведь вы ругаетесь, как какой-нибудь сотрудник «Головешки», а хуже уж ничего про литературного человека нельзя придумать. Ведь вам только один шаг остался до попреков за табачную фабрику*.[55] Ведь вся статья ваша — только «головешкина» отрыжка и ничего больше. А «Головешка» вдобавок еще, говорят, теперь постится и на постном масле* начиная с самой подписки сидит… (Vous comprenez, n'est ce pas?)[56]
Вижу, вижу вас теперь, как наяву, о молодое, но необстрелянное дарованье, — вижу вас именно в тот самый момент, когда вам принесли февральскую книгу «Времени» и сказали вам, что в ней есть статья против вас, под названием «Молодое перо». Вы саркастически улыбнулись и свысока развернули книгу. Всё это представляется мне в воображении как по писаному. Если у вас были в это время гости, или вы были в гостях, вы, прочтя статью, постарались, разумеется, скрепить себя; но нервная дрожь, некоторое подергивание губ, краска, пятнами выступившая на вашем лице, — всё это ясно свидетельствовало о бесконечной злобе, клокотавшей в жаждущем похвал сердце вашем. Вы даже попробовали улыбнуться и выговорить: «совсем не остро…» Но как-то не вышло, как-то уж очень жалко выговорилось. По крайней мере гости сконфузились и старались на вас не взглядывать, старались заговорить о чем-нибудь другом. И вы всё это тут же заметили… Но зато, помните ли, помните ли ту грустную минуту, когда вы пришли домой и, наконец оставшись один, дали волю всему, что сдерживали в груди вашей? Помните ли, как вы разломали стул, разбили вдребезги чайную чашку, стоявшую на вашем столе, и, в ярости колотя что есть силы обоими кулаками в стену, вы клялись с пеной у рта написать такую статью, такую ругательную статью, что стоял мир и будет стоять — а такой статьи еще не бывало до сих пор ни на земле, ни в литературе! И вот вышли ваши «Тревоги „Времени“». О, поверьте, что мне не надо было подкупать наборщиков вашей типографии (в чем вы нас упрекнули), чтоб узнать, что всё так и было, то есть и разбитая чашка, и кулаки в стену, и проч., и проч. Я предузнал всё это единственно одним воображением, но предузнал по духу, по тону вашей ответной статьи. Иначе что же такое ваша статья? Откуда же могло поместиться в ней столько бешенства и печеночного расстройства? Откуда столько ругательств, столько личных ругательств и уподоблений в этой статье и во всех других выходках против «Времени», помещенных в той же мартовской книжке «Современника»? Тут уж явная очевидность, а не наборщики.
Кстати, знаете что: ведь я совершенно уверен, что это вы сами написали: «Тревоги „Времени“», а между тем вы объявляете, что эта статья будто бы прислана вам одним из друзей ваших, каким-то молодым нигилистом. Другими словами: вы спрятались под стол, прикрывшись именем вымышленного друга. Прием чрезвычайно наивный. Тю-тю, дескать, Костенька спрятался, нянюшка ищи… А нас еще упрекаете, что мы сами себе письма пишем. Мало того: я даже совершенно уверен, что и примечание от редакции, сделанное к вашей статье, и разные там московские известия о толстоте тела г-на Лонгинова*, всё это ваше, все это вы сами сочинили. Конечно, я не имею никаких осязательных фактов, но я убежден в этом; мне так кажется. Ну что же делать с убеждением? Виноваты, впрочем, вы: к чему прятаться? Уж не было ли у вас каких-нибудь особенных целей? А вот посмотрим: Во-первых, вы что-то заговорили о типографских наборщиках. Это в примечании от редакции «Современника» к вашей статье. Выпишем-ка это примечание. Вот оно слово в слово.
«Верность этого замечания поразительна. Во втором своем номере „Время“, желая изобидеть одного из наших сотрудников, по поводу помещенной в первом томе „Современника“ рецензии на „Литературную подпись“ г-на Скавронского, поместило статью „Молодое перо“, в которой, во-первых, сравнивает нашего сотрудника с бароном Брамбеусом, и во-вторых, обращаясь к нему, постоянно называет его „молодым человеком“. Точь в-точь такое сравнение и обращение делал два года тому назад „Русский вестник“, у которого „Время“ все это и заимствовало, разумеется внеся в это заимствование своих собственных „сапогов всмятку“. Эти „сапоги всмятку“ заключаются в том, что будто бы наш сотрудник-рецензент до того „впился в интересы редакции “Современника», что, впиваясь, оставил прежнее у порога…». Читая эти слова, мы долго не могли прийти в себя от изумления. Что это такое! да ведь рецензия не подписана! к кому же может относиться обвинение „Времени“? и как могло узнать „Время“, кто именно написал статью, приведшую его в такое волнение? Или, может быть, „Время“ имеет привычку справляться у наборщиков типографии, в которой печатается „Современник“? Но если это так, то уверяем вас, о „Время“, что наборщик, сообщивший интересные для нас сведения, обманул вас. Лицо, которое вы так легкомысленно упрекнули в чем-то, „прежнем“, уже четыре года постоянно и исключительно печатает свои сочинения в „Современнике“; если в прошлом году и было помещено несколько его рассказов во „Времени“, то это произошло единственно оттого, что „Современник“ был закрыт, а налагать на уста молчание не всегда бывает для литератора удобно. Следовательно, интересы „Современника“ всегда были близки этому рецензенту, следовательно, и впиваться было не во что, следовательно, и слова ваши, как и все вообще ваши слова, суть не более как толкование в пустыне и о пустыне. Что же касается до того, что вы в полемике своей против неизвестного вам рецензента сослались на пословицу „береги честь смолоду“, то надо думать, что презренная эта выходка употреблена вами в припадке особенного увлечения и что впредь этого с вами не случится. Ред.».
Ну-с, а ведь я вас теперь поймаю. Знаете, что я хочу? Я хочу вас изобличить. Я хочу выставить всему свету: кто вы и какой вы именно деятель в отечественной словесности. А изобличив, я вам самому предложу вопрос: можно ли с вами вести хоть какое-нибудь дело серьезно? Вся-то штука в том, что вы думали, я вас не изобличу.
Во-первых, о наборщике. Вы удивляетесь, каким образом я мог узнать ваше имя, и предполагаете, что я непременно должен был подкупать наборщика. Хоть тут у вас и заключается одна ядовитенькая мысль, именно заявить о нас публике, что мы из тех, которые подкупают наборщиков с целью пошпионить о другом журнале, то есть почти что распечатываем чужие письма, но на все это я смотрю как на пустяки. Разобижены вы очень, ну там вдобавок еще воинственная кровь, Барклай де Толли зашевелился*…одним словом, простить вам на первый случай можно. К тому же вы сами знаете — дело это слишком шутовски разъясняется. О призвании вашем из-за моря, к участию в «Современнике», конечно, с целью подымать «Современник», сама редакция столько уже печатала в своих объявлениях*, что узнать вас очень легко было. Следовательно, это дело поконченное. Но не в том дело. Главная суть в том состоит, что я теперь могу вас назвать публично, изобличив вас при этом, что вы, умышленно, с тем, чтоб нам повредить, исказили в одном дельце правду. Извольте послушать.
Вы уверяете (то есть редакция «Современника» уверяет, но я считаю, что это всё равно, и имею право на это. Я положительно знаю, что вы участвуете в интересах редакции, и, следственно, примечание, сделанное редакцией к вашей статье, не могло вас обойти. Вы знали про это примечание, вы, может быть, сами же держали его корректуру; без вашего ведома оно не могло пройти; может быть наконец, вы сами же его и писали, так же, как и статью, в чем я убежден. Следовательно, вы и отвечаете за все, что сочинено в примечании. Почему я так резко говорю о моем праве всё это высказывать и так бесцеремонно и публично нарушать ваши бесчисленные псевдонимы, вы поймете сейчас, прочитав немного далее). Итак, вы уверяете в примечании к вашей статье, что «лицо (то есть вы), которое мы (по вашим словам) так легкомысленно упрекнули в чем-то „прежнем“,[57] уже четыре года постоянно и исключительно печатает свои сочинения в „Современнике“, и что если в прошлом году и было помещено несколько рассказов этого лица (то есть ваших) во „Времени“, то это произошло единственно оттого, что „Современник“ был закрыт, а налагать на уста молчанье не всегда бывает для литератора удобно».
Заметьте это покамест. Теперь в другом месте статьи «Тревоги „Времени“» вы говорите:
«И еще вы хвастаетесь, что вас любит публика, что у вас много подписчиков. Знаете ли, кому вы этим обязаны? Вы обязаны этим „Современнику“, который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный: вы обязаны этим временному прекращению того же „Современника“, которое на минуту сосредоточило у вас все литературные силы. И тут покровительствующею вам силою явились не собственные ваши сапоги всмятку, а чужая неудача».
Короче сказать, если б не случилось с «Современником» несчастья, то есть если б не принужден он был остановиться в июне месяце, то, по-вашему, к нам бы не пришли литераторы с своими статьями, что вы сами «единственно» только потому и печатали у нас прошлого года свои статьи, что «Современник» не издавался, и всё это подразумевается потому, что наш журнал сам по себе до того ничтожен и не имеет никакой цены, что к нам нельзя идти таким молодым, но блестящим талантам, как вы, когда издается «Современник». Это ясно и очень хорошо растолковано в другой раз в газете «Очерки», где один господин уже успел подхватить вашу мысль и написал на нас длиннейшую статью с ядом и ругательствами*. Вот отрывок, в котором подтверждается ваша мысль:
«Успехом своим „Время“ обязано некоторым, помещавшимся в нем беллетристическим произведениям, характер и направление которых, впрочем, так же относились к характеру и направлению „Времени“, как цветы к морозу. Тут напечатаны были некоторые из произведений Островского, Щедрина, Помяловского; тут же напечатаны были „Униженные и оскорбленные“ Ф. Достоевского, с их сладеньким героем Ваничкой, и „Записки из мертвого дома“. Вообще беллетристический отдел во „Времени“ был нередко положительно хорош, но и в этом отношении редакция не причинна. Пожар способствовал ей много к украшению ее журнала*. Писатели, помещавшие статьи свои во „Времени“ после петербургских пожаров, теперь публично объявляют, что они загнаны были в этот журнал горькою необходимостью (см. «Современник», № 3)».
Под этой статьею в «Очерках» подписано: И. Дмитриев. Кстати, объявляем публике, что этот самый г-н И. Дмитриев сам доставил в наш журнал свою статью под названием· «Провинциальная газета». Эту статью, по ее незначительности, мы не напечатали и возвратили назад автору. Теперь эта статья появилась в «Современнике»* (№ 1 и 2), а сам он ругает нас в газетах и объявляет что писатели загнаны были в наш журнал горькою необходимостью, то есть запрещением «Современника».
Конечно, отказ напечатать статью г-на И. Дмитриева во «Времени» непременно нужно принять в соображение. Но вот что особенно удивляет нас: почему же, если прекратился «Современник», г-н И. Дмитриев обращался именно в наш журнал? Разве не было «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения», «Русского вестника» и множества еженедельных изданий, кроме «Времени»? Почему же непременно все эти блестящие таланты (то есть г-н Дмитриев и «молодое перо») сами текли во «Время», а теперь объявляют, что были только загнаны к нам одною необходимостью, то есть запрещением «Современника»?
Но это в скобках, а теперь опять к вам.
Ну что, если я вас сейчас же изобличу и докажу, что вы говорите неправду, докажу тем, что назову вас лично и объявлю, какие статьи печатали вы у нас прежде закрытия «Современника» и даже безо всякой необходимости?
Я имею на то право, милостивый государь! Намерение ваше повредить изданию «Времени» дает мне это право. А повредить вы желали — это слишком очевидно. Неужели вы скажете нет? Подражатели ваши уже кричат в других газетах с ваших слов, что «пожар способствовал нам много к украшению». Следовательно, самая законнейшая в таком случае наша защита — это полнейшее изобличение вас в неправде, с фактами в руках.
И неужели ж, неужели ж предположить, что вы действительно сказали публично неправду, надеясь на безнаказанность? То есть, рассуждали вы, ведь не узнают, кто сказал, имени-то не подписано, стало быть, и нельзя изобличить положительно. Ну и скажу, что я загнан был в их журнал единственно из горькой необходимости, другие подхватят, и пойдет, и пойдет.
Не верю и не хочу я верить этому, милостивый государь. Вы желали нам повредить, это так, но неужели вы хотите действовать из-за угла, спрятавшись под псевдоним в надежде на то, что его нельзя нарушить? Не верю и потому еще раз буду с вами деликатен: я не открою полного имени вашего, милостивый государь, ни названия статьи вашей.
Вот почему и объявляю теперь только о том, что, во-первых, в апрельском нумере «Времени» за прошлый год были помещены у нас две ваши статьи*.
Во-вторых, что в апреле же месяце прошлого года, как известно вам самим и известно целому свету, «Современник» еще издавался*. Мало того, ни «Современнику», ни кому-либо на свете не приходило в голову, что издание его будет приостановлено в июне месяце. А следственно, вы, милостивый государь, свободно, по всей собственной вашей воле доставили в наш журнал ваши статьи, несмотря на то, что еще издавался «Современник» и что не было никакой «горькой необходимости» обращаться к нам, а не к «Современнику».[58]
Теперь позвольте вас спросить: что обо всем этом можно подумать и как прикажете теперь объясняться с вами?
Я знаю, у вас есть отговорка, что все это напечатала редакция «Современника», а не вы. Полноте! А впрочем, пожалуй, попробуйте отказаться от своего участия в примечании редакции «Современника» к «Тревогам „Времени“». Тогда мы уже принуждены будем обличить вас еще короче и объявить публично, от кого именно мы узнали все подробности о том, до какой степени вы близки к редакции «Современника», а следственно, могло или нет теперешнее примечание редакции «Современника» в статье «Тревоги „Времени“» миновать ваше ведение? Заметьте, однако же, что мы имели бы полное право напечатать это и теперь, собственно потому, что вы заподозрили нас в подкупе наборщиков тогда как сами очень хорошо знали, от кого мы узнали о том, что именно вы будете писать в «Современнике» фельетон. Ваш наговор о подкупе наборщиков дает нам полное право защиты, а следственно, полного изобличения.
Это естественно и вполне законно.
Ну-с, а теперь позвольте вас еще раз изобличить.
В примечании к вашей статье говорится:
«Что же касается до того, что вы в полемике своей против неизвестного вам рецензента сослались на пословицу „береги честь смолоду“, то надо думать, что презренная эта выходка употреблена вами в припадке особенного увлечения и что впредь этого с вами не случится».
Вот видите, грозных-то слов наставили, а концы-то скрыли. Ну к чему вы скрыли от ваших читателей, из-за чего вышло дело? Написали бы всё и ваши читатели очень бы хорошо поняли, что выходка наша отнюдь не презренная, а, напротив, в высшей степени законная. Дело вышло из-за Тургенева.[59] В вашей статье «Литературная подпись»[60] вы упомянули о Тургеневе, что будто бы он недавно объявил в газетах, что он, Тургенев, так велик, что другие литераторы видят его во сне. В статье моей «Молодое перо» я изобличил вас и доказал вам, что Тургенев нигде и никогда не упоминал о том, что его видят другие писатели во сне собственно потому, что он так велик. Не только буквально, но даже и смысла такого никак нельзя придать его обличительному письму на г-на Некрасова. Я вывел на чистую воду, что слова эти и смысл этот прибавили вы сами от себя. Да поймите же наконец: тут дело вовсе не о Тургеневе как писателе, то есть нравится он вам или не нравится, ретроград он или прогрессист? Тут дело просто о том, что вы взвели на человека, да еще отсутствующего, вредную ему неправду; вы придали ему слова, совершенно выдуманные вами, которых он никогда не говорил и никогда и не думал говорить. А следственно, вы придавали ему смешные и презренные черты характера, которые сами в нем выдумали и тем самым умышленно старались повредить ему лично в общем мнении из интересов редакции «Современника». Разве это всё не очевиднейшие факты? Вы, наверно, не будете иметь неловкости опровергать их, потому что кто ж вам поверит при таких фактах? Вспомните, что этот же самый «Современник» был совершенно изобличен Тургеневым в явной несправедливости против него обнародованным письмом г-на Некрасова в «Северной пчеле». Зная всё это очень хорошо, вы все-таки, решились стать за «Современник».
На мой взгляд, это в высшей степени нехорошо. Но клянусь вам торжественно, что я совершенно был и буду убежден, что вы сделали это некрасивое дельце не из грубого какого-нибудь личного интереса. Тем-то и комичен для меня весь этот случай, что вы, по моему мнению, сделали всё это совершенно бескорыстно, по глубокой доброте души, из пламенного желания угодить «Современнику». Вы до того вошли в интерес «Современника», что решились на все поступки даже, может быть, и никем не прошенный. В этом случае вы были, так сказать, plus royaliste que le roi*.[61] Это мое глубокое убеждение, и я не могу до сих пор изменить его! Вот почему я и написал пословицу:
Это значит, что если б я не предполагал в вас чести, то и не написал бы вам, что надо беречь ее. Потому что когда нет ничего, значит и беречь нечего. Да и судить вас я позволил себе единственно только как литератора. И однако ж, несмотря на все эти соображения, у вас все-таки на совести «литературное прибавление», то есть прибавление с целью повредить! Сравните это прибавление с прибавлением о «горькой необходимости», которое мы изобличили выше, и скажите мне, можно ли назвать мое обличение презренной выходкой, как вы, не совестясь, говорите мне в глаза, в примечании к «Тревогам „Времени“?[62]
Теперь, после всех этих объяснений, позвольте мне изложить вам, как смотрю я на вас чисто в одном только литературном отношении.
Вы — натура по преимуществу художественная, и всё, что вы ни делаете в литературе, более ничего как искусство для искусства. Вы примкнули к «Современнику» не по убеждению, а из искусства для искусства (потому что и в «Современнике»-то убеждений почти совсем теперь нет, а уж с вас спрашивать будет излишняя роскошь. Ну да вы еще смолоду, следовательно, удовлетворяетесь очень-то многим). Вы и начали в нем искусством для искусства! Вас тотчас же завлекло новое обаяние. Прекрасное желание быть полезным вашему журналу доведено в вас, как в натуре поэтической, до маниловщины. Из обыкновенного либерала вас тотчас же перепекли в нигилиста. Но какой же вы нигилист, помилуйте? Весь нигилизм ваш заключается в чем-нибудь вроде насмешек над толстотой телесной конструкции г-на Лонгинова (которого у вас называют по имени Прелесть!). Но весь нигилизм ваш не может тоже вам подсказать, есть ли особенное какое-нибудь достоинство в том, что вы тоненький, и вот, за недостатком убеждений, вы плаваете покамест между сих двух противоречий и очень довольны. Как вы мелко плаваете, видно из того, что вы до сих пор еще боитесь Каткова. «Прихлопнет и не пикнете», — говорите вы нам, грозя нам сим московским деятелем. Слова многознаменательные.* Вы не верите даже и в то (да и в голову вам это никогда не заходило), что кто лжет, тот и слаб, будь он хотя бы десять вершков росту. Когда вы сочиняли ваши обличительные вещи, вы и обличали не из негодования какого-нибудь и не из убеждения в чем-нибудь, а просто потому, что обличение модная, так сказать, струя. Чем выше вы, как литератор, Надимова, который утверждал, что надо крикнуть на весь свет и т. д.?* Уверяю вас, что тот кажется мне еще выше вас: у того была какая-то наивная общественная цель, а у вас: искусство для искусства и ничего более. Будто уж не может быть искусства для искусства в обличительном роде? Уверяю вас, что вы тому яркий пример. Вы зубоскалили, как будто играя в зубоскальство, оттого, я уверен, что все ваши изображения вообще неверны и из любви к искусству искажены. Несмешную сторону в этих же явлениях вы, наверное, просмотрели. Оттого все ваши обличения поражают своим мелководней, несмотря на бесспорное остроумие, и сверх того, читая их, выносишь впечатление, что тут нужно бы еще что-то непременно досказать — иначе будет неполно. Соображаешь еще далее и прощаешь вас от души. Ну какой же, думаешь, это нигилист? Ну что вы можете отрицать, вы, литератор по натуре воинственный и в высшей степени верующий во всё свое право обличать? Что можете вы, например, отрицать в себе, вы, при такой необъяснимой самостоятельности? Когда вы писали ваши обличения, я уверен, вы ни разу не пострадали от мысли, что и вы, может быть, очень похожи на ваших героев, а эта мысль должна непременно быть у всякого обличителя. У вас же холодный смех и ничего больше, разумеется до тех пор, пока не раздражат вашего самолюбия. Тут уж святых вон понеси и пропадай всё на свете. Живьем рады проглотить (ваши слова, употребленные против нас)*. Ваше творчество не сатира, а зубоскальство, а стало быть, и ваша деятельность не дело, а искусство для искусства. Вот почему я искренно, в глубине сердца моего, извиняю и наклонность вашу к «литературным прибавлениям» и отнюдь не припишу их чему-нибудь очень дурному и нелитературному. Вы делаете эти «прибавления» ужасно невинно, младенчески, чисто из добродетели, и яд ваш, и злость ваша, и остроумие ваше — все это тоже младенчески чисто*, потому что всё это одно искусство для искусства, а вы — художник, следовательно, у вас уж так и чешется, чтоб тотчас же всё, за что ни схватитесь, возвести в перл созданья.
Вас потянуло к нигилистам, и вы даже не усомнились, в самом ли деле это нигилисты, и такие ли бывают нигилисты. Вы примкнули к ним, от души, веря, что они всех сильнее.* Вы до сих пор не замечаете, до какой степени всё это пробивается красненькой казенщиной, до какой степени малым удовлетворяется, до какой степени боится отрицать и до того слабо, что не может существовать само по себе, а непременно прикрытое общественной идейкой, красненьким крылышком. Потребность прикрытия — это черта литературных нигилистов наших. Подождите, вам придется еще кланяться «Головешке» и уважать ее, чтоб только сделать себе партию. Вы не сделаете так, как мы, вы не пойдете смело вразрез всему, что виляет и, взятое само по себе, очень нехорошо. Вы не рискнете на столько врагов, на сколько мы рискнули. Вы говорите, что у нас всего понемножку. Если б мы были такие же, как вы, если б мы желали только аплодисментов и верили таким же слепеньким образом, как вы верите, то мы бы тотчас же к вам примкнули, и поверьте, что составили бы себе тотчас легонькую и бесспорную карьеру; ведь фейербашничать по писаному очень легко. Какой-нибудь «обличительный поэт»* скитался по литературе, как какая-нибудь бессонная нимфа по брегу Пенея, а только что примкнул к казенной красноте в «Искре» и сделался великим человеком. Мы восстали на хлебных свистунов, мы сказали святую правду, вы нас за это слепо ругаете и говорите, что мы садимся между двух стульев*. О юная неопытность! Какой это нигилист из «Головешки» вас этому научил! Поверьте, что через хлебных-то свистунов (к которым и вы примыкаете) и проигрывает святая идея. Это-то и нужно искоренить и истребить во что бы ни стало. Ими уже брезгает общество, тяготится ими и их оставляет. Увидите, что когда святая идея прогресса выбьется из теперешних дрянных тенет и заявит себя чем-нибудь новым, вы сами ее не узнаете и примете, пожалуй, за ретроградство. Сыпля перлами остроумия, вы было начали уверять, что нас вовсе не ругают, что это мы сами выдумали. «За что вас не любить-то», — говорите вы. Слова ваши мы и принимаем в шутку, но согласитесь сами, что сквозь смех у вас проглядывает и яд. Нечего вам кругом-то указывать. Мы всегда нападали и изобличали первые и вовсе не удивляемся, что нас ругают. Если нас никто не ругает, как вы утверждаете, вы-то против нас из-за чего выходите из себя, вот уже три номера сряду? А это началось еще прошлого года перед закрытием «Современника», потому что тогда он серьезно струсил за свое безграничное прежнее влияние. Помните статью «О духе времени» г-на Антоновича. Статейка из себя вылезала. Тогда-то вы и начали борьбу.* А «Отечественные-то записки» осенью, а старая-то «Библиотека для чтения»*, а «Очерки», вот уже четвертый раз бросающиеся на нас с тем, чтоб нас проглотить*, а «Искра»-то, «Искра»! а «Русское-то слово»*,— это отражение «Современника» в грошовом зеркале. Да вы припомните: ведь это такое бешенство, такая против нас ярость, что они ведь не спят по ночам от нас, а если спят, так я уверен, что видят нас каждую ночь во сне (так как уж пошло всё на сны). Да ведь мы пропитываем всех виршеплетов наших с их малыми детьми. А отчего, отчего это всё? А оттого, что у нас у одних, может быть, хватило настолько смелости, чтоб так резко высказать всю правду насчет бездарности, пошлости, лености и злокачественности этих прогрессистов. Вы скажете, что то же самое делает и Катков, и Скарятин, и Аскоченский. Нет, не то же самое. Те во имя мрака ратуют, а мы во имя света. Их не слушают, а нас послушают. И не говорите нам, что мы садимся между двух стульев. Вздор, это и есть дорога! Вы уж давно на полу сидите, да не догадываетесь. Погодите, может, и догадаетесь. А впрочем, нет. Никогда не догадаетесь. Ведь пророчество наше сбылось, что «хлебные свистуны» закричат на нас, что мы, на них нападая, на прогресс нападаем. Ну какой они прогресс, какие они представители прогресса? Это бездарность, волочащая великую идею по улице. Да мы в тысячу раз более прогрессисты уже хоть тем, что идолопоклонства в нас нет, что мы не смешиваем прогресса с этими тупенькими представителями и поминутно разворачиваем их муравейник. Нам приятно смотреть, как они там копошатся. Скоро опять разворотим. Мы правду говорим и договоримся, что нас поймут. Все эти трудолюбивые муравьи не понимают, насколько мы дальше их в этом же самом прогрессе идем. Вы говорите, что мы не понимаем, что такое авторитет, и смешиваем его с лицами* (о, упрек из второго класса гимназии! Сколько вы баллов получили за это, мой нигилист?). Вот вам авторитетная идея: хлебные свистуны — они всегда были спокон веку везде. Бездарность есть тот же застой прогресса. Где есть поступление вперед, там в голове движения не должно быть бездарности. А где есть торговля прогрессом из-за хлеба и литературных чинов, там уж полная мерзость запустения. Это уж наступает, так сказать, бюрократия прогрессизма. Вот вы к ней-то и примкнули*, думая, что она посильнее…
Ну довольно, кажется, всё. И так я с вами заболтался. Собственно, направление наше я пред вами защищать не стану. К чему? Да, кстати, благо припомнил. Есть еще одно обстоятельство, о котором надо упомянуть. Вы пишете про нас:
«Мало того я даже думаю, что если признавать силу булгаринской традиции, то надо признать, что она тоже коснулась и вас разумеется, покуда только невинной своей стороной».
Вот видите ли: я хоть и никакой цены не даю иным вашим словам, но это покуда я не хочу пропустить без оговорки и вот что вам объявлю: я думаю, что самая существенная черта булгаринства есть — усиленное до малодушия самосохранение. В нас же, хотя вы и обвиняете нас в булгаринстве, вовсе нет настолько слишком уж самоохранительного и виляющего до малодушия благоразумия (как, например, было в Булгарине), то есть «пропадай другие, было б нам хорошо». Ведь вот девиз настоящего булгаринства. Против нас вы не найдете ничего, что бы оправдывало в нас подобный девиз. Наше имя, слава богу, честно. А потому и ваше словцо покуда никуда здесь не годится.
Ну вот и всё. Хотел было я, правда, вам стихи сочинить, в pendant[63] к вашим, в которых вы сравниваете нас с утками и с разными птицами.
Да что, и ваши-то стихи я нахожу плохими, а уж у меня так ровно ничего не выходит. И знаете, всё хореем, да и стыдно как-то:
Вот всё, что я выдумал, да, пожалуй, еще есть две строчки:
Это в pendant к вашим уткам. Но ведь всё такая дрянь и мои, да и ваши, пожалуй. Точно на балалайке что-то вытренькивают. Впрочем, мои стихи надо читать эдак нараспев, чтоб что-нибудь вышло. Надо эдак руки в боки, и притоптывать по комнате шпорой. Может, и хорошо выйдет, не знаю. Впрочем, как вам покажется. Тут уж на ваш собственный суд.
Да вот еще хотел я спросить, щекотливый предмет: что это у вас в «Тревогах „Времени“» за Оленька P. такая и Машенька H.? Хоть убейте — ничего не понял*, а очень интересно. Я долго размышлял: метафорически это иль нет, и, право, согрешил, — подумал: уж не насчет ли поползновения тут что-нибудь, а? Какая уж, думаю, метафора? Воинственность, известное дело… А впрочем, господь знает, что вы тут разумели; не разберешь! Да, вот что еще: пишите-ка веселее! Я потому вам это говорю, что знаю, у вас талант, вы можете писать весело. К черту гофманские капли, не правда ли? А впрочем, мелькают и у вас веселые мысли. Например, когда вы говорите:
«Хотите, я сейчас же пять печатных листов таких стихов напишу? Хотите, я каждый месяц сто таких книжек сочиню, как 1-й № „Времени“ за сей 1863 год?»
Ух, страшно! Зарубит гусар. Сейчас видно военную косточку!.. Ну да прощайте, довольно с вами.
P. S. A propos.[64] Кланяйтесь Оленьке P. и Машеньке H., если они в самом деле не выдумка. Ведь вот как, однако ж, весело кончилось…
Ответ редакции «Времени»[65] на нападение «Московских Ведомостей»
В № 109 «Московских ведомостей» есть против нас статья по поводу нашей статьи «Роковой вопрос» («Время», № 4), полная клевет и… намеков. Подписано: Петерсон.
Вот эта статья от слова до слова:
«Такая статья, как „Роковой вопрос“, не должна была явиться без подписи автора. Только бандиты наносят удары с маской на лице. Quand on a son opinion, il faut en avoir le courage.[66]
Вся статья основана на ложных показаниях, а следовательно, и выводы должны быть ложны. Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще? Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украиной и Москвой? Странно, что с подобною благородною жаждой относительно чужих народов поляки с своими собственными крестьянами обращались как с скотами. Неужели поляки считали средством цивилизации отдачу на откуп жидам церквей Малороссии? Никогда Польша вся не восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть крестьяне, никогда не сочествовали панам, потому что раб своему угнетателю сочувствовать не может. Вся история Польши доказывает, что этот цивилизованный народ никогда не имел политического такта, а варварская Россия еще в 1612 году доказала, что в высшей степени обладает этим тактом. На чьей же стороне перевес государственного ума? Теперь бунтует только частица Польши и вся Россия единодушно дает ей отпор. Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: „Русский“ таится коварный умысел? Разумеется, поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: „Вот видите ли, как сами русские думают. Не правы ли мы?“ Поди потом разуверяй Европу. Она и без того закидала нас грязью и клеветой.
Редакция журнала „Время“ имела полное право напечатать статью „Роковой вопрос“, но, печатая статью безыменного автора, она сделала бы очень хорошо, если б оговорилась согласна ли она или нет с мнением автора, имя которого, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским».
Мы бы, разумеется, не стали отвечать г-ну Петерсону, ни даже «Московским ведомостям». Мы давно уже стараемся ничего не говорить ни о «Русском вестнике», ни о «Московских ведомостях». Но… обстоятельства. Надо предупредить дурные последствия.
Итак, г-н Петерсон, вы изволите говорить, во-первых, что статья наша основана на ложных показаниях. Что же в ней ложно? Вы не потрудились объяснить, в чем состоят эти ложные показания. Вы только говорите: «Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?»
Но что же это означает и какая ж тут может быть ложь? Почему ложь?
Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей (бесспорной) европейской цивилизацией «носили смерть в самом своем корне». В статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так. Именно потому, «что эта цивилизация была не народною, не славянскою, что в ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным духом». Вот тут невозможно не сопоставить, что цивилизация в Польше была цивилизацией общества высшего и лишена была земских элементов, удалилась от народного духа, как у нас сказано.
И что же мы проповедывали целые три года в нашем журнале? Именно то, что наша (теперешняя русская), заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых она не сходится с широким русским духом, не идет русскому народу. Что это значит втискать взрослого в детское платье. Что, наконец, у нас есть свои элементы, свои начала, народные начала, которые требуют самостоятельности и саморазвития. Что русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира. Мы так верим, мы так говорили. В элементах нашей народной цивилизации мы всегда видели признаки земщины, тогда как в европейской — признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаем, что мы, то есть все цивилизованные по-европейски русские, оторвались от почвы, чутье русское потеряли до того, что не верим в собственные русские силы, не верим в свои особенности, падаем ниц, как рабы, перед петровской Голландией, смеемся над словом «народные начала», считаем его ретроградством, мистицизмом.
Таковы и вы, г-н Петерсон. Мы в нашей статье посягнули на то, на что бы вы и во сне не решились, на то, что серьезно и искренно уважал даже император Александр I, который именно во имя уважения к польской цивилизации дал полякам высшее устройство*, чем русским, считая русских гораздо ниже образованными поляков.
Ну так вот мы даже на это посягнули, на самую их европейскую цивилизацию, на самую их образованность, на самую их гордость и славу. Если для поляков и для вас, г-н Петерсон, она всё еще гордость и слава, то мы-то ее, эту польскую цивилизацию, в грош не ставим. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не догадались? Мы вам скажем, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами благоговеете перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, завидуете ей. Вы обиделись. «И мы, дескать, тоже образованные»… А почему вы обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand même.[67] Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете национального развития, вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов. Да ведь это-то и хорошо; но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми.
Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Европе, — в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше. Что же вы пишете: «Разве не ложь говорить, что поляки, с целью распространить цивилизацию, завладели Украиной и Москвой»? А то как же? Неужели вы этого не понимали до сих пор? У них вся цивилизация обратилась в католицизм, а мало ли они жгли да кожи сдирали с русских за католицизм? Мало ли они донимали нас, плевали на нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это было, как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить. Ясное дело, что народ, который за людей не считает людей другой веры, не уважает ничего так высоко, как себя и свою веру, а следовательно, и способен употребить всё, чтоб обратить всех в свою веру. Обращенные русские дворяне становились тотчас же панами, а прочие были только хлопами. Само собою разумеется, что поляки должны были считать это не только благородным, но даже святейшим делом, гордиться им, теперь этим славятся, а вы и теперь считаете это благородным и прекрасным поступком, то есть пропаганду, да не с точки зрения поляков, а сами от себя считаете. Это ясно в вашей статье высказано, г-н Петерсон.
Мы в нашей статье «Роковой вопрос» стали на точку зрения поляков и сказали, что они, страстно преданные и верующие в свою (аристократическую и католическую) цивилизацию, должны надмеваться ею, гордиться ею перед нами, которых они до сих пор считают за хлопов и варваров, и даже тем более гордиться, чем более они принижены перед нами, считать наше первенство за вопиющую несправедливость судьбы и восставать против этой судьбы; что ж, разве это именно не так, с их точки зрения? Ведь это факт, ведь факта не спрячешь в карман. Да в этом весь и вопрос, может быть, заключается, именно весь, весь! Где ж им понять, допустить и уверовать, что русская земля, может быть, заключает в себе земские начала, не низшие начал западной цивилизации. Ведь этого и Европа не допускает и нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу, — и эта физическая, материальная сила (так, по крайней мере, Европа должна была смотреть на нас) всегда возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа. Разве вы сами не судите о русских точно так же, как судит о нас Европа? Мы еще два года назад укоряли «Русский вестник», что он русской народности не признает. Теперь московский теймс горячится и не замечает, что вся эта горячка есть пародия на английский теймс и что самый патриотизм его — англизированный патриотизм. Как хотите, а мы отличаем патриотизм и, главное, руссизм «Московских ведомостей» от высокого и искреннего патриотизма Москвы. Мы никак не можем их сливать вместе. Тот патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, может быть искренний, но во всяком случае смешной патриотизм. Между прочим, у вас вот какая логика:
Поляки не должны славиться своей цивилизацией, а следственно, они и не славятся своей цивилизацией.
Разве это логика?
Я-то, положим, не нахожу ничего, чем поляки могут славиться, — но в том-то и трагедия, что поляки верят в эту ядовитую свою цивилизацию слепо. Как в величайшую славу свою верят. Вот это как вы порешите?
Наша статья подписана «Русский». Вы изволите говорить:
«Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: „Русский“ таится коварный умысел». И прибавляете: «Разумеется, поляки поторопятся перевести и скажут: вот как сами русские» и т. д.
Отвечаем: Очень может быть, что поляки поторопятся перевести*, тем более что они все-таки поляки, а вы русский, да ничего не поняли в нашей статье.
А что касается до подписи, то писал статью действительно русский, а именно: H. H. Страхов, наш сотрудник. Это объявляем с позволения г-на Страхова, а вместе с тем прибавляем уже собственно от себя, что русский Страхов стоит по крайней мере русского Петерсона. Это уже наше личное мнение.
Само собою, что редакция «Времени» совершенно и вполне согласна с статьею своего сотрудника. Это мы во всеуслышание объявляем.
Наконец, чтоб заключить:
Г-н Петерсон говорит: «Имя автора, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским».
Отвечаем:
Вашему имени, г-н Петерсон, мы не придаем никакого значения, да и статья ваша, собственно в литературном смысле, чрезвычайно пустая статья. Мы бы на нее ни за что не стали вам отвечать, как уже и заявили выше. В том-то и дело, что в другом, то есть не в литературном смысле, ваша статья — нехорошая статья, именно тем, что поневоле требует ответа. Она даже и не статья. Она просто — дурное дело, г-н Петерсон. Очень дурное дело. Вот почему мы и посоветуем вам обратить внимание скорее на свое имя, г-н Петерсон, и поберечь его. Право, не худо будет, г-н Петерсон.
1864
Господин Щедрин, или раскол в нигилистах
У нас, в литературном и преимущественно в журнальном мире, случаются целые катастрофы, даже почти романы. Вот, например, недавно, очень недавно, случилась странная кутерьма. «Русское слово», орган неумеренных нигилистов, напал на «Современник», орган умеренных нигилистов. С горечью попрекнуло «Русское слово» «Современник»*. Из этих попреков усматривается, что «Современник» теперь уже не современник, а ретроград, потому что позволил г-ну Щедрину, своему сотруднику, писать о мальчишках, о каких-то «вислоухих», о ничего не понимающих и всё портящих, о каком-то «засиживаньи» и, наконец, о ужас! чуть ли не об эстетике. Ясное дело, что «Современник» ретроград. «И это в том органе, где писали Белинский и Добролюбов!» Ужас! ужас! Так что «Современник», говорят, даже и струсил, до того струсил, что запретил будто бы г-ну Щедрину вести дальнейшую полемику с «Русским словом» и, так сказать, посягнул на свободу «пера». Всё это не более как слухи, но эти слухи тем более усилились, что в апрельской книге «Современника» г-н Щедрин очевидно стушевывается*. Наконец пошли слухи еще более потрясающие: стали говорить, что г-н Щедрин разрублен пополам г-ном Зайцевым, на две особые половинки… Потом пронесся еще один потрясающий слух, что в обеих половинках г-на Щедрина пробудилось чувство литературного достоинства, что он не хочет стеснять и продавать редакции свое право иметь и выражать свои убеждения, что он оставляет редакцию, что он будто бы рассорился с «Современником», что он соединяется с каким-то посторонним сатириком и едет в Москву издавать там свой собственный сатирический орган*, что остановка только за тем: где достать направленье? — а как только достанут они направление, то тотчас же и уедут из Петербурга в Москву. И вдруг, о диво! вышел майский № «Современника», и г-н Щедрин опять там*,— правда унылый, немного встревоженный, немного не по себе, и уж об «Русском слове» ни полслова, ни-ни-ни, но зато все-таки г-н Щедрин в «Современнике». Подписи нет, но в некоторых статейках «Греческий человек Трефандос» выглядывает из-за каждой строки, каждая мысль пахнет «фиками»*, как же не г-н Щедрин? Итак, что же всё это? Что же означали все эти слухи? Выходит теперь, что или «Современник» решается быть ретроградом, продолжая удерживать у себя г-на Щедрина, или г-н Щедрин раскаялся и дал редакции слово быть послушным и больше не баловаться. Одно из двух непременно было. Действительно, в последнее время г-н Щедрин (и бог знает с чего) вздумал выражать в «Современнике» такие убеждения, которые прямо и буквально противоречат самым основным убеждениям последних годов «Современника», и не мудрено, что «Русское слово» даже стыдит г-ном Щедриным «Современник». Мало того, «Русское слово» теперь утверждает, что г-н Щедрин выражает вовсе не убеждения, а испускает «какую-то желтую жидкость»*. Следственно, если г-н Щедрин всё еще в «Современнике», то он непременно просил пардону, иначе как же бы мог он остаться. Ведь не может же быть, чтоб «Современник» действительно захотел противоречить всему тому, о чем проповедовал в последние годы, и, по их понятиям, — «сретроградничать»? Или, может быть, просто-запросто «Современник», утратив всех своих главных сотрудников, сам теперь не ведает, что творит? И это вероятно. Во всяком случае всё это очень интересно. Чтоб разрешить как-нибудь этот «вопрос», надо бы по-настоящему бросить серьезный взгляд на весь ансамбль этой повести и, из любви к русской литературе, проследить всё сначала. Но признаемся, несмотря на всю нашу привязанность к русской литературе, мы бы никак не решились на такой скучный подвиг, как вдруг в наш «портфель редакции»* поступила одна рукопись, — роман, в котором как нарочно изображено нечто аналогическое… Эти «современные» романы ужасно распространяются. Поступившая рукопись — произведение одного начинающего пера, очевидно имеющее иносказательный смысл. «Страшимся сказать», но думаем, что молодой романист в своем произведении имел в виду едва ли не «Современник» — журнал, в который, по-видимому, перешли все «трефандосы и фики» г-на Щедрина из «Губернских очерков». Вот несколько глав из этого нового «Опыта о новых хлыщах».*
…Итак, Щедродарова взяли и сделали соредактором «Своевременного». Произошло это назад тому года полтора.* Щедродаров еще гулял на воле и беспечно наслаждался жизнию, но в «Своевременном» произошли беспорядки. Старые, капитальные сотрудники исчезли: Правдолюбов скончался; остальные не оказались в наличности.* Редакция и ближайшие сотрудники тотчас же собрались для рассуждений. Может быть, даже они уселись при этом в кружок на стульях, но во избежание личностей не будем упоминать о таких пустяках.
— Наше дело плохо, — начал один из редакторов. — Вы знаете, господа, что Правдолюбов скончался, что другие…
— Еще бы не знать, — отвечали хором.
— К делу! Мы остались одни. Этого мало. К тому же мало из нас литераторов. На первый случай, разумеется, мы станем зады твердить…
— Зады твердить! Зады твердить! — раздалось опять хором.
— …Но задов хватит ненадолго. Жизнь идет. Являются новые вопросы, новые факты. Об них нужно будет говорить и нам; а без прежних главных сотрудников мы можем дать маху. Что делать?
— Во-первых, напечатать роман «Что делать?»!* — отвечали сотрудники.
— Это само собой, но далее?
— А далее я придумал очень хорошую вещь, — решил один из компании. — Когда нас кто-нибудь припрет к стене и вообще во всех тех случаях, когда потребуется дать мнение точное и положительное, мы тотчас же объявим, что всё объяснится, «когда наступят новые экономические отношения»*; затем несколько точек, и дело в шляпе. Этого хватит года на полтора, даже на два.
— Гм! Милая идейка, тем более что ее можно употреблять решительно во всяком случае. Я вас спрашиваю: что не зависит от экономических отношений? Таким образом, самая банальная идея примет вид как будто настоящей идеи. И даже чем чаще ее повторять, тем больше она в глазах неучей получит значения и тем самым избавит нас от обязанности делать дело. Но мне кажется, что и этого мало…
— Мало, мало!..
— Видите ли, господа, в нашем журнальном деле кто сидит и молчит, не огрызается и сам не нападает, тот всегда кажется большинству подписчиков и не силен и не умен, хотя бы он пресовестливо занимался делом и понимал дело лучше, чем всякий другой. Кто же нападает первый, лает и кусается; кто нагло и нахально не отвечает на самые точные запросы, а прямо плюет на них, свистит, карикатурит и бросается сам всех ругать, хотя бы и без разбора, тот в глазах рутины и большинства всегда кажется сильным и себе на уме. Так поступим и мы, тем более что мы очень часто так поступали и прежде, И потому нам теперь надо — шавку, шавку, лающую и кусающуюся. Надеюсь, вы понимаете, господа, что я употребляю слово шавка в самом благороднейшем, в самом высшем литературном значении. Да и чем шавка хуже каких бы то ни было зверей или птиц? Важна тут, собственно, не шавка, а шавочные свойства ее. Мы только цыкнем: «усь-усь!», и приобретенная нами шавка должна бросать всё, срываться с места, лететь, впиваться, в кого ей укажут, и теребить до тех пор, пока ей не крикнут: «ici!» Разумеется, чем меньше будет у нашей шавки идей, — тем лучше. Зато у ней должна быть игра, перо, злость, беспримерное тщеславие и… и… говоря литературным языком, — невинность, чтоб она ни о чем не догадывалась. Мне кажется, что г-н Щедродаров, известный наш юморист и сатирик, если б его пригласить в состав редакции, мог бы в этом духе успешно служить нам постоянным сотрудником…
— Так, так! — закричали все, но встал оппонент.
— Я согласен, — сказал он, — что у Щедродарова своих идей нет и что это довольно значительное преимущество. Согласен тоже, что он тщеславен. Но кроме этих двух его преимуществ, что в нем еще? Ведь у него только «трефандосы да фики». Только этим и пробавляется!
— Правда, — возразили оппоненту, — но у него игра, у него словечки, он вертляв, у него совершенно беспредметная и беспричинная злость, злость для злости — нечто вроде искусства для искусства. Злость, в которой он и сам ничего не понимает. А это-то всего драгоценнее… Стоит только направить эту злость, и он будет кусать всё, что ему ни укажут, потому что ему только бы кусать. Прочтите, г-н оппонент, о нем статью г-на Скрибова, которая явится через полтора года в журнале «Заграничное слово»*. Там довольно удачно его оценят как юмориста и укажут на «трефандосов и фики»[68] Но эти-то недостатки мы и употребим в свою пользу. Трефандосы — пошлость, это известно, но зато они всем по плечу. Это рутинно, но рутинный успех хоть и короток, хоть и скоро проходит, но зато скоро распространяется, а Щедродаров нам всего-то на два, на три года и нужен. Наконец, если б Щедродаров был поумнее, что ж бы мы с ним тогда стали делать? Он стал бы рассуждать и не слушаться. А главное, и конец концов, у него, сколько я вижу по его сочинениям, гражданского чувства ни капли. Ему, кроме себя, все равно, а следовательно, только польстить его тщеславие, и он на всё будет согласен…
— Польстить, но не очень, — раздался один голос — Строгость не мешает.
— О, конечно; строгость, и даже усиленная. Но он уж тем одним пленен будет, что станет членом редакции. Итак, решено или нет?
— Позвольте, непредвиденный случай. А что если он наконец поймет и в нем возбудится чувство литературного достоинства?
— Гм. Ну это мы еще посмотрим…
— И наконец, как вы скажете ему: «Ты шавка и, следовательно, лай!» Мне кажется, это даже нелитературно.
— О, это вздор, на всё есть свои словечки. Можно, например, не говорить: «Лайте!», а можно сказать: «Издавайте звуки» или что-нибудь в этом роде. Не беспокойтесь, поймет, тем более что ему самому только того и надо… Итак, решено или нет?
— Решено, решено!
И вот таким-то образом и поступил Щедродаров в редакцию «Своевременного».
Принят был Щедродаров на чрезвычайно тяжких условиях; но так как он был ужасно рад, то и не заметил их, бедняжка! Даже едва прослушал, вряд ли понял. Явился он в редакцию охорашиваясь, и ему тотчас же, в общем собрании, были предложены все эти пункты. Вот из них некоторые:
Пункт первый. Молодое перо! Знайте, что вы пришли сюда — издавать звуки. Город «Пупов» пора бросить.* Все эти «трефандосы» — вздор. Вы, конечно, можете наполнять ими и теперь наш отдел беллетристики, но тем не менее вы должны стремиться к другому, высшему идеалу, а именно: популяризовать естественные науки, излагая их в виде повестей и рассказов*. Это высшая цель для всякого художника и поэта. Но это со временем, а покамест только издавайте звуки. Заметьте, я не говорю вам: «лайте», потому что это выражение нелитературное, а говорю: «издавайте звуки». Надеюсь, вы понимаете, что оно значит?
— Еще бы-с, — ответил Щедродаров и приосанился. Член редакции обвел все собрание внушающим взглядом: «Говорил ведь, что поймет!»
Пункт второй. Молодое перо! Отселе вы должны усвоить себе нашу тактику и следовать ей безусловно. Вы должны почитать, прикрывать и защищать всех тех, которые заявляют себя прогрессистами. Даже если б они того и не стоили, даже если б они были из второго класса гимназии, даже если б они на деле просто безобразничали; но если только они заявили уже себя перед публикой хотя бы только четырьмя прогрессивными строчками или два года сряду пробавлялись какими-нибудь двумя, хоть такими, например, стишонками:
то знайте, что они для вас священны. И если б даже они из меры вон забезобразничались или заврались — всё равно вы должны, если уж нельзя их хвалить, то просто молчать о них и отнюдь не издавать на них звуков. Если кто-нибудь из них напишет в стихах или прозе о «Гражданской слезе» и заявит об этом публично, то такой уже должен быть, для вас во всяком случае, неприкосновенен. И хотя бы такой перед вами явился даже…
— Даже в пьяном виде, — перебил Щедродаров с юмором, так и ожидая, что вот все покатятся со смеху, как от «фиков», и тотчас же похвалят его за веселость. Но он рассчитывал без хозяина. Это был народ угрюмый, которого не проймешь юмористикой. Прерванный оратор нахмурился и внятно, раздельно и строго произнес:
— Да-же в пья-ном ви-де-с.
Щедродаров струсил.
Пункт третий. Молодое перо! Вам предстоит участвовать в отделе критики; итак внушите себе за правило, что яблоко натуральное лучше яблока нарисованного*, тем более что яблоко натуральное можно съесть, а яблоко нарисованное нельзя съесть. Следственно, искусство вздор, роскошь и может служить только для забавы детей. Эта громадная в простоте своей «новая идея» должна заменить вам отселе все курсы эстетики и сразу поставить вас на надлежащую точку при оценке всех, так называемых, «художественных произведений». Поняли?
Но Щедродаров до того подобрел от радости, а с другой стороны, до того начал трусить, что не посмел ничего сказать против даже того: что, во 1-х, яблоко натуральное и яблоко нарисованное, два совершенно разнородные предмета, которые никоим образом нельзя сравнивать; а во 2-х, что, положим, яблоко натуральное едят, но яблоко нарисованное для того именно и нарисовано, чтоб на него смотреть, а не есть*. Что нельзя же в самом деле всего съесть, что ни есть на свете, и нельзя же ограничить полезность предметов и произведений одною съедобностью. Но Щедродаров смолчал по причинам вышеизложенным.
Пункт четвертый. Молодое перо! Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина*, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а следственно, Пушкин — роскошь и вздор. Поняли?
Но Щедродаров опять смолчал. Он не решился даже справиться, как смотреть на Пушкина, например, хоть тем, у которых уже есть сапоги?
— Равномерно вздор и Гомер, и Александр Дюма, и все прочие, потому что у Гомера бездна предрассудков, есть привидения, и он верит в чудеса и богов, а следственно, может заразить этими предрассудками юношество; так что просвещенный Курочкин*, уничтожающий предрассудки, несравненно и во всяком случае выше непросвещенного Гомера. Островского можно печатать единственно потому, что он обличил московских купцов; другого же достоинства в нем нет ни малейшего*; разве то, что он имя, а потому и можно еще напечатать «Минина», но единственно в подписные месяцы*.
Вздор и роскошь даже сам Шекспир, потому что у этого даже ведьмы являются, а ведьмы — уже последняя степень ретроградства и особенно вредны для русского юношества, которое и без Шекспира заражается ведьмами еще от нянек. Но заметьте себе, молодое перо! О Шекспире можно и погодить, а следственно, и не издавать звуков, единственно потому что (и черт знает зачем!) вздумалось похвалить его Бюхнеру, в «Stoff und Kraft»*, а так как надобно стоять за всех прогрессистов, а тем паче за Бюхнера, то Шекспира можно и пощадить, конечно до времени.
Но всё это так ничтожно, — прибавил оратор, — что я не делаю об этом особого пункта, а причисляю прямо к четвертому, то есть к пункту о сапогах и о Пушкине.
Пункт пятый. Молодое перо! Вам укажут пять «умных книжек»*, которые вы непременно должны прочесть, чтоб нам уподобиться. Этак через полгода вы непременно должны будете сдать экзамен в прочитанном, в присутствии всех членов редакции и главнейших сотрудников.
Пункт шестой. Молодое перо! Вам надо проникнуться капитальнейшею мыслию нашего направления, а именно: для счастия всего человечества, равно как и отдельно для каждого человека, прежде всего и важнее всего должно быть — брюхо*, иначе — живот. Что вы смеетесь, милостивый государь?
Щедродаров тотчас же завилял и объявил, что он вовсе не смеялся.
— Я вспомнил-с только про «пуп земли», в который так бессмысленно верит народ, зараженный пагубными предрассудками-с, — пробормотал он в надежде рассмешить и таким образом переменить гнев на милость. Но опять не удалось.
— «Пуп земли!» Милостивый государь! — возвысил голос оратор, — и вы смеете ставить ваш бессмысленный «пуп земли» рядом с величайшей экономической идеей нашего времени, рядом с последним словом реальных и социальных наук! Знайте же, что брюхо — это всё, а всё прочее, почти без исключения, — роскошь и даже бесполезная роскошь! К чему политика, к чему национальности, к чему бессмысленные почвы, к чему искусства, к чему даже наука, — если не сыто брюхо? Набейте живот, и всё остальное найдется само собою, а если и не найдется, так опять-таки всё равно, потому что всё остальное роскошь и бесполезность. Муравьи, ничтожные муравьи, соединясь для самосохранения, то есть для брюха, к стыду людей, умели изобрести муравейник, то есть самый высочайший идеал социального устройства, который только можно представить себе. Напротив, — что сделали люди? Девять десятых людей на всем земном шаре постоянно ходят не сытые! Отчего это? Оттого, что люди глупы, не умеют разглядеть, в чем их настоящая выгода, бросаются за погремушками, за какими-то искусствами, за бесполезным, коснеют в предрассудках, живут сами по себе наобум, по своей воле, а не по умным книжкам и, таким образом, бедны, разъединены и не умеют ничего предпринять. Но достигните только того, чтоб все были сыты, то есть первого шага, и человечество схватит луну за рога, если уж так очень понадобится. Понимаете?
Щедродаров хотел было возразить, что, конечно, было бы очень полезно сначала обеспечить себе брюхо, а потом уж до всего дойти; но что с этакой идеей можно, пожалуй, тысячу лет простоять на одной точке желаний и гнева, не достигнув ни малейшего практического результата, а напротив, просмотрев жизнь и все перепортив. Хотел он тоже прибавить, что, может быть, это вовсе не так легко, как кажется, и что, может быть, схватить луну за рога гораздо легче, чем предварительным и преднамеренным параличем всех остальных способностей человека достигнуть повсеместно сытого брюха; но Щедродаров был уже так утомлен и испуган, а сверх того, он был так мало устроен для подобных ответов, что смиренно молчал, в надежде, что тот скоро кончит.
— И потому, — продолжал оратор, — если на случай придется вам писать, например, политическую статью, положим хоть о славянском вопросе, то вы прямо напишете, что «День» порет вздор. Что стоны славян и желание их освободиться от австрийцев и турок — тоже вздор. Что такие желания — роскошь и даже непозволительная; что славянам совершенно должно быть всё равно: сами ль они по себе аль под австрийцами и под турками, потому именно, что прежде всего им надо думать о брюхе, а потом разве уже прогнать и турок; но не иначе как в виде роскоши. Понимаете?
Равномерно, если человек скажет вам: я хочу мыслить, я мучусь неразрешенными вековечными вопросами; я хочу любить, я тоскую по том, во что верить, я ищу нравственного идеала, я люблю искусство или что-нибудь в этом роде, — отвечайте ему немедленно, решительно и смело, что всё это вздор, метафизика, что всё это роскошь, детские грезы, ненужности; что прежде всего надо — брюхо; и что, наконец, если уж очень у этого человека зачешется, то порекомендуйте ему взять ножницы и обстричь себе зачесавшееся место. Танцевать хочу — ноги стриги; рисовать хочу — руки стриги. Тоскую, мечтать хочу, — голову прочь. Брюхо, брюхо и одно брюхо, — вот, милостивый государь, великое убеждение! Понимаете ли, молодое перо?
Молодое перо хотело было заметить, что если обстричь всё остальное, так ведь оставшееся одно брюхо будет, пожалуй, и мертвое. Но он этого не заметил, потому что не мог заметить, а не мог потому, что голова его вовсе не так была устроена, чтоб об этом думать. И потому он только хлопал глазами и ужасно скучал.
— Я по лицу вашему вижу, что вы не совсем меня поняли, — заметил оратор. — Всё еще ветрены; прочтете пять умных книжек, сдадите экзамен, и тогда — посмотрим.
— У меня еще нет своих мыслей, — смиренно поддакнул Щедродаров.
— Знаем. Но у вас игра, у вас перо; и если пять умных книжек вам пойдут впрок, то вы будете издавать хорошие звуки. Мы на вас надеемся. А город «Пупов» надо непременно бросить. «Трефандосы и фики» — вздор-с…
Щедродарова покоробило. Ведь и он был самолюбив.
— У меня не одни «трефандосы и фики», — проговорил он с скромною сдержанностию — У меня в одном месте есть, что «стряпчий городничему живот укусил»*.
— Как? Неужели? где же это? — спросил с приятным удивлением оратор.
— В такой-то и такой-то повести, — ответил Щедродаров, повеселев и охорашиваясь как живчик.
— Ну… это, конечно, что-нибудь; но ведь это еще далеко не всё.
— Неужели-с? а ведь я думал, что уж и всё, — искренно отвечал Щедродаров, ужасно и немедленно подобрев от похвалы.
— То-то и есть, молодой человек, — напутствовал его оратор внушительно. — Идите же; возьмите с собой выданные вам умные книжки и — с богом, издавайте звуки. Так стряпчий городничему… Как это у вас там: живот укусил?
— Живот-с.
— Мне именно нравится, что живот. Напоминает нашу теорию, разница в том, что мы хотим не укусить живот, а насытить. Конечно, и у вас проведена в этом новая идея, но это еще не всё… Итак, с богом! Я вижу, вы устали… Идите и издавайте звуки.
Щедродаров издавал звуки почти с лишком год. И на кого он не издавал звуков! В невинном усердии своем он доходил до того, что бросался на людей без причины, ни за что, а так, чтобы исполнить долг юмористики. Иногда его хвалили и гладили по головке. В «Своевременном» чувствовали, что он может приносить своего рода плод; рутинные читатели, которые готовы смеяться даже сто раз сряду повторяемым «фикам» (а таковых огромное число), были удовлетворены. Чего же более? К тому же Щедродаров, между действительно талантливыми вещами, мог писать иногда по целым листам юмористики, в которых ни редакция, ни читатели, ни сам он не понимали ни шиша, но в которых как будто намекалось на что-то такое таинственное, умное и себе на уме, одним словом в духе редакции, так что простодушный читатель бывал очарован и говорил про себя: «Вот оно что!» Это правда, что у него не было ни малейшего гражданского чувства и потому он без зазору лаял, глумился и срамил самых честнейших и толковых людей, наряду с паскуднейшими: была бы только юмористика. В сущности, это был поклонник искусства для искусства, юмористики для юмористики. Был бы только «трефандос», а к кому он относится — всё равно.
Но проходило время, он читал, и невольно идеи стали заходить в неозабоченную до сих пор вопросами его голову. Прочитывая по обязанности то, над чем ему предписано было смеяться, он невольно просвещался и невольно новый свет начал озарять его. Правда, ненадолго; но мало-помалу начало в нем пробуждаться что-то вроде сознания. Не скажу, чтоб появлялись в нем признаки гражданского чувства: легкомыслие и оскорбленное постоянно тщеславие делали то, что на завтра же он по обязанности «издавал звук» на то самое, с чем сегодня мысленно был согласен. Вообще в нем началось беспокойство. Ему захотелось что-то сказать, что-то выразить. Куда и во что он не кидался! Самые разнородные, самые противоречащие мнения и даже теории сходили с его пера, и если б публика не принимала всего этого сплошь за «юмористику», то была бы иногда очень удивлена. Что же касается до редакции, то она на него надеялась и под конец не очень ввязывалась в издавание звуков. Она слышала «звуки» и была покойна. Когда же Щедродаров уж так путался, что сам терял свою голову, то выбегал перед публику и откалывал штучку. Публика смеялась, ему это льстило, и он, как натура художественная, мигом успокоивался. Но счастие не долговечно. Не столько новые идеи, которые отрывками забрели в его голову, сколько зависть к фельетонисту Кроличкову в «Заграничном слове» возбудили его тщеславие. Тогда-то он и махнул в «Своевременном» знаменитые свои статьи о мальчишках и об засиживателях новых идей*, что прямо противоречило второму пункту условий, по которым он был принят в «Своевременном».
С яростию восстали Скрибов и Кроличков* и победоносно уличили «Своевременного» в ретроградстве; поднялись трус и суматоха в редакции «Своевременного». Редакторы сбежались и смотрели так, как будто в доме горит. Тотчас же потребовали Щедродарова. Но тот уже приготовился. Он вошел независимо; на челе его блистала эмансипация; он встал в дверях, опершись о косяк рукою, а глаза скосил в окно, как будто совершенно не его дело и смотреть не стоит. В ужасе переглянулись между собою редакторы.
— Что вы сделали! что вы сделали, несчастный! — накинулись на него хором редакция и сотрудники.
— Что я сделал? ничего я не сделал, — отвечал Щедродаров. — «Не испугаешь, дескать, теперь».
— Как ничего! Мы за вами в последнее время не смотрели, а вы что тут напороли?
— Ничего не напорол. Значит, у меня теперь свои мысли явились, вот и всё.
— Но, несчастный, у вас нет мыслей, у вас никогда не было своих мыслей. Мы вас и брали с тем, чтобы у вас не было никаких своих мыслей, а чтоб вы только издавали звуки, а вы…
— А вот теперь у меня и явились свои мысли. Que diantre![69] У «Дня» свои мысли, даже «Голос» уверяет, что у него свои собственные мысли, почему же у меня не может быть своих мыслей?
— Но, несчастный, это уже другой вопрос — почему? И откуда, откуда у вас теперь могли завестись свои мысли? Вы взяли их из «Времени»! Смотрите, смотрите, читайте: вот «Заграничное слово». Тут выписана тирада из «Времени» 62-го года против мальчишек. Слушайте:
«Но мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих всё, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать, выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма».
— Слышали? Знайте же, несчастный, что «Заграничное слово» прямо говорит, что вы это взяли из «Времени»*, что у вас разительное сходство во всем, даже в выражениях. Слушайте: вот ваша юмористика по тому же поводу:
«Но без сомнения всего более способствуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностию прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением… Одним своим участием они делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную… Нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы».
— Как же не из «Времени»? даже выражения сходные!
— Ну что ж, что из «Времени», — отвечал в свою очередь пикированный Щедродаров. — Я, действительно, признаюсь, что я эту мысль заимствовал из «Времени», так же как и много других, потому что это хороший журнал, и вы напрасно заставляете меня издавать на него звуки. Но я не крал у «Времени», я только сошелся с ним мыслями… Что ж, и я могу сходиться мыслями… У меня и выражения другие. У меня тут есть: «засидели идею, как мухи». Это прекрасное словечко, и жаль, что вы его не понимаете!
— Но, несчастный! ведь хорошо бы оно было тогда, когда б вы его за нас употребили, а ведь вы употребляете его против нас; против нас! слышите ли?
Да ведь я о мальчишках писал, а не против вас.
— О мальчишках! да ведь это всё равно, что на самих себя поднять руки! Чему же вас учили тогда при приеме в редакцию? Не понимает! не понимает! И к тому ж у «Времени» много подписчиков, а он-то его и поддерживает!
— Да что вы на меня, в самом деле! — вскричал Щедродаров, уже совсем рассердившись. И что вы всё про «Время» да про «Время»! Повторяю вам, это хороший журнал, и я много из него почерпнул! Вы меня заставили смеяться над ними, им язык выставлять! По вашей милости, я, например, смеялся и над «Днем». В «Дне» люди серьезные, там наука, так многолетнее, преемственное и честное исследование. Они пользы хотят. Их никто ни в чем негражданственном упрекнуть не может. Их идея всё больше и больше в ходу; она признана даже старинными и отъявленными их врагами. С ней можно не соглашаться, но к «Дню» нельзя относиться без уважения.
А между тем я, по вашей милости, туда показывал шиши да кукиши, ставил рядом чуть не с Аскоченским! Вот что значит звуки-то издавать!
— Да кто ж вам велел так ревностно действовать? Сами себя, значит, тешили.
— И что вы напали так на меня за мальчишек? Да помилуйте, они всё засидели, всё перепортили. «Время» тогда только о плутах говорило и справедливо: ведь либерализмом и прогрессизмом они всё равно что торговали у нас в последнее время. Я же об вислоухих упомянул. Из этих хоть есть честные, да всё перепортили. Мы бы могли иметь положительные результаты; где они? Мы всё прогуляли с вашей системой и с вислоухими! И что такое «гражданская слеза»? Да ведь они только пишут, что льют ее, а мне давай настоящую. Да хоть и настоящую — они и ту засидели, и ту засидеть изловчились. Ведь этак всё можно наконец опошлить и засидеть так, что свежему человеку претить начнет.[70] Ведь мы своих же от себя отбиваем.
Гражданская слеза! Да ведь это фраза, казенная фраза! Я уважаю того, который действительно льет ее, — но моду на гражданские слезы не стану уважать, потому только, что тут написано словечко «гражданские». Да ведь после этого явятся когда-нибудь штатские слезы, партикулярные слезы, слезы комиссариатские, слезы общества заготовления сухих продуктов — так всё это и уважай? Морген-фри, je tantipathe!..
— Что за тон! Что у него за тон! Боже мой, что он говорит! — прокричали в ужасе сотрудники.
— Чего тон? никакого нет тону! а вон там у вас в «Своевременном» напечатано:
Так ведь это на смех написано! Ну как могут слезы спать в равнине? А вы благоговеете!
Но тут уж и член редакции пришел в ярость.
— Как, милостивый государь! И вы смеете! Да ведь это слезы гражданина! И какое вам дело, что они спят в равнине? Ну пусть себе спят, пусть что угодно делают, но зато это слезы не простые, а гражданина; смотрите, видите: написано: «гражданина». Наши убеждения…
— Не верю я теперь вашим убеждениям.
— Наши убеждения — брюхо, милостивый государь! наши убеждения о брюхе! брюхо, брюхо — слышите вы?
— Наплевать мне на ваше брюхо, довольно наслушался! не верю я теперь вашему брюху! насытить брюхо ценою предварительного паралича всех членов и всех способностей организма — нелепость! А вы, напротив, в своем фанатизме к брюху дошли до того, что, в свою очередь, все члены и все способности организма, кроме брюха, — считаете нелепостью. Так поступили вы с искусством, с нравственным идеалом, с историческим ходом вещей, со всею жизнию. Где же практический смысл? Вы против жизни идете. Не мы должны предписывать законы жизни, а изучать жизнь и из самой жизни брать себе законы. Вы теоретики!
— Да это целиком из «Времени»! Он его наизусть выдолбил!
— Что ж, я действительно многие места из «Времени» наизусть заучил. Хоть я и издавал звуки по поводу «Времени», но я много обязан «Времени». Я не понимаю, как можно стоять на воздухе, не чувствуя под собой почвы. Англичанин, немец, француз, каждый особо тем и сильны, что стоят каждый на своей собственной почве и что прежде всего они англичане, французы и немцы, а не отвлеченные общечеловеки. Прежде чем что-нибудь сделать, нужно самим чем-нибудь сделаться, воплотиться, самим собою стать. Тогда только вы и можете сказать свое слово, представить свою собственную форму мировоззрения. А вы отвлеченные, вы тени, вы — ничего. Из ничего ничего и не будет. Вы чужие идеи. Вы — сон. Вы не на почве стоите, а на воздухе. Из-под вас просвечивает…
— Так и чешет, так и чешет!
— Ну да, так и чешет! Я вот и сам раз десять написал: «когда настанут новые экономические отношения», да что в том толку? Самому смешно становилось. Когда они настанут, как настанут? С неба, что ль, упадут? Это фраза! На этой фразе можно тысячу лет просидеть, а дела ровно никакого не будет…
— Он вольнодумец! — закричали все, окружая Щедродарова. — Как вы смеете!
— Нет-с, я только перепеченный нигилист и хотел действительно быть полезным. Я хотел, чтоб и у меня были свои мысли, а вы и не замечали моих усилий. Я вон в феврале месяце нарочно в деревню ездил за своими мыслями (прочтите мой талантливый февральский фельетон в «Своевременном»*). Я там увидел мужика и очень удивился, что он беден. Я и прежде видал мужика, но я никогда об нем не задумывался. Конечно, читатели невиноваты, что я это только в первый раз увидал; но я был так удивлен, что принял это за «новую идею». Мало того: я сделал «новое экономическое отношение»*…
— Вы, вы сделали «новое экономическое отношение»! — закричали все в изумлении.
— Да-с, я, я сам, moi-même! Потому что я тоже могу иметь свои мысли. Я вывел, что если вы в Москве нанимаете извозчика, то не торгуйтесь с мужиком, потому что он беден, и не давайте пятиалтынного, если он спросит двугривенный. Напротив, дайте ему четвертак, если он просит двугривенный… И это, конечно, новое экономическое отношение и, конечно, стоит всякого вашего…
Но тут раздался такой гомерический хохот, что Щедродаров совсем сбился с толку. Он и без того был взволнован всей этой сценой. Некоторое время он в изумлении оглядывал хохочущих сотрудников; но потом вдруг закрыл глаза руками и зарыдал, как маленькое дитя…
Вот несколько глав. Далее не хотим печатать. Мы полагаем, что это не художественное произведение, что это — роман-карикатура. Всякая карикатура, как известно, заключает в себе преувеличение смешной стороны дела; но в то же время заключает в себе и некоторое справедливое основание. Опять-таки «страшимся сказать»*, но нам действительно кажется, что наш романист имел в виду чуть ли не «Современник». Есть некоторое сходство, например, хоть в главе «об условиях». Разумеется, они, может быть, не так нелепо происходили, как здесь описано, но — на всё есть свои словечки и формы… Что же касается до главы о суматохе в редакции, до «трагедии в стакане воды», как обозначено у романиста, то, право, не знаем, есть ли тут верное основание. В справедливости всех этих слухов (подавших мысль романисту) мы (повторяем это еще раз) основываемся на том полном убеждении нашем, что г-н Щедрин в последнее время сильно противоречил в своих последних статьях духу и направлению «Современника». А если так, то, конечно, основание слухам значительное. Одно из двух: или «Современник» меняет свои убеждения, или г-н Щедрин дал слово раскаяться. Но что об этом! Нечего плакать заранее. Природа устраивает всё к лучшему.
Наш романист изображает, может быть, уж слишком яркими красками легкомыслие г-на Щедрина. Но припоминая всё случившееся действительно и даже до нас коснувшееся, не можем не признаться, что основания нашего романиста несколько справедливы. Не утверждаем, что г-н Щедрин действительно заучивал наизусть тирады из «Времени» и ими пользовался как для своих сочинений, так и в практической жизни. Нам кажется это даже некоторым преувеличением. Но однако ж, не мы первые засвидетельствовали о том, что г-н Щедрин заимствовал из «Времени» тираду о «подхлестывающих себя кнутиком рутинного либерализма» (фраза кудреватая, соглашаемся в этом без спору, хотя вовсе не отступаемся от нее). Это засвидетельствовало «Русское слово» — орган, нам противуположный и нас не жалующий. Припоминаем еще, что в самом начале поприща г-на Щедрина в «Современнике» в качестве соредактора, когда он явился тогда юмористически в фельетоне, играя, шаля и заигрывая, ему действительно случилось сделать против нас выходку, вполне легкомысленную, если только можно ограничиться одним только этим прилагательным. А именно: чтобы (по мнению его) уронить вполне наш тогдашний журнал в глазах публики и вполне выразить к нему свое презрение, г-н Щедрин объявил печатно в «Современнике», что если он помещал у нас прежде статьи, то единственно потому, что «Современник» тогда приостановился на несколько месяцев, а литератору не всегда выгодно ждать несколько месяцев; следовательно, г-н Щедрин только по необходимости принужден был у нас печататься. Мы немедленно его уличили. Мы доказали ему цифрами, что в то самое время, когда он отдал в редакцию нашего журнала свою статью, — «Современник» еще издавался; мало того: ни «Современнику», ни г-ну Щедрину, ни кому бы то ни было на свете никоим образом не могло тогда прийти в голову, что «Современник» приостановит свое издание. А следовательно, если б г-н Щедрин действительно тогда же (то есть до вступления своего в «Современник» в качестве соредактора) питал такое ужасное отвращение и пренебрежение к нашему изданию, то для него ничего бы не было легче как отдать свою статью не нам, а в «Современник». Таким образом, мы тогда же уличили г-на Щедрина в «сознательной неправде». Г-н Щедрин не отвечал. И что бы мог он возразить против цифр?
Нас уверяли, что статья «Литературные мелочи» в майском номере «Современника» принадлежит г-ну Щедрину, хотя и нет подписи. Мы, впрочем, и сами узнаем в этой статье «Молодое перо», — так уж мы привыкли к его игре. Статья эта написана как-то печально, в ней какое-то уныние, беспокойство; какие-то жалобы. Веселость напускная, выделанная, как бы для того только, чтоб исполнить долг службы и обязанности. Против «Русского слова» в ней уже нет почти ничего. Всё это отчасти служит основанием слухам и тоже хоть отчасти оправдывает нашего романиста. Кстати, в этой статье есть неблаговидная выходка против нас: намекается, что мы, начав издание «Эпохи», будто бы изменили в некотором пункте свои убеждения*. За недостатком места мы не можем теперь распространиться об этом и опровергать автора. Но автор статьи, помещая свое показание об изменении наших убеждений; совершенно знал наперед, что мы не будем опровергать его. Знал он это вполне. Это верно и ясно как день. Теперь вопрос: стало быть, он прикрывался этим знаньем? А если так, то чем же, в сущности, он себя обеспечивал? Вещь удивительная: до сих пор «Современник» не так действовал. Прежде он не позволил бы себе такой выходки. Стало быть, действительно, он изменил свое направление.
Что же касается грусти и уныния, просвечивающих в майском фельетоне, то вот для образчика место начала, со второй страницы. Это место даже на нас навело уныние.
«Что такое дрянь? В просторечии слово это прилагается преимущественно и даже исключительно к явлениям мира вещественного. Всякое вещество, вследствие разложения или принятия в себя чуждых примесей потерявшее свой естественный, здоровый вид, называется „дрянью“. „Не тронь, батюшка, это “дрянь»!» — говорит заботливая няня своему питомцу, когда он, движимый любознательностью, хочет прикоснуться к какой-нибудь слякоти или к чему-нибудь гниющему. Но как ни права няня в своем определении, она все-таки не исчерпывает сущности предмета, о котором·говорит. Понятие, заключающееся в слове „дрянь“, чрезвычайно обширно и из мира вещественного очень удобно переносится в мир нравственный и умственный. Если б няня знала, что известный ей какой-нибудь Петр Иваныч или Иван Петрович совершенно такая же „дрянь“, как и то гниющее вещество, на которое она сейчас указывала, то она точно так же предостерегла бы своего питомца: „Не тронь, батюшка, Петра Ивановича: это дрянь“!..»
Согласитесь сами, что всё это не совсем весело. Ну, скажите, в чем тут идея*: что не одно то дрянь, что валяется на заднем дворе, а есть и люди дрянь. Но кто ж этого не знал? Согласитесь сами, что это можно сказать в одной строчке. Согласитесь сами, что об этом можно и вовсе не говорить. То-то и есть, господа, тяжела, ух тяжела обязанность присяжного юмориста. Писать не о чем, неприятности, желчь, голова в отлучке, мыслей не бывало, — нет, пиши, вертись, как бес перед заутреней, переливай из пустого в порожнее, подавай на грош юмористики, — ну и натуживается юморист и прудит на целой странице, что можно сказать в двух словах. Каторжная должность!
Конечно, и в этом отрывке не без юмора. Слышите: «но как ни права няня в своем определении, она все-таки и«исчерпывает сущности предмета»… Слышите, слышите! Нянька глупая, безмозглая баба, которая двух сложить не умеет, и про нее вдруг говорят, что она не исчерпывает предмета, точно про ученого профессора! Тонкий, тонкий сатирик г-н Щедрин и великий бичеватель наших общественных язв! Говорите же после того, что у него только сто раз повторенные «фики».
И однако ж, все-таки это не то. Не то, что прежде, не то… Иногда автор даже хочет развеселиться, и вдруг тайная грусть невольно влечет его к унылым думам; он не выдерживает и жалуется горько, отчаянно жалуется. Вот, например:
«Точно то же следует сказать о вещах. Есть положения злые, есть положения глупые и есть положения просто дрянные. Злые и глупые положения всегда имеют сзади себя некоторую систему, которая их объясняет и в то же время делает возможным противодействие. Напротив того, дрянные положения отличаются совершенным отсутствием системы, поэтому-то они живучее и злых и глупых положений, это те самые положения, которыми никто не доволен, но которые терпеливо выносят из опасения попасть или в глупое, или в злое положение. И тут имеется своего рода хвост и уши, которые на первый взгляд пленяют, но, разумеется, что здесь обаяние имеет смысл еще более вредный. Если мы временно обольщаемся дрянным человеком, то это не налагает на нас никаких обязательств, кроме одного: отвернуться от такого человека, как только мы убедимся, что он дрянь; но когда мы обольщаемся дрянным положением, то хотя бы это обольщение было и временное, но последствия его будут гораздо ощутительнее, потому что связь с положением захватывает человека гораздо глубже и разностороннее и, следовательно, действует на него несравненно растлительнее, нежели связь с изолированною дрянною личностью».
Да-с, надо слишком хорошо узнать на практике: что такое скверное положение, чтоб так ярко уметь описать его! И смотрите: он даже с любовью рассматривает это положение, с каким-то унынием отчаяния. Он роется в дрянном положении, он копается в нем, он исчерпывает его; он как бы наслаждается этим исчерпыванием, нюхает это дрянное положение и рад тому, что нюхает, «скверно, так пусть же вот еще скверней будет!» Он иронически читает даже себе мораль, говорит, что надо «терпеливо выносить такие положения. И тут имеются своего рода хвост и уши, которые на первый взгляд пленяют», говорит он. Мне кажется, что автор тут далеко зашел. Про хвост еще не знаем как сказать; но уши-то кого ж пленить могут? Это уже какой-то скрежет зубовный! Мрачно! да, мрачное положение описал автор!
Тут, впрочем, много затаенной грусти. Это не шекспировская страстная выходка, когда у него каждый стих похож на «булат, закаленный в слезах влюбленной девушки», как выразился один француз о Шекспире. Нет, в сущности, это только тихая жалоба, тихое воркование молодой горленки, тихая, но бесполезная жалоба сельской девы, которую выдают постылому, на тему Кольцова «Без ума без разума Меня замуж выдали»:
В самом деле, ну что, если нашему сатирику вдруг скажут: Не угодно ли, дескать, переложить к следующему номеру сию Ботанику в «Губернские очерки»? Каково это слышать художнику! Ну что тогда делать?
Право, не знаем. Нам кажется, что если есть хоть тень вероятности в слухах и если действительно существует посторонний сатирик, то отчего ж и не отправиться с ним в Москву и не издавать там свой собственный орган? Что же касается до трудности отыскать направление, то и это не может служить препятствием. Можно просто издавать журнал с тою целью, чтоб в каждом номере заявлять, что, дескать, «я — литературное совершенство». Цель, конечно, не высокая, но зато забавная и которая может доставить г-ну Щедрину несколько приятных минут.
Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском
10-го июля, после болезни (разлития желчи), получившей почти неожиданно пагубный исход, скончался издатель и редактор «Эпохи» Михаил Михайлович Достоевский. Как брат и ближайший сотрудник покойного, считаю должным и нелишним упомянуть теперь о литературной и издательской его деятельности.
Мысль об издании журнала возникла у Михаила Михайловича еще давно. Мысль его состояла в том, что нужен свежий литературный орган, независимый от обязательных журнальных преданий, вполне самостоятельный, чуждый партий, чуждый застарелых, преемственных и почти бессознательных антипатий, не поклоняющийся авторитетам и совершенно беспристрастный. С другой стороны, необходимо обращение к народности, к началам народным и возбуждение оторвавшегося от почвы общества к изучению народа нашего и к уверованию в правду основных начал его жизни. Михаил Михайлович был убежден, что все неудачи русского общества, вся бесхарактерность некоторых слоев русской народности происходит именно от разлагающего, ленивого и апатичного нашего космополитизма, доведшего нашу разобщенность с почвой до равнодушия к ней, до смешного непонимания ее и даже — в иных индивидумах — до какого-то как бы обязательного, почти хвастливого принципа не понимать и не признавать ее вовсе. Особенно последнее обстоятельство возбуждало горячий протест в убеждениях Михаила Михайловича. Когда-то, в молодости своей, он был самым страстным, самым преданным фурьеристом.* Процесс обращения от беспочвенного, отвлеченного верования к чисто русскому общению, к русскому, родному верованию произошел в нем органически*, нормально, как всегда бывает с людьми, действительно одаренными жизненностью. Он очень хорошо знал, что идея почвы, народности — идея не новая, не отысканная кем-нибудь, не мечтателем каким-нибудь выдуманная для собственного удовольствия, а рано или поздно обязательная каждому русскому, как земскому человеку; что она, собственно, никогда и не начиналась, а всегда преемственно продолжалась в здоровой и постоянно протестовавшей против космополитизма части нашего общества, — с того самого времени, когда могучий преобразователь России, усомнившись в состоятельности московского царства, усомнился и в самых силах народных и грозною рукою стеснил их развитие, конечно, убежденный в полезности своей новой цели, но за достижение которой, может быть, заплачено было им слишком дорого. Михаил Михайлович знал очень хорошо, что он и его сотрудники, может быть, менее, чем многие другие, приготовлены защищать и отстаивать идею почвы и народности, что нам слишком многому предстоит еще самим учиться, чтоб быть вполне русскими; что мысль о возвращении к земству требует смиренного отношения к ней, а не бесцеремонного воззрения свысока. Он прочувствовал на самом себе, жизнию, что всё самое основное, самое святое в нашей теперешней жизни — воспитание, развитие, любимые воспоминания — всё, всё в некоторых слоях общества сложилось по преимуществу в форме западной науки, искусства, учений, убеждений и что слишком малый уголок остался в душе каждого современно цивилизованного русского человека для родных, почвенных, земских впечатлений, а в иных они заглохли уже почти окончательно. Понимая это и смотря с глубоким, даже до наивности, уважением на обязанность издателя и редактора журнала, он долгое время колебался начинать журнал.
А между тем Михаил Михайлович был редактором по преимуществу. Это был человек, с уважением относившийся к своему делу, всегда сам занимавшийся им, никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей и работавший беспрерывно. Он был человек образованный, развитый, уважавший литературу и сам литератор, страстно любивший поэзию, и сам поэт.* С жаждой идеала и с потребностью нравственного убеждения он принимал свои убеждения самостоятельно и не прежде, как пережив их в себе, так сказать, органически.
Наблюдательность и вдумчивость в жизненные явления во многом обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю трезвость взгляду его. Он горячо, с страстным участием следил за движением современной общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда составлял себе о нем точное мнение. Он был знаток европейских языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, выбор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чем журналу надо дать свое мнение, — всё это почти вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. Он охотно выслушивал советы, охотно сам спрашивал их, во многом не признавая себя судьею; но, выслушав совет, почти всегда поступал самостоятельно. Это был человек скромности даже необыкновенной, но в высшей степени полной самого благородного самоуважения, о чем особенно знали все наиболее близкие к нему люди. Но он редко с кем сходился близко; для этого ему надо было сойтись с человеком вполне, любовно, сердцем, а сердца своего он не отдавал легко, без разбору; те же, кого он любил, знают, как он умел любить. Мнения свои он высказывал осторожно, не любил длить споров, метко отличал убеждение серьезное от болтовни или от напускного увлечения. Сотрудника он оценял с первого разу и почти всегда безошибочно. Я сказал, что он сам был поэтом и литератором. Когда-то, в молодости своей, он занимался даже художественной литературой. Он написал несколько повестей и рассказов. Их хвалили, и в них, действительно, были признаки таланта, особенно в одном небольшом рассказе, помещенном в «Отечественных записках» в 48 году*. Но некоторый успех, приобретенный им с первого разу, не соблазнил Михаила Михайловича. Всегда строгий и требовательный к самому себе и не признавая в себе решительного творчества, он перестал писать. Этот трезвый и даже несколько гордый взгляд на свои литературные труды весьма редко встречается в молодых начинающих писателях; а Михаил Михайлович, по моему личному мнению, был уж слишком строг к трудам своим. Несколько более ценил он свои переводы из Шиллера и Гёте. Самые значительные из этих переводов: «Дон Карлос» Шиллера, появившийся сначала в «Отечественных записках» и потом в издании г-на Гербеля, и «Рейнеке-Лис» Гёте, изданный года три назад отдельною книгой, тоже вторым изданием.* Впрочем, брат мой никогда и ни с кем не заговаривал сам о литературных трудах своих.
Точно та же строгость была в нем и к трудам его по изданию журнала. Всегда буквально заваленный работою по изданию, он сам писал в журнале мало; всего было только несколько статей его, в отделении критики*. Те, которые упрекают редакторов в том, что они мало пишут и, стало быть, как бы пользуются чужими трудами, не понимают, что говорят. Если редактор действительно занимается сам своим журналом, то дух, цель, направление издания — всё исходит от него. Он мало-помалу неприметно окружает себя постоянными, согласными в убеждениях сотрудниками. Он, часто неприметно для самих сотрудников, наводит их на мысль писать именно о том, что надо журналу. От редактора исходит единство и целость журнала.
Но, несмотря на успех журнала, самым строгим, самым требовательным ценителем журнала был постоянно сам Михаил Михайлович. При всей трезвости его взгляда, при всем понимании того, что журналу, действительно имеющему что сказать, нужно иногда несколько лет, чтобы определиться, высказаться в некоторой полноте и уяснить до известной степени читателям свои взгляды и свои убеждения, Михаил Михайлович весьма часто бывал недоволен. Он желал беспрерывного усовершенствования журнала и верил в успех. Он лучше готов был выдать книгу совершенно без того или другого отдела, если на тот раз не имел, чем заместить его, чем наполнять журнал чем-нибудь и как-нибудь.
Но уже здоровье его было расстроено; в нем уже начинался зародыш той болезни (нарыв в печени), от которой он умер. Усиленные заботы по изданию утомляли его чрезмерно. К весне он стал чаще и сильнее хворать. Несмотря на то, он не отрывался от работы. Болезненное состояние сказывалось более и более: он стал беспокоен, раздражителен. Наконец, в июне он заболел опасно: доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел, несмотря на их приказания, перестать работать. Он занимался даже накануне смерти, и болезнь перешла вдруг в безнадежное состояние…
Михаил Михайлович был человек настойчивый и энергический. Он принадлежал к разряду людей деловых, разряду весьма между нами немногочисленному, к разряду людей, не только умеющих замыслить и начать дело, но и умеющих довести его до конца, несмотря на препятствия. К несчастию, характер покойного был в высшей степени восприимчивый и впечатлительный. При этой восприимчивости впечатлений он мало доверял их другим, хранил их в глубине себя, мало высказывался, особенно в несчастьях и неудачах. Когда он страдал, то страдал один и не обременял других своею экспансивностью. Только удачу, радость любил он делить добродушно с своими домашними и близкими; в такие минуты он не мог и не хотел быть один. Это определение его характера почти слово в слово совпадает с тем, что накануне его смерти было высказано консилиумом докторов о свойствах характера Михаила Михайловича.
Я не пишу биографии моего брата; я хотел только упомянуть об одной его литературной деятельности.
Жалею, что не могу сказать об его личном характере всего, что мне хотелось бы высказать: я понимаю, что я был слишком близок к покойному, чтоб говорить про него теперь всё то хорошее, что я мог бы сказать…
Необходимое заявление
В июльском номере «Современника» помещены две чрезвычайные статьи, направленные против «Эпохи», очевидно, в отместку моей статье: «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» («Эпоха», № 5). Одна статья: «Торжество ерундистов» — не подписана, стало быть, от редакции; другая: «Посланье обер-стрижу, господину Достоевскому» — подписана псевдонимом: «Посторонний сатирик» и снабжена следующим, весьма замечательным примечанием редакции «Современника»:
«Мы решительно не одобряем ни чересчур резкого тона этого „послания“, ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, какие употребил автор послания. Ред.»
Это значит: «Цель оправдывает средства» — правило старинное, всем известное и вдобавок западническое*, следовательно, ни с какой стороны не противоречит направлению «Современника».
Цель эта достигается в обеих статьях личными ругательствами, но совершенно уж прямыми и по преимуществу такими, каких еще не бывало в русской печати («плюнуть на вас», «дуракова плешь» и проч.). Лично же против меня употреблено столько сплетен, что отвечать на это мне нет уже никакой возможности, а после теории «неодобрительных средств», так простодушно провозглашенной «Современником», — нет и надобности.[71] Но все-таки я не могу не сделать, теперь же, одного заявления публике, к которому нахожу себя решительно вынужденным.
Я понимаю, что можно смеяться над болезнию какого-нибудь больного человека, то есть я этого вовсе не понимаю, но я знаю что известного развития человек может сделать это из мщения, в припадке уж очень сильного гнева. «Посторонний сатирик» (не знаю, кто он именно) уверяет в одном месте своей статьи, что знает меня лично. Он говорит: «Я сам лично слышал от него (то есть от меня) такие слова»… и т. д. Значит, он был знаком со мною, коли разговаривал со мной*, а может, и теперь знаком. Итак, действительно, может быть, ему подробно известно, что у меня есть болезнь и что я лечусь. Знает, может, и то, как и когда получил я болезнь* и т. д., одним словом, в подробности. И вот в своей статье он корит меня несколько раз тем, что я больной, а в одной выставленной им карикатурной сцене, где я изображен лично, смеется над тем, что я больной. Повторяю, всё это возможно в известном человеке и при известной степени гнева, и дивиться тут нечему. Но за что же он доктора-то моего обругал? — вот чего я решительно не могу понять и каждый день дивлюсь этому.
Вот в чем дело: «Посторонний сатирик» в одном месте своей статьи (перепечатав и присвоив себе из одной моей прошлогодней, полемической статьи против г-на Щедрина несколько строк целиком, но без всякого обозначения вводным знаком заимствованного места), обращаясь ко мне прямо, лично, с такими словами: «Статья ваша точно доктором вам прописана по рецепту», вдруг, ни с того ни с сего, прибавляет от себя: «И доктор-то ваш, видно, такая же „дуракова плешь“» («Современник»*, июль. Стр. 158).[72]
Что же это, наконец, такое? Скажите, чем тут виноват мой доктор? В журнальном споре нашем он никогда, ничем (вот уж ровно ничем!) не участвовал!* В прежних полемических статьях между нами и «Современником» о нем никогда не упоминалось (да и как могло упоминаться?). Заметьте, что тут, в этих чрезвычайно странных словах «Постороннего сатирика», нет ни малейшего иносказания. Он прямо, лично, упорно обращается в своей статье ко мне и несколько раз называет меня по имени, говорит: «вы… вы, Федор Достоевский», и т. д., несколько раз повторяет это. Тут именно разумеется мой доктор*, тот, который меня лечит. Злость, конечно, может бывать беспредельною, но может ли она выражаться до такой степени неожиданно?
Я видал иногда и знаю, что ругающийся человек может, если уж очень зол, выругать зараз вместе с вами и кого-нибудь из ваших родственников: «если и теща есть, так чтоб и теще!»*, как говорится у Гоголя в комедии. И потому если б «Посторонний сатирик» выругал заодно со мною кого-нибудь из моих родственников или родственниц, то это было бы хоть сколько-нибудь понятно; они мне родственники, следовательно, уж тем и виноваты. Тут хоть и бесконечно малая доля какой-то логики, но всё же логики. Но доктор, доктор, о котором прежде никогда и никто не упоминал, который подвернулся потому только, что подвернулось слово «доктор», — за что доктора-то? Неужели за то, что я и семейство мое пользовались иногда его советами? Какая же это наивная злость!
Во всем этом случае меня, конечно, не злость удивляет (мало ли какая бывает злость!), но именно вся эта загадочная неосновательность. Ничего не могу отгадать… Не встречался ли как-нибудь «Посторонний сатирик» с моим доктором где-нибудь в гостях, и тот, как-нибудь в разговоре, чем-нибудь ему не понравился? И вот, выругивая меня теперь, «Посторонний сатирик», может быть, вдруг вспомнил, что и тот тоже ему не понравился, и, чтобы не терять времени и не забыть выругаться, заодно и решился его обругать вместе со мной. Тем более, что тот меня лечит. Прекрасно-с. Но опять-таки кому не покажется, что в таком случае естественнее было бы распорядиться особой статьею, чтобы было не так отрывочно и неожиданно; или по крайней мере тут же объяснить чем-нибудь, хоть двумя-тремя словами в выноске, для связи, — что вот, дескать, есть и еще человек, который тоже мне не понравился, а я и забыл его обругать, так уж и его тут зараз… Но нет. «Посторонний сатирик», изругавшись, тут же сейчас и забывает совсем моего доктора, совсем бросает его и уже более не поминает о нем ни разу, как не поминал никогда и прежде… Зачем же он ругал его! Неужели и вправду только за то, что тот меня лечит? Удивительно!
Редакция «Современника» хоть и упомянула в своей заметке, внизу статьи, что не одобряет таких бесцеремонных полемических приемов, но, очевидно, она надеется, что такие именно приемы и будут ей способствовать к достижению ее цели. Неужели могут способствовать? И за что, за что, скажите, обругав они совсем постороннего человека! Ну много ль им из этого выгоды?
Чтобы кончить
Последнее объяснение с «Современником»
Господа Современники, в июльской книге нашей, по поводу двух ваших статей об «Эпохе», сотрудник наш Ф. Достоевский написал о вас заявление, самое необходимое, — в три страницы. На это вы отвечаете полемикой ровно в сорок восемь страниц!* Нас и прежде поражало ваше необузданное многословие, а теперь мы просто в смущении; ибо невольно рождается неразрешимый вопрос: что ж будет, если мы напишем вам уже не три страницы, а шесть страниц или восемь страниц? Что будет, наконец, если б мы рискнули написать вам тоже сорок восемь страниц? В последнем случае даже и представить себе ужасно, что будет.
И не скажет ли всякий, читая вас: «К чему там у них такой шум, такой стук и азарт? Куда текут эти многоводные реки полемики? Стало быть, есть же что-нибудь, что их не шутя растревожило?» Слышите? Действительно, ведь только от смущения и замешательства можно попасть в такую однообразную и скучную колею, в какую вы попали, — и не замечать этого. Ну не изображаете ли вы таким образом собою эмблему испуганной коровы, попавшей на рельсы железной дороги и которую догоняет вагон. Случай редкий, но возможный. Объятая смущением, сама еще не веря своему несчастью, лупит она
всё одной и той же колеей, не догадываясь, наивная, что стоит ей только на минуту покинуть рельсы и взять капельку вправо — и она спасена, и может опять давать молоко! В этой яркой картине вы, по простодушию вашему, а вместе с тем и по некоторой неуклюжести вашей, как бы изображаете собою вышеозначенное наивное создание, а ваши увлечения и дурные страсти — изображают вагон, наполненный самими же вами и вашими статьями. Таким образом, вы губите и давите себя сами, а между тем — увы! — может быть, и вы бы могли давать молоко! Но глух и слеп современный человек, и бесследно проходят для него примеры из всемирной истории!
Сорок восемь страниц ответа на три страницы! И неужели вы не сообразили, что это не только бестактно, но и бездарно; что можно отвечать и двумя страницами, но так, что и на двух страницах (если вы правы) можно совершенно разрушить своего противника, и даже так же окончательно, как например года три назад, Антонович (хотя и не на двух страницах и хотя вовсе был не прав) разрушил г-на Тургенева*. Ну кто, скажите, еще помнит теперь о г-не Тургеневе? И напротив, как велик стал Антонович! Вспомните тоже полемические статьи господина Пушкина. Написать столько страниц самой неестественной ругани на три страницы самой вежливой, в своем роде, заметки значит самим признаться: во-первых, что вы короче написать не умеете (что очень печально!), а во-вторых, что у вас недостает аргументов, потому что неестественная ругань у русского человека начинается только тогда, когда у него уже нет аргументов. Помните поговорку: «Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав». Ну а если к тому же сердится совсем и не Юпитер, а, например, всего только вы, так ведь тогда выходит комизм. Что еще простительно Юпитеру, то вам непростительно.
И наконец, совсем, что ли, глупою считаете вы публику? Считаете ли вы, что ее можно уверить во всем, в чем угодно, — в том, например, что сказать: «ваш доктор — дуракова плешь» — значит совершенно то же самое, что проговорить просто и вообще слово «доктор»? В том ли, например, что повесть, которою мы огрешились прошлого года: «о разбитой чашке и о кулаках в стену» (вызванная гораздо грубейшей, предварительной статьей «Современника», о чем вы забыли упомянуть), — может быть названа такою же точно личностью, как прямое в глаза: «Шваль, ракалья, издыхающая тварь»? Заметим кстати, что эта повесть о «разбитой чашке» (которой, впрочем, уже полтора года), хоть и груба, хоть и невежлива (в чем сознаемся бесспорно), но уж по тому одному не может быть названа прямою, настоящею личностью, что никому из разумных читателей в мире и в голову не придет, что тут описывается действительное приключение, чтоб подглядеть которое нам надо было, как вы говорите, подкупать кухарку. Это просто была карикатура, имевшая целью осмеять чрезвычайную личную раздражительность нашего прошлогоднего оппонента, сделавшего из законнейшего спора (между прочим, об осмеянии г-на Тургенева как частного лица, единственно в угоду редакции
«Современника») — совершенно личный спор. Карикатуры позволительны, а резкость нашей карикатуры, повторяю, была вызвана предварительно такими выходками от нашего оппонента, которые, конечно, были вдвое грубее нашей карикатуры.
Равномерно, поймет публика, что вовсе нельзя назвать сплетней — слухи, напечатанные нами (с большими оговорками), о том, что г-н Щедрин уезжает в Москву с каким-то посторонним сатириком издавать собственный свой журнал. Этот слух, равно как и все те слухи, о которых мы тогда напечатали, не нами были сочинены, а существовали действительно, оправдывались противоречиями в направлении г-на Щедрина и «Современника»; а главное в том, что все эти слухи, хотя и подсмеиваясь мы их тогда поместили, не приносят ни малейшего бесчестия г-ну Щедрину. Убежать же в Москву от «Современника» не только не бесчестно, но даже и разумно. Сплетней, милостивые государи, называется собственно то, когда сознательно лгут с целью обесчестить человека или как-нибудь повредить ему в глазах общества. Когда же взводят на человека капитальное обвинение, наверно зная, что тому человеку по некоторым причинам невозможно защищаться и ответить, тогда уже выходит нечто позорящее сплетника, тем более что правда, рано ли, поздно ли, а всегда открывается. — И наконец, чтобы заключить этот пункт, — неужели вы думаете, что публика не догадается, наконец, что вся эта беспримерная в летописях российской словесности ругань должна же иметь у вас побуждение гораздо серьезнейшее, чем, по-видимому, выставляется? Ведь вы уж одним азартом вашим сами себя с руками выдаете и не догадываетесь об этом.
И кому вы служите (о близорукие) этим азартом! Знаете ли, знаете ли вы, кому вы всем этим прислуживаете? Дети вы! «Мастеры» вы, а не «Мистеры»![73]*
Впрочем, мы решились вас успокоить совершенно и заявить вам, раз навсегда, что впредь вы никаких более ответов на эту тему от нас не дождетесь; это последний. Извините, пожалуйста, что теперь ответили: но невозможно было не высказать кой-чего на прощанье. В прошлом номере «Эпохи» мы попробовали было не упоминать о вас почти вовсе, надеясь, что и вы перестанете. Но видим теперь, что вам невозможно перестать, что вы жаждете ответа, что вы жаждете сцепиться, что вам хочется еще страниц пятьсот написать. Ну так и ждите же! — Не будет вам более от нас ответа, хотя бы вы ругались еще три года. (Другое дело идеи, «проводимые» вашим журналом, о них мы еще будем говорить не раз, тем более что идеи не ругань, хотя с некоторого времени всё труднее и труднее становится различить, — что такое у вас идеи и что у вас ругань? Сами вы спутались и, очевидно, принимаете одно за другое.)
На прощанье, чтоб закончить совсем нашу с вами полемику, мы хотим вам сказать словечка два — как бы вы думали о чем? — О стрижах. — Мы давно об этом хотели сказать словцо, да всё не хотелось связываться. Ну а теперь, так как уж дело кончается, по крайней мере с нашей стороны, и нам, по всей вероятности, уже не придется более возвращаться к этой теме, так отчего ж и не высказаться? Итак знайте, что стрижи, по нашему мнению, — очень хорошенькие птички: во-первых, они красивы, а во-вторых, предвещают ясную погоду.[74] Вспомните начало одного стихотворения:
Предвещать ясную погоду — очень лестно, особенно теперь, в наше время. И кто же, — вы, — дали нам это названье! — Что может быть лучше ясной погоды, ясных, тихих, миротворных дней! Что может быть лучше, как предвещать эти грядущие дни, стремиться к ним и ободрять других в этом стремлении… Это уж совсем не то, что «посылать шиши в беспредельное пространство и считать их разрушительными гранатами»,* — как выразились о вас «Отечественные записки». В том-то и вся разница между нами: мы ясную погоду предвещаем, а вы — посылаете шиши в беспредельное пространство. Итак, пусть мы будем стрижи, а вы — угадываете ли теперь, кто вы такие?
Но довольно!.. Вот вам уже не на сорок восемь, а по крайней мере на шестьдесят или на семьдесят страниц материалу.
Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>
Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьев касается меня и покойного моего брата. Тут есть ошибки, и по некоторым из них полную правду могу восстановить только я; я был тут сам деятелем, а по другим фактам личным свидетелем.
1) Слова Григорьева: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически»… — никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня, как литератора, слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь. В этом письме Григорьева, очевидно, говорится о романе моем «Униженные и оскорбленные», напечатанном тогда во «Времени». Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными»*, но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму, (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики. Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но…
Да простит мне читатель эту рацею о себе и о «высоком даровании» моем, хотя бы в том уважении, что я первый раз в жизни заговорил теперь сам о своих сочинениях. Но повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой… Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием, и это объясняет слова его. Он только не знал на этот раз, в чем дело.
2) H. H. Страхов хоть и представляет далее в статье своей комментарий на слова моего брата, приведенные Аполлоном Григорьевым о Киреевском, Хомякове и о. Феодоре, но так как я сам был тут, при этом разговоре, то считаю, как личный свидетель, не лишним разъяснить эти слова в их настоящем смысле.
Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во «Времени» о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция «Времени» вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто он неумело упоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону: про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, умеючи, постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой-нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: «великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Феодор», с презрением закрывал журнал не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним.
Покойный брат мой, излагая всё это Григорьеву в совершенно дружеском разговоре, при котором я тогда присутствовал и в котором участвовал, заключил такими словами: «Помилуйте, да каждый читатель после этого совершенно вправе вас спросить: какие же глубокие мыслители Киреевский и Хомяков?» (то есть когда вы не объяснили этого, а написали голословно).
Но Григорьев никогда не понимал таких требований.* В нем решительно не было этого такта, этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому проводителю идей. Даже так случалось, что после подобных объяснений ему иногда казалось, что от него требуют отступничества от прежних убеждений.
3) Совершенная правда, что в журнале в первые годы его существования были колебания — не в направлении, а в способе действия.* Были тоже ошибки в некоторых убеждениях. Но направление могло только формулироваться с годами. Иметь направление и уметь его ясно и всем понятно формулировать — дело розное. Последнее приобретается опытом, временем, жизнию и находится в прямом отношении к развитию самого общества. Отвлеченная формула не всегда годится. Кому есть что сказать, тот знает, как иногда трудно высказаться. Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то есть когда уже все о них имеют некоторое понятие, гораздо более удаются, более нравятся обществу, чем незнакомые ему убеждения. Только обносившиеся идеи очень понятны, В прежних ошибках мы готовы сознаться искренно; но ведь мы не могли их тогда видеть сами, именно потому, что и тогда действовали по твердому убеждению.
4) Что же касается до того: пускать ли того или другого в сотрудники или до требования человека нового и свежего для Политического обозрения и проч., и проч., — то этими требованиями Аполлон Григорьев только доказал, что он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала. Если, положим, К<усков> и М<инаев>, с образом мыслей которых журнал вполне несогласен, представят к напечатанию в редакцию журнала такие статьи, которые на этот раз не противуречат его главной идее, его направлению, а между тем сами по себе любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумеется, можно напечатать. Иначе ни один журнал не состоится. Так же точно нельзя не ошибиться, хоть раз, в напечатании какой-нибудь неудачной драмы или повести. Ошибался и Аполлон Григорьев, а такое требование с его стороны было слишком строго. Требование же «нового и свежего человека» для Политического обозрения — было еще строже. Требовать вдруг всего — было невозможно. Впоследствии Политическое обозрение во «Времени» составлялось весьма талантливо и замечательным сотрудником; но и оно далеко не выражало направления журнала.* Трудно сразу отыскать для каждого отдела людей с талантами, равносильными таланту Островского, да еще начинающему журналу. Уже довольно того, что журнал ищет этих людей и сознает их необходимость. Но всего досаднее в подобных случаях то, что такого сотрудника в данный момент может и совсем на свете не быть. Сделаю еще одно последнее, общее замечание. В этих великолепных, исторических письмах, в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренной) ноты и в которых так типично, хотя всё еще не вполне обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), — в этих великолепных письмах, говорю я, не всё и теперь может быть взято редакциею «Эпохи» без оговорок. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт; но он был и капризен и порывист как страстный поэт. Я не о том, собственно, говорю, что он увлекался, — фраза, которую некрологисты его (из которых, без сомнения, редкий и читал Григорьева) обратили в пошлое выражение. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура (не говорю — как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того кровным и необходимым для всего дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздваивался жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием, и с некоторым гастрономическим наслаждением, — то и заболевал тоской своей весь, целиком, всем человеком, если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его.
«Я критик, а не публицист», — говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но уметь и проводить свои убеждения. А эта-то умелость проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове публицист с предубеждением, — по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов, — не хотел даже и понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.
Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания.
Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать, по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высоко честный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения.*
Примечания
В одиннадцатом томе Собрания сочинений Ф. M. Достоевского печатаются публицистические произведения 1860-х гг.
Тексты статей, фельетонов и заметок Ф. M. Достоевского входящие в том, подготовили и примечания к ним составили: А. И. Батюто («„Свисток“ и „Русский вестник“», «Ответ „Русскому вестнику“», «По поводу элегической заметки…», «Два лагеря теоретиков» (с участием Г. M. Фридлендера), «Щекотливый вопрос», «Ответ редакции „Времени“ на нападение „Московских ведомостей·“»); И. А. Битюгова («Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях», «Несколько слов о M. M. Достоевском», «Примечание к статье Страхова „Воспоминания об А. А. Григорьеве“»), H. С. Никитина («Журнальные заметки», «Опять „Молодое перо“», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление», «Чтобы кончить…»); В. А. Туниманов («Объявления об издании журнала „Время“», «Ряд статей о русской литературе»); M. А. Турьян («Предисловие к публикации „Три рассказа Э. Поэ“»); Г. M. Фридлендер («Предисловие к публикации „Заключение…. Казановы…“», «Примечание к статье „Процесс Ласенера“». «Предисловие к публикации… „Собор Парижской богоматери“»).
Редакторы тома — T. И. Орнатская и В. А. Туниманов. В. А. Тунимановым написана и вступительная статья к примечаниям.
Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома к печати осуществлена А. Ю. Грибовской.
Тексты черновых материалов и имен, не вошедших в настоящее собрание сочинений, цитируются по изданию: Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990; римской цифрой обозначается том, арабской — страница.
Достоевский при жизни не предпринял попыток собрать и переиздать свои статьи и фельетоны и даже в письме от 15 апреля 1876 г. отклонил просьбу библиографа П. В. Быкова сообщить ему необходимые данные: «Неподписанные статьи мои хоть и были (критические, во «Времени»), но я от них отрекаюсь» (XXIX, кн. 2, 80). Основным источником для определения принадлежности Достоевскому большого числа анонимных статей, заметок и фельетонов в журналах «Время» и «Эпоха» стал список, составленный А. Г. Достоевской по указаниям H. H. Страхова. Но и в этом списке отсутствует ряд статей и заметок, несомненно принадлежащих Достоевскому, в том числе и одна из самых важных его публицистических работ, программная статья «Два лагеря теоретиков». В наиболее полном виде статьи, фельетоны и очерки Достоевского опубликованы в 18, 19, 20, 21 и 27 томах Академического собрания сочинений писателя. В настоящий том вошли лишь наиболее значительные произведения Достоевского-публициста. Дополняя художественные произведения Достоевского, его статьи, заметки, очерки и фельетоны, неразрывно связанные с ними по проблематике, образам и стилю, представляют важнейший источник для понимания его как человека и писателя, являются ценнейшим документом истории общественно-литературных движений России середины XIX в.
Замысел самостоятельного журнала «Время» возник у M. M. Достоевского в конце 1857 — начале 1858 г. Прошение M. M. Достоевского было удовлетворено в октябре 1858 г., но разрешением братья Достоевские воспользовались только через два года после возвращения Ф. M. Достоевского в Петербург. Программа и позиция журнала в общих чертах созрела и выкристаллизовалась в первое полугодие 1860 г., чему во многом способствовало частое посещение Ф. M. Достоевским кружка А. П. Милюкова, главного идеолога и в сущности руководителя журнала «Светоч», старого знакомого братьев Достоевских еще по сороковым годам. Постоянными посетителями «вторников» Милюкова были, кроме Достоевских, H. H. Страхов, A. H. Майков, В. В. Крестовский. Активно сотрудничали в «Светоче» А. А. Григорьев; A. H. Плещеев, A. E. Разин, H. M. Соколовский, Л. А. Мей. Все они вскоре перейдут в журнал «Время». Несомненное влияние на формирование программных положений «Времени» оказали редакционные объявления и публицистика «Светоча». Особенно это относится к идее примирения «западных» и народных начал, призыву к консолидации в условиях предстоящих реформ всех слоев русской интеллигенции — «западников» и «восточников».
Журнал «Время» (1861–1863) имел большой успех среди читателей. По сообщению Страхова, «в первом, 1861 году, было 2 300 подписчиков, и Михаиле Михайлович говорил, что он в денежных счетах уже успел свести концы с концами. На второй год было 4 302 подписчика <…>. На третий год издания в апреле месяце было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход…».[75]
Главными сотрудниками и руководителями журнала были Ф. M. и M. M. Достоевские, H. H. Страхов и А. А. Григорьев. В журнале были опубликованы «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях» и большое количество статей, фельетонов, заметок и примечаний Ф. M. Достоевского, кипучая творческая энергия которого главным образом и обеспечила популярность новому изданию, имевшему таких могущественных конкурентов, как журналы «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки». Импонировала читателю и независимая позиция журнала «Время», последовательно и умело отстаиваемая в «полемике идей» с самыми авторитетными литераторами и политическими деятелями «эпохи великих реформ».
«Время» очень скоро снискало репутацию неблагонадежного издания в правительственных и цензурных кругах, которые, в сущности, воспользовались весной 1863 г. удобным случаем и расправились с независимым журналом. Апрельская книжка журнала за 1863 г. стала последней. Здесь была помещена статья H. H. Страхова (за подписью «Русский») «Роковой вопрос» по поводу польского восстания. Статья вызвала резкое возражение в газете M. H. Каткова «Московские ведомости», обратившее внимание правительства на журнал. Ответ газете Достоевского, пытавшегося разъяснить истинный смысл статьи Страхова, не был разрешен к напечатанию, а 26 мая по докладу министра внутренних дел П. А. Валуева журнал «Время» был запрещен «за помещение статьи, под заглавием «Роковой вопрос», в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным внешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также за вредное направление этого журнала».[76]
После запрещения «Времени» братья Достоевские предпринимают энергичные меры, для того чтобы добиться отмены распоряжения о закрытии журнала или получить возможность возобновления издания под новым названием. Цензура отвергла названия «Правда» и «Дело», и редакция вынуждена была удовольствоваться прежде «забракованным» названием «Эпоха». Достоевский в период организации и выхода первых книжек «Эпохи» отсутствовал в Петербурге; он возвратился сюда из Москвы только после смерти жены, M. Д. Достоевской, и деятельно принялся за уже привычную журналистскую работу. Смерть Михаила Михайловича Достоевского (10 июля 1864 г.) нанесла «Эпохе» сокрушительный удар.
«Эпоха» уже в самом начале не имела того успеха, который был у журнала «Время», несмотря на то, что здесь были напечатаны «Записки из подполья», «Крокодил» (а также «Призраки» И. С. Тургенева и «Леди Макбет Мценского уезда» H. С. Лескова), ряд полемических статей н заметок Ф. M. Достоевского. Усилившаяся резкая полемика с «Современником», во многом носившая мелочный и личный характер (с обеих сторон), никак не способствовала популярности «Эпохи». Смерть А. А. Григорьева сильно ослабила литературно-критический раздел журнала (Ф. M. Достоевский, по сути, выступал на страницах «Эпохи» только с полемическими заметками). Позднее объявление подписки, особенно трудные цензурные условия, смерть ведущих сотрудников, целый ряд других неблагоприятных обстоятельств быстро привели журнал к краху. На февральской книге 1865 г. издание прекратилось, надолго обременив Ф. M. Достоевского долгами. К редакторско-журналистской деятельности писатель вернется лишь в конце 1872 г. Но и редактирование еженедельника «Гражданин» не было продолжительным. «Опека» В. П. Мещерского раздражала и сковывала инициативу.
Уже в начале 1874 г. Достоевский снимает с себя обязанности редактора. Однако этот новый журналистский опыт приведет Достоевского к мысли об издании в полном смысле самостоятельного, независимого, индивидуального издания — «Дневника писателя».
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>
Впервые опубликовано в октябре 1860 г. и рассылалось при журналах и газетах «Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Искра», «Journal de St.-Pétersbourg» и др. с подписью: Редактор M. Достоевский.
H. H. Страхов указал в «Воспоминаниях», что «это объявление несомненно писано Федором Михайловичем» и «представляет изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей.[77]
Сохранилось немного воспоминаний о жизни Ф. M. Достоевского в Петербурге в первый год после его возвращения из ссылки, причем самое ценное из них — H. H. Страхова — тенденциозно и пристрастно. Последний с нескрываемой антипатией пишет о политических и литературных симпатиях братьев Достоевских, с которыми он познакомился в кружке Милюкова, упрекая их (особенно M. M. Достоевского) в настороженном, предубежденном отношении к славянофилам и не без злорадства, во всяком случае не без удовлетворения, — о неудаче планов Ф. M. Достоевского основать новое направление, призванное сменить отжившие свой век западничество и славянофильство: «По его предложению, это было совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая, видимо, начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников и славянофилов. Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие. Но что всего замечательнее — в тогдашнем состоянии литературы были странные черты, которые позволяли ему думать, что давнишние литературные течения, западническое и славянофильское, иссякли или готовы иссякнуть и что готово возникнуть что-то новое. Дело в том, что тогда партии не выделялись ясно и вся литература сливалась во что-то единое. <…> В сущности, это был хаос, бесформенный и многообразный, и потому легко могло возникнуть желание — дать ему форму или, по крайней мере, выделить из него некоторое более определенное течение. Что касается прямо до Федора Михайловича, то, взглянув на всю его журнальную деятельность, нельзя не сказать, что он успел в своем желании».[78]
К лету 1860 г. план и программа издания — журнала, а не первоначально задуманной еженедельной газеты — в общих чертах были обсуждены, в кружке Милюкова «завербованы» почти все главные будущие сотрудники «Времени». 18 июня M. —M. Достоевский обратился в С.-Петербургский цензурный комитет с «Прошением», которое и было вскоре, 3 июля, удовлетворено. В ближайшие после разрешения месяцы написан текст первого программного «Объявления», появившегося несколько позднее объявлений других ведущих петербургских литературных журналов, — текст, тщательно продуманный и полемически заостренный против деклараций журналов-соперников, особенно против программы «Отечественных записок», более всех задетых новым литературным органом. «Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении», — гордо писали редакторы «Времени». Это был прямой вызов «Отечественным запискам», объявление которых о подписке на 1861 г. стало мишенью для многочисленных насмешек петербургской журналистики. Так, А. В. Дружинин в «Новых заметках петербургского туриста» (1861) иронизировал по поводу «бардов» «С.-Петербургских ведомостей», у которых «была лишь одна страсть, одна дума, одно горячее стремление — воспевать достоинства „Отечественных записок“, журнала старинного, толстого, почтенного и именно потому-то нисколько не нуждающегося в газетных хвалениях. <…> „Поздравляем читателя с выходом второй книжки “Отечественных записок» — давно не читали мы ничего столь увлекательного!» „Третий номер “Отечественных записок» читается с жадностью — поспешим же дать краткий отчет о превосходных статьях, в нем заключенных!». О всех других повременных изданиях барды академических „Ведомостей“ отзывались как-то глухо или с озлоблением, а если статья сотрудника „Отечественных записок“ появлялась, например, в „Современнике“, ее тотчас же объявляли прегнусною, да и автора отделывали как следует. <…> Так как арфы бардов особенно звучно играли в декабре и январе месяцах, то публика распустила слухи, что в эти месяцы идет подписка на журналы! Вот до чего доходит злоязычие в человечестве».[79]
Встревоженные падением популярности некогда лучшего русского литературного журнала и слухами о новых серьезных конкурентах руководители «Отечественных записок» А. А. Краевский и С. С. Дудышкин в «Объявлении» подчеркивали, что «„Отечественные записки“ никогда до сих пор не затруднялись недостатком статей и, конечно, вперед не затруднятся, потому что нами обеспечено для будущего года сотрудничество следующих ученых и литераторов: H. В. Альбертини, П. E. Басистова, Ф. А. Багалина, И. H. Березина, К. H. Бестужева-Рюмина, H. X. Бунге, Ф. И. Буслаева, Весеньева (псевдоним). Марко Вовчка (псевдоним), А. Д. Галанова, H. П. Грекова, С. В. Ешевского, И. E. Забелина, К. Д. Кавелина, E. П. Карповича, M. Я. Киттары, E. П. Ковалевского, П. M. Ковалевского, H. И. Костомарова, A. A. Котляревского, Кохановского (псевдоним), Крестовского (псевдоним), П. Л. Лаврова, A. H. Майкова, С. В. Максимова, H. А. Мельгунова, П. В. Павлова, M. M. Стасюлевича, С. M. Соловьева, E. В. Тура, И. С. Тургенева, И. И. Шишкина, П. К. Щебальского и др.».[80]
Журнал «Время» высмеивал в «Объявлении» реестр громких имен, заключавший программу «Отечественных записок». Но обвинение в нечестной погоне за читателями задевало и журнал «Век», выставивший на обложке немало имен, а также, вероятно, «Библиотеку для чтения»: ее объявление вызвало насмешки в статье «Времени» «Письмо Постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“». Здесь мы читаем: «Нам посчастливилось, говорит г-н Писемский в своем объявлении, да еще подписывается под ним, — посчастливилось совокупить три лучшие произведения русской литературы за 60-й год, и в том числе называет свою драму» (XXVII, 132).
Тщательно обдумывая «Объявление», редакция сознавала всю важность и ответственность этого «первого шага».
«Объявление» делится на две равные по объему части. В первой уясняется «главная передовая мысль» журнала — отношение редакции «Времени» к злободневным современным проблемам. Выдвигается как первостепенная задача необходимость «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал». Здесь же дается краткий исторический очерк русского развития от Петровской реформы до современного момента, оцениваемого как переворот, равный по значению петровским преобразованиям. Но, как верует редакция журнала, в отличие от насильственных и деспотических петровских мер на этот раз все совершится «мирно и согласно во всем нашем отечестве». Эта вера в мирное и согласное решение русских проблем станет центральным убеждением, проповедуемым «Временем» и «Эпохой», и в преображенном виде сохранится и в позднем творчестве Достоевского, в частности перейдет в «Дневник писателя». Соединение, слияние, синтез — вот общественно-политическая программа «Времени». Идее примирения «Время» в отличие от «Светоча» придает не только частный, узконациональный смысл («примирение последователей реформы Петра с народным началом»), но и универсальный: «Мы предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности». Эта мысль, впервые сформулированная в «Объявлении», будет многократно развиваться в художественных произведениях и публицистике Достоевского, вплоть до Пушкинской речи. В сравнении с подобными далеко идущими прогнозами и пророчествами конкретные, практические задачи, пропагандируемые руководителями «Времени», выглядели особенно умеренными; первым шагом, ведущим к торжеству идей синтеза, примирения, соединения, согласия, провозглашались в «Объявлении» «грамотность и образование».
Бегло и не очень определенно говорится в «Объявлении» о перемене во взглядах руководителей «Времени», в прошлом (в 1840-х годах) разделявших полностью западнические идеалы («Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе»), а ныне возвратившихся «на родную почву». Но одновременно и несомненно для того, чтобы их позицию не спутали со славянофильской и не обвинили в измене прежним идеям, в «Объявлении» разъяснялась оригинальность и независимость убеждений редакции «Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье народов».
Значительно острее, ярче «литературная» часть программы, многих задевшая и, соответственно, вызвавшая темпераментную реакцию в журналистских кругах. Здесь и речи нет о «примирении» и согласии. Журнал заявлял свое отрицательное отношение к литературным авторитетам и мещанско-торгашеским веяниям в русской журналистике, выступал против «литературного рабства» и «спекулятивного духа»: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени». Говоря о своей неприязни к литературным авторитетам, предводителям, чинам, столпам и «золотой посредственности», трепещущей перед ними, руководители «Времени» имели в виду то распространенное на рубеже 50— 60-х годов явление, которое вызвало острую критику И. Панаева в «Петербургской жизни. Заметки Нового Поэта».[81] Видимо, этот фельетон И. Панаева и послужил основным литературным источником для Филиппин «Времени». И. Панаев так сатирически рисовал литературный климат Петербурга: «Достигнув высоты величия, сделавшись литературным сановником, аристократом, самый энергический, самый живой, самый талантливый человек нередко успокаивается в своем величии, закуряется благоуханием лести и начинает уже не просто смотреть на все явления, а снисходительно взирать на них с своего пьедестала. Он требует уже себе поклонений, морщится от малейших противоречий, как-то неохотно и боязливо подвигается вперед или вовсе останавливается, замирая в своих убеждениях, словом, превращается в доктринера, в консерватора, и на молодых, независимых, смелых и энергических деятелей начинает посматривать враждебно и даже называть (это грустно) мальчишками, так, как некогда, во дни его молодости, свежести и силы, называли его авторитеты того времени! <…> В настоящую минуту, когда гласность и проч., вдруг возникло у нас множество молодых слав, знаменитостей, авторитетов, авторитетиков — особенно ученых… Они выскочили из-под земли незаметно, как грибы после дождя… и мы, люди малоученые, добродушные, в изумлении от гениальности русской натуры, так быстро производящей гениальных людей, не замедлили преклониться перед ними».[82] Редакция «Времени», конечно, прекрасно понимала, что фельетон И. Панаева более всего задевает M. H. Каткова и его «Русский вестник», а также значительно менее влиятельные и бесцветные в тот период «Отечественные записки» Краевского и Дудышкина, и вполне солидаризировалась с позицией «Современника».
И. И. Панаев сочувственно реагировал на слухи об организации нового журнала: «… носятся слухи, что гг. Достоевские будут издавать журнал под названием „Время“; кроме того, в 1861 году появится много новых листков и журналов <…> Что ж? все это благо <…> чем более будет журналов, тем лучше, если только они будут вести дело свое честно и способствовать, каждый по мере сил своих, нашему общественному развитию. Нам остается только повторять слова поэта: „Да здравствует разум, да скроется тьма!“».[83]
Еще более сочувственно встретил И. Панаев «Объявление», выделив курсивом главные принципы нового журнала: «Из объявления о «Времени» г-на M. Достоевского мы узнаем, что передовая мысль и девиз этого журнала: примирить цивилизацию с народным началом и поставить себя в совершенно независимое положение от литературных авторитетов. „Мы не побоимся, — говорит редактор в своей программе, — иногда немного и “поддразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хоть и не всегда спасает Капитолий». Объявление это вообще отличается большою смелостию. Что же? И прекрасно. „Смелость города берет“, — говорит пословица; „смелым бог владеет“, — говорит другая пословица…».[84] Вызов, брошенный авторитетам новым журналом, доброжелательно воспринял Некрасов:
Что ты задумал, несчастный?
Что ты дерзнул обещать?..
Помысел самый опасный —
Авторитеты карать![85]
В том же номере «Свистка» Некрасов выступил с «Гимном „Времени“», шуточным, но в то же время и сердечным обращением к новому журнальному «товарищу»:
Доброжелательной критике в том же номере «Современника» подверглось «Объявление» и содержание первого номера «Времени» в статье H. Г. Чернышевского. Смелое отношение «Времени» к авторитетам встретило сочувствие Чернышевского, хотя далеко и не такое горячее, как у Некрасова, что объяснялось остро подмеченными критиком полемическими выпадами нового журнала против Добролюбова и других сотрудников «Современника»: «В объявлении о своем журнале редакция „Времени“ говорила довольно бесцеремонным образом, что не намерена церемониться с авторитетами. Этим обещанием она возбуждала хорошие надежды, но вместе с тем возбуждала во многих и некоторое сомнение. <…> В первой книжке оно («Время». — В. T.) выдерживает свою программу: тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем. В числе других порядком достается и нам; если бы была у нас наклонность претендовать, когда кто судит о нас так же резко, как мы часто судим о других, мы могли бы обидеться (как, без всякого сомнения, уже обиделись многие иные). Но это обстоятельство нисколько не уменьшает нашей наклонности поддержать „Время“ на том пути прямых и смелых суждений, которым думает оно идти. Если бы вздумалось нам поспорить с „Временем“, мы заметили бы, что ошибается оно, когда говорит о статьях, подписанных буквами — бов, как будто об имеющих притязание на авторитетность»[86] Заканчивает статью Чернышевский пожеланием успеха журналу, не затушевывая, однако, несогласия «Современника» с критическими статьями, появившимися в первом номере «Времени»: «Сколько мы можем судить по первому нумеру, „Время“ расходится с „Современником“ в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, „Время“ так же мало намерено быть сколком с „Современника“, как и с „Русского вестника“. Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей».[87] В целом заметками, статьями и стихотворными посланиями своих ведущих сотрудников «Современник» засвидетельствовал свою симпатию благородному и независимому тону, сказавшемуся как в «Объявлении», так и во всем содержании первого номера нового журнала. Чернышевский оказался прав, предсказав обиду на «Время» других солидных и толстых русских журналов. И если «Русский вестник» ненадолго сдержал свое раздражение, то «Отечественные записки» в феврале выступили с очень резкой статьей, в которой подвергли пристрастному обсуждению «Объявление» и первую статью Достоевского из цикла «Ряд статей о русской литературе». Не оставил без внимания С. С. Дудышкин в обзоре «Русская литература и мнения „Времени“ о литературных авторитетах», восприняв филиппики «Объявления» в основном на свой счет: «…ежемесячный журнал „Время“ объявил гонение на авторитеты, которыми будто бы обилует наша литература <…> Но как бы то ни было, журнал, объявивший в своей программе желание <…> уничтожить все литературные авторитеты, или литературных генералов, как он выражается, сделал нам честь обратить первое внимание на нас. Новый журнал ополчился на нас всеми своими стрелами остроумия и глубокомыслия в первой же книжке. Что же это значит? Что мы авторитет? Вероятно, фальшивый. Все-таки лучше хоть какой-нибудь, да авторитет».[88]
Поэт-петрашевец, близкий друг братьев Достоевских A. H. Плещеев в целом сочувственно воспринял объявление «Времени», но выразил свое несогласие с некоторыми программными положениями нового журнала: «Вполне убежденные в том, что г-ном Достоевским руководит желание честно служить литературному делу, мы в то же время никак не можем согласиться с теми словами его программы, где говорится, что „у нас развиты подобострастие, добровольное рабство перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко и нахально высказаны“, и далее, что „только эта нахальность и дерзость доставляет иногда звание столпа и авторитета писателю, получающему таким образом влияние на массу“. Нам кажется, напротив, что в публике нашей начинает развиваться некоторая самостоятельность в суждениях о литературных явлениях. Одним нахальством взять трудно. Если большинство увлекается каким-нибудь писателем, то, значит, он отзывается на потребности, живущие в массе, затрагивает ее живые струны. <…> Что же касается до явлений уродливых, которых не чужда наша, как и всякая другая, литература, то они постоянно встречают и встречали энергический протест со стороны каждого честного литературного деятеля»[89]
«Объявление» (наряду с циклом «Ряд статей о русской литературе») стало программой «Времени», в соответствии с которой журнал и строил свою тактику. Характерно повторение, разжевывание идей «Объявления» в первых номерах «Времени». Так, в рецензии на книгу И. Генслера «Гаванские чиновники в домашнем быту» повторяются принципы литературной критики, изложенные в «Объявлении»: «Что касается до нас, то мы будем останавливаться на каждом замечательном произведении, в каком бы журнале оно ни явилось, точно так же, как на каждой спорной статье, и будем спорить со всеми и обо всем. Читатели наши увидят, что мы не придерживаемся никаких партий, никаких личностей. За немногими исключениями мы уважаем все серьезные издания, потому что все они или по крайней мере большая часть их стремится к одной цели: к прогрессу нашего общества. И именно потому, что уважаем их, и будем спорить с ними: с противником, которого не уважаешь, нечего и связываться» (XXVII, 151). К тезисам «Объявления» часты обращения и в более поздних номерах журнала. Показательна статья «Противоречия и увлечения „Времени“», скорее всего написанная Ф. M. Достоевским или при его активном участии. Здесь вспоминается «Объявление»: «С самого начала мы хотели полемики. В самом объявлении об издании нашего журнала мы сказали, что на критику и на полемику обратим особенное внимание. Скажем более: мы и не можем не быть полемическим журналом. Наши убеждения, и литературные, и политические, и общественные, идут вразрез с убеждениями многих наших журналов. Мы должны отстаивать то, во что верим, и потому и спорим и полемизируем. Прочтите наше объявление об издании нашего журнала на 1861 год, и вы увидите, что мы поступаем совершенно последовательно и что иначе мы и поступать не можем…» (XXVII. 160).
Ряд статей о русской литературе
I. Введение
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1. Отд. II. С. 1–34) без подписи.
На принадлежность Достоевскому «Введения», как и других статей цикла («Г-н — бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Последние литературные явления Газета „День“»), указал H. H. Страхов в списке, переданном им А. Г. Достоевской. В тексте всех статей цикла есть много мест автобиографического характера — воспоминаний о 40-х годах и о периоде каторги и ссылки, прямых и косвенных реминисценций из других произведений Достоевского.
Достоевский, как об этом свидетельствует письмо его от 13 апреля 1856 г к A. E. Врангелю, еще тогда собирался обратиться к публицистической деятельности и даже выступить со статьей остро политической: «Я говорил Вам о статье об России. Но это выходил чисто политический памфлет. Из статьи моей я слова не захотел бы выкинуть. Но вряд ли позволили бы мне начать мое печатание с памфлета, несмотря на самые патриотические идеи». Отказавшись от замысла памфлета с патриотическими идеями, Достоевский принялся за статью «Письма об искусстве»: «Статья моя плод десятилетних обдумываний <…> Будет много оригинального, горячего <…> В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. Это собственно о назначении христианства в искусстве» (XXVIII, кн. 1, 229).
Замысел «Писем об искусстве» с включением памфлетных глав из другой статьи, «политической», — отдаленное предвестие «Ряда статей о русской литературе». Здесь была осуществлена и идел сращения политического памфлета с письмами эстетическими, правда, не «о назначении христианства в искусстве», а о социальном и эстетическом назначении литературы. Ценно и свидетельство о давнем стремлении выступить с литературно-критическими статьями: фактическим подтверждением этого признания является объяснение Ф. M. Достоевского Следственной комиссии.
О замысле цикла статей, но с несколько измененным заглавием, сообщает Достоевский и брату в письме от 3 ноября 1857 г.: «Хотел было я, под рубрикой „писем из провинции“, начать ряд сочинений о современной литературе. У меня много созревшего на этот счет, много записанного, и знаю, что я обратил бы на себя внимание. И что же: за недостатком материалов, то есть журналов за последнее десятилетие, — остановился» (XXVIII, кн. 1, 288). Идея цикла стала конкретнее, и злободневнее становится контур будущего цикла осенью 1858 г.; Достоевский сообщал 13 сентября брату о том, что им «вписано и набросано несколько литературных статей <…> о современных поэтах, о статистическом направлении литературы, о бесполезности направлений в искусстве, — статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное легко» (XXVIII, кн. I, 316).
Возвращение в Петербург, дискуссии в кружке А. П. Милюкова способствовали уяснению содержания «Ряда статей о русской литературе». После разрешения издания «Времени», в сентябре — ноябре 1860 г. была окончательно обдумана и написана первая статья — «Введение». Тогда же в общих чертах была продумана и вторая, уже всецело и непосредственно литературная, — «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Первоначально предполагалось, что цикл будет большим и статьи под этой рубрикой будут появляться регулярно, в каждом номере «Времени». Достоевский не смог выполнить данного читателям обещания: работа над «Униженными и оскорбленными», «Записками из Мертвого дома», писание полемических статей, требовавшихся срочно и все в большем числе, огромный редакторский труд — не позволили ему осуществить замысел «Ряда статей о русской литературе» в первоначально намечавшемся объеме; в марте цикл прерывается надолго — до июля; затем после августа — вновь перерыв на два месяца — до ноября; в декабре — статьи опять нет, а в 1862 г., как и в последующие годы, цикл уже не возобновляется.
В «Ряде статей о русской литературе», в сущности, нет единой скрепляющей идеи. Но это и не просто статьи, написанные по различным поводам: во всех статьях цикла на первом плане — русская литература, ее социальные, воспитательные, эстетические функции, история ее развития и развития русской критики, которая, по мнению Достоевского, есть «повесть <…> нашего роста». Именно под таким углом зрения рассматривает Достоевский творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Щедрина, Толстого во «Введении»; деятельность Белинского и В. H. Майкова — в следующей статье об искусстве. Поэтому-то он и полемизирует так остро с критиками других направлений, будь то С. С. Дудышкин, H. А. Добролюбов, M. H. Катков, славянофилы, упрекая их всех в утилитарном подходе к ярким и знаменательным фактам русской духовной жизни, что равносильно было, по Достоевскому, утрате чувства реальности, теоретической слепоте, одностороннему «доктринерству». В этом смысле все статьи, очень различные по тематике, по объектам полемики и жанру, едины, целенаправленны и программны. Они определили не только отношение журнала к русской литературе и критике прошлого и 1860-х годов, но и общественно-политическую ориентацию «Времени». Объединяет статьи цикла также и то, что они по смыслу и тону строго выдержаны в духе «Объявления». Заявленная в нем вражда к литературному «кумовству», борьба с литературными авторитетами ведется в них неуклонно и беспрестанно. Литературные и общественно-политические мнения «Отечественных записок», «Современника», «Русского вестника», «Дня» подвергнуты строгому разбору, продемонстрировавшему отсутствие пристрастия Ф. M. Достоевского к какой-либо одной, определенной из существовавших литературных партий. «Ряд статей о русской литературе» представляет собой в более широком смысле развитие главных тезисов «Объявления об издании „Времени“», развертывание и уточнение основных пунктов намеченной там программы; именно здесь, особенно во «Введении:» и «Книжности и грамотности», формулируются центральные положения «почвенничества». А в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» содержится эстетическая и литературная программа журнала. К «Ряду статей о русской литературе» в разной степени тяготеют почти все другие материалы в критических и общественно-политических отделах «Времени»; статьи данного цикла — как бы главный ориентир и идейно-эстетическая доминанта журнала, допускающая отклонения и в сторону радикально-демократической, и в сторону славянофильской линии. Такого рода колебания и довольно широкая свобода мнений (корректировавшаяся, правда, редакционными примечаниями) были предусмотрены исследовательским, «недогматическим», открытым духом журнала.
В записной книжке (не позднее июня 1861 г.) Достоевский планировал ряд тем очередных статей цикла:
«Непременно разборы
„Читальник“
По поводу одной рецензии
Авторитеты (и Чернышевский)
Кузьма Прутков
Поэтики Всеволод Крестовский, Д. Минаев, Николай Курочкин и проч.
Кохановская
Гончаров» (XX, 168).
Из этих замыслов был осуществлен только один: разбор «Читальника» H. Ф. Щербины («Книжность и грамотность»).
«Введение» открывает «Ряд статей о русской литературе» и в большей степени, чем последующие статьи, носит обобщающе-теоретический характер, давая углубленное развитие почти всех сжато изложенных в объявлении о подписке общественно-политических и идеологических положений. «Введение» по праву может быть определено как манифест «почвенничества». Именно так оно и было воспринято журналистикой 1860-х годов.
Выше говорилось, что в «Объявлении» могли найти отражение идеи политического памфлета, о котором Достоевский сообщал A. E. Врангелю в 1856 г. Памфлет Достоевского, по-видимому, был задуман как ответ на антирусскую кампанию в Англии и Франции в период Крымской войны; подтверждением такому предположению служит следующая фраза из «Введения»: «Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков». К 1850-м годам возвращает нас и язвительное ответное замечание на разглагольствования иностранцев о качествах русского солдата: «… полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу» «Введение» Достоевский строит как диалог с воображаемыми собеседниками-европейцами. Статья 1856 г. получилась бы, вероятно, горячее и почти целиком явилась бы ответом на пристрастные и враждебные памфлеты английских и французских публицистов, появившиеся в период Крымской войны. E. В. Тарле так характеризует поток западных книг о России тех лет: «Война 1853-55 гг. породила довольно много книг и памфлетов о России — либо справочного характера, либо враждебно-шовинистического».[90]
Во «Введении» Достоевский из памфлетной литературы периода Крымской войны непосредственно коснулся лишь суждений западных публицистов о русском солдате. Зато Достоевский возвращается к книге А. де Кюстина «Россия в 1839.» (La Russie en 1839. Par Le Marquis de Custine), с которой он полемизировал еще в «Петербургской летописи». Во «Введении» автор прямо повторил некоторые из прежних иронических замечаний, но значительно расширил круг объектов полемики. Она носит обобщенный характер, мнение европейцев о России берется в суммарном виде: при всех существенных различиях воззрения немцев и французов оказываются одинаково неверными и ложными, «европейскими»; под эти мерки явно не подходит самобытная Россия. Достоевский анализирует (хотя изложение ведется в первых главах в легком фельетонном стиле, но эта легкость обманчива) общественное мнение Европы о России на разных уровнях и в разные времена: тут и политические враждебные памфлеты периода Крымской войны, и книги «заезжих путешественников, баронов» и «преимущественно» маркизов (намек на Кюстина), и «знаменитые сочинения» немцев, посвятивших много лет изучению России, и мнения «рядовых» представителей французской и германской наций — булочников, колбасников, управителей имений, парикмахеров, гувернеров и писателей, пытавшихся создать произведения на материале русской истории и жизни.
Первый параграф «Введения» посвящен теме, суть которой сжато выражена в заглавии статьи А. С. Хомякова — «Мнение иностранцев о России» (1845); большая часть второго параграфа соответствует заголовку другой статьи Хомякова — «Мнение русских об иностранцах» (1846). Частично мысль Достоевского соприкасается и по существу с тезисами и выводами Хомякова, так суммировавшего западные мнения о России: «Мнение Запада о России выражается в целой физиономии его литературы, а не в отдельных и никем не замечаемых явлениях. Оно выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание есть ругательство над Россией, а единственное достоинство — явно высказанная ненависть к ней; оно выражается в тоне и в отзывах всех европейских журналов, верно отражающих общественное мнение Запада».[91] Развивает Достоевский и другой тезис Хомякова — о незнании и непонимании друг друга главными странами Европы и об особом, более выгодном в сравнении с ними положении России: «В примере Англии можно видеть, что западные народы не вполне еще познали друг друга. Еще менее могли они познать себя в своей совокупности; ибо, несмотря на разницу племен, наречий и общественных форм, они все выросли на одной почве и из одних начал. Мы, вышедшие из начал других, можем удобнее узнать и оценить Запад и его историю, чем он сам…».[92]
Не меньше оснований говорить о моментах, сближающих позицию Достоевского с позицией Белинского и Герцена. Достоевский развивает, усиливая его, тезис Белинского из статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года» о способности русского человека перенимать и воспринимать с необыкновенной чуткостью все европейское: «Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами; другие выводят из этого весьма печальные заключения насчет бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра <…> мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания…».[93] Даже небольшие рецензии Белинского остаются в поле внимания Достоевского 1860-х годов. Запомнился писателю, в частности, язвительный отзыв критика о романе Ипполита Оже «Петруша» (Auger Hippolyte. Petroucha: Moeurs russe. СПб., 1845), разрекламированном «Северной пчелой».[94] Белинский писал здесь: «… нельзя изображать нравов народа, о котором мы имеем только легкое и поверхностное понятие. <…> В романе г-на Оже так же нет русских нравов, как нет характеров и лиц; а если что в нем есть, так что разве общие места, бледные описания, реторика и скука, да еще русские имена…».[95] Иронические слова Достоевского о французе, создателе «истинной» повести «Petroucha» «из русских нравов», восходят к этой оценке Белинского.
К произведениям Герцена Достоевский обращается еще чаще. По свидетельству Страхова, Достоевский в начале 1860-х годов относился к творчеству Герцена «очень мягко».[96] Таким же, видимо, было и отношение к Герцену M. M. Достоевского. Косвенные подтверждения доброжелательной позиции Достоевских содержатся в письмах и произведениях А. Григорьева, который выражал Страхову свое неудовольствие осторожной политикой «Времени», жаловался на M. M. Достоевского, требовал полного разрыва с «Современником», удаления из журнала A. E. Разина. Григорьев утверждал свое право на независимый курс, свое нежелание быть «рабом» какого бы то ни было направления, в том числе направления братьев Достоевских. Он заявлял Страхову в письме от 18 июня 1861 г.: «Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте — чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить — хотя бы даже с Герценом (курсив наш. — В. Т.), в чем он неправ».[97] Слова о Герцене свидетельствуют о высоком авторитете издателя «Колокола» для редакции «Времени». Неизменно уважительны, кстати, были и почти все отзывы о Герцене самого А. Григорьева: «один великий писатель», «гениально остроумный автор писем о дилетантизме в науке»;[98] к образам «Былого и дум» обращается Григорьев в своих воспоминаниях «Мои литературные и нравственные скитальчества» и в статье «Стихотворения Некрасова». Григорьев с вполне понятной симпатией встретил некролог Герцена, посвященный А. С. Хомякову, и полемику «Колокола» с «Современником».[99]
Достоевский во „Введении“ по цензурным соображениям ни разу не упоминает имени Герцена, но несомненно вводит в текст статьи слегка завуалированные цитаты из его произведений. «Введение» начинается вариацией на характерную герценовскую тему: «Никто не знает как следует, что же собой представляют эти русские, эти варвары, эти казаки; Европа знает этот народ лишь по борьбе, из коей он вышел победителем. Цезарь знал галлов лучше, чем современная Европа знает Россию».[100] Говоря о каких-то немцах вообще, потративших много сил на изучение русского языка и литературы и решающихся «перевести „Россияду“ Хераскова на санскритский язык», Достоевский безусловно вспоминает Д. П. Голохвастова, племянника отца Герцена, и одну его отроческую причуду, о которой рассказывается в «Былом и думах»: «Четырнадцати лет он не только участвовал в управлении именьем, но перевел на французский язык в прозе всю „Россияду“ Хераскова для упражнения в стиле».[101]
Достоевскому была дорога вера в возможность для России иного, «немещанского», неевропейского пути, — вера, пропагандируемая Герценом в статьях «Россия» (1849), «Русский народ и социализм» (1851). «Русское крепостничество» (1852), «Русские немцы и немецкие русские» (1859). Герценовская критика западных книг о России всецело разделялась Достоевским. «Западные публицисты, — писал Герцен в «Русских немцах и немецких русских», — с тем несокрушимым упрямством, которое, им дает ненависть к России и невежество, смеются, когда мы говорим о великом историческом значении нашего освобождения крестьян с землею. А нам кажется вопрос этот до того важным, что одно постановление его ставит нас совсем на другую ногу с Европой…». На такую точку зрения, в сущности, становился и Достоевский. Он был убежден, что все русские недоразумения разрешатся. Достоевский пишет: «… наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов». «Поэт» — это А. И. Герцен, писавший в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXX «Не наши»): «Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни, — сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором: они равно спрашивали: „Что же из этого будет? Так жить невозможно, тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?“». Скорее всего именно эту главу «Былого и дум» имеет в виду Достоевский, вопрошая:. «Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам?».
Сочувственное и доброжелательное отношение Достоевского к Герцену долго оставалось неизменным, о чем говорят и его встречи с Герценом в Лондоне. Мнение Герцена для Достоевского в начале 60-х годов было особенно авторитетным, а независимость и известная «промежуточность» позиции импонировала: нечто близкое в понимании писателя герценовскому «русскому социализму» он стремился сформулировать в своей почвеннической программе. Сильное впечатление произвели на Достоевского полемические статьи Герцена «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики»: он охотно использует герценовскую защиту «лишних людей» от «желчевиков», иронические портреты «Невских Даниилов», полностью разделяет мысль Герцена о недопустимом тоне статей руководителей «Современника» против либералов. Перелом наступил позже, когда политическая публицистика Герцена, вызванная польскими событиями, отшатнула от него славянофильские и либеральные круги России и поколебала необыкновенно высокую до этого в глазах Достоевского репутацию лондонского «пропагандиста». Первое свидетельство происшедших изменений датируется 1864 г.; растерянная запись Достоевского, нигде не находящего руководителей современного общества: «Кумиры западнические разбились (Герц<ен>), но внутри у нас только Катков. Но общество требует нравственной приманки, требует любить, уважать и идолопоклоняться. А нравственной приманки у г-на Каткова нет никакой. Остается Акс<ако>в?» (XX, 195). В 1860 г., когда создавалось «Введение», до такого пессимистического подведения итогов было еще далеко.
Начиная со второго параграфа, Достоевский переходит к изложению позитивной программы. Отходя от фельетонной манеры повествования, он аргументирует необходимость другого тона — «патетического». В 3-м, 4-м и 5-м параграфах развертывается общественно-политическая программа журнала. Развиваются основные тезисы «Объявления»: говорится о необходимости обращения высших слоев, оторванных от народа реформами Петра, к «почве», причем первый шаг к сближению, «новой деятельности» обязано сделать образованное меньшинство. Выражается убеждение, что все современные разногласия — плод недоразумения и молодости общества. По сравнению с объявлением усилен тезис о несхожести русского пути развития с западным, говорится даже о «физическом» различии. «Кровь», «дух», «почва», «инстинкт», «характер», «природа», «идеал народный» — вот понятия, которыми оперирует Достоевский, определяя коренное отличие русского «типа культуры» от западного и провозглашая на этом основании мирный, согласный, «любовный» путь развития России. Достоевский утопически верует в то, что «последние фактические <…> препятствия» к сближению сословий устранил манифест Александра II о крестьянской реформе.
Достоевский полагает, что образованное сословие России должно принести народу науку, представив ее «как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним…». Здесь мысль Достоевского вновь ближе всего соприкасается с герценовскими тезисами, далекими от крайностей воззрений «западнической» и «славянской» партий, и — что для Достоевского очень существенно — центральной задачей века объявлявшими свободу личности: «Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставим ее в ее иконописном склепе. Не петербургский период должен продолжаться в своем немецком мундире; он не может идти далее, не изменив себе; его граница обозначена тем же забором, перед которым остановилась Европа. <…> Задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутая по неизвестным путям, развитие Запада. Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтоб у свободной личности земля осталась под ногами и чтобы общинник был совершенно свободное лицо».[102] Безусловно сочувствие Достоевского вызвали рассуждения Герцена о желательности и преимуществах мирного пути развития событий в России.
Этико-психологическая точка зрения, доминирующая во «Введении», определяет содержание конечного, итогового вывода Достоевского, не ограничивающегося констатацией коренных отличий России от Европы, но идущего в утверждении ее исторической миссии значительно дальше, чем Герцен: «И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; <…> и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою». Веру в то, что в русском характере есть резкая особенность, отличающая его от европейского, — «способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности», — сохранит Достоевский и позднее, повторив мысли «Введения» в Пушкинской речи.
Практическая позитивная программа «Введения» согласуется с тезисами «Объявления»: грамотность и образование — народу. В этой связи во «Введении» писателем с удовлетворением отмечается успех воскресных школ и ведется полемика с теми, кто, подобно В. И. Далю и И. С. Беллюстину, выступили со статьями о вреде грамотности для простонародья. Задаче распространения грамотности в народе редакцией придается первостепенное значение; это главное, на чем должно сосредоточить свои усилия образованное сословие. Отсюда призыв Достоевского снизойти до крестьянского мальчика, оставив отвлеченные теоретические споры и рассуждения о всечеловеческом благе.
Достоевский остается верея во «Введении» принципу независимости обсуждения любых «авторитетных» мнений, провозглашенному им в программе журнала. Он в равной степени задевает здесь «Русский вестник» и «Современник», но более всего — «Отечественные записки». Чаще всего, однако, полемика Достоевского не имеет вполне точного, строго определенного адреса. Писатель преднамеренно обобщает свои наблюдения над явлениями современной журналистики и типизирует их, говоря о «крикунах», «фразерах», «теоретиках». Характерный пример: тирада о «золотых», открывающая четвертый параграф. Она может быть отнесена к журналистам всех направлений, ко всем рутинерам и посредственностям, которые «опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу». Достоевский считает существование различных мнений и теорий естественным, неотъемлемым последствием «благодетельной гласности», прямо высказывает свою симпатию «мальчишкам» и «свистунам» (так именовала либеральная и консервативная пресса публицистов «Современника», «Искры», а с 1861 г. и «Русского слова», причем особенно усердствовал в этом смысле M. H. Катков), не находит ничего ужасного даже в самых резких статьях и фельетонах радикально-демократической прессы. Главный враг, по убеждению Достоевского, — «золотая посредственность, претендующая на первенство», самолюбивые и высокомерные ординарности, имеющиеся в каждой литературной партии. Они мешают устранению многочисленных недоразумений, раздирающих общество. Против них, в первую очередь, и обращена критика Достоевского, в них он видит главное препятствие для сближения и соединения различных групп образованного сословия. По отношению же к господствующим мнениям в обществе Достоевский занимает подчеркнуто нейтральную, независимую позицию. При этом Достоевский высказывает мысли, уже опробованные ранее, проверенные действительностью 40-х годов: тирада Достоевского, так же как и размышления о «байронических» и «талантливых» натурах, во многом восходят к публицистическому отступлению в «Маленьком герое» о породе умных людей, к которым принадлежит m-r M.* Развивая авторские мысли из «Маленького героя», тирада о «золотых» во «Введении» подготавливает позднейшее отступление об «ординарных» людях в «Идиоте» и еще в большей степени рассуждения писателя об идее, «попавшей на улицу».
Литературные проблемы во «Введении» специально не затрагиваются, хотя по ходу изложения главных мыслей Достоевский постоянно обращается к мотивам и образам Лермонтова, Григоровича, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Герцена и других, спускается на литературное «дно», задевая мимоходом фигуру третьестепенного писателя H. В. Сушкова, мельком упоминая различных литературных знаменитостей времени — Случевского, Розенгейма, Панаева. Достоевский, однако, вовсе не ограничивается чисто иллюстративным использованием литературы для образного подтверждения своих публицистических идей. В третьей главке «Введения», рассказывая «нашу собственную повесть, повесть нашего развития, нашего роста», Достоевский строит ее на литературном материале, начинает с 1840-х годов, с «натуральной школы» и «Отечественных записок», характеризует различные социально-психологические типы тех лет и двух «демонов», формировавших дух и направление эпохи, — Гоголя и Лермонтова. Заканчивает Достоевский духовную историю людей своего поколения современной минутой — «обличительной» литературой, Щедриным, Островским. Творчество Островского во «Введении» интерпретируется очень близко по смыслу к тезисам статьи M. M. Достоевского о «Грозе» в «Светоче». Одно из мест «Введения» прямо отсылает читателя к статье M. M. Достоевского: „Мы уже говорили не раз, что веруем в его (Островского. — В. T.) новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова“. В том же «почвенническом» духе Достоевский выделяет в «Губернских очерках» лично близкий ему и многознаменательный пласт идей, образов, мотивов. Замечание о благотворности для другого бывшего петрашевца — Щедрина временного отрыва от петербургской жизни автобиографично, соотнесено с собственной судьбой Достоевского. Народных героев «Губернских очерков» и лирические размышления Щедрина Достоевский, по-видимому, воспринял как близкий аналог своим каторжным наблюдениям, запечатленным в «Записках из Мертвого дома». Это относится к матушке Мавре Кузьмовне и старцу-скитнику, напомнившим Достоевскому раскольников-начетчиков каторги, и особенно — к Палагее Ивановне, чья «благотворительная» деятельность вызвала следующее размышление Щедрина: «Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое, сияющее добродушием и искренностию лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны — вещь материально невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется».[103]
Свои идеологические построения Достоевский во многом строит, следуя «типологии» Салтыкова-Щедрина, использует его образы и классификации для обозначения идейно-психологических процессов русской жизни: талантливые и байронические натуры, озорники, живоглоты, губернские и департаментские Мефистофели, Печорины и Гамлеты. Ироническая повесть о судьбе байронических натур в третьей главке «Введения» — параллель рассуждениям Щедрина о печоринстве и губернских Мефистофелях: «В провинции печоринство приняло совершенно своеобразные формы; оно утратило свой демонический характер, свою прозрачность и нежность, которыми в особенности привлекает к себе симпатии дам, и облеклось в свой будничный, плотяный наряд <…> Общее у всех этих господ: во-первых, „червяк“, во-вторых, то, что на „жизненном пире“ для них не случилось места, а в-третьих, необыкновенная размашистость натуры».[104]
Для Достоевского «Губернские очерки» — пример того, как злободневность произведения счастливо сочетается с высокими художественными достоинствами, поэтому нападки сторонников «чистого» искусства на Щедрина он вскоре оценил в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» как выражение доктринерской точки зрения. Щедрин, по мнению Достоевского, высказанному в статье «Два лагеря теоретиков» (1862), — выразитель народной черты, которую он называл способностью к самоосуждению, преемник Гоголя. Оба они представители той «отрицательной» литературы, «которая гораздо живучее, жизненнее, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма».
Достоевский завершает «повесть нашего развития», нарушая хронологическую последовательность рассказа, небольшим «словом» о Пушкине, личность и творчество которого в глазах его являются самым ярким, неотразимым аргументом, подтверждающим реальность и справедливость его пророчеств и упований: «Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность». Этими словами логично замыкается круг проблем, поднятых во «Введении».
«Введение» в целом встретило в прессе хороший прием. «Северная пчела» выразила удовлетворение объективным и «внепартийным» духом как статей Достоевского, так и вообще содержанием январского и февральского номеров «Времени»: «…редакция высказала много честных, благородных, широких взглядов, чуждых мелкого педантизма, грубой нетерпимости и всего того, что отличает фанатизм партии или деспотизм авторитета, всегда неприятно действующие на самостоятельного человека, который дорожит свободою мнений не только своих, но и чужих».[105]
A. H. Плещеев в весьма сочувственном обзоре содержания январского номера «Времени» особенно выделил литературный отдел журнала. По поводу «Введения», открывающего цикл «Ряд статей о русской литературе» он писал: «Нетерпеливо ждем продолжения статей о современной литературе. В первой статье, если хотите, не заключается ничего особенно нового; но ведь и старые вещи, высказанные умно и талантливо, читаются с удовольствием, иногда даже бывают полезны».[106] Благосклонно, хотя и сдержанно отозвался о первом номере «Времени» в «Современнике» H. Г. Чернышевский. Только значительно позднее, в период ожесточенной полемики «Времени» и «Современника» M. А. Антонович даст общую резкую оценку «почвенничества» и деятельности журнала Достоевских, не выделяя особо и «Введения». Так, в статье Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)»[107] критик в уста «беллетриста Сысоевского» вкладывает набор цитат из объявлений «Времени», «Введения», «Книжности и грамотности».
«Русский вестник» вступил в полемику с «Временем» не сразу, обойдя сначала молчанием содержание «Введения». Идеи «почвенничества» были враждебно встречены M. H Катковым. Откровеннее всего на этот счет Катков высказался в 1863 г., уже после закрытия «Времени»: «Народные начала! Коренные основы! А что такое эти начала? Что такое эти основы? Представляется ли вам, господа, что-нибудь совершенно ясное при этих словах? Коль скоро вы, по совести, должны сознаться, что при этих и подобных словах в голове вашей не рождается столь же ясных и определенных понятий, как при имени хорошо известного вам предмета, то бросьте эти слова, не употребляйте их и заткните уши, когда вас будут потчевать ими».[108]
Единственный печатный орган, в котором «Введение» было подвергнуто придирчивому разбору, были «Отечественные записки». С. С. Дудышкин имел все основания быть недовольным содержанием и объявлением об издании «Времени» и «Введением», как и всем первым номером журнала. Ведь почти все выступления в критическом его отделе так или иначе задевали «Отечественные записки» и, естественно, руководителей журнала — А. А. Краевского и С. С. Дудышкина. «Отечественные записки» были особо выделены и во «Введении» ироническим предупреждением Достоевского читателю: «Ради бога, пуще всего не верьте „Отечественным запискам“, которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахнет ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них». В февральском номере «Отечественных записок» (обзор «Русская литература») С. С. Дудышкин в ответ уделил видное место журналу «Время», преимущественно остановившись на «Объявлении» и «Введении», которые он подверг тщательному и пристрастному анализу буквально по всем пунктам. Коротко изложив содержание «Введения», Дудышкин сопроводил его изложение ироническими комментариями, упирая на эклектичность и несамостоятельность теоретических построений Достоевского, произвольное соединение в программе «Времени» западнических и славянофильских концепций: «Если читать это рассуждение сверху вниз, то выйдет нечто похожее на прежнее славянофильство сороковых годов: оригинальность русской жизни, русский дух, русская истина, всепримиряющая любовь, предназначение русской цивилизации поглотить все цивилизации мира, потому что русский человек говорит на всех языках и безличность составляет его лучший характер. Если читать то же, только снизу вверх, то выйдет благодетельность западной науки и цивилизации со времен Петра до нашего времени, очищение этой наукой русского духа и русской истины, огрубевшей в древней Руси, — это уже принадлежит западникам. Отсутствие сословной вражды на Руси — мнение славянофилов, которое они допускали в древней Руси, но не в новой, давшей другое направление этому вопросу. „Время“, приняв мнение славянофилов, сделало ошибку, которой те не делали, потому что допускали в новой Руси только извращение чисто русских начал. Приняв от славянофилов таинственное слово любовь, „Время“ дало ему опять непонятное значение <…> „Время“ понимает любовь как истинное, неподдельное стремление выучить народ на западный манер и поставить его наряду с классами образованными. Здесь любовь является как субъективное желание редакции журнала „Время“ <…> Если же смотреть на статью и снизу вверх и сверху вниз разом, то выйдет маскированное желание, высказанное прежде другими, примирить западную науку с народностью — задача, которую не раз высказывали прежде „Времени“. <…> Вы взяли от славянофилов все то, что у них было фразой, упустили из виду смысл, и зато одели эти фразы тою развязностью, которою владеют господа, читающие одни введения в книги».[109] Дудышкин возвращает редакции журнала ее иронические замечания об «Отечественных записках» и оценивает позицию Достоевского как промежуточную и неопределенную.
II. Г-н — бов и вопрос об искусстве
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861, № 2) без подписи.
В тексте статьи содержится прямое указание на авторство Достоевского. «В январской книжке нашего журнала, оканчивая введение в „Ряд статей о русской литературе“, мы обещали…» (с. 50). Первоначально, как видно из сохранившегося чернового наброска, статья называлась «Господин — бов и художественность» и имела общий заголовок «Литературные странности».
В статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» Достоевский подверг критическому анализу статьи H. А. Добролюбова «Черты для характеристики простонародья» (1860) и «Стихотворения Ивана Никитина» (1860). Полемизируя со взглядом Добролюбова на искусство, Достоевский излагает свою эстетическую программу, в ряде пунктов восходящую к идеям, изложенным им еще в 1849 г. в «Объяснении» Следственной комиссии по делу петрашевцев. Тема «литературного» спора Достоевского с Петрашевским, в котором его поддержали С. Ф. Дуров и А. И. Пальм, предваряет основные эстетические тезисы статьи 1861 г. Уже в 1849 г. Достоевский заявил, «что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою, ибо она необходимое условие художественности» (XVIII, 129). Споры на близкие темы в 1840-х годах, по свидетельству Достоевского, он вел и с В. Г. Белинским (XVIII, 127). Упреки, высказанные в 1840-х годах Белинскому и Петрашевскому, Достоевский в 1861 г. переадресует их продолжателю — Добролюбову.
M. M. Достоевский, разделявший мнения брата, также писал, отвечая на вопросы Следственной комиссии по делу петрашевцев: «Мое мнение <…> состоит в том, что искусство <…> не должно подчиняться идеям, а в художественных образах воспроизводить действительную жизнь так, как она есть. Иначе это будет не произведение искусства, а вялые диссертации на заданную тему. Лица в них не будут живыми лицами, а какими-то бесцветными силлогизмами, сухими цифрами, которыми автор будет силиться доказать свою задачу».[110] Еще ранее, вероятно, не без влияния брата, M. M. Достоевский пишет статью «Петербургский телеграф. Сигналы литературные».[111] Рассуждения M. M. Достоевского в этой статье о различии догматического (или временного) и вечного искусства, о средствах, цели и пользе в известной степени отражали устойчивое мнение Ф. M. Достоевского. Не отрицая полезности искусства догматического, M. M. Достоевский отдавал предпочтение искусству вечному, противостоя тем самым «утилитарным» требованиям критики.[112] Весьма вероятно, что такой акцент статьи был полемически направлен против последних отзывов Белинского о произведениях Ф.М. Достоевского, отражая стремление писателя отстоять право на независимость от указаний критики.
В 1860 г. M. M. Достоевский выступил со статьей об Островском.[113] Не отказываясь от своих прежних убеждений о преимуществах вечного искусства перед догматическим, M. Достоевский в то же время кое в чем уточняет и разъясняет свою прежнюю мысль. Он не высказывается против социальных функций искусства, не считает ненормальным или унизительным для художника поставить свое творчество на службу той или иной тенденции, но выступает против тенденциозной критики, определяющей в зависимости от общественно-политической ориентации полезность и художественность произведения: «Изображая просто жизнь или даже малейшую частицу жизни, одну капельку из этого беспредельного моря, искусство изображает и идеи, присущие этой частице, этой капле. Мы нисколько не хотим порицать произведений, созданных под влиянием известной идеи. Если идея светла и гуманна, если произведение запечатлено талантом, то оно будет не менее прекрасно и не менее долговечно».[114] В статье об Островском M. M. Достоевский отошел от некоторых крайностей своей эстетической позиции 1840-х годов, — возможно, не без воздействия Ф. M. Достоевского.
Многие положения статьи Φ Μ. Достоевского, полемически направленные против утилитаристов, соприкасаются с тезисами эстетической теории Шиллера. В этом можно усмотреть результат непосредственных творческих контактов писателя со старшим братом, переводчиком и большим знатоком Шиллера и Гете. M. M. Достоевскому принадлежит перевод не только драмы «Дон-Карлос» (1787) (ее героя маркиза Позу Достоевский упоминает в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве»). но и эстетического трактата «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) Мысли Достоевского о красоте, идеале, гармонии, «пользе», неотъемлемом праве художника на независимое, свободное творчество близки к идеям, изложенным Шиллером как в упомянутом трактате, так — еще в большей степени — в «Письмах о „Дон-Карлосе“» (1788) и «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1793–1794).[115]
Но еще гораздо больше оснований говорить о влиянии на эстетические идеи Достоевского взглядов Пушкина, к произведениям которого для подтверждения собственной мысли и для полемики Достоевский постоянно обращается, вставляя в текст статьи прямые или слегка переиначенные пушкинские цитаты. Позитивная часть статьи — своего рода импровизация на пушкинскую тему: «Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением» («Египетские ночи», 1835). Достоевский выдвигает как «первый закон в искусстве» — свободу вдохновения, следуя заветам Пушкина. Но он этим не ограничивается, оставаясь и в 1860-х годах во многом человеком 1840-х годов, разделяя характерный для петрашевцев, Герцена и Белинского интерес к социальной анатомии (или «патологии»), оперируя обычными для 1840-х годов категориями даже в тех случаях, когда речь идет о классических эстетических категориях, в том числе представлениях о красоте, идеале, назначении искусства. H. H. Страхов, со своей стороны, говоря о преобладающих интересах и разговорах в кружке Милюкова, в котором своими людьми были братья Достоевские, вовсе не обнаружил там симпатий к теориям чистого искусства и немецкой идеалистической эстетике: «Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы. Политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник, по этому взгляду, должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным <…> Дело художественных писателей полагалось главным образом в том, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимуществено низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием среды, под влиянием окружающих обстоятельств».[116] То, что Страхов обозначает как влияние французской литературы, было эстетико-культурной программой Белинского и петрашевцев, отголоском споров 1840-х годов. В статье «Г-н— бов и вопрос об искусстве» (как и в других статьях 1860-х годов) Достоевский не только не отказывается от идеологического и литературного наследства 1840-х годов, но и заявляет себя во многих отношениях прямым продолжателем этих традиций. Не случайно статья начинается с воспоминаний о 40-х годах: о Белинском, В. Майкове, истории перехода Белинского из «Отечественных записок» в «Современник», начале критической деятельности С. С. Дудышкина.
Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861) не без грусти писал о том «гуманическом» направлении, к которому принадлежали и писатели-петрашевцы Салтыков-Щедрин и Достоевский, обнаруживая в современной литературе явный регресс по сравнению с эпохой 40-х годов: «Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действенное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем он страдает и всего боится: с любовью и болью начинали приниматься за патологическое исследование подобных вопросов, и если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших». Не исключено, что приведенные слова — отклик критика на воспоминания Достоевского о 1840-х годах, открывающие статью «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Композиционно статья Достоевского строго делится на несколько частей: после краткого иронического очерка истории журнала «Отечественные записки» со времен ухода в «Современник» Белинского и до объявления о подписке на 1861 г. следует предисловие, воссоздающее современную ситуацию в литературно-журнальном мире. Затем Достоевский переходит к разбору рассказов Марка Вовчка и статьи Добролюбова о них. Постепенно разбор переходит в принципиальную полемику с критиком Параллельно Достоевский очерчивает основные пункты собственной своей эстетической программы. В заключительной части, кратко повторив ранее заявленные тезисы, он завершает спор полемикой со статьей Добролюбова «Стихотворения Ивана Никитина».
Статья остро злободневна. Особенное внимание Достоевский уделяет трем последним крупным «литературным» скандалам: объявлению «Отечественных записок», статье H. H. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы»[117] и воспоминаниям И. И. Панаева. Объявление «Отечественных записок» иронически названо «историческим», как достойно венчающее богатый «литературными скандалами» I860 г. Достоевский поэтапно восстанавливает карьеру ведущего критика журнала С. С. Дудышкина и зло комментирует напыщенные слова написанного им и Краевским объявления о достижениях литературно-критического отдела журнала после ухода из него Белинского: «Блистательная деятельность Белинского в нашем журнале всем памятна: он исчерпал все чисто литературные вопросы и свел с фальшивых пьедесталов те имена, которые противоречили его убеждениям; он же коснулся и двух других сторон нашей литературы: ее отношения к нашей народной жизни и к современному обществу — но только коснулся: дальнейшее развитие их принадлежит последующему времени.
С 1848 г. критика чисто эстетическая и философская мало-помалу начала уступать место другому направлению — историческому, в обширном смысле этого слова, совершенно нетронутому до того времени. Направление это, приложенное в широких размерах не только к литературе XVIII и XIX веков, но и допетровской, тесно связанное с разысканиями в жизни народной, показало, что в этой жизни есть многое, что литература современная должна себе усвоить, по крайней мере на что она не имеет права смотреть так презрительно, как смотрела до того времени. Наш журнал с 1848 года сделался проводником этого исторического направления в литературе, которое во многом изменило прежний отвлеченный взгляд на русское общество и на старинную литературу, так тесно связанную с обществом».
Достоевский издевается над этими словами программного объявления «Отечественных записок», оценивая их не только как саморекламу, но и как умаление значения Белинского, к деятельности которого Достоевский в 1861 г. относится благоговейно, находя, что «в двух страницах» критика «сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности „Отечественных записок“ с 48 года до наших времен». Начиная со статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве» Достоевский активно включается в споры вокруг наследия Белинского. В статье „Свисток“ и „Русский вестник“» Достоевский развивает подробнее мысль о значении Белинского и его эпохи: «…еще так недавно, с небольшим десятилетие, литературная деятельность была для нас так полезна, что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколение, немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались все больше и больше <…> Это было в последнее время деятельности Белинского. Одним словом, литература входила органически в жизнь». Для Достоевского Белинский — та необходимая фигура, которой недостает современной России: он единственный, кто смог бы в условиях новой русской действительности объединить разрозненные, расколовшиеся на множество групп силы общества. Таковы же и другие высказывания Достоевского о Белинском в журнале «Время». Достоевский особенно подчеркивает эффективность и важность статей Белинского в последний период деятельности критика. Тем самым противопоставляет свой взгляд мнению пропагандиста чистого искусства А. В. Дружинина, изложенному в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856). Дружинин, полемизируя с некрасовскими строками о Белинском («Упорствуя, волнуясь и спеша, ты быстро шел к одной высокой цели!»), противопоставляет им другой девиз: «без торопливости, без отдыха» и подвергает ревизии наследство Белинского, особенно его пропаганду натуральной школы, реализма в искусстве. По Дружинину, Белинский положил начало ложному социально-дидактическому направлению литературы, стал родоначальником утилитарной критики, заполонившей все: «Реализм, сентиментальность нового покроя, дидактическая тенденция основной мысли — вот три условия, которыми стоило только ловко распоряжаться для того, чтоб явиться в печати с похвалою».[118] Белинского Дружинин обвиняет в нетерпимости, неоправданной резкости тона, в пренебрежении к специфике искусства: «Там, где поэзию превращают в служительницу непоэтических целей (как бы благородны эти цели ни были), всякий считает себя вправе обращать форму поэтического произведения для оболочки своим идеям, своим трактатам, своим воззрениям»[119] Дружинин целиком отвергает Белинского последнего периода, сосредотачивается на опровержении всех главных тезисов его статей о натуральной школе, знаменитого письма к Гоголю; выступает поборником свободного, чистого искусства. «Теория артистическая, — писал Дружинин, — проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту, воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения, но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он, в бескорыстном служении этим идеям, видит свой вечный якорь. Песня его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и назначением. Он изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или, если дает их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе».[120] К этому кредо Дружинин иронически присовокупляет: «Мы нарочно изображаем поэта, проникнутого крайней артистической теорией искусства, так, как привыкли его изображать противники этой теории».[121] Но, в сущности, этот «крайний взгляд» ничем не отличался от несколько более «умеренного» взгляда автора статьи, и не случайно, перечисляя вождей различных литературных партий, Достоевский называет Дружинина представителем «партии защитников свободы и полной неподчиненности искусства». Достоевский резко противится такой «защите» искусства, соглашаясь с И. Панаевым, в воспоминаниях, опубликованных в январском номере «Современника», писавшем о кружке почитателей чистого искусства, объединившихся вокруг H. В. Кукольника, беспрерывно толковавших между ужином и шампанским о «святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном»? Достоевскому чуждо «надзвездное искусство», отрешенное от всего текущего, насущного: от жизни, политики, общественных и нравственных вопросов. Он за искусство, вмешивающееся в жизнь, богатое идеями, социальное, гуманистическое — и в этом смысле «полезное» людям. Возражения Достоевского вызывает «поэтическое правило» А. Фета, сформулированное в статье «О стихотворениях Ф. Тютчева»: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но рядом с подобною дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры».[122] В словах поэта Достоевский видит выходку, достойную Кукольника, а в его апологии отрешенного от действительности искусства повторение старых тезисов сторонников «артистической» теории. Для Достоевского неприемлема позиция Фета, признававшегося: «Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы Шиллер, Гете и Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».[123]
Достоевский упрекает защитников «чистого искусства» в непоследовательности и узости взглядов, противоречиях, ведущих к тому, что, выступая в теории за свободу поэтического вдохновения, они, сталкиваясь в искусстве с социальными идеями, отказывают писателю в таланте, принижают художественное значение его произведений уже потому, что они хорошо встречены их противниками: «…из вражды к противникам сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять». Достоевский отводит искусству важнейшую роль в формировании человеческих идеалов и всего существа человека. Поясняя, каким образом может искусство, в том числе и «антологическое», действовать на природу человека, Достоевский порою пользуется словами и терминами, вовсе не свойственными языку классической эстетики. Он говорит скорее языком читателя «Писем об изучении природы» Герцена, современника В. H. Майкова и В. А. Милютина: «…впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; может быть, даже, — кто это знает! — может быть, даже при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновение прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом».
Достоевский совмещает в статье разные аспекты и уровни полемики. Так, он счел необходимым иронически пояснить, кто был создателем Панглоса. Это был слегка замаскированный отклик на ошибку критика. «С.-Петербургских ведомостей», спутавшего Рабле с Вольтером.[124] Совершивший ошибку критик выступил против очерка И. И. Панаева «Русский джентльмен-оптимист», видимо, заинтересовавшего Достоевского. Новый русский Панглос Панаева убежденный сторонник чистого искусства, высокомерно поучающий юношество: «Оставьте насущные, ежедневные, преходящие интересы толпе, черни. Чернь создана для борьбы, и горе художнику, который вмешается в эту борьбу, с которой искусство не должно иметь ничего общего. Для черни горшок, в котором она варит для себя кашу, дороже Венеры Милосской. Какое дело вам, людям избранным, до этой тупой черни? Не слушайте ее криков, повторяю вам, не обращайте внимания на ее нелепые требования. Идите своею дорогою и помните, что одно только общечеловеческое должно занимать вас, если вы хотите прочной славы <…> Посмотрите на Гомеров, на·Шекспиров…».[125] Новый Панглос недоволен обличительной литературой, он против всякого вмешательства искусства в повседневную человеческую жизнь. Он более всего боится социальных потрясений, — и потому сторонник строгой административной опеки; Панаев вскрывает истинный подтекст его славословий искусству, пародируя критические статьи Дружинина, Фета, Боткина, Алмазова, Ахшарумова и многих других противников направления «Современника»; «Переделывать человечество по теориям, сударь, нельзя… Оно развивается разумно, постепенно и осторожно под направлением, надзором и влиянием высших административных и литературных умов, которые имеют законное право распоряжаться невежественною толпою и дисциплинировать ее, зная, что ей полезно и вредно… Чистому же искусству, во всяком случае, в эти дела вмешиваться не следует. Чистое искусство имеет свой особенный, отдельный, замкнутый, независимый мир <…> В жизни, поверьте мне, все устроено разумно и прекрасно, всему своя череда, все улучшится понемногу и совершенствуется временем. Время умнее нас с вами. Что же касается до искусства, то, бога ради, не унижайте его до служения временным, ничтожным, общественным интересам: это — святотатство <…> Пора теперь расстаться нам с этой так называемой обличительной литературой! Довольно с нас этих обличений! Вашими карами и изобличениями вы не сделаете вдруг людей совершенными и добродетельными. Всякое явление имеет свою причину, все идет к лучшему, в этом нельзя сомневаться. О чем же вы беспокоитесь?..».[126] Достоевский не без оглядки на очерк-памфлет Панаева введет в лиссабонский парадокс доктора Панглоса, утешающего своих соотечественников все той же универсально-оптимистической фразой, за что и удостаивается пенсии и звания друга человечества.
Статья Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы» задевала, хотя и весьма сдержанно, журналы «Русский вестник» и «Светоч», главным же образом была направлена против таких деятелей «Современника», как Панаев, Добролюбов, Чернышевский.
Статья запомнилась современникам как скандальная. Журнал «Светоч» выделил статью Воскобойникова и «исторические» слова Ламанского как два самых шумных события прошедшего года: „Мы не созрели“, — провозгласил публично г-н Ламанский в начале того года, и „Перестаньте драться, г-да литераторы“, — крикнул бесцеремонный и запальчивый г-н Воскобойников в декабре, — вот два характерные восклицания, могущие назваться альфой и омегой прошлого года — в его начале и заключении. На оба эти восклицания мы смотрим вовсе не с мрачной их стороны, как смотрят многие, но со стороны той общественной и литературной полемики и общего движения, которых они были выражением. Г-н Воскобойников, протестуя против литературных скандалов, в своем гонении на них сам увлекся до большого скандала и возбудил, в свою очередь, протесты против самого себя. Таков весь характер прошлого года, — года переходного, полемического, шумного, частию скандалезного (говоря о скандале в смысле г-на Воскобойникова), но постоянно деятельного. Все надежды, с которыми мы встретили новый год (а надежд у нас много) зародились еще в старом году, и потому почтим его приличной эпитафией и помянем его добрым словом».[127] Отношение самого Достоевского к статье Воскобойникова, вызвавшей восторг А. Григорьева, было весьма сдержанным. Иным оно и не могло быть: Воскобойников выступил со статьей в послушных А. Краевскому «С.-Петербургских ведомостях» и, естественно, заслужил одобрение редактора «Отечественных записок»; но, кроме того, необыкновенно грубый и резкий тон статьи претил Достоевскому; не мог согласиться он и с общей отрицательной оценкой Воскобойниковым литературной деятельности Панаева, Добролюбова, Чернышевского — как по принципиальным, так и по дипломатическим соображениям. Выступление Воскобойникова Достоевский назвал пренебрежительно «довольно забавной статейкой» и констатировал полный провал его призыва к литераторам перестать «бить» и «драться» Да и сам призыв Воскобойникова не встретил сочувствия у Достоевского: полемику и «свист» он считал явлениями законными, естественными, борьбу с литературными генералами совершенно необходимым делом, способствующим очистке духовно-идеологического воздуха эпохи, помогающим выработать подлинно синтетическую и реалистическую программу. Позиция Достоевского во всех смыслах иная: он отказывается «примирять и соглашать наших спорщиков», предупреждает также, что не выступает и в роли судьи, а просто излагает точку зрения журнала на существо спора, разбирая ошибки и преувеличения той и другой сторон. Главным объектом полемики выбирается деятельность Добролюбова вовсе не потому, что Достоевский более сочувствует сторонникам чистого искусства. Причина другая, подтверждающая твердость намерений «Времени» полемизировать со всеми без исключения литературными авторитетами, и особенно с теми, кто является властителями дум общества. Оставя в стороне, как более специальную, деятельность Чернышевского, Достоевский подверг тщательному и многостороннему анализу литературную критику Добролюбова потому, что «критические статьи „Современника“, с тех пор как г-н — бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время, когда почти никто не читает критик». Достоевский вступает в дискуссию с достойным и могущественным оппонентом, с воззрениями которого он частично согласен, но решительно не разделяет его взгляд на искусство. В статье Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья» Достоевский обнаруживает «утилитарность» в резком, обнаженном виде. Статья Добролюбова посвящена разбору сочинения украинской писательницы M. А. Маркович, писавшей под псевдонимом Марко Вовчок (1834–1907), но это и откровенное публицистическое выступление критика, воспользовавшегося сюжетами рассказов писательницы для пропаганды революционных идей Достоевский уловил эту особенность статьи, сосредоточив главные усилия на доказательстве нехудожественности рассказов Марка Вовчка, а следовательно, и необоснованности рассуждений и выводов критика: мнения Добролюбова могут быть верны, со многими из них Достоевский согласен, находя немало превосходных страниц в статье, но к разбираемым рассказам никакого отношения не имеют, так как они не подтверждают мысль критика.
Появившиеся в конце 1857 г. на украинском языке «Народнi сповидання» Марка Вовчка вызвали широкий общественный резонанс. В 1859 г «Украинские народные рассказы» M. Вовчка вышли на русском языке в переводе и с предисловием И. С. Тургенева. В том же году появилась вторая книга писательницы — «Рассказы из народного русского быта». Проникнутые сочувствием к украинскому и русскому крестьянству, сознанием общности их интересов и протестом против крепостничества, рассказы украинской писательницы были тепло встречены передовой общественностью, получили высокую оценку T. Г. Шевченко, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, H. А. Добролюбова, H. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева.
Разбирая рассказы, Достоевский охотно воспользовался критическими отзывами о писательнице рецензентов «Светоча» за I860 г.[128] Уже в первом номере журнала появилась весьма прохладная рецензия на «Украинские народные рассказы» в переводе И. С. Тургенева: «Все они, обличая в авторе несомненное и очень милое дарование, отличаются в то же время чрезвычайным однообразием и утомительной монотонностью, как в содержании, так и в изложении, и кажутся одним бесконечно повторяющимся мотивом».[129] Еще суровее пишет «Светоч» о писательнице в апреле; ее «Сказка» названа «плохою», высмеивается мнение П. А. Кулиша: «Гений народный, по словам знаменитого критика, — выносит на своих крылах фантазию Вовчка», «Гоголь в „Вечерах на хуторе“ стал наравне с Марком Вовчком».[130] Наконец, в ноябрьской критике «Светоча» появилась пространная рецензия, предположительно M. M. Достоевского, на «Рассказы из народного русского быта», положения которой писатель использовал в своей статье, полностью согласившись с мнением рецензента, что в рассказах писательницы «все личности бледны и бесцветны, как куклы, и потому все их страдания и жалобы, несмотря на теплое чувство, согревающее рассказ — далеки правды и не проникнуты жизненным элементом».[131] Заимствует Достоевский из статьи многое в анализе-пересказе «Маши», как и конечный вывод автора: «Думая представить всю трагическую сторону судьбы бедной Маши под условиями крестьянского быта, она (M. Вовчок. — В. T.) привила ей такие понятия, вложила такие мысли в голову, что нельзя не подивиться детской наивности рассказчика. От трагического до смешного — один только шаг; самая чистая теория, приложенная без уменья, без художественного такта к подставной личности, — доходит до карикатуры, делается похожей на манекен, обернутый в цветные лохмотья. Смешно, кажется, доказывать всю ложность характера Маши, всю невозможность такой личности, уже не говорим между крестьянами, но даже в среде более развитой <…> Только одни слепые поклонники Марка Вовчка не заметят ребяческой незрелости в создании лица Маши».[132] Совпадает и общая оценка творчества писательницы у рецензента «Светоча» и Достоевского — сочувствие гуманным идеям, лежащим в основе рассказов, и одновременно отрицание их художественного значения: «Некоторый успех рассказов Марка Вовчка мы объясняем себе только одним обстоятельством, которое совершенно уважаем: из числа всех русских современных писательниц Марко Вовчок первая отозвалась в своих очерках на живой вопрос нашего времени, на вопрос крестьянский, к быту которых она высказала глубокую симпатию. Но от симпатии к народу, от теплой любви к его положению — еще далеко до художественного таланта, до самобытного дарования, и мы, уважая вполне гуманное направление рассказов Марка Вовчка, в то же время в художественном отношении считаем их не выше посредственности».[133] Достоевский даже еще резче
отзывался о рассказе «Маша», чем критики «Светоча». Он спрашивает: «…читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ?» Достоевский шаржирует, его изложение приобретает временами карикатурную окраску. Тем самым исподволь подготавливается ответ на следующие слова Добролюбова: «…мы встречаем штрихи, обнаруживающие руку искусного мастера и глубокое, серьезное изучение предмета. Для подтверждения этих выводов мы пускались в довольно пространные рассуждения о свойствах нашего простонародья и о русских условиях нашей общественной жизни. Теперь читателю представляется решить, верно ли, во-первых, поняли мы смысл рассказов Марка Вовчка, а во-вторых, справедливы ли и насколько справедливы наши замечания о русском народе. Решая эти два, вопроса, читатель тут же решит для себя и вопрос о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы исказили ее смысл или наговорили небывальщины о народной жизни, то есть если явления и лица, изображенные Вовчком, вовсе не рисуют нам нашего народа, как мы старались доказать, — а просто рассказывают исключительные, курьезные случаи, не имеющие никакого значения, то очевидно, что и литературное достоинство „Народных рассказов“ совершенно ничтожно».[134] Достоевский разделил «два вопроса»: высоко оценил теоретические «рассуждения» Добролюбова, не имеющие, правда, по его мнению, прямого отношения к рассказам Марка Вовчка, беспомощным, бледным с художественной точки зрения. Тем самым Добролюбов, по мнению писателя, проявил пренебрежение к художественности, воспользовавшись рассказами писательницы как всего лишь материалом для пропаганды своих идей.
Полемизируя со статьей Добролюбова о Марке Вовчке, Достоевский упоминает или затрагивает также и другие работы критика: «Стихотворения Ивана Никитина», «Что такое обломовщина?», «Губернские очерки», «Когда же придет настоящий день?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве». Отстаивая вслед за Пушкиным свободу вдохновения — «первый закон в искусстве», — понимание искусства как вечного, открытого процесса постижения идеала, красоты-гармонии, писатель выступает против эстетических требований «Современника» к литературе. Он настойчиво повторяет, что художнику нельзя предъявлять требований, что нельзя ограничивать или направлять вдохновение: человек стремится к гармонии, потому что он человек и не может не стремиться к красоте, но одновременно никогда он достичь этой красоты-гармонии не может — и в этом-то и заключается весь смысл происходящего на земле, человек стремится к недостижимому и неясному для того, чтобы уйти от чрезмерной и гнетущей земной ясности. Парадокс направлен против «простого», по оценке Достоевского, взгляда Добролюбова, писавшего в статье «Стихотворениа Ивана Никитина»: «Давно замечен разлад человека со всем окружающим, и давно поэзия изображала его. Но причины разлада искали прежде — то в таинственных силах природы, то в дуалистическом устройстве человеческого существа, и сообразно с этим поэзия разрабатывала внешнюю природу и психологический антагонизм человека. Теперь более простой взгляд входит в общее сознание: обращено внимание на распределение благ природы между людьми, на организацию общественных отношений. <…> Вслед за открытием, что человек мучится и томится, увлекается и падает, подымается и веселится — не от власти темных сил и неизбежности судьбы и не оттого, что в нем сидят два противные начала, а просто от большей или меньшей неправильности общественных условий, под которыми он живет, — вслед за этим сознанием необходимо должно было последовать изучение всех общественных неправильностей».[135]
Достоевский был не согласен с такими мыслями: они казались ему отвлеченно «теоретическим», «кабинетным» решением труднейшей проблемы, проявлением упрощенного взгляда на природу человека. Он отвергает мысль Добролюбова, что «вообще говоря, литература представляет собою силу служебную».[136]
Достоевский в начале статьи декларирует объективность своей позиции, даже с несомненным оттенком благожелательности в отношении Добролюбова. Но после объективного анализа причин и предмета спора между «утилитаристами» и сторонниками «артистической» теории Достоевский переходит к подробному специальному рассмотрению эстетических взглядов Добролюбова. Беспристрастность постепенно исчезает, появляются обвинения, звучат обличительные интонации, спокойная и сдержанная критика переходит в пародирование тезисов Добролюбова, иногда проскальзывает даже раздражение: «В сущности вы презираете поэзию и художественность; вам нужно прежде всего дело, вы люди деловые». Достоевский расширяет сферу эстетического, включая в нее вопросы о человеке и о путях истории человечества, тем самым переводя спор с Добролюбовым в широкую область идеологических и политических вопросов: «…ведь еще неизвестен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве». «Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере, не исчислены до последней точности. Как, в самом деле, определить ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится все человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря». В этих словах содержатся мысли, предваряющие публицистические рассуждения в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и парадоксы героя «Записок из подполья». «Нельзя же так обстричь человека, что вот, дескать, это твоя потребность, так вот нет же, не хочу, живи так, а не так! И какие не представляете резоны — никто не послушается», — совершенно в духе скептической философской диалектики «Записок из подполья» восклицает Достоевский. Он отвергает «календарь» Добролюбова, выражая сомнение в справедливости рекомендаций и прогнозов критика.
Литературные суждения Добролюбова для Достоевского показатель тех крайностей, к которым может привести строго направленный, убежденный, стройно изложенный взгляд теоретика-публициста, отвлекающегося от всей реальной сложности «разнообразной», в том числе «эстетической», действительности. Отношение к искусству, по мнению Достоевского, — весьма надежный критерий, позволяющий определить истинность и жизнеспособность каждого из общественно-политических направлений. В статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» он полемизирует со взглядами на искусство Добролюбова с той же эстетической позиции, с какой в других — с противоположными мнениями M. H. Каткова, С. С. Дудышкина, К. С. Аксакова. Подтверждая верность принципам литературной критики, сформулированным в «Объявлении», статья Достоевского стала литературным и философско-эстетическим кредо журнала.
Споря преимущественно с Добролюбовым, Достоевский, как было не раз замечено выше, не ограничивается полемикой с «Современником» Так, анализируя антологическое стихотворение Фета «Диана» (1850), Достоевский одновременно доказывает поэту бессмысленность и ложность его «поэтического правила», а Добролюбову — узость его ригористического взгляда на «антологическую» поэзию, как поэзию будто бы бесполезную и несовременную. Достоевский, внимательно следивший за журнальной полемикой, конечно, знал, как восторженно писали о стихотворении Фета не только Дружинин[137] и В. П. Боткин,[138] но и редактор «Современника» H. А. Некрасов в «Заметках о журналах за октябрь 1855 года», целиком выписавший «Диану» для того, «чтоб не слишком резко перейти и окунуться в омут журнальной ежедневности». «Всякая похвала, — восхищался Некрасов, немеет перед высокой поэзией этого стихотворения, так освежительно действующего на душу…».[139]
Достоевский разделяет мнение Некрасова, выписывает, как и он, стихотворение, особенно выделяя последние две строчки. В «Диане» Достоевский видит гениальное художественное выражение тоски человека XIX столетия по идеалу, красоте, гармонии в общественной и личной жизни, не «историческое», а скорее «байроническое» отношение к прошлому, тысячами нитей связанному с настоящим. Истолкованное таким образом антологическое стихотворение Фета оказывается современнее и злободневнее благородного по намерению, но «книжного», по оценке Достоевского, рассказа Марка Вовчка: демонстративно отворачивающийся от суеты и шума современности в своих статьях Фет в стихах независимо от своего желания остается выразителем ее дум и чаяний, потому что он настоящий поэт.
Несомненный показатель измельчания современной русской критики для писателя — непонимание или прямое нигилистическое отрицание ею творчества Пушкина. Достоевский одинаково резко полемизирует, доказывая величие Пушкина, как с Катковым, Дудышкиным, H. И. Костомаровым, так и с Добролюбовым. Трактовка Добролюбовым творчества Пушкина в глазах Достоевского — доказательство теоретического высокомерия «реальной критики», ее невнимания к живой жизни.
Возмущение Достоевского вызвало полемическое замечание Добролюбова, назвавшего лирические шедевры Пушкина в статье «Стихотворения Никитина» «побрякушками». Все сказанное Достоевским в статье об «антологической» «побрякушке» Фета позволяет ему обоснованно возражать критику-демократу: «Побрякушки» же тем полезны, что, по нашему мнению, мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью».
Добролюбов советовал Никитину освободиться от «подражательности», «пробить свою дорогу», «уберечься от <…> фиоритур и мировых вопросов, вовсе нейдущих к делу», обратиться к «материальным нуждам», к изображению «близких ему интересов и явлений жизни»[140] Достоевский дает свою ироническую интерпретацию пожеланий Добролюбова: «Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословия, — долой Пушкина, не смей восхищаться им, а восхищайся вот тем-то и тем-то». Писатель повторяет сказанное во «Введении» о Пушкине, но с более сильным акцентом, в соответствии с темой статьи, на эстетических вопросах: «Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее пленителен, наиболее понятен. Тем-то он и народный поэт, что всем понятен». Этими словами о Пушкине, перекликающимися с центральной мыслью «Введения» и предваряющими главную тему следующей статьи — «Книжность и грамотность», завершается спор Достоевского с Добролюбовым.
Большая часть журналов сочувственно встретила взгляд Достоевского на искусство. A. H. Плещеев, исключительно тепло относившийся к деятельности Добролюбова, нашел справедливыми критические возражения Достоевского. Он писал к И. С. Тургеневу 28 февраля 1861 г… «Есть еще большая статья о Добролюбове, — и о взгляде „Современника“ на искусство, — ·заключающая в себе разумный протест против этого взгляда».[141] К. Леонтьев в статье «По поводу рассказов Марка Вовчка» писал: «„Время“ напечатало в феврале статью „Г-н — бов и вопрос об искусстве“; там хорошо защищают искусство и критику „Современника“ отчасти доказано, что он бессознательно иногда служит ему»».[142] Соглашаясь с мнением о рассказе «Маша», К. Леонтьев возражает против общей оценки Достоевским творчества писательницы, курсивом выделяет те слова в статье, которым он «никак сочувствовать не в силах…»: «..хотя в целом ни один рассказ не выдержан. Действительность часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тем вы сами знаете, что все это представленное неправдоподобным действительно может быть в жизни, и досадуете, что оно неоправдано» (там же. С 12) Рецензент «Северной пчелы», сочувственно цитируя статью Достоевского, замечает, что «такой взгляд легко примирит оба крайние увлечения — эстетиков и утилитаристов».[143] M. H. Катков, намекая на близость мыслей Достоевского об искусстве к его собственным, подробно изложенным в статьях о Пушкине, писал: «Большое удовольствие доставила нам <…> критическая статья в № 1 „Времени“, под заглавием „Г-н — бов и вопрос об искусстве“, здесь пересказываются весьма сочувственные нам воззрения на искусство; слогом очень легким и без „нахмуренных фраз“».[144] В той же статье Катков подчеркнул и другую причину своего благожелательного отношения к статье Достоевского: «Нам очень приятно, что „Время“ горячо отстаивает Пушкина от господ — бова, Дудышкина и других».[145] Каткова полностью устраивала обстоятельная статья, содержащая критику литературных взглядов Добролюбова, чем и следует объяснить выраженную им симпатию автору. Похвала, однако, была лукавой, согласие со взглядами Достоевского соседствовало с язвительными критическими замечаниями. Воспользовавшись в борьбе со «свистунами» статьей Достоевского, Катков пренебрежительно отозвался о «Диане» Фета и мыслях автора, рожденных стихотворением. Катков, цитируя Достоевского и строчки «Дианы», так комментирует: «Какое прелестное место! Возьмите эти слова отдельно, что найдете вы сказать против них? Их нельзя прочесть иначе как с наслаждением, они так наркотически шевелят наш мозг и приводят в такую приятную игру целую вереницу представлений! Но сличите эти прелестные слова, „эту страстную жизненность“, это „ждет и верит“, это „моление“, „эту тоску о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему“, сличите все это с предметом слов, сличите слово со смыслом, возьмите еще раз две последние строчки:
и вы поймете вполне, что хотели мы сказать, говоря о статьях, которые могут быть очень хороши, если взять их отвлеченно, то есть независимо от предмета. Не сличайте мыслей с их предметом и слов с их смыслом, и вам будет легко жить на свете и приятно читать критические статьи. Это тот журчащий поток полупонятии, полуобразов и полутонов, который так непробудно усыпляет нашу маленькую русскую мысль, так одуряет наши невинные умственные движения и так неотразимо затопляет нашу скромную литературу».[146] Начав с лицемерной похвалы статье, использовав ее в борьбе с главными противниками «Русского вестника» — Чернышевским и Добролюбовым, Катков затем отверг целиком, как болтовню, эстетические взгляды Достоевского, высказав весьма странное в устах защитника чистого искусства мнение о стихотворении Фета и абсолютно разойдясь с Достоевским в оценке значения творчества Пушкина. Резко отозвался Катков вообще о публицистике «Времени»: «…половина книги бывает занята прекрасными критическими статьями, писанными приятным слогом, где тоном самого счастливого самодовольства разбираются все фазы нашей духовной жизни, объясняется, как прежде была у нас гладь и ширь необъятная, как потом господствовал у нас французский классицизм <…> и как явился великий Белинский, и что такое Пушкин, и что такое Лермонтов, и как приезжала к нам Рашель воскресить классицизм, и как все замыкается великим Островским».[147] M. H. Катков резко ответил и на критику в журнале «Время своей статьи «Несколько слов вместо современной летописи»[148] и подверг раздраженному разбору заметку H Страхова «Один поступок и несколько мнений г-на Камня Виногорова в № 8 газеты „Век“» и статью Ф. Достоевского «Образцы чистосердечия».[149] Таким образом, «Русский вестник» объявил настоящую войну журналу «Время», столь же непримиримую, как и «Современнику», объединив оба ненавистные ему органа печати кличкой «свистуны». Начиная с апрельского номера «Времени» Достоевский почти все свои полемические выступления в 1861 г. и в первой половине 1862 г. адресует «Русскому вестнику» — непосредственно Каткову. Он подробнейшим образом, в частности («Ответ „Русскому вестнику“), остановится на статье Каткова «Наш язык и что такое свистуны». «Отечественные записки» были особенно задеты словами Достоевского, что «в двух страницах Белинского <…> сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности „Отечественных записок“ с 48 года до наших времен». Это изречение Дудышкиным было названо в обзоре «Русская литература» афоризмом, достойным «по своей смелости войти в сборник изречений Ивана Яковлевича».[150] В том же обзоре Дудышкин, продолжая защищать положения своей статьи о Пушкине, обвинял руководителей журнала «Время» в невежестве и фельетонном взгляде на вещи: «…редакции журнала „Время“, должно быть ничего не читавшей после смерти Белинского, не был известен ход нашей литературы, который не только не умалил, но даже возвысил значение Белинского в критике и в то же время много сделал для науки о народности. Не зная всего этого, понятно, журнал не был знаком и с изысканиями новейших историков, так много сделавших для этого вопроса. Но всего больше обличает, что догадка наша справедлива, — та смелость, с которою приступлено было к делу, та фельетонная размашистость русского солдата времен Суворова, который на вопрос, сколько звезд на небе, отвечал: „100 000“ или что-то в этом роде, но очень определенное. Чтобы разубедиться в этой самоуверенности, мы просим журнал „Время“ прочесть сочинение г-на Буслаева и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворовским смельчакам».[151] В следующей статье цикла — «Книжность и грамотность» Достоевский обратится к обстоятельному разбору взглядов С. С. Дудышкина и ответит, в частности, на его полемические выпады в февральском и апрельском номерах «Отечественных записок».
Позднее всех ответил Достоевскому сам Добролюбов в статье «Забитые люди»,[152] последней работе критика, ставшей его общественно-литературным завещанием. Статья Добролюбова — глубокий разбор творчества Достоевского от «Бедных людей» до «Униженных и оскорбленных». Добролюбов идет вслед за Белинским в трактовке творчества писателя, но вовсе не ограничивается повторением старого, анализирует такие произведения Достоевского, которых Белинский коснулся слегка или тенденциозно истолковал. Попутно Добролюбов ответил на обвинения Достоевского в «утилитарности» его критики. Он попытался доказать писателю, как нелепо рассматривать «Униженных и оскорбленных» с «эстетической» точки зрения, так как никакие хорошо удавшиеся частности не делают еще роман достойным «подробного эстетического разбора». В целом роман Достоевского «ниже эстетической критики», и поэтому Добролюбов и посвящает свою статью проблемам «утилитарным» и непоэтическим. Обвинения в пренебрежительном отношении к искусству, художественности Добролюбов отводит, хотя прямо он нигде не отвечает на критику Достоевского. Несколько замечаний в «Забитых людях» (помимо мирного и задушевного обращения к Достоевскому) не оставляют сомнения в том, что он внимательно читал статью своего оппонента. Так, замечания о тоне рассказа в «Униженных и оскорбленных» скорее всего — ответная реплика на приговор Достоевского рассказам Марка Вовчка: «…тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который, по сущности дела, должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий».[153] Аналогичный полемический подтекст ощутим и в характеристике князя Валковского: «…вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица <…> Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, — этого начала нет никаких следов в изображении личности князя.[154] Замечание о речи автора и героев романа («они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть фразу, как сам автор, — во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя») — это уже не только ответ на критику Достоевского рассказов Марка Вовчка, но и на его слова о языке Добролюбова: «…уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю». Отказавшись от эстетического разбора творчества Достоевского и повторив в столь же резкой форме свое отношение к искусству, осужденное писателем («…автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений»), Добролюбов выразил свое сочувствие общему характеру воззрений Достоевского, гуманистическому содержанию его произведений.
Достоевскому не пришлось ответить на статью критика; смерть Добролюбова прервала плодотворно и интересно завязавшийся спор. В свои оценки деятельности Добролюбова после смерти критика писатель внесет немного нового в сравнении со статьей «Г-н — бов и вопрос об искусстве». В основном изменения коснутся тона: он станет более уважительным и спокойным. Но хотя своего мнения о «Забитых людях» Достоевский нигде не высказал, существуют косвенные свидетельства, говорящие о благоприятной реакции руководителей «Времени» на статью критика. H. H. Страхов, в частности, писал: «Его последняя статья указывает на какое-то колебание, на какой-то поворот в убеждениях <…> Если бы он остался жив, мы бы многое от него услышали».[155] Он же в воспоминаниях о Достоевском так оценивал тогдашнее восприятие статьи Добролюбова сотрудниками «Времени»: «…в 9-й книжке „Современника“ роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами…».[156] Почти вне сомнения, что слова Страхова в данном случае отражали мнение самого автора.
В примечаниях к статье Д. Аверкиева об А. Григорьеве Достоевский суммирует свои высказывания о Добролюбове, дает сравнительную характеристику двум ведущим литературным критикам 60-х годов: «Добролюбов был очень талантлив, но ум его был скуднее, чем у Григорьева, взгляд несравненно ограниченнее. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозор его был уже, видел и подмечал он меньше, следственно) и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и все одно и то же; таким образом, он само собою, говорил понятнее и яснее Григорьева. Скорее договаривался и сговаривался с своими читателями, чем Григорьев. На читателей, мало знакомых с делом, Добролюбов действовал неотразимо. Не говорим уже о его литературном таланте, большем, чем у Григорьева, и энтузиазме слова. Чем уже глядел Добролюбов, тем, само собой, и сам менее мог видеть и встречать противуречий своим убеждениям, след<ственно>, тем убежденнее сам становился и тем все яснее и тверже становилась речь его, а сам он самоувереннее» (XX, 230). В 60-х годах Достоевский более нигде не остановится специально и тем более так подробно на эстетических проблемах, как в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Содержание статьи ни в коей мере невозможно ограничить конкретными полемическими целями. Она явилась в подлинном смысле эстетической исповедью Достоевского. В других статьях 60-х годов он часто возвращается к ранее высказанным тезисам, не развертывая своих суждений, как бы прямо отсылая к «Г-ну — бову и вопросу об искусстве» Так, одну из главных мыслей статьи он повторит, упомянув о неизменности своего убеждения, в статье «„Свисток“ и „Русский вестник“»· «Я <…> всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека». К эстетическим тезисам статьи непосредственно примыкают почти все публикации литературно-критического отдела «Времени», в том числе и приписываемые Достоевскому статьи «Выставка в Академии художеств за I860-1861 год» и «Рассказы H. В. Успенского». А во введении к новому критическому отделу «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой», редакция отсылала читателя к статье Достоевского «Г-н — бов и вопрос об искусстве» как к литературному манифесту журнала: «Решаясь открыть в журнале нашем особый, хотя, конечно, не непременный отдел оценки литературных явлений, или вовсе пропущенных, или мало оцененных современною критикою, мы не имеем, кажется, нужды заявлять, что при всей нашей вере в искусство, при всех требованиях от литературных произведений художественности, мы нисколько не против современности стремлений искусства и литературы. Мы высказались насчет этого вопроса с подробностью и ясностью, достаточными, кажется, для того, чтобы не быть заподозренными в какой-либо вражде против современности, в желании противоборствовать обличительному и вообще дидактическому роду литературы, в намерениях возвышать какие-либо произведения, в которых преобладает форма, перед другими, в которых преобладает мысль».[157] Несомненна связь многих идей и мотивов статьи с последующими произведениями Достоевского: «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья» и др. Эстетические взгляды Достоевского, изложенные в ней, остались в основном неизменными в 1860-1870-х годах: к ним тяготеет большинство также и позднейших критических выступлений писателя по литературным вопросам.
III–IV. Книжность и грамотность
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 7, 8).
«Книжность и грамотность» — трактат, состоящий из двух статей, тесно связанных между собой и спаянных несколькими сквозными идеями, планомерно проводимыми Достоевским-публицистом. В первой Достоевский освещает проблемы народа и чтения для народа в теоретическом аспекте, противопоставляя свою точку зрения на них позициям «Русского вестника», «Отечественных записок» и — в меньшей степени, косвенно — славянофильским изданиям. Писатель вновь повторяет в более сжатой форме тезисы из объявления об издании «Времени» и «Введения» к «Ряду статей» об особенном (отличном от Европы) положении дел в России, обусловливающем и иные перспективы ее общественного развития: «…английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слияния сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности». Утопический элемент этой концепции очевиден: по-прежнему надежды Достоевского сводятся к формуле «путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе». Одновременно он вновь настойчиво подчеркнул отличие своего понимания исторического развития России от славянофильского, особенно в вопросе о смысле и значении реформ Петра I. Но главное в статье — не очередное повторение уже известных читателю «Времени» тезисов о мирном, согласном, внесословном развитии России и об исчерпанности реформ Петра I, достигших «окончательного развития». В центре статьи — размышления Достоевского о бездне, разделяющей цивилизованные слои общества и массу «простонародья», думы о том, каким образом возможно ликвидировать этот раскол. Достоевский не был одинок, обратившись к этой волновавшей его проблеме. О ней давно говорил молодой Белинский, а затем славянофилы, звавшие назад, в допетровскую Русь, казавшуюся им царством самобытности и внесословности, обвинявшие Петра I за то, что он насильно повернул Россию на «западный» путь развития, расколовший русское общество на «публику» и «народ». Этой славянофильской классификации Достоевский не признавал и в «публике» видел тот же русский народ, но приобщившийся к европейской цивилизации, вкусивший плоды ее и ныне, после двухсотлетних странствий, пришедший к идее необходимости слияния с другими сословиями. Достоевский разделял мнения тех публицистов, которые трезво и реалистично смотрели на трудности, стоящие перед доброхотами-просветителями из образованных слоев общества, стремящимися перебросить мост через образованную столетиями пропасть.
Соглашаясь с публицистами «Современника» и «Русского слова» в выводах о глубине пропасти, разделяющей цивилизованное общество и народ, Достоевский в отличие от них верил в возможность союза лучшей части дворянской интеллигенции и «почвы». «Мы оптимисты, мы верим Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, сделается».
Первая статья «Книжность и грамотность» появилась через четыре месяца после статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве». В период между этими выступлениями Достоевский преимущественно полемизировал с журналом M. H. Каткова (в статьях «Образцы чистосердечия», „Свисток“ и „Русский вестник“, «Ответ „Русскому вестнику“», в приложении к «Письму с Васильевского острова»). Продолжит он полемику с «Русским вестником» и в статье «Книжность и грамотность»,[158] где поводом явится спор «Отечественных записок» и «Русского вестника» о народности, представляющийся Достоевскому таким же комическим недоразумением, как и дискуссия между обоими журналами о значении Пушкина. Достоевский переводит разговор о народности на разбор мнений современной литературной критики о Пушкине: полемизирует он прежде всего с Дудышкиным как автором статьи «Пушкин — народный поэт» и обзоров «Русская литература».[159] Но одновременно Достоевский затрагивает ряд статей и полемических заметок Каткова: «Пушкин»; «Наш язык и что такое свистуны»; «Одного поля ягоды»[160] В «чудовищной», по определению Достоевского, статье Дудышкина, повторяя старый упрек по адресу поэта в зависимости его «Бориса Годунова» от Карамзина, Дудышкин выражал общее сомнение в его народности: «…ни один собиратель народных песен и сказок не встретил в народе пушкинского стиха. Народу до сих пор чужд Пушкин»[161] Дудышкин придавал большое значение своей статье и в февральском обзоре русской литературы обижался, что на нее «до сих пор не последовало ответа, который бы можно было назвать литературным ответом».[162] В апрельском обзоре Дудышкин, обращаясь к «Времени» и «Русскому вестнику», вновь жаловался на то, что они «отошли от вопроса, предложенного нашей эстетической критике: насколько в Пушкине народного в настоящее время? Даже самый-то вопрос был не понят, а ответа, конечно, не последовало и до сих пор, хотя вот ровно уже год, как вопрос этот предложен. А вопрос был предложен прямо и, кажется, ясно: требовался ответ о народности первого русского поэта в политическом, общественном, нравственном и эстетическом отношениях, потому что в наше время слово „народность“ обнимает все это».[163]
«Разве не скандал в своем роде статья Дудышкина о Пушкине, — статья, которая сама себя испугалась и поспешила умолкнуть?» — отвечал на первую статью Дудышкина автор «Письма Постороннего Критика в редакцию журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“» (XXVII, 131). Имя Пушкина было священным для журнала, и уже сам вопрос о народности его творчества казался Достоевскому кощунственным. «Ему было дано непосредственное чутье народной жизни и дана была непосредственная же любовь к народной жизни. Это — вопреки появившемуся в последнее время мнению, уничтожающему его значение как народного поэта, мнению, родившемуся только вследствие знакомства наших мыслителей с народною жизнью из кабинета и по книгам, — неоспоримая истина», — оспаривал мнение Дудышкина А. Григорьев в статье «Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы».[164] Достоевский целиком разделял такой взгляд.
Катков воспользовался статьей Дудышкина для нападок на Добролюбова и «Современник», похвалив «Время», вступившееся за поэта. Однако и он, подобно Дудышкину, отверг народность Пушкина, прибегнув для этого к сравнению русского поэта с гениальными художниками Европы: «Дело не в личных силах того или другого писателя, а в той жизни, которой он служит органом, в той идее, которую он носит, в том значении, которое имеет его слово для человечества. Пушкин действительно выразил момент жизни нашего общества, и мы чувствуем понятные нам указания этой жизни; он, может быть, коснулся и более глубоких основ ее, которые могли бы иметь всемирное значение, но эти намеки неясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны; мы сами сомневаемся и спорим об их значении».[165] Эти слова Каткова вызвали одобрение Дудышкина.[166]
Горячо полемизируя с «Русским вестником» и «Отечественными записками», Достоевский не соглашается в вопросе о Пушкине и со словами Белинского, цитировавшимися в обзоре «Русская литература» (Отеч. зап. 1861. № 6, С. 31): «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу, или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом <…> Нам кажется, это только вполовину. Народный поэт — тот, которого весь народ знает, как, например, знает Франция своего Беранже; национальный поэт — тот, которого знают все сколько-нибудь образованные классы, как, например, немцы знают Гете и Шиллера. Наш народ не знает ни одного своего поэта, он поет себе досель «Не белы-то снежки…», не подозревая даже того, что поет стихи, а не прозу…»[167] Достоевский отвергает попытки измерить народность творчества Пушкина уровнем развития читающей массы народа, как и той средой, в которой поэту суждено было жить. Полемизируя с приведенными словами Дудышкина, Достоевский утверждает, что «все политические, общественные, религиозные и семейные убеждения» своего народа не выразили ни Беранже во Франции, ни Гете и Шиллер в Германии, ни Шекспир в Англии. По Достоевскому, ошибочны вообще абстрактные рассуждения о «всеевропейском» значении этих художников: писатель противопоставляет подобным рассуждениям неоспоримый и особенно показательный, с его точки зрения, факт: все они были усвоены русским образованным обществом, стали ему родными, неотделимыми от роста его общественного самосознания. Достоевский придавал огромное значение этому явлению на протяжении всего послекаторжного периода творчества; видел в органическом усвоении поэтической мысли гениев разных европейских народов ярчайшее подтверждение пластичности и восприимчивости, всеотзывчивости русской натуры. И то, что русское образованное меньшинство оказалось способным к такого рода духовному освоению европейского наследства, в глазах Достоевского являлось свидетельством его народной сущности. «Инстинкт общечеловечности», присущий вообще русскому народу, в верхнем слое общества обнаружился в интенсивном и сознательном приобщении к европейской науке и европейскому искусству. В Пушкине это стремление нашло свое наиболее полное и законченное выражение, в этом тайна и главный смысл его народности, более того — именно поэтому он явление «неслыханное и беспримерное между народами». Таков ход мысли Достоевского, объясняющий, почему он разговор о грамотности, просвещении и народности перевел в плоскость спора с Катковым и Дудышкиным о смысле и сущности творчества Пушкина.
Достоевский не ограничивается выражением несогласия с мнением современной критики о Пушкине. Избирая тот же угол зрения для анализа явлений литературы, что и во «Введении», он прослеживает по произведениям поэта этапы «русской сознательной жизни». Из произведений Пушкина в центр своих рассуждений Достоевский ставит «Евгения Онегина», но спорит и с различными толкованиями «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина».
Полемическое начало разбора Достоевским «Евгения Онегина» очевидно, оно указано самим автором: «Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопая двадцатых годов». Достоевского возмутили слова M. H. Каткова о Евгении Онегине и Печорине в статье «Пушкин»: «Онегин — праздношатающийся и скучающий чудак, который одним только серьезно занят — наукой любви и, по уверению поэта, достиг в ней глубокой премудрости: пустой фат, а впрочем, добрый малый, из которого могло бы выйти что-нибудь и более путное, чего уж никак нельзя сказать о преемнике его Печорине. Онегин еще только может быть Печориным, но может быть и чем-нибудь другим, а в герое Лермонтова вполне назрело нравственное ничтожество и загрубело в непроницаемом эгоизме».[168] А в статье «Наш язык и что такое свистуны» Катков, поучая «Время», писал: «Мы еще продолжаем поднимать вопрос, не глупо ли поступила Татьяна Пушкина, что поставила долг выше влечения страсти и не бросилась на шею к притупленному франту, который воспылал к ней страстью, когда она стала ему недоступна».[169] Отпор у Достоевского вызывает и мнение H. И. Костомарова о Пушкине и его романе: «Если у великоруссов был истинно великий, гениальный, самобытный поэт, то это один Пушкин. В своем бессмертном, великом «Евгении Онегине», он выразил одну только половину великорусской народности — народности так называемого образованного и светского круга».[170] Костомаров стеной отделил друг от друга две русские народности, он считал нелогичным судить о художественной восприимчивости и фантазии русского народа по творчеству первого поэта образованного меньшинства. Дудышкин в апрельском обозрении «Русская литература» сочувственно цитировал Костомарова, приводя его доводы как аргументы, ставящие под сомнение положения статьи Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“»: «…скудость великорусского воображения, которое отражается и в песне, и в изображении женщины, и в отношении любви к природе, и в понятии о любви, — составляет характеристику нашей народности, извлеченную из изысканий исторических, которые мы не можем назвать поверхностными. И та же характеристика народа, сделанная нашими критиками-эстетиками по художественным произведениям Пушкина, выходит совсем иною. Если мы будем судить о самих себе по Пушкину, как представителю лучших свойств русской натуры, наш народ окажется озаряемым громадной фантазией; если судить по всему тому, что донесла до нас старина, народ наш окажется, как уверяет г-н Костомаров, скудно наделенным фантазиею». И далее Дудышкин вопрошал: «Откуда такие противоречия?».[171] Достоевский решительно отклоняет такого рода логику, считай ложным весь ход мысли и Каткова, и Костомарова, и Дудышкина от начала до конца. Онегин — «тип исторический», в его скепсисе, эгоизме, колебаниях, сомнениях отразилась целая эпоха общества: «Это первый страдалец русской сознательной жизни». Предваряя свою Пушкинскую речь 1880 г., Достоевский прослеживает этапы развития онегинского типа, разъясняя его значение и народность.
К этим мыслям восходят сопоставления Достоевским возможного будущего «настоящего простонародного поэта» с Пушкиным и его вопросы: «Разве с развитием народа исчезнет его народность? Разве мы „образованные“ уж и не русский народ?»
Онегин, в интерпретации Достоевского, отразил сильное, хотя и неопределенное движение образованного общества к «почве». Прослеживая стадии «перерождения» типа «лишнего человека» от Онегина и Печорина до Рудина и Гамлета Щигровского уезда, Достоевский резюмирует: «Они много бескорыстно выстрадали <…> В наше время прошли уж и Рудины…». Слова Достоевского — перекликаются с тезисами статьи Герцена «Very dangerous!!!»: «…Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный тип лишнего потерянного человека, только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах <…> Но время Онегиных и Печориных прошло».[172] Герцен вынес эти слова из «Very dangerous!!!» в эпиграф другой статьи, привлекшей особенное внимание Достоевского и редакции «Времени», — «Лишние люди и желчевики». В ней Герцен писал, предопределяя частично содержание этюда Достоевского о типе Онегина: «Лишние люди были тогда столько же необходимы, как необходимо теперь, чтоб их не было».[173] Мысли писателя о лишних людях — тоже в своем роде, как и у Герцена, их защита, но полемизирует он в статье «Книжность и грамотность» с «Русским вестником» и «Отечественными записками», а не с «желчевиками» и «Невскими Даниилами» «Современника».
Не меньшее негодование Достоевского вызвали различные суждения публицистов 60-х годов о «Борисе Годунове», и особенно о Пимене-летописце. Здесь также мнение Дудышкина берется Достоевским как крайнее выражение эстетического тупоумия. «Трогательная личность Пимена, — писал С. Дудышкин, — которую вся Россия наизусть знает, как-то холодно теперь действует на нас, когда знаешь, что все наши старинные летописцы писали не без ведома царя и были летописцами царскими».[174] «А поэтическая правда? — восклицает Достоевский. — Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели „Илиада“ не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?» Характерно, что Достоевский совершенно обошел вопрос об отрицательном влиянии Карамзина на Пушкина, а о нем говорили в 60-х годах не только Дудышкин, но и А. Милюков в статье о «Псковитянке» Л. А. Мея[175] и даже А. Григорьев в «Народности и литературе».[176] Для Достоевского «Борис Годунов», равно как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Песни западных славян», «Повести Белкина», бесспорно и без всяких оговорок подлинно народные произведения.
Проблеме чтения для народа, связанной с просветительской программой Достоевского, посвящена вторая статья «Книжности и грамотности», содержащая разбор проекта «Читальника» H. Ф. Щербины — «Опыт о книге для народа», напечатанного № 2 «Отечественных записок» за 1861 г. В журнале «Время» ранее о статье и проекте Щербины писал П. А. Кусков в заметке «Вместо фельетона». Отдавая должное добрым намерениям Щербины, он высказывал о проекте «Читальника» ряд критических замечаний, получивших развитие в статье Достоевского. П. А. Кусков, в частности, писал: «Утешительное явление, что наши таланты, наши поэты начинают приносить посильные дары жизни и обществу, и именно с тех сторон, которые прежде как-то упрямо обходились ими. Но чрезвычайно обескураживают в этой статье, например, следующие строки: «Этот отдел помещен в начале книги с расчетом, чтоб завлечь на первый раз читателя художественной приманкою поучительной мысли». В этих строках все осуждение этой книги, которая <…> прекрасно задумана, и каждый из нас прочтет ее с величайшим удовольствием от доски до доски; все прочтут <…> Только мужик <…> не купит «Читальника», потому что увидит, что там его учить хотят, что там с ним хитрят, и, как ребенок, пожалуй, обидится этим. Мужику интересны повести из нашего быта; ему интересны <…> рассказы из домашней жизни разных королей: так же ли они любят, как мы; так же ли они чего не любят, и какое они кушают кушанье, и как они разговаривают со своим кучером, и что во дворце министры говорят все это для мужика в миллион крат интереснее, чем всевозможные гигиенические и исторические сведения, и все замысловатые и незамысловатые поговорки, притчи, загадки и пословицы. <…> Рассказы о тропических странах, о борьбе людей с зверями, о тамошних бурях — все это скорее поглотит внимание простолюдина, нежели художественность поучительной мысли. Нужно попроще, пооткровеннее заохотить их читать; а потом, когда расчитаются, прочтут и остальное».[177] К фельетону Кускова было присовокуплено Достоевским редакционное примечание: «В скором времени мы надеемся поместить обстоятельный разбор статьи г-на Щербины» (XIX, 213).
Интерес Достоевского к книгам для народа был в духе времени: в 1850-1860-х годах появилось множество хрестоматий, специальных народных изданий, огромное число рецензий на всю эту литературу, программных статей о просвещении крестьянства, среди которых серьезностью тона и глубиной обобщений выделялись статьи H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, Φ. И. Буслаева, К. С. Аксакова. Вспоминали шестидесятники и ранние попытки организации народных журналов-хрестоматий, особенно «Сельское чтение» В. Φ. Одоевского и А. П. Заблоцкого и серию рецензий на него В. Г. Белинского. Отношение Достоевского к «Сельскому чтению», как об этом свидетельствует «Село Степанчиково и его обитатели», было ироническим.
Достоевский, конечно, знал рецензии Белинского на «Сельское чтение» и не мог не обратить внимания на то, как постепенно становился прохладнее тон критика. Белинский хорошо принял первые выпуски «Сельского чтения», противопоставлял их как удачные и добросовестные опыты разным фальшивым и бульварным изделиям вроде «Воскресных посиделок». Но позже, по-прежнему подчеркивая важность дела, затеянного В. Ф. Одоевским, Белинский резко отозвался о статьях Д. С. Протопопова «Кто такой Давид Иванович, и за что люди его почитают» и В. И. Даля «Что легко наживается, то еще легче проживается»: «Такими мертвыми идеями никого не убедишь ни в чем; им никто не поверит».[178] С раздражением писал Белинский о «крепостническом» языке, свойственном отдельным статьям «Сельского чтения», предваряя свою полемику с Гоголем: «…одно, что мы можем не похвалить в „Сельском чтении“, — это употребление презрительно-уменьшительных собственных имен: Ванюха, Варька, Сенька, Васька, Машка и т. п. „Сельское чтение“ должно способствовать истреблению, а не поддержанию отвратительного обычая называть себя не христианскими именами, а кличками, унижающими человеческое достоинство…»[179] Ряд позитивных и полемических положений в «Книжности и грамотности» восходит к традициям Белинского. Это и настоятельное требование верного «тона» в сочинениях для народа, чуждого высокомерия, учительства и подделки под народность, и особенно полемика с идеалистическим взглядом славянофилов. Именно с ними полемизирует Достоевский, с их идеализированным образом народа, когда пишет: «Вообще душу народа как-то уж давно принято считать чем-то необыкновенно свежим, непочатым и „неискушенным“. Нам же, напротив, кажется (то есть мы в этом уверены), что душе народа предстоит поминутно столько искушений, что судьба до того ее починала и некоторое обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам». Достоевскому чужды утопические построения «мистических философов», отрицающих реальные факты, конструирующих фантастический, идеализированный образ народа, он упрекает их в антиисторичности.
Но, разделяя многие мысли Белинского, Достоевский в то же время, следуя принципиальной линии журнала на устранение крайностей «западнических» и «славянофильских» теорий и на выработку синтетической, нейтральной программы, выдвигал тезис, который, не являясь в прямом смысле «славянофильским», несомненно был антизападническим: «А вдруг <…> народ узнает <…> что ведь и нас, обратно, он мог бы многому научить, а мы-то и ухом не ведем и не подозреваем этого, даже смеемся над этой мыслью и подступаем к нему свысока с своими указками. А научить-то народ нас мог бы, право, многому; вот хоть бы тому, например, как нам его учить». Каламбурно заявленная мысль здесь кажется случайной, но введена она с умыслом и представляет собой убеждение Достоевского, вынесенное им из Сибири: впоследствии он будет ее настойчиво повторять и варьировать — вплоть до январского выпуска «Дневника писателя» за 1881 г.
Несомненно также, что Достоевский в полемике с Щербиной использовал острую и справедливую славянофильскую критику различных изданий для народа. Во всяком случае отдельные его иронические замечания по духу и тону близки к обстоятельной и яркой рецензии К. Аксакова на «Народное чтение» А. Оболонского и Г. Щербачева. Осуждение К. Аксаковым «приманок», «официального вмешательства», «наград» в деле просвещения народа[180] созвучно возмущению Достоевского предложениями Щербины дарить «Читальник» мужикам «как бы в награду за их грамотность» и распространять его с помощью начальства.
Приступая к разбору проекта «Читальника» и статьи Щербины, Достоевский отказывается судить о других книжках и проектах, как явно неудачных и не стоящих внимания. Он упоминает только оцененные отрицательно критикой «Красное яичко для крестьян» M. П. Погодина, «Народные беседы» Д. В. Григоровича, а также официально-патриотические рассказы для солдат И. H. Скобелева и повести А. Ф. Погосского, о которых тогда много писали.
«Красное яичко для крестьян» (1861) M. П. Погодина состояло из двух статей — «Слухи о решении крестьянского вопроса» и «5-е марта в Москве», с дополнением двух грамоток-обращений к народу от 24 марта и 17 апреля и разных приложений. Неестественный, фальшивый тон грамоток вызвал всеобщее раздражение. «Детским бредом» назвал слащаво-верноподданнические восторги Погодина Герцен,[181] иронически отозвался о грамотках и Чернышевский.[182] С резкой статьей «Новый наставник русского народа» выступил критик «Светоча» Л. Ф. Пантелеев.[183] «Мы думаем, — писал Пантелеев, — что вместо всех похвал натуре русского человека, его кротости, благородной памяти за добро лучше сделал бы г-н Погодин, если б указал на факты, обстоятельства, способные вывести этого человека, действительно весьма умеренного и спокойного, из его нормального состояния, показал бы необходимость и в то же время возможность устранения таких обстоятельств, как могущих затруднить положение совершившейся реформы в жизни». «Время» также откликнулось на грамотки и статьи Погодина во «Внутренних новостях»[184] Неуклюжая проповедь российской «внесословности» вызвала сопротивление публициста журнала, вполне согласного с тезисом о коренном отличии России от Запада, с «сущностью мысли» Погодина, но тем более раздраженного неуместной иллюстрацией, способной ее лишь скомпрометировать. «Ведь если два человека имеют какой-нибудь недостаток, — уточнял обозреватель «Времени», отмежевываясь от нелепых сравнений Погодина, — только один наследственный, а другой — перенятый от соседа, то это не значит, что последний лучше первого; он только может надеяться скорее избавиться от него, и пусть он принимает целительные меры и питает в себе прекрасную надежду, а мудрому наблюдателю подобает поддерживать ее, но не забегать вперед и не восхвалять до небес красоту человека, хотя с временным, но еще довольно сильно бьющим в глаза изъянцем».[185] Такова была позиция журнала Достоевских, и к ней отсылал писатель, упоминая в статье «Красное яичко» Погодина.
Разочарование современников вызвали «Народные беседы» Д. В Григоровича, от него — автора «Деревни» и «Антона-Горемыки» — ожидали совсем не таких плодов. Рецензент «Светоча» выражал общее мнение, отмечая, что они «не только недостойны нашего народа, но нимало недостойны и самого г-на Григоровича»[186] «„Народные беседы“ стали в некотором роде, наряду с грамотками Погодина, общественным „событием“». Достоевский присоединяется к общей реакции прессы, но не пускается в критику книжек Григоровича, просто констатируя их неудачу как неоспоримый факт.
Заметное явление в «народной» литературе 1860-х годов составили повести и рассказы А. Ф. Погосского, чем и вызвано было выделение Достоевским его имени. Произведения Погосского для солдат противопоставлялись критикой ультрапатриотическим, консервативным рассказам И. H. Скобелева, очерк о котором Д. В. Григорович поместил в брошюре «Русские знаменитые простолюдины». Достоевский пренебрежительно, мельком упомянул в статье о рассказах Скобелева. Историк и публицист M. Семевский в статье «Иван Скобелев» противопоставлял псевдонародным произведениям Скобелева «прекрасное издание г-на Погосского», считая, что тот «едва ли не первый у нас писатель, который с большим талантом соединяет необыкновенное знание солдатского быта, их воззрения, их нужды, радости и печали».[187] Доброжелательно о произведениях Погосского писали В. Водовозов в статье «Русская народная педагогика»,[188] В. Аничков в специальной рецензии «А. Ф. Погосский и его „Солдатская беседа“».[189] Отношение самого Достоевского к рассказам Погосского не совсем ясное, вряд ли однозначное, но, несомненно, сочувственное. Поговорить «особенно» о Погосском Достоевскому не удалось. В журнале вообще не появилось специальной статьи о нем, только в сноске к обзору «Внутренние новости» извещалось как о примечательном событии: «Г-н Погосский, издатель журнала „Солдатская беседа“, объявляет, что он получил разрешение на издание другого подобного же журнала под названием „Беседа, народный вестник начального образования“».[190]
В статье «Книжность и грамотность» Достоевский присоединялся к демократической постановке вопроса о народном просвещении. Но его позиция не была и не могла быть адекватной воззрениям «Современника» и «Русского слова», критиков и публицистов которого Достоевский упрекал в незнании и непонимании духа народа.
Достоевский настороженно относился как к идеализации, так и к сатирическому изображению народа. С иронией пишет он о намерении Щербины преследовать разные «отрицательные стороны народа» «сатирической солью и насмешкою, выраженною в образе», но вовсе не потому, что сомневается в существовании таковых сторон народа или является противником сатиры. Он не находит оснований для Щербины брать на себя роль учителя, обличителя и исправителя нравов. Его коробит тон и незыблемая уверенность автора проекта «Читальника» в собственной правоте, та легкость, с которой он берется обличать и переделывать то, что ему известно поверхностно и из книг. Вот почему Достоевский находит, что такое наивное и прямое выражение педагогической цели «скверно». Отсюда и сарказм писателя: «И вообразить не можем, как это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто?». Весь разбор проекта и статьи Щербины Достоевский подчиняет одному последовательно проводимому публицистическому принципу: доказывается, что благородство мыслей и побуждений автора поминутно вступает в противоречие с теоретическим, кабинетным представлением о народе. Результат такого несоответствия, доказывает Достоевский, естествен и печален: странная смесь умных и справедливых мыслей, с которыми писатель согласен, соседствует рядом с полным непониманием народных нужд, с такими рекомендациями и сонетами, которые почти сводят на нет программу просвещения народа, предложенную Щербиной. Достоевский стоит на гуманистической точке зрения, призывает к уважительному и деликатному отношению к обычаям, вере и предрассудкам народа. Просветитель, по его глубокому убеждению, должен в первую очередь обладать тактом и реальным, а не «кабинетным» знанием народа.
Статья «Книжность и грамотность» заняла видное место в разноголосой публицистике 60-х годов, с энтузиазмом обсуждавшей проблему просвещения раскрепощенного народа, приобщения его к плодам цивилизации — науке и искусству. Бесспорен гуманистический и демократический дух выступления Достоевского, реализм и трезвость взгляда писателя, во многом обусловленные его личным жизненным опытом. Закономерно, что в статье также много говорится о трагической поре жизни писателя: «Книжность и грамотность» многими деталями, наблюдениями, выводами перекликается с «Записками из Мертвого дома». Воспоминания в статье — реальный и мощный аргумент, используемый автором в полемике с отвлеченно-теоретическими суждениями о народе. Они выделяют статью из множества других аналогичных по тематике публицистических выступлений тех лет. Воспоминания о собственных переживаниях в Мертвом доме оправдывают и объясняют тон Достоевского и сущность его скептической, но лишенной в то же время пессимистических оттенков позиции. Они привносят в статью ноту подлинного драматизма, лирической взволнованности. «Простолюдин будет говорить с вами, рассказывая о себе, смеяться вместе с вами; будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего посконного земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив». Воспоминания, наконец своим реальным, трезво-скептическим содержанием независимо от воли автора статьи противостоят тем утопическим иллюзиям которые как и многие его современники, Достоевский испытывал в год объявления высочайшего манифеста: «…правительство <…> до половины завалило ров разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни».
Статья вызвала разноречивые отклики в печати. Публицист «Русской речи» во «Внутреннем обозрении», отдавая должное знанию автора «Книжности и грамотности» народа, находил в то же время содержание в целом «замечательной» статьи неясным, терминологию Достоевского — неопределенной.[191] Статья Достоевского и фельетон П. Кускова вдохновили и критика «Светоча» на большую статью об изданиях для народа, из которых преимущественно разбирается «Опыт о книге для народа» Щербины.[192] Статья критика «Светоча» развивает почти все главные тезисы «Книжности и грамотности», оттуда заимствуются оценки, тон и идеи. А. С. Суворин в письме к M. Ф. де Пуле 27 декабря 1861 г., отрицательно оценивая критический отдел «Времени» в целом («вельми слаб»), выделяет, однако, статьи Достоевского: «…что-то новое только и есть в статьях Φ. Достоевского («Книжность и грамотность»)»[193] H. Φ. Щербина, по-видимому, был раздражен статьями П. А. Кускова и Ф. M. Достоевского о его проекте «Читальника» Об этом косвенно можно судить по тем резким эпитетам, которыми он наделяет журнал «Время» в письме к M. H. Каткову от 16 марта 1863 г «ловкий заискиватель», «комедиант», «петербургский зазыватель».[194]
Проблема народного просвещения была неразрывно связана с другой не менее важной проблемой — народознания. Этим тенденциям и требованиям времени в значительной степени удовлетворяли как статья «Книжность и грамотность», так и «Записки из Мертвого дома»: они не только стали значительным литературно-общественным явлением 60-х годов, но и реально, фактически продвинули вперед вопрос о народе. В творчестве Достоевского последующие обращения к народной теме и народным типам восходят к этим произведениям писателя. Контурно намеченная в них мысль о необходимости «преобразоваться в народ вполне» станет одной из центральнейших в «Дневнике писателя» Будет впоследствии возвращаться Достоевский и к проблеме народного чтения. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский по-прежнему констатировал: «…в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу» (XXII, 23).
V. Последние литературные явления
Газета «День»
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 11. Отд. II. С. 64–75) без подписи.
Статья о газете «День» завершает публицистический цикл Достоевского. Полемика с «Отечественными записками», «Современником» и «Русским вестником» в предыдущих статьях в достаточной степени выявила специфику направления «Времени», отличие его от других идеолого-литературных тенденций эпохи. Полемизировал Достоевский и со славянофилами, но лишь мимоходом. В статьях других сотрудников журнала вопрос о существе славянофильства возникал чаще; в целом отношение «Времени» к славянофильству было сочувственным, хотя достаточно сдержанным и скептическим: об этом свидетельствуют даже статьи А. Григорьева. Демонстративно называя глубокими мыслителями Аксаковых, Киреевских, Хомякова, превознося философские труды К. Аксакова и религиозные брошюры Хомякова, выявляя грань, отделяющую «истинных» славянофилов «от учений мрака», от «Маяка» и А. С. Шишкова, Григорьев вынужден был, однако, признавать, что далеко не всегда эта грань была такой уж очевидной. «В пылу битвы за свое отрицание реформы славянофильство само иногда роняло несколько случайных слов в защиту таких явлений допетровского быта, которые никакими общечеловеческими идеалами не оправдываются», — писал он в статье «Народность и культура».[195] Достоевский ту же мысль проводит в данной статье значительно категоричнее. Не соглашаясь с Григорьевым, отдававшим предпочтение славянофильству перед западничеством, Достоевский адресует славянофильству аналогичные упреки в «старобоярском» направлении, в идеализме, теоретичности, догматизме, отвлеченном учительстве. Запомнил он тезисы Григорьева в статье «Взгляд на книги и журналы, касающиеся истории русского народного быта», во многом подготовившей почву для полемики Достоевского с И. С. Аксаковым и вооружившей его сильными аргументами. Писатель, в сущности, варьирует в более резкой форме следующие слова критика: «Славянофильский взгляд на народ, его быт, историю, предания, поэзию — взгляд, хотя и несравненно справедливейший, нежели взгляд отрицательный, в сущности сходен с сим последним тем, что он точно так же теоретический. Славянофильство <…> не брало народ, каким он является в жизни, а искало в нем всегда своего идеального народа, обрезывало по условной мерке побеги этой громадной растительной жизни. Славянофильство в своем теоретическом ослеплении подавало руку шишковизму, который вел прямо к «Маяку» и «Домашней беседе», славянофильство не любит, в сущности, Пушкина <…> и, может быть, до сих пор еще чуждается современной народной литературы, во главе которой стоит Островский. По крайней мере, оно ни разу не выражало к ней, к этой новой литературе, своего сочувствия. К народу и к народному быту относилось это, впрочем весьма почтенное и много доброго сделавшее, направление учительно и даже иногда исправительно. Своего идеального народа оно отыскивало только в допетровском быту и в степях, которых не коснулась еще до сих пор реформа».[196]
Орган славянофилов газета «День» (издатель-редактор И. С. Аксаков) начала выходить в Москве еженедельно с 15 октября 1861 г. Газета имела отделы: Литературный, Областной, Славянский, Критический и Смесь. Политический отдел И. Аксакову не был разрешен. Газета выходила до 1865 г.
Совершенно естественно, что известие о новом славянофильском органе печати было встречено «Временем» доброжелательно: «…с 1 января будет издаваться в Москве новая газета «День», под редакцией И. С. Аксакова <…> Будем ждать с нетерпением исполнения этого обещания!»[197]
Однако первые же номера газеты вызвали разочарование Ф. M. Достоевского и вынудили его выступить с необычно резкой по тону статьей, разбирающей общественно-политические и литературные взгляды «Дня». Достоевский отделяет свою позицию и от обскурантов вроде Аскоченского, приветствовавшего рождение «Дня», и от тех, кто обрушился на славянофильскую газету, как на издание рептильное и ретроградное. Восстает Достоевский, однако, не против сути выступлений критиков «Дня» («Мы не за „День“ заступаемся и не за взгляды его»). Его тревожит тон критики, в нем он видит странные и болезненные симптомы, те «деспотические» приемы, тот «терроризм мысли», решительным и убежденным противником которого он выступал во всех статьях 1861 г. Реакция печати на появление «Дня» для Достоевского — лишнее свидетельство общего неблагополучия дел в разрозненном, разбившемся на множество партий и групп образованном обществе России.
После короткого полемического выступления Достоевский переходит к анализу содержания первых номеров «Дня», выделяя передовую статью И. С. Аксакова «Москва 14-го октября»;[198] посмертно опубликованную статью К. С. Аксакова «Наша литература»,[199] передовую И. С. Аксакова «Москва 21-го октября»[200] и корреспонденцию H. Б.[201] «Из Каширы. Письмо 2-е», сопровожденную обширными примечаниями И. С. Аксакова.[202] Анализ этих статей дает Достоевскому основание констатировать неизменность и догматичность славянофильских воззрений, неумение и нежелание славянофилов считаться с духом времени. Более того, он колко замечает, что беспрерывно говорящие о русских народных началах теоретики-славянофилы удивительно не по-русски отстаивают свои идеи, внося в споры с западниками дух вражды, фанатизма, непримиримости: «Те же славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всем, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью». Признавая большие заслуги славянофилов, Достоевский, однако, оценивает их без энтузиазма и горячности, нередко свойственных Герцену. Напротив, он вовсе не собирается преувеличивать эти заслуги, сопровождая даже похвалы серьезными ограничениями: «Есть у них иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) основных элементов русской народной особенности» (курсив наш. — В. Т.). Достоевский подчеркивает, что западничество было не в меньшей степени русским явлением, чем славянофильство, он пишет настоящий панегирик западничеству (признавая законность и необходимость даже, «ярого» западничества) и «страстно-отрицательной» литературе. Достоевский явно отдает предпочтение «западнической» партии, как партии движения, верной духу реализма в герценовском широком значении этого слова, имеющего мало общего с узким и односторонним «утилитаризмом». Судьба и произведения Герцена эмигрантского периода стоят за следующими словами Достоевского: «…западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и во что бы ни стало отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к реализму, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем…». Реализм, ум, анализ («станция пытливого ума и анализа»), трезвость взгляда и способность к движению, умение честно признавать свои ошибки, «самопроверка», «самопознание» — все это отличительные качества «западничества», по убеждению Достоевского, ставящие его выше мечтательного, книжного, догматического и нетерпимого славянофильства. Оценивая историческую роль славянофилов, Достоевский отказывает им в праве обвинять русское общество в целом, и западников в частности, во лжи и неискренности, указывает на их очевидный «разлад с действительностью» Его статья — попытка отделить «почвенническое» направление от славянофильского.
Достоевский высоко ставит труды К. Аксакова «о мире, об общине русской». Но в то же время он не может сдержать возмущения крепостнической моралью, развиваемой H. Б. — корреспондентом «Дня» по крестьянскому вопросу. Недовольство Достоевского вызвали и идиллические примечания к корреспонденции H. Б. редактора газеты И. С. Аксакова. Упорно проводя славянофильскую антитезу «Запад — Восток» и искажая реальную картину крепостничества, Аксаков дошел до утверждения, «что в общей сложности личные отношения помещиков и крестьян были довольно человечны», что в России крестьянин «не был для помещика „виленем“ (vilain)», a „рабом божиим“, „християнскою же душою“». Ответ Достоевского Аксакову недвусмысленно ясен: «Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с, одно другого, верно, стоило. Спросите у мужиков <…> А холоп, хам, халуй, хамлет — что, эти названия, по-вашему, благороднее виленя?» В этих словах ощущается влияние политического завещания Белинского, его «письма к Гоголю». Упрекает Достоевский редактора «Дня» и в недостатке подлинного христианского чувства. Грозным иеремиадам и мрачным пророчествам Аксакова, фанатично нетерпимым словам, вкладываемым им в уста «будущего» русского православного народа, Достоевский противополагает дух кротости, согласия, любви, терпимости: «И уж если пошло на тексты, то не грозный текст пророка приведет он (народ — В. T.) тогда, а милосердные слова бесконечной любви…» (с. 154–155).
Продолжает Достоевский в статье и спор со славянофильской концепцией развития русской литературы, в которой, по давнишнему убеждению писателя, яснее всего сказались теоретизм, отвлеченность славянофильского направления, его разлад с подлинно реалистическим взглядом на историю развития русского общества. Иронически задевая литературный опыт К. С. Аксакова, комедию в двух действиях с прологом «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (1851), Достоевский, видимо, вспоминал отзывы В. Г. Белинского о художественных произведениях славянофилов, в частности о драмах А. С. Хомякова. В «Статьях о народной поэзии» (1841) Белинский писал, что хотя в драме Хомякова «Ермак» «имена <…> не только русские, но даже исторические русские, а дух и склад речи принадлежат идеальным буршам немецких университетов; и русского духа в ней слыхом не слыхать, видом не видать».[203] Аналогичен отзыв Белинского в статье «русская литература в 1844 году» (1845) о «Дмитрии Самозванце» Хомякова: «…видна более или менее ловкая подделка под русскую народность, но нет ни одного истинного проблеска русской народности. Видим лица, видим события, видим русские слова, но не видим того, что давало бы смысл, было бы ключом к разгадке этих лиц и событий. Самозванец и Ляпунов г-на Хомякова говорят, кажется, по-русски, а между тем оба они — какие-то романтические мечтатели двадцатых годов XIX столетия, следовательно, нисколько не русские начала XVII века».[204] К этим и другим суждениям Белинского о славянофильской беллетристике примыкает обращение-напоминание Достоевского руководителям «Дня» о бесплодности и ничтожности их художественных попыток изображения русского народа: «Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались».
В полемике Достоевского с литературными мнениями К. С. Аксакова безусловно присутствовал и личный момент: писателю были памятны отзывы Константина Аксакова о «Бедных людях» и «Двойнике» (см.: I, 477, 491). Личное Достоевский сопрягает с общим: он горячо возражает принципиальному противнику «натуральной школы» и «отрицательного направления» — К. С. Аксакову, с тем же упорством проводившему свои мнения в 1850-х годах, как и в 1840-х. В «Обозрении современной литературы» (1857) К. Аксаков продолжал утверждать, что «литература наша — собрание чужих форм, разных отголосков и только», писал о «хилости и недолговечности современного состояния нашей литературы, не нуждающейся для своего падения в посторонней помощи…»[205] Аксаков пророчил «прекращение литературы, начавшейся с Кантемира, дух которой в основании был — подражательность», и находил этот процесс естественным.[206] Те же идеи проповедовал К. Аксаков и в статье, посмертно опубликованной в газете «День», что дало основание Достоевскому говорить о косности и догматичности славянофильской критики. Он упрекает братьев Аксаковых в непонимании реальных историко-литературных процессов, в разрыве с требованиями «живой жизни». Тенденциозное и поверхностное истолкование К. Аксаковым пьес Островского для Достоевского — убедительный образчик односторонности и предвзятости славянофильского воззрения на русскую литературу и искусство вообще.
Достоевский доказывает, что суждения К. Аксакова о русской литературе по духу неразрывно слиты с примечаниями И. С. Аксакова к корреспонденциям «обскуранта» H. Б. и его же мрачными иеремиадами-пророчествами. Отсюда естественно родившийся каламбурный мрачный прогноз Достоевского: «Дурные „Дни“ вы сулите нам впереди. Мы с симпатией думали встретить журнал ваш, но вы хоть какую симпатию потушите». Слова эти означали признание краха надежд редакции «Времени» на новый славянофильский орган печати как на возможного идеологического союзника.[207]
Статья Достоевского определила на ближайшее время если не всеобщее, то господствующее отношение редакции «Времени» к общественно-политическому курсу, взятому газетой «День». Об этом говорят такие публикации журнала, как статья «Наследство старого года: задачи и „День“», оспаривающая мнение газеты по дворянскому вопросу; заметка «Девятнадцатый номер „Дня“»[208] иронически комментирующая антисемитскую выходку И. С. Аксакова, и др.
Продолжил полемику с «Днем» в 1862 г и сам писатель. В статье «Славянофилы, черногорцы и западники» он иронизировал над передовой И. Аксакова от 16 февраля 1862 г., в которой редактор «Дня» требовал ограничения прав евреев; в «Двух лагерях теоретиков» (1862) Достоевский называет «неизгладимым пятном на редакции» и другую передовую Аксакова «Москва 28-го октября», призывавшую молодое поколение учиться, а не бунтовать, так как студенты не имеют «полных прав гражданских, а следовательно и голоса в делах общественных».[209] В статье «О новых литературных органах и о новых теориях» Достоевский осудил «диатрибу» «Дня» против «нашего общества» (1863), которая в напряженной обстановке, вызванной правительственной кампанией, воспользовавшейся петербургскими пожарами, носила провокационный характер. Эти и другие полемические уколы и предупреждения Достоевского «Дню», вместе взятые, дают представление о глубине и серьезности идеологических разногласий «Времени» и его редактора со славянофильской газетой.
Некоторым диссонансом звучит в журнале лишь рецензия (по всей видимости, H. H. Страхова) на «Литературные воспоминания» И. И. Панаева: «Слишком легко было бы ценить людей и мнения, — читаем мы здесь, — если бы для этого нужно было только сосчитать число подписчиков на журналы. Славянофилам можно в этом отношении искренне позавидовать. Их мало читали, но их всегда уважали. Мало ли было журналов, которые шли во сто раз успешнее, мало ли писателей, которые читались в тысячу раз более? А между тем многие из них исчезли, не оставив по себе доброй памяти; много имен, некогда знаменитых, покрыты теперь бесславием. Славянофилы же, эти Киреевские, Хомяковы, Аксаковы, — чем дальше, тем знаменитее, тем светлее и чище их память. Это какие-то живучие имена, и кто любит истинную жизнь, тот не отвернется от них с презрением, как отворачиваются те, кто из-за минутного шума и треска не слышит ничего менее громкого, но более постоянного».[210] Рецензия отразила существовавшее в редакции «Времени» противоречие между сочувствующими славянофильскому направлению H. H. Страховым и А. А. Григорьевым, с одной стороны, и остальными членами редакции — с другой. Разногласия эти не исключали соглашения по вопросам, позволявшим взаимно идти на компромиссы и определенные уступки. Притом рецензия на воспоминания Панаева была направлена против «террора мысли», грубых и оскорбительных суждений критика «Библиотеки для чтения», нетерпимого тона его статьи с фельетонным заглавием «Пора меж волком и собакой». В рецензии раздраженно осуждалось само славянофильское направление: «Перед нами 6-ть №№ нового славянофильского органа, иже нарицается „День“ и все это мертвые зады, мертворожденные фразы, чревовещанья и оракулы, пересыпанные возгласами <…> самого бестактного, даже никого не обижающего хвастовства».[211] В оскорбительном тоне писал автор о К. Аксакове: «…смешно и странно, что из этого микроскопического имени (К. Аксакова. В. T.) выбрасывают флаг; но дико, безобразно и более чем невежественно, когда этот флаг хотят навязать вам как национальный. Это тем более смешно и необузданно, что не только какой-нибудь Константин Аксаков, но и вся-то славянофильская партия перед лицом здравого смысла оказывается какой-то небывальщиной, менее чем мифом, который всегда имеет хоть символическое значение. Пора понять и заявить, что эта партия существует как название, потом — как группа людей, считающих взаимно друг друга единомышленниками касательно каких-то им только известных мистерий, но что такой партии как деятельной силы, проявляемой каким-нибудь определенным способом, совершенно не существует. Какая угодно премия тому, кто расскажет понятным для человеческого смысла языком, над какою задачею трудится эта партия и что она сделала для ее объяснения. <…> как деятельная сила, вы для общества вовсе не существуете».[212] Такая критика могла вызвать отпор не только Григорьева и Страхова, но и Достоевского. писавшего в комментируемой статье: «…имя Аксаковых, всех троих, слишком известно, чтоб не знать, с кем имеешь дело».
Примечательно, что полемика Достоевского со славянофилами не прошла бесследно для А. Григорьева. Под прямым влиянием статьи Достоевского Григорьев писал в «Плачевных размышлениях о деспотизме и о вольном рабстве мысли» (Якорь. 1863 № 3): «…вижу и дикую статью покойного К. С. Аксакова о русской литературе, статью, сказать прямо приходится, при всем уважении к памяти благородного деятеля, исполненную одного только тупого самодовольства и всякого посмеяния достойную…» В той же статье А. Григорьев повторяет основные возражения Достоевского славянофилам: «Я глубоко сочувствую славянофильству и его любви к быту народа и к высшему благу народа — религии, но и глубоко же ненавижу это старобоярское направление за его гордость; вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него — ложь; вся наша литература, кроме Аксакова и Гоголя, — вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на его дороге. Ведь выше князя Луповицкого славянофильское художество не поднималось, потому что, собственно, и «Семейную хронику» и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства русская литература. А без художества — теория пропащее дело».
<предисловие к публикации «заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских темниц (Пломб) (Эпизод из его мемуаров)»>
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1 Отд. 1. С. 93–94) с подписью: Ред.
Джованни Джакомо Казанова (Casanova de Seingalt; 1725–1798) — знаменитый итальянский авантюрист XVIII в.; писатель, историк и мемуарист. Над своими мемуарами «Histoire de ma vie», в которых он описал свои бурные похождения, Казанова работал в конце жизни, написав их на французском языке. Задолго до выхода в свет полного текста мемуаров автор сам опубликовал из них лишь один эпизод — именно тот, перевод которого был напечатан в журнале братьев Достоевских — «История моего бегства из венецианских «Пломб» (Histoire de ma fuite des «Plombes» des Venise. Prague, 1788). В полном виде (хотя и в литературной обработке) текст мемуаров Казановы был напечатан впервые в 1822–1828 гг., посмертно, в немецком переводе с французского оригинала, а затем издан по-французски в 1826–1832 и в 1843 гг. Высоко оцененные уже при появлении первого тома молодым Г. Гейне, мемуары Казановы получили с этого времени всемирную известность и были вскоре переведены на многие европейские языки.
Как указано в заметке Достоевского, перевод эпизода из мемуаров Казановы во «Времени» был первым русским переводом отрывка из сочинения знаменитого авантюриста, хотя сам Казанова встречался с Суворовым, писал Екатерине II и вообще как личность, знаменательная для своей эпохи, был известен в России уже с конца XVIII в. Сокращенный русский перевод мемуаров Казановы в одном томе вышел на русском языке уже после смерти Достоевского (СПб., 1887).
Перевод эпизода из мемуаров Казановы для «Времени» был сделан (как это видно из формы имени «Жак» и из текста редакционного предисловия) с французского. Имя переводчика не установлено. Не знаем мы и того, когда Достоевский впервые познакомился с мемуарами Казановы, историко-культурное и психологическое значение которых он верно понял и высоко оценил в своей заметке. Упоминание мемуаров Казановы и повести «Дядюшкин сон» (1859; см.: наст, изд. T. 2) делает вероятным, что знакомство это имело место либо в 1840-х, либо в 1850-х годах. О том, что Достоевский не только читал переведенный во «Времени» отрывок, но знал и другие страницы «Истории моей жизни» Казановы, свидетельствует как содержащаяся в его заметке сжатая характеристика личности знаменитого авантюриста и «эксцентрической» откровенности его книги, так и известное сходство, которое можно усмотреть между приемами описания внешнего облика Свидригайлова (в «Преступлении и наказании») и особенно Ставрогина (в «Бесах») с близкими штрихами портрета доминиканца патера Мансии в падуанском эпизоде первой части (гл. III) мемуаров Казановы («голубые глаза», «черты Аполлона», «ослепительная белизна», «каралловые губы» и т. д.).
<предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 17. Отд. I. С. 230–231) с подписью: Ред.
Предисловие (от редакции) было предпослано опубликованному во «Времени» переводу трех рассказов Э. По: «Сердце-обличитель», «Черный кот» и «Черт в ратуше», переведенных Д. Михаловским. В № 3 была напечатана и еще одна новелла По — «Похождения Артура Гордона Пэйма». Все четыре рассказа на русском языке появились впервые.
Несмотря на замечание автора заметки, что «два-три рассказа Эдгара По уже были переведены на русский язык в наших журналах», число появившихся переводов к тому времени было большим, и Достоевский, вероятно, знал если не все, то многие из них.[213] Об этом свидетельствуют разнообразные сюжеты новелл американского писателя, упоминаемые в Предисловии. Есть основания предполагать, что писателю были в той или иной мере известны и некоторые американские и английские издания Э. По (хотя по-английски он не читал) и во всяком случае французские переводы — в первую очередь Ш. Бодлера. Об этом свидетельствует упоминание Достоевским рассказов «Необыкновенный аэростат», «Разговор с мумией» и «Месмерические откровения», не переведенных к тому времени на русский язык.
Имя нового автора могло попасть в поле зрения русского писателя уже в конце 1840-х годов, когда в России впервые стали появляться упоминания об американском новеллисте. Еще при жизни По «Новая библиотека для воспитания», издаваемая П. Редкиным (M., 1847. Кн. 1), помещает перевод рассказа «Золотой жук». В 1852 г. «Пантеон» (№ 9) публикует биографический очерк Ш. Бодлера «Эдгар Эллен Поэ. Североамериканский поэт». В 1853 г. в «Отечественных записках» (№ 11) появляется «Голландский воздухоплаватель», в 1856 г. в «Русском инвалиде» (13 мая и 1 июня № 119 и 120) — «Тысяча вторая ночь» (без указания авторства По), в «Сыне отечества» (23 сентября, № 25) — «Рукопись, найденная в бутылке», в «Библиотеке для чтения» (№ 10) — «Спуск в Мельстром», в 1857 г. в «Библиотеке для чтения» (№ 3) — «Длинный ящик» и «Человек толпы», в «Сыне отечества» (17 и 24 марта № 11 и 12) — «Загадочное убийство» и там же 1 сентября в № 35,— «Украденное письмо». В 1858 г. выходит отдельным изданием «Вильям Вильсон» (СПБ., 1858), и в следующем году там же — «Говорящий мертвец».
Первые русские переводы По были более или менее случайны. Не предлагала еще никакой концепции творчества нового автора и русская критика. Но уже в начале 1860-х годов положение меняется и начинает все более явственно обнаруживаться угол зрения, под которым русские журналы отбирают, а затем и оценивают творчество По.
Одна из наиболее заметных попыток представить читателю избранного По была сделана во «Времени». Предпосланное рассказам предисловие — по сути первая серьезная и глубокая оценка писателя в России. Многие аспекты намеченного Достоевским подхода к проблематике американского новеллиста были позже подхвачены и развиты другими критиками.
Гофман, подобно большинству других европейских романтиков, олицетворял «силы природы в образах» и искал свой идеал «вне земного». По же, по определению Достоевского, «фантастичен» лишь «внешним образом», не выходя за пределы материальной, земной действительности. Его метод имеет скорее характер своеобразного психологического эксперимента: По «почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека!». Эти черты фантастики По и такие, как «смелость» его воображения (благодаря которой «вы <…> ярко видите все подробности представленного вам образа или события»), Достоевский сочувственно выделяет в своем предисловии, так как они были созвучны сложившемуся у него к этому времени взгляду на природу фантастического.
Характер творческой декларации имеет в Предисловии то, что Достоевский подчеркивает значение для По чистоты идеала, равно как определение его — «красота действительная, истинная, присущая человеку». «Всего Гофмана» Достоевский прочел еще в Инженерном училище (см. письмо к M. M. Достоевскому от 9 апреля 1838 г.). Для Достоевского 1861 г. примечательна высокая оценка поэзии, юмора, «светлого идеала» Гофмана («Гофман неизмеримо выше По как поэт»), и в то же время критический анализ его романтической фантастики, сделанный рукою писателя-реалиста, выделяющего у Гофмана также на первое место «силу действительности», «типы и портреты».
Спустя более чем десятилетие после данной заметки имя Э. По еще раз возникает под пером Достоевского: в черновом наброске к рассказу «Сон смешного человека», в том месте, где герой рассуждает о природе сновидений (гл. III), писатель помечает на полях: «У Эдгара Поэ». Очевидно, ассоциация с По вызвана была раздумьями о зыбкости границ между реальным и ирреальным. Этот мотив — один из основных в творчестве американца — занимал давно и Достоевского и трактовался им в качестве одной из особенностей человеческой психики. Под тем же углом зрения воспринимал он аналогичные проблемы и у По.
Сближение творческих принципов Достоевского и По делалось многократно; о нем, правда, вскользь писали К. Д. Бальмонт, Л. П. Гроссман, В. Л. Львов-Рогачевский, P. Г. Назиров, Д. Фангер и другие; эта тема находит свое место также в работах. В. Астрова и M. Виднэс. Специально этот вопрос рассмотрен в книге американской исследовательницы Джоан Делани-Гроссман.
<примечание к статье «Процесс Ласенера»>
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 2. Отд. II. С. 1) с подписью: Ред.
Очерком «Процесс Ласенера» редакция «Времени» открыла серию публикаций, посвященную знаменитым западноевропейским уголовным процессам XIX в. Инициатива в деле постоянного печатания в журнале материалов этого раздела (как можно с большой долей уверенности полагать, учитывая постоянный интерес Достоевского, художника и психолога, к материалам русской и зарубежной уголовной хроники) принадлежала Ф. M. Достоевскому. Вслед за первой публикацией «Процесс Ласенера» (Время. 1861. № 2) редакция в 1861–1862 гг. поместила следующие — аналогичные по содержанию и форме — материалы: 1). «Лезюрк. Из уголовных дел Франции. (1796–1851) (Случай судебной ошибки)» (1861. № 4); 2) «Мадам Лафарж. Из уголовных дел Франции» (1861. № 5); 3) «Каролина английская и Бергами (процесс 1820 г.)» (1861. № 7); 4) «Мадам Лакост» (1861. № 10); 5) «Таинственное убийство. Из уголовных; дел Франции 1840 г.» (1862. № 1); 6) «Убийцы Пешара. (Французское уголовное дело 1857–1858 гг.)» (1862. № 2). Последний очерк этой серии был напечатан в «Эпохе»: «Госпожа де Прален (процесс 1847 г.)» (1864, № 1–2).
Вскоре очерки, напечатанные во «Времени», были переизданы отдельной книгой без имен автора и переводчика под заглавием «Любопытнейшие процессы из уголовных дел Франции и Англии» (СПб., 1862. Вып. 1)
Как выяснил на основании анализа гонорарных ведомостей редакции «Времени» Б. В. Томашевский, перевод материалов «Процесса Ласенера» был выполнен P. P. Штрандманом.
Французский оригинал, с которого по поручению редакции делались переводы, установлен В. Д. Раком[214] Это многотомное издание: Fouquier Armand. Causes célèbres de tous les peuples. Éd. ill Paris, 1857–1874. T. 1–9 (или его перепечатка: Édition populaire illustrée. Paris, 1859–1867. T. 1–7). Изложение процесса Ласенера было помещено в т. 1 сборника Фукье (1857) и составило два его выпуска (4–5). Перевод остальных семи процессов для «Времени» и «Эпохи» был выполнен группой его сотрудников также с некоторыми сокращениями по томам 1–4 издания Фукье.
Уже в 1860 г. в № 1 журнала «Светоч», к редакционному кружку которого были близки братья Достоевские, был помещен отчет о нашумевшем уголовном процессе г-жи Лемуан, а в № 1 «Светоча» за 1861 г. подобный жанр публикаций был продолжен. Это дает основание полагать, что печатание изложения процесса Лемуан в «Светоче» либо было осуществлено по идее одного из братьев Достоевских, либо, наоборот, могло явиться толчком к зарождению у редакторов «Времени» мысли о систематической публикации в журнале подобного же рода материалов. Печатая их, издатели «Времени», как видно из данной заметки, руководствовались не только желанием доставить подписчикам журнала чтение, занимательное благодаря своему чисто внешнему, авантюрному интересу, но исходили в первую очередь из рано сложившегося у Достоевского и получившего отражение уже в его рассказах и фельетонах 1840-х годов представления о глубине социально-психологичесого содержания, заключенного в материале «текущей» газетной, в том числе судебно-уголовной, хроники. Наряду с этим материал иностранных судебнo-уголовных процессов, печатавшихся во «Времени», представлял в условиях России начала 1860-х годов, так же как параллельно печатавшиеся во «Времени» «Записки из Мертвого дома» самого Достоевского, актуальный общественно-политический интерес в связи с предстоящей в России судебной реформой и обсуждением остро назревших вопросов преобразования уголовного кодекса и пенитенциарной системы, к которому призывала тогдашняя и либерально-дворянская, и демократическая общественность.
Пьер-Франсуа Ласенер (Lacenaire, 1800–1836) — вор и убийца, известный своей жестокостью, герой нашумевшего судебного процесса, приговоренный в 1835 г. в Париже к смертной казни. Имя Ласенера получило известность не только благодаря его процессу, изложение которого печаталось во французских газетах 1830-х годов и позднее вошло в ряд сборников знаменитых уголовных процессов, но и благодаря написанным Ласенером в заключении апологетическим стихам и мемуарам, где он пытался изобразить себя как «жертву общества» и сознательного мстителя, воодушевленного идеями борьбы с социальной несправедливостью. Полуапокрифические мемуары и стихотворения Ласенера («Mémoires, révélations et poésie de Lacenaire») были изданы (возможно, в чьей-то литературной обработке) посмертно в Париже в 1836 г. Вслед за ними вышло другое, уже вполне апокрифическое издание: «Lacenaire après ça condamnation: ses conversations intimes» (Paris, 1836). Декларации Ласенера о том, что он не обыкновенный, рядовой убийца и грабитель, но поэт-революционер, мститель обществу, вызвали отповедь его современника — одного из наиболее популярных французских революционных поэтов 1830-х годов — Эжезиппа Моро (H. Moreau, настоящее имя — Пьер Жак Руйо (Roulliot, 1810–1838). В поэме «Ласенер-поэт», вошедшей в его сборник «Незабудка» («Le Myosotis», 1838), Моро с негодованием обрушился на Ласенера, который осмелился называть себя поэтом, «в старушечьей крови сбирая луидоры», и на мещанско-буржуазную публику, поднявшую на щит этого «поэта-громилу». Если в прошлые столетия, в эпоху Вийона или Сальватора Розы, поэты и художники нередко были принуждены стать преступниками, заявлял Моро, то в современном обществе поэты-протестанты и преступники не имеют между собою ничего общего, между ними лежит целая пропасть.[215]
Указанную совокупность фактов, известных Достоевскому из материалов процесса Ласенера и из откликов на него французской литературы и журналистики 1830-1840-х годов (стихи Ласенера упоминаются, а одно из стихотворений даже цитируется в публикации «Времени»), нужно учитывать для того, чтобы понять причины психологического интереса, который длительное время вызывала у писателя «загадочная» личность этого необычного убийцы. Молодой человек, хотевший в прошлом посвятить себя изучению права, а позднее — неудачливый литератор, Ласенер был достаточно образован и осведомлен (хотя и понаслышке) в демократических и социалистических теориях своего времени, чтобы пытаться — хотя и безосновательно — разыграть роль «интеллигентного» убийцы, руководимого идеей индивидуального мщения обществу: «Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века» (с. 90). Эти черты сближали облик Ласенера в представлении Достоевского с типами героев замышлявшихся им романов и повестей.
«Свисток» и «Русский Вестник»
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 3. Отд. V С. 71–84 без подписи).
В настоящей статье отразилось неприятие Достоевским общественно-литературной позиции катковского «Русского вестника». Уже в январской книжке этого журнала за 1861 г. Катков публикует нечто вроде воинственной декларации — «Несколько слов вместо „Современной летописи“», в которой оповещает публику о намерении не отказываться «от своей доли полицейских обязанностей в литературе». Подобное заявление носило подчеркнуто антидемократический характер. Однако, всячески понося «Свисток» — сатирическое приложение к «Современнику», Катков отнюдь не скрывал своего высокомерно-пренебрежительного отношения по существу ко всей новой русской литературе, называя ее «скудной», «ничтожной», неспособной к подлинно самобытному развитию. Этой точке зрения Достоевский противопоставляет свою. Именно русская литература, утверждает Достоевский, успешно выполняет в стране важнейшую общественную миссию — нравственно «формирует человека».
Одним из предметов спора между журналом Достоевского, с одной стороны, и такими разными по направлению журналами, как «Русский вестник», «Современник» и особенно «Отечественные записки» — с другой, был вопрос о значении творчества Пушкина. Возражения Достоевского Каткову и С. С. Дудышкину, сформулированные в настоящей статье, представляют собою отчетливое предвосхищение речи Достоевского о Пушкине (1880). Отповедь Каткову, как и возражения демократической критике, сгруппированные в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве», сопровождались оговорками, свидетельствовавшими о такте Достоевского-журналиста. Высмеивая «кабинетное» высокомерие публицистики «Русского вестника», Достоевский тем не менее полагает, что этот журнал все-таки «стоит читать». Еще характернее положительная оценка Достоевским деятельности «Свистка» как полезной и даже необходимой, отвечающей общественным потребностям эпохи. В этом отношении многозначительно сравнение им «свиста» «Современника» со «свистом» Вольтера.
Достоевский ратует не за размежевание общественных и литературных сил, а за их объединение, но, разумеется, за такое объединение, при котором в качестве центростремительного начала возобладали бы «почвеннические» идеалы. В дальнейшем эта тенденция скажется в «двухсторонней» полемике с западниками и славянофилами (см. статью «Два лагеря теоретиков», 1862).[216]
Ответ «Русскому Вестнику»
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 5. Отд. V. С. 15–39 без подписи).
Настоящая статья — вторая из двух статей, посвященных полемике с «Русским вестником» о женском вопросе и «Египетских ночах» Пушкина.
После появления «Образцов чистосердечия» Достоевского и статьи H. H. Страхова «Один поступок и несколько мнений г-на Камня-Виногорова» в № 8 газеты „Век“[217] Страхов вскоре написал для журнала братьев Достоевских еще одну полемическую реплику «Безобразный поступок „Века“» в ответ на объяснения редакции и самого Виногорова (Вейнберга), помещенных в № 10 «Века». Однако краткий ответ Страхова (датированный 4 марта 1861 г.) не удовлетворил Достоевского; по-видимому, не удовлетворила его и вторая статья Страхова — ответ не «Веку», а «Русскому вестнику», фрагмент которой был приведен Достоевским в конце настоящей статьи (под видом письма, присланного редакции). Вместо нее во «Времени» появилась данная статья самого Достоевского.[218]
В статье «Наш язык и что такое свистуны»[219] Катков с консервативных позиций напал на защитников E. Э. Толмачевой, особенно выделив при этом Достоевского. Отвечая на выпады Каткова и заодно подводя итог спорам вокруг женской эмансипации, разгоревшимся в ходе обсуждения «безобразного поступка „Века“», Достоевский высказывает характерную для него (после создания «Записок из Мертвого дома») мысль, что вся «эманципация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу <…> По-нашему, — подчеркивал далее Достоевский, весь вопрос об эманципации сводится на обыкновенный и всегдашний вопрос о прогрессе и развитии. Чем правильнее разовьется общество, тем оно будет нормальнее, тем ближе подойдет к идеалу гуманности, и отношения наши к женщине определятся сами собою безо всяких предварительных проектов и утопий» Такое отношение к женскому вопросу уже таило в себе зародыши основополагающих идей о грядущей всеобщей гармонии и всечеловеческом братстве, пронизывающих позднейшую публицистику Достоевского и его роман «Братья Карамазовы».
Точка зрения писателя на женский вопрос, являвшийся, по Достоевскому, составной частью общей задачи воспитания и перевоспитания общества в духе основных заповедей Христа, была, конечно, чужда Каткову. Но она во многом противоречила также и атеистическим воззрениям разночинно-демократической интеллигенции: Чернышевский и M. Л. Михайлов уже в 1861 г. говорили о необходимости прежде всего экономического и политического раскрепощения женщины. Тем не менее именно Чернышевский поддержал Достоевского в его полемике с Катковым.
Вторая и наиболее примечательная часть содержания настоящей статьи — глубокий художнический анализ «Египетских ночей», опровергающий мнение Каткова о недостаточной будто бы глубине пушкинского творчества. В этом смысле «Ответ „Русскому вестнику“» — прямое продолжение и развитие статьи «„Свисток“ и „Русский вестник“», в которой Достоевский сформулировал свои тезисы о Пушкине как поэте-мыслителе, главном художественном выразителе «русской мысли», о «всемирности» и «всечеловечности» его гения, о заложенной в нем способности «всеотклика» и «всепонимания».
Интерес к пушкинскому образу Клеопатры у Достоевского отражен уже в «сентиментальном романе» «Белые ночи». В 1854 г., живя в Семипалатинске, Достоевский, по свидетельству мемуариста, часто с восторгом декламирует стихи Пушкина, причем особое предпочтение в этом смысле оказывалось им «Пиру Клеопатры» (т. е. импровизации итальянца из «Египетских ночей» — «Чертог сиял. Гремели хором…») «Лицо его при этом сияло, глаза горели <…> Как-то вдохновенно и торжественно звучал голос Достоевского в такие минуты».[220]
Повесть Пушкина «Египетские ночи» Достоевскому была известна по изданию Сочинений Пушкина под ред. П. В. Анненкова.
Достоевский по поводу заявления Каткова о недопустимости в настоящем искусстве «последних выражений страсти» с иронией писал: «Это последнее выражение, о которой вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление». Именно такой точки зрения неизменно придерживается Достоевский-художник в 1860-1870-х годах, изображая уродливые отклонения в психике и поведении своих персонажей, проповедующих «содомский идеал» или же трагически ощущающих борение в своей душе «содомского идеала» с «идеалом Мадонны».
По Достоевскому, душа Клеопатры, — «это душа паука, самка которого съедает <…> своего самца в минуту своей с ним сходки».
В «Записках из подполья» (1864) Достоевский вернулся к параллели между современным «цивилизированным» человеком и Клеопатрой, которая «любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах». Инцидент с Толмачевой и «безобразным поступком „Века“» писатель саркастически припоминал и во время работы над рядом своих романов 1860-х годов. Так, анализ предварительных планов и ранних черновых набросков романа «Идиот» показывает, что черты, напоминающие о пушкинской Клеопатре, ощущались здесь в первоначальном облике Настасьи Филипповны (см.: IX, 382, 383, ср.: VII, 383–384; XII, 282–283, 284–285).
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 9) с подписью: редактор M. Достоевский.
B объявлении о подписке на журнал в 1862 г. программа «Времени» подробно, как ранее, не излагается. Редакция с удовлетворением говорит об успехе журнала у публики и кратко напоминает основные принципы и убеждения, придерживаться которых намерена твердо и впредь. Объявление острополемично по содержанию, причем объекты полемики обозначены (хотя прямо не названы) достаточно четко; манера Достоевского выражаться уклончиво, названная M. E. Салтыковым-Щедриным разговорами «в пустыне и о пустыне»,[221] нисколько не помешала «Современнику» и «Русскому слову» и разгадать основную направленность полемики и отреагировать на нее.
Достоевский по-прежнему настаивает на независимости «Времени», ратует за беспристрастную «полемику идей», полезную и необходимую. Все усилия журнал собирается сосредоточить на главном: «…надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальновиднее». «Время» вновь подтверждало свою верность идеалам русской литературы и высказанному неоднократно в критическом отделе взгляду на литературу «как на силу самостоятельную, а не как на средство…»
Дискуссии между различными общественно-политическими группами «Время» признает явлением неизбежным и в целом положительным, хотя утверждает, что пока они ни к чему реальному не привели: «еще только раздоры и споры…». Достоевский не удовлетворен позицией «Русского вестника», «Отечественных записок», «Дня». Ему претят фразерство, эгоизм, самодовольство, слепое самолюбие. Но в отличие от первого объявления в объявлении на 1862 г. полемика с «западническими» (по тогдашней терминологии) журналами — «Русским вестником», «Современником», «Русским словом» вышла на первый план. Достоевский использовал в объявлении наброски из записной книжки для неосуществленной статьи о Добролюбове и Пирогове. Слова о скептицизме, убивающем «все», восходят к репликам писателя в записной книжке о «крайнем свисте» Добролюбова: «Свистать и свистать-ведь это сушь! Любви к делу мало! Гуманности мало!» «Всё свистать, всё благородное и прекрасное, каждый факт освистать, прикинуться Диогенами, скептиками…» (XX, 161, 168). Такие же упреки адресовал Достоевский Чернышевскому: «В смехе, в вечном смехе есть сушь. Вы изгоняете энтузиазм из молодежи, а ведь наше время такое, что энтузиазм необходим» (XX, 170). Аналогичны и прозрачные слова о «желчи», заимствованные у Герцена «Лишние люди и желчевики» и «физиологически» обоснованные: «Зато самолюбия, желчи в нас накопилась бездна; немудрено — сидячая жизнь! Справьтесь с медициной». О «желчи» и «желчевиках» в применении к Добролюбову и Чернышевскому Достоевский часто рассуждает в записных тетрадях 1860–1862 гг. «Стертый пятиалтынный» — характерная, устойчивая для Достоевского формула, высмеивающая утилитарный, уравнительный идеал, поборниками которого он чаще всего называл то руководителей «Современника», то «Русского вестника». Наконец, центральный в объявлении образ «воздушного шара» родился в полемике с Чернышевским: «Вы зовете с собой на воздух, навязываете то, что истинно в отвлечении и отнимаете всех от земли, от родной почвы. <…> Вы только одному общечеловеческому и отвлеченному учите, а еще матерьялисты» (XX, 170). Понятно, что такой сильный акцент на полемике с «Современником» не мог не вызвать ответной реакции. Объявление несомненно в значительной степени побудило M. А. Антоновича выступить со статьей «О почве».[222] Говоря о «„Времени“», M. А. Антонович иронизировал: «…реформа не онемечила верхний слой, а просто только оторвала его от почвы и пустила в облака, между небом и землею. В этом положении, конечно неудобном и невыгодном для животных не пернатых, верхний слой образовался, то есть усвоил себе западноевропейскую образованность, коей научился у иностранных учителей». Слова Антоновича прямо задевали текст объявления: «Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплавателя, поднявшегося на 7 000 футов от земли». В следующем объявлении — о подписке на 1863 г. — полемика «Времени» с «Современником» станет еще более жесткой и резкой.
По поводу элегической заметки «Русского Вестника»
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 10. Отд. IV. С. 189–199) без подписи.
В июльской книжке «Русского вестника» за 1861 г. Катков напечатал «Заметку для журнала „Время“», в которой отверг как несостоятельную критику в свой адрес Достоевского („Свисток“ и „Русский вестник“, «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика») и некоторых сотрудников «Времени» (прежде всего П. А. Кускова). В следующей книжке «Русского вестника» появилась «Элегическая заметка» того же Каткова, вновь обличающая (без указания имен) «крикунов», «свистунов» и всякого рода «бессовестных» людей, подвизающихся на поприще публицистики. Эти две заметки (а не одна, как пишет Достоевский) послужили ближайшим поводом для его очередной отповеди Каткову. Следует иметь в виду и еще одну предпосылку полемики. Рассуждениям о «гнили разложения» в «Элегической заметке», написанной в гневном тоне, сходном с раздраженным тоном «Нескольких слов вместо „Современной летописи“»,[223] предшествовала статья «Виды на entente cordiale[224] с „Современником“», в которой Катков указал на несколько фактических неточностей, допущенных Чернышевским в полемике с «Отечественными записками» и профессором киевской духовной академии П. Д. Юркевичем.[225] Катков явно мстил Чернышевскому за «Полемические красоты», однако его указания, по-видимому, произвели известное впечатление на Достоевского, который в своей статье соглашается, что «крикуны ошибаются <…> науки не признают», что они «легкомысленны <…> на все бросаются» и т. п. Тем не менее Достоевский обнаруживает несомненное расположение к этим людям. Он готов извинить их промахи и заблуждения, так как убежден, что они делают все-таки нужное дело. В этом смысле особенно примечательно одно место настоящей статьи, в котором сквозит глубокое уважение к Чернышевскому. Критикуя «кабинетно-профессорскую», брюзгливую манеру полемики Каткова, отмечая в ней плохо скрытое равнодушие к общественным нуждам и интересам, Достоевский пишет: «Да и к чему в самом деле вам со всякой этой „гнилью“ якшаться? Вы уверены, что „придет жизнь — и гниль исчезнет сама собою“. Когда же она придет? Как же она придет?.. видно, что вы об этом не очень задумываетесь; да и зачем! Те, кто об этом заботятся, могут ошибаться, скомпрометировать себя, ну а вам неприлично ошибаться и себя компрометировать. На это есть чернорабочие; над ними смеются, они крикуны, свистуны, пустозвоны; и работа такая черная, скучная, хлопотливая даже. Надо лазить, трубы чистить, тяжести таскать, крючиться… А знаете ли вы, что исторический ход дела — странная вещь? И так не похож иногда на теоретический!». Тональность и лексика этой отповеди, особенно в конце ее, напоминают ставшее впоследствии широко известным знаменитое заявление Чернышевского в статье «Политико-экономические письма к президенту Соединенных Штатов».[226] «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное».[227] Катков был первым из чвсла реакционно-либеральных публицистов, встретивших это заявление Чернышевского с крайним раздражением (см. заключение статьи рые боги и новые боги»).[228]
Как и в предшествующих статьях «„Свисток“ и „Русский вестник“», «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика», Достоевский в настоящей статье берет под свою защиту людей деятельных, «беспокойных» и «тоскующих», то «меньшинство» образованных людей, которое он считает основной движущей силой всякого прогресса. В период полемики с Катковым эти «беспокойные», симпатичные ему натуры обнаруживаются Достоевским чаще всего в демократическом лагере.
Два лагеря теоретиков
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1862. № 2. Отд. II. С. 143–163) без подписи.
Авторство Достоевского установлено (по содержанию и стилистическим признакам) Л. П. Гроссманом в изд.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Пб., 1918. T. 23. С. 123.
Статья принадлежит к числу важнейших программных публицистических выступлений Достоевского 1860-х годов.
В декабрьской книжке «Современника» за 1861 г. была напечатана статья M. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе „Времени“)», представляющая собой развернутую критику «почвеннических» идейных установок журнала братьев Достоевских, которые получили выражение в объявлениях об издании «Времени» и программном цикле статей Ф. M. Достоевского «Ряд статей о русской литературе». Теоретическую платформу «Времени», призыв Достоевского к примирению народа и высших, образованных классов Антонович охарактеризовал как бессодержательную утопию, как набор прекраснодушных фраз, мешающих подлинному, революционному просвещению народа. Для того чтобы помочь народу получить образование, утверждал Антонович, полемизируя с выводами статьи Достоевского «Книжность и грамотность», мало составить для него азбуку и читальник. Для этого нужно освободить его от помещичьего гнета, обеспечить материальные условия его быта, без чего все разговоры о народном образовании останутся словами. Поэтому лучшая часть «образованного меньшинства» не должна «сидеть и ждать у моря погоды», к чему ее призывают сотрудники «Времени», а действенно бороться за улучшение социально-экономических условий жизни, рост благосостояния народных масс.[229]
Появление статьи Антоновича вызвало у Достоевского желание отозваться на нее. Однако заготовки для полемической статьи в адрес журнала революционной демократии 1860-х годов и ее руководителей, сохранившиеся в записных книжках писателя остались неиспользованными. Вместо нее Достоевский помещает во «Времени» данную статью, где по-прежнему ведет полемику на два фронта — одновременно против публицистов «Современника» и против славянофильского «Дня».
Славянофилам, западникам и публицистам «Современника» Достоевский адресует один общий упрек в том, что при всем своем искреннем желании блага народу они остаются «теоретиками», то есть исходят из выводов отвлеченной «книжной» теории, а не из реальной жизни. Наперед заданные, абстрактные теоретические установки закрывают для них, по мнению писателя, путь к проникновению в подлинную сложность исторического положения русского общества и психологии русских народных масс.
Полемизируя с «теоретиками» сразу на два фронта, Достоевский нередко пользуется аргументацией, заимствованной из их же теоретического арсенала. Так, упреки И. С. Аксакову в поклонении его и его друзей узкому «московскому идеальчику» опираются в значительной мере на характеристику допетровской эпохи, принадлежащую Герцену, а указание на оппозиционную роль раскола, противопоставленного Достоевским как важнейшее явление народной жизни, — воззрениям славянофилов на Московскую Русь, подсказано сочинениями А. П. Щапова о расколе. Славянофильское осуждение послепетровской русской литературы и просвещения вызывало резкие возражения Достоевского уже раньше,[230] причем до него, процитировав тот же отрывок из передовой Аксакова, последнему с революционно-демократических позиций возражал Чернышевский.[231] Известная перекличка с разночинно-демократической точкой зрения на славянофильство ощущается и в письме Достоевского к H. H. Страхову от 18 (30) сентября 1863 г.: «Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано. Но какая-то удивительная аристократическая сытость при решении общественных вопросов» (XXVIII, кн. 2, 53). Тем не менее, несмотря на стремление Достоевского к объективной беспристрастной оценке и анализу сильных и слабых сторон славянофильства и западничества, предпочтение им все-таки в основных решающих пунктах исторической концепции славянофилов сказывается в статье достаточно определенно.
<предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»>
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1862. № 9. Отд. I. С. 44–46) без подписи.
Перевод романа Гюго, которому была предпослана данная заметка, был первым полным переводом «Собора Парижской богоматери» на русский язык. Деньги за перевод были уплачены постоянной переводчице журнала Ю. П. Померанцевой, которой он, по-видимому, и был выполнен. Как установил Б. В. Томашевский, этот же перевод (без предисловия Достоевского) был переиздан отдельной книгой в 1874 г.
Имя В. Гюго завоевало известность в России уже в конце 1820-х — начале 1830-х годов.[232] Его роль главы тогдашних французских романтиков в борьбе с авторитетами и традициями классицизма не могла не привлечь к нему внимания, не вызвать горячего сочувствия русских романтиков 1820-1830-х годов. Восторженным поклонником Гюго был один из главных поборников романтизма в русской литературе пушкинской поры, издатель журнала «Московский телеграф» (1826–1834) H. А. Полевой. Более сдержанно относился к французскому поэту, драматургу и романисту-романтику (как это видно из-отзывов о Гюго в поэме «Домик в Коломне», статьях и письмах к E. M. Хитрово) Пушкин, воспринимавший его творчество, как и многие другие русские современники, в русле того направления, которое получило во Франции и России 1830-х годов название „неистовой школы“.[233] Тем не менее слава Гюго в России 1830-х годов быстро росла. Его основные произведения становились почти сразу же после их появления на французском языке и в оригинале и в переводах достоянием русского читателя. В 1830 г. вышел русский перевод «Последнего дня приговоренного», в 1833 г. — «Гана Исландца». Точно так же — вскоре после появления французского оригинала — печатаются в русских журналах в 1830-х годах один за другим переводы драм Гюго. Сложнее обстоит дело с «Собором Парижской богоматери». Отрывки из этого романа появились в русском переводе уже в год его выхода в свет и продолжали публиковаться в следующем году.[234] Но полностью русский перевод романа не смог тогда появиться из-за цензурных препятствий.[235]
Если в начале 1830-х годов, в период расцвета русского романтизма, В. Гюго быстро завоевал в России широкое признание, то в 1840-х годах, с переходом русской литературы к реализму, его слава заметно падает. Показательна та эволюция, которую пережил в своем отношении к Гюго с 1830-х по 1840-е годы В. Г. Белинский. В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский восторженно отозвался о «Гане Исландце», а в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) писал о «Последнем дне осужденного» как о произведении, полном «ужасной, раздирающей истины». Но к началу 1840-х годов прежнее восхищение уступает место в статьях критика значительно более сдержанным оценкам романов и драм Гюго. «Гюго, Сю, Жанен, Бальзак, Дюма, Жорж Занд и другие возникли и проходят на наших глазах и готовятся к смене», — писал критик в 1841 г. И хотя изменение отношения Белинского к кумирам русской романтической критики было в начале 1840-х годов в известной мере вызвано его временным «примирением с действительностью», сопровождавшимся отказом от юношеского романтического радикализма, Белинский после осуждения своих «примирительных» настроений уже не возвращается к прежним своим эстетическим симпатиям. Твердо став на революционные позиции и высоко отзываясь в конце жизни о французской литературе, ее революционных и социалистических идеалах, Белинский и в это время сохраняет сдержанное отношение к Гюго-романтику, сложившееся у него в конце 1830-х годов. «Посмотрите на Виктора Гюго, — заявлял он в 1845 г., — чем он был и чем он стал! Как страстно, как жадно, с какою конвульсивною энергией) стремился этот человек, действительно даровитый, хотя и нисколько не гениальный, сделаться представителем в поэзии национального духа своей земли в современную нам эпоху! И между тем, как жалко ошибся он в значении своего времени и в духе современной ему Франции! И теперь еще высится в своем готическом величии громадное создание гения средних веков — „Собор Парижской богородицы“<…> а тот же собор, воссозданный Виктором Гюго, давно уже обратился в карикатурный гротеск, в котором величественное заменено чудовищным, прекрасное — уродливым, истинное — ложным <…> Франция, некогда до сумасшествия рукоплескавшая Виктору Гюго, давно обогнала и пережила его…». Через два с половиной года, в своей последней, итоговой статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский, хотя и с оговоркой, что деятельность Гюго и других французских романтиков 1830-х годов в последнее время получила «новое направление», более близкое к изменившимся общественным запросам, в прежних их произведениях — в том числе «Соборе Парижской богоматери» — по-прежнему акцентирует то, что он считает общим их эстетическим недостатком: «И что составляет главный характер этих произведений, не лишенных, впрочем, своего рода достоинств? — преувеличение, мелодрама, трескучие эффекты. Представителем такого направления у нас был только Марлинский, и влияние Гоголя положило решительный конец этому направлению.[236]
Новая волна широкого общественного и эстетического интереса к творчеству В. Гюго поднимается в России с 1850-х годов. Этому способствует несколько различных причин. Главные из них — общественный подъем, который Россия переживает после смерти Николая I, а вместе с тем и эволюция, пережитая самим французским поэтом. Недавний либеральный романтик стал видным деятелем демократической левой, а после бонапартистского переворота 1852 г. политическим эмигрантом, врагом и смелым обличителем империи Наполеона III Гневная, разящая лирика «Возмездий» и других поэтических произведений Гюго 1850-х годов, его политические речи и статьи, памфлет «Наполеон Малый», «История одного преступления» обновляют интерес русского читателя к творчеству поэта. Гюго воспринимается теперь русским обществом не как дерзкий литературный бунтарь и экспериментатор (так было в 1830-х годах), но как один из виднейших представителей европейской демократии и связанной с ее идеями социально-демократической литературы 1850-1860-х годов. Этот новый интерес к Гюго — политическому поэту, смелому социальному романисту и мыслителю достигает апогея в 1862 г., после выхода «Отверженных». Отрывки из них уже в год публикации романа сразу же появляются в нескольких русских газетах и журналах. Но уже вскоре печатание романа приостанавливается по указанию Александра II.
Интерес Достоевского к Гюго, который он испытывал на протяжении всего своего творчества, зародился в юношеские годы.
Вскоре после переезда в Петербург для поступления в Инженерное училище 9 августа 1838 г, Достоевский, рассказывая старшему брату о книгах, прочитанных в Петергофе во время летних лагерей, называет «Виктора Гюго, кроме Кромвеля и Гернани». В конце октября того же года Достоевский в письме к брату полемизирует с напечатанной в журнале «Сын отечества» переводной статьей французского критика Г. Планша о Гюго: «О, как низко стоит он во мненьи французов. Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему, и Низар (хотя умный человек), а врет». Из другого письма к M. M. Достоевскому от 1 января 1840 г. видно, что особенное восхищение Достоевского в ранние годы вызывали не романы и драмы, а лирика Гюго. Сопоставляя Гюго с Гомером, Достоевский видит их близость в «младенческом верованьи в бога поэзии». В этом смысле второй из них выражает, по словам молодого Достоевского, дух древней, первый же — «как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским, младенческим направлением поэзии» — дух новейшей, европейской цивилизации.
Особенную интенсивность интерес Достоевского к Гюго приобрел после пребывания на каторге, в 1850-х — начале 1860-х годов. В это время складываются эстетические взгляды великого русского романиста и определяются прочно черты его творческого метода. И именно в начале 1860-х годов Гюго выступает в качестве автора «Отверженных» — грандиозной по широте охвата современной жизни и по яркости символов-обобщений социально-гуманистической эпопеи, сразу же, в год ее выхода в свет, прочитанной Достоевским и поразившей его близостью многих основных тем и мотивов темам и мотивам собственного его творчества. Знакомство с «Отверженными» во Флоренции в 1862 г., совпавшее с напряженными размышлениями Достоевского о его дальнейшем творческом самоопределении, способствовало новому углублению его творческих связей с Гюго. Приглядываясь к опыту Гюго — социального романиста, временами соглашаясь, а временами расходясь и споря с ним, Достоевский в следующие два десятилетия постоянно сознает близость своих художественных задач и задач французского писателя в освещении вопросов исторической жизни эпохи.
Есть основания полагать, что внимание Достоевского к Гюго не как к лирику и драматургу, а как к одному из крупнейших представителей насыщенных философской мыслью жанров социально-психологического романа и повести в литературе XIX в. определилось еще до появления «Отверженных». В начале 1860 г. старший брат писателя M. M. Достоевский опубликовал в петербургском журнале «Светоч» свой перевод «Последнего дня приговоренного к смерти» Гюго (1860. № 3. С. 79–166). По свидетельству приятеля обоих братьев Достоевских — критика А. П. Милюкова, заведовавшего редакцией «Светоча», перевод был выполнен M. M. Достоевским по его заказу. Но если учесть, во-первых, известную нам из ряда отзывов русского романиста о «Последнем дне приговоренного» особую любовь к названному произведению Гюго, а во-вторых, то, что перевод был выполнен M. M. Достоевским в момент, когда его брат только что горячо отдался работе над «Записками из Мертвого дома», естественно возникает предположение, что мысль напечатать в «Светоче» новый перевод романа Гюго (изданного на русском языке еще в 1830 г., но с тех пор не переиздававшегося) вряд ли могла возникнуть у Милюкова и M. M. Достоевского без общения с Ф. M. Достоевским.
В «Последнем дне осужденного» Гюго создал один из первых в европейской литературе XIX в. образцов психологической новеллы, где основой драматического напряжения являются не внешние события, а движение мысли отъединенного от людей, запертого в своей камере осужденного. Гюго выбрал своим героем преступника. И в то же время, подобно будущим героям Достоевского, преступник этот — не обычный убийца, но «уединившийся мыслитель», мысль которого от его мгновенных «сиюминутных» переживаний и частной судьбы непосредственно переносится к широким социальным проблемам, к общим вопросам бытия человека и общества. Прошлое, настоящее и будущее неотступно стоят перед ним, тревожат его ум и совесть. Поэтому своеобразная стенографическая запись противоречивого вихря его переживаний оказывается насыщенной глубоким, драматизмом и патетикой. Все это сближает ранний роман Гюго с эстетикой Достоевского. «Последний день приговоренного» можно охарактеризовать как своеобразный творческий эксперимент в духе «реализма, граничащего с фантастическим» (если воспользоваться термином Достоевского). Герой поставлен здесь автором в необычные, исключительные условия: он ведет записки, по словам Достоевского, «не только в последний день свой, но даже в последний час, буквально, в последнюю минуту» и при этом с необычайным умом и энергией фиксирует в них все свои переживания. Но эта «фантастическая форма рассказа», преднамеренно выбранная Гюго, не только не мешает глубине и правдивости его шедевра, но, напротив, усиливает впечатление от него: без нее он не мог бы придать своему рассказу присущего ему глубокого драматизма, создать «самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех, им написанных» — предисловия Достоевского к «Кроткой» (1876).
Перевод «Собора Парижской богоматери» появился во «Времени» в момент, когда имя Гюго как автора только что напечатанных «Отверженных» было у всех на устах. Именно на это рассчитывали, по-видимому, братья Достоевские, решившиеся поместить в своем журнале хорошо известный русскому читателю с 1830-х годов, хотя и не печатавшийся до этого в России полностью, роман Гюго. Но, публикуя во «Времени» «Собор Парижской богоматери», издатели журнала, в особенности Ф. M. Достоевский, руководствовались не только соображением о том, что после появления «Отверженных» этот роман мог рассчитывать на новый интерес русского читателя. Достоевский стремился побудить публику в свете социальной проблематики «Отверженных» свежими глазами прочитать более ранний роман Гюго. Воспринятый в контексте «Отверженных» «Собор Парижской богоматери» уже заключает в себе истоки проблематики позднейших произведений — в этом один из главных тезисов предисловия Достоевского. Интерпретации творчества Гюго романтической критикой 1830-х годов, судившей о нем в исторической перспективе литературно-эстетической борьбы с классицизмом, Достоевский противопоставляет принципиально иное, более широкое истолкование общественного и этического смысла его произведений, ставшего очевидным после появления «Отверженных».[237]
Еще до появления перевода «Собора Парижской богоматери» во «Времени» А. А. Григорьев в статье «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» назвал этот «гениальный» роман «высокопоэтическим созданием», «колоссальным романом (до сих пор еще не переведенным по-русски)» (Время. 1861. № 3. Отд. II. С. 43, 49, 58). Возможно, что приведенные замечания Григорьева могли подсказать братьям Достоевским мысль о помещении во «Времени» полного перевода романа (или наоборот — что мысль эта возникла в редакционном кружке «Времени» еще до появления статьи Григорьева и что, когда он ее писал, ему было известно о заказанном редакцией переводе «Собора Парижской богоматери»).
Исходя в формулировке социально-гуманистических идей Гюго из «Отверженных» и радуясь их «всеобщему, почти всемирному успеху», Достоевский оценивает «Собор Парижской богоматери» как более раннее, менее отчетливое выражение той же великой идеи «оправдания униженных и всеми отринутых парий общества».
Вывод о «восстановлении погибшего человека» как об «основной мысли всего искусства девятнадцатого столетия», сформулированный Достоевским в предисловии к «Собору Парижской богоматери», явился не только результатом теоретического осмысления творчества Гюго и других близких писателю великих явлений искусства и литературы, предшествовавших и современных ему. Вывод этот явился выражением собственной его творческой программы, осуществленной в ближайшие годы после написания предисловия к «Собору Парижской богоматери» в «Преступлении и наказании» и «Идиоте», при работе над которыми (как и над последующими своими романами) Достоевский не раз возвращался мыслью к идеям данного предисловия и к образам романов Гюго. Замысел романа-эпопеи дантовского масштаба, которая «хоть к концу-то века» выразила XIX век и его идеалы «так же полно и вековечно», как «Божественная комедия» — «верования и идеалы» католического средневековья, получил дальнейшее развитие в работе над «Житием великого грешника» и «Братьями Карамазовыми».
Руководствуясь в своей работе художника в первую очередь «текущими» вопросами русской жизни и строя свои творческие концепции по иным, более сложным психологическим законам, Достоевский в 1860-х и 1870-х годах внимательно присматривается к образам и творческим концепциям Гюго, то находя в них опору для себя, то вступая с Гюго в идеологическую и творческую полемику.
Не случайно поэтому в письме, написанном в апреле 1878 г. на имя Президента Международного литературного конгресса в Лондоне Э. Абу, Достоевский назвал В. Гюго «великим поэтом», гений которого со времен его детства оказывал на него неизменно «мощное влияние» (XXX, кн. 1, 27). Проблема бедности и тесно связанная с нею проблема преступления, воплощенные в близких — и в то же время психологически глубоко несходных — образах Клода Ге и Жана Вальжана, с одной стороны, и Раскольникова — с другой; вопрос об участи женщины, обреченной несправедливым общественным порядком на проституцию, поставленный в тех главах «Отверженных», которые посвящены Фантине, а также в «Преступлении и наказании» и «Идиоте», судьбы девочки и мальчика из социальных низов — Козетты и Нелли, Гавроша, Коли Красоткина и мальчика у Христа на елке; проблемы пролития крови и смертной казни преступника, идеологический «спор» между революционером 1793 г. и епископом Мириэлем, между пламенным защитником прав человека — Анжольрасом, погибающим на баррикаде, и стоическим проповедником морали милосердия Жаном Вальжаном, между Ипполитом и князем Мышкиным, Иваном и Зосимой — спор, где каждый герой несет в себе, в авторском понимании, частицу высшей, общеяеловеческой правды и справедливости, — таковы темы, связывающие в единый узел в понимании создателя «Униженных и оскорбленных» и «Преступления и наказания» творения Гюго и собственные его произведения.
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 г.>
Впервые опубликовано в журнале „Время“ (1862, № 9) с подписью: Редактор-издатель M Достоевский.
На принадлежность объявления Ф. M. Достоевскому указал H. H. Страхов, перепечатавший его в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. M. Достоевского» (Отд. III. C. 28–34). Сохранились черновые наброски к тексту объявления в записной книжке писателя 1860–1862 гг. (см.·. XX, 169–170).
H. H. Страхов рассказал о том, как создавалось только что вернувшимся из-за границы Ф. M. Достоевским объявление, и раскрыл, с кем в нем ведется полемика: «Первым делом Федора Михайловича было написать для сентябрьской книжки длинное объявление об издании „Времени“ в 1863 году <…> Оно очень хорошо написано, с искренностью и воодушевлением. Главное содержание, кроме настоятельного повторения руководящей мысли журнала, состоит в характеристике противников. По терминологии Ап… Григорьева, одни из Них называются теоретиками — это нигилисты; другие — доктринерами — это ортодоксальные либералы, напр<имер> тогдашний „Русский вестник“ Почти все объявление посвящено именно теоретикам и обличителям. Есть, однако, и оговорка об уважении, также как и в предыдущем объявлении на 1862 год. Объявление на 1863 год имело большой успех, то есть возбудило литературные толки, большей частью враждебные. Живописное выражение об «кнутике рутинного либерализма» было подхвачено мелкими журналами, понявшими, что речь идет об них».[238]
Воспоминания Страхова упрощают подлинную картину: Страхов, по-видимому, сознательно «забывает», что к «теоретикам» Достоевский в 1860-х годах (объявление на 1863 г. в этом смысле не исключение) относил не только «нигилистов» «Современника» и «Русского слова», но и славянофилов «Дня». Поэтому Достоевский счел необходимым, защищая почвенничество от нападок теоретиков и доктринеров, подчеркнуть отличие почвенничества от славянофильства: «В сущности, один только наш журнал признает вполне народную самостоятельность нашу даже и в том виде, в котором она теперь находится <…> Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами…» Правда, полемика Достоевского со славянофилами постепенно ослабевает.
«Доктринерами» Достоевский называл не только влиятельную партию «Русского вестника» Каткова, но не в меньшей степени и «Отечественные записки» Краевского и Дудышкина. «Рутинные крикуны», «лакеи» — это не представители каких-либо определенных журнальных партий, а их «подголоски», узкие и рьяные догматики, ничего не выстрадавшие, но ревностно отстаивающие «чужие» идеи.
Страхов тенденциозно упомянул о возмущении объявлением «Времени» только «мелких журналов». «Современник» и «Русское слово», которых преимущественно задевало объявление, действительно, в 1862 г. не имели возможности для ответа: они были приостановлены на восемь месяцев и сразу же возобновили полемику со «Временем», уделив особое внимание объявлению, с января 1863 г. Но «Искра» полемически откликнулась на текст объявления моментально в «Хронике прогресса», иронизируя над почвеннической программой журнала и претензией «Времени» на роль первооткрывателя: «Беру я объявление о выходе в будущем году „Времени“, не „Нашего времени“, а просто только „Времени“, — мне и тут делается так хорошо, что я пересказать не умею! Я утопаю в восторге! „Время“ продолжает открывать давно открытую Америку, то есть необходимость соединения с народом, и из всех сил рвется доказать, что оно первое говорит об этом, дошло до этого своим умом. Подите, разубедите его! Никто, говорит, кроме нас, не говорил, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче, что надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица. Этого, говорит, не только никто доселе не говорил, а даже никто не понял и тогда, когда мы объясняли. Впрочем, прибавляет „Время“ в утешение тех, которых бы могло подобное известие обеспокоить: „за нашу идею мы не боимся“. Какое милое: мы пахали!!».[239] Владимир Монументов (В. Буренин) в сатире «Домашний театр „Искры“ Шабаш на Лысой горе, или Журналистика в 1862 году (драматическая фантазия)» также иронически упоминает «почву» и «теоретиков», выделывающих «сальто-мортале» в воздухе.[240] Целый ряд выпадов против «ученой редакции „Времени“» и направления «убогого журнала» содержится и в «Хронике прогресса» от 7 декабря; особенно показательны следующие риторические вопросы хроникера: «…отчего „Время“, трактующее постоянно о том, что оно открыло какую-то новую народность, которой прежде не только никто не примечал, но которой будто бы и теперь никто не может понять после сделанного им, „Временем“, истолкования, никак не может добиться того, чтобы за ним признали это открытие? Отчего то же „Время:, также неумолимо внушающее всем, что у него есть направление, никого доселе не может убедить в этом?“.[241] Наконец, автор «Литературных размышлений в начале второго тысячелетия России» последний раз в 1862 г. задел объявление «Времени», которое обильно цитирует, сопровождая ироническими замечаниями в скобках и курсивом.[242]
Другие ранние отклики появились в газете «Русский мир» и журнале «Отечественные записки». Фельетонист «Русского мира» «— z —» коротко, но язвительно в своем ироническом обзоре объявлений на 1863 г. упомянул и «Время»: «…готовит грозный поход на всех свистунов, как оно выражается, из хлеба…».[243] В журнале А. А. Краевского появилась большая статья А. Ленивцева (А. В. Эвальда) «Недосказанные заметки. (Теория здравого смысла, теория почвы, теория сердцевины и коры, теория стихийных начал)».[244] Эвальд широко использует в статье полемические статьи M. А. Антоновича, направленные против «Времени», и совершенно отказывается увидеть в журнале Достоевских оригинальное направление: «Побойтесь хоть бога и г-на Ивана Аксакова! Ведь он еще жив и издал сочинения не только своего брата, но также и Хомякова и Киреевского. Правда, г-да Даль и Бессонов не пишут о таинственных французских уголовных делах, но ведь они тоже давно говорят кое о чем народном и прежде, чем вы, научились кой-чему из статей г-на Григорьева». Эвальду отвечал анонимный рецензент «Северной пчелы», в заметке «Наши журналы» — и это единственный сочувственный отклик на объявление — вступившийся, в частности, и за направление «Времени» — «которое совершенно точно проводится в критических статьях г-на А. Григорьева и полемико-философских г-на Косицы. В этом отделе можно заметить скорее пробелы, но не отступления от программы».[245]
Но по-настоящему серьезная, а по тону необыкновенно резкая полемика с программой «Времени», изложенной в объявлении, развернулась в 1863 г., особенно после заметки Ф. M. Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов». В полемике, помимо «Искры», энергично участвовали и все другие органы демократической журналистики: журналы «Современник» и «Русское слово», газета «Очерки», а также только что начавшая выходить новая газета Краевского «Голос», уже в январе мимоходом задевшая «Время» в анонимной рецензии «Детские книги».[246] Спустя месяц в том же «Голосе» появился фельетон В.-кина «Литературный Дулькамара. (Письма к редактору «Голоса»)», в котором повторились заимствованные из «Искры» и «Современника» ставшие уже традиционными антипочвенные тезисы. «Это объявление произвело на меня какое-то странное впечатление, — писал фельетонист «Голоса». — Мне было и смешно, потому что там встречаются высококомические вещи, и досадно за то наивно бессознательное неуважение к словам „народность“, „Русь“, „прогрессизм“ и проч., с каким они третируются г-ном Достоевским, и, наконец, грустно за самого редактора, который, горячась (потом я увидел отчего), ломаясь и выдавая себя за какого-то провозвестника новой идеи, которая одна только может спасти нас и вылечить нравственно, напоминает собою знаменитого Дулькамару из оперы „Любовный напиток“, который, с пестрой, раззолоченной колесницы, в блестящей театральной одежде, разубранный всевозможными побрякушками, приглашает падкую до всяких диковинок толпу покупать у него любовный напиток и эликсир от всех болезней».[247] Фельетонист «Голоса» упрекает «Время» в шутовстве, в «эквилибристических упражнениях» (вроде pas de podpiska) на наконец-то отысканной «почве», тем самым вскрывая истинную, коммерческую подоплеку полемики газеты Краевского с журналом Достоевских. Совсем иными мотивами руководствовались, возобновляя и усиливая полемику со «Временем», «Русское слово», «Современник», «Искра». В февральском номере «Русского слова» была помещена очень резкая полемическая статья «Хлебная критика „Времени“ (Посвящ. M. M. Достоевскому)», за подписью «Старый свистун», в которой язвительно говорилось о изобретенном редакцией «Времени» «учении о почве·» и утверждалось, что «все хлебные свистуны, взятые вместе, ничего не значут в сравнении с хлебным критиком „Времени“».[248] В том же номере иронически упоминались «почва, которую взрывает M. M. Достоевский с своей компанией» в «Библиографическом листке» (с. 7) и «хлебные свистуны» в «Дневнике темного человека» Д. И. Минаева.[249]
Ни один номер «Искры» в первые месяцы 1863 г. не обходился без выпадов против «Времени», причем по-прежнему главной мишенью для нападок оставалось объявление журнала. Нападки достигли кульминации в большом фельетоне В. П. Буренина и В. С. Курочкина за подписью «Хлебный свистун» — «Домашний театр „Искры“. Ванна из „почвы“, или Галлюцинации M. M. Достоевского. Фантастическая сцена». В этой фантазии, в частности, фигурирует «кнутик рутинного либерализма, высвистывающий над ухом M. M. Достоевского свою песню».[250]
Вышедший в начале года сдвоенный номер «Современника» уделил «Времени» и его объявлению видное место в статьях, обзорах и хрониках M. А. Антоновича, Г. З. Елисеева, M. E. Салтыкова-Щедрина. Антонович в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев» увидел в новом объявлении «Времени» повторение прежних туманных фраз о «почве» и «теоретиках» лишь «с небольшим видоизменением»: «…прежде оно уверяло, что теоретики хотят превратить русский народ в „стертый пятиалтынный“, а теперь уверяет, будто они „верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты“. Что значит это пристрастие к одним и тем же метафорам и аллегориям — к почве, воздуху, истертым монетам и т. д.? А то, что они не выражают никакой мысли, что если б не эти метафоры, то людям, употребляющим их, нечего было бы и сказать».[251] «Хлебных свистунов» и «либеральные кнутики» вспомнит Антонович и в статье «„Свисток“» и его время. Опыт истории „Свистка“».[252] В 9 номере «Свистка» Михаил Антиспатов (В. П. Буренин) предпошлет стихотворению «Ах, зачем читал я „Время“» эпиграф из объявления («Мы ненавидим пустых — кнутиком рутинного либерализма»), которое язвительно и остроумно пародирует:
Однако самым остроумным и метким откликом на объявление было выступление M. E. Салтыкова-Щедрина в хронике «Наша общественная жизнь» (январь-февраль 1863 г.): «…этот „маленький кнутик рутинного либерализма“ — прелесть! Как должно было взыграть сердце H. Ф. Павлова при чтении этих строк! Что должен был он сказать! Очевидно, он должен был сказать: все это я уж целых два года думаю, a M. M. Достоевский только возвел в перл создания».[254] В мартовской хронике, положившей начало новому ожесточенному этапу полемики «Современника» с «Временем», Салтыков напомнит снова слова объявления как определяющие истинную суть направления «Времени»: «Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что вы открыли каких-то „свистунов, свистящих из хлеба и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма“. Это самое ясное из всего, что вы сказали».[255] Далее Салтыков, прекрасно видя, как «Время» дорожит полемикой с «Русским вестником», очень резко пишет о нейтральной позиции журнала («Вы постоянно стремились высказать какую-то истину, вроде „сапогов всмятку“, вы всегда садились между двух стульев и до того простирали свою наивность, что даже не захотели заметить, как шлепались на пол») и отказывается придавать сколько-нибудь серьезное значение его антикатковской линии, пророча полное согласие между нынешними противниками в ближайшем будущем: «Вы называете Каткова булгаринствующим, но разве неправ будет тот, кто вас, „Время“, назовет катковствующим? Вот я, например, именно одарен такою прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени».[256] Салтыков в обоюдоострой полемике, постепенно приобретавшей личную окраску, значительно сгущает краски. Но если отвлечься от полемических излишеств, то его заметки в хронике дают верную картину того «успеха», какой имело объявление о подписке на журнал «Время» в конце 1862-начале 1863 гг. в либерально-демократических кругах русской журналистики.
Современникам надолго запомнится это программное объявление журнала Достоевских. Так, в 1873 г., касаясь «предыстории» романа «Бесы», о нем вспомнит бывший сотрудник «Времени» и «Эпохи» П. H. Ткачев в статье «Больные люди».
Щекотливый вопрос
Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1862. № 10. Отд. II. С. 141–163) без подписи.
Принадлежность статьи Достоевскому засвидетельствована H. H. Страховым.
В данной статье полемика Достоевского с M. H. Катковым достигает кульминационной точки. Годом раньше писатель отмечал и положительные качества «Русского вестника». Теперь же этот журнал становится в его изображении похож на «притон» беспринципных шутов, готовых в зависимости от той или иной общественной конъюнктуры жонглировать любыми идеями и убеждениями. Сменив оружие и без того жесткой критики на оружие пародии, Достоевский при оценке едва ли не всей литературно-критической и обличительной продукции «Русского вестника» за семилетний период его существования склонен к порицанию и насмешке. Нельзя сказать, чтобы этот переход к пародии был случайным. Уже в статье «Ответ „Русскому вестнику“»[257] Достоевский писал о Каткове: «Подумаешь, что ему приятнее всего, собственно, процесс, манера наставлений и болтовни». Точно так же безусловно Каткову, пользовавшемуся репутацией англомана, адресованы были сарказмы объявления об издании журнала «Время» в 1862 г. «Третьи хотят, — отмечал здесь Достоевский, характеризуя различные направления журналистики, — выписывать русскую народность из Англии, так как уж принято, что английский товар самый лучший <…> Перед авторитетами мы не преклонились Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбия, доходящего до пожертвования истиной, мы не щадили в других и даже, может быть, увлекались до ненависти».
Задача Достоевского-пародиста значительно облегчалась в данном случае появлением в газете «Современное слово» статьи «Кто виноват?» Анонимный автор этой статьи утверждал, что Катков, злонамеренно сплотивший некогда вокруг «Русского вестника» литераторов, зараженных духом крайнего отрицания, — главный, а может быть и единственный, виновник зарождения и пышного расцвета в журналистике разрушительных идей нигилизма. Аноним «Современного слова» никак не мог постичь, что при всех их претензиях на резкость и правдивость тона сочинения публициста С. С. Громеки и писателей H. Ф. Павлова и П. И. Мельникова-Печерского, обильно цитировавшиеся и до наивности тенденциозно комментировавшиеся им в подтверждение своего заключения, отнюдь не возвышались до уровня обличений, посягающих на основы существующего строя Что у них было только одно преимущество перед массой обличений благонамеренного толка — они были талантливы Нередко указания автора статьи «Кто виноват?» на разрушительное воздействие ранней публицистики «Русского вестника» граничили просто с абсурдом. Достаточно сказать, что студенческие волнения, вспыхнувшие осенью 1861 г., он считал логгческим следствием полемики Каткова с профессором Крыловым.
Не заблуждаясь насчет истинного значения обобщений этой статьи, Достоевский воспользовался многими ее данными для собственной своей полемики с Катковым и его сотрудниками. Особенно это заметно во вступительной части «Щекотливого вопроса», предваряющей собственно пародию. Важную роль сыграла статья анонима «Современного слова» в формально-сюжетном построении пародии Достоевского.
«Уличив» Каткова в потворстве нигилизму уже в первые годы после падения Севастополя и вместе с тем с удовлетворением констатируя его переход на прямо противоположные позиции, автор статьи «Кто виноват?» сетовал: «Но возбудить движение и потом противу него же ратовать по меньшей мере неблаговидно. Прикрываться же заявлением, что редакция не принадлежит теперь ни к какой партии, что она держится абсолютной истины, еще не значит оправдать свою прошедшую деятельность и объяснить настоящую и будущую. <…> Вот почему мы думаем, что общество имеет полное право требовать от „Русского вестника“ отчета и объяснения его прошедшего способа действий, так прямо противоречащего настоящему». Именно этот «отчет» занимает центральное положение в сюжете пародии.
Несомненна определенная зависимость приемов построения, а отчасти и содержания настоящей пародии от традиций сатирических обличений «Свистка» и «Искры». Кроме подзаголовка, прямо указывающего на эту связь, таковы применяемый вслед за Добролюбовым выпад против ученого академизма «Русского вестника», выраженный в форме кокетливо-самокритичного признания его редактора («пробиваюсь статьями о „сухих туманах“») и хлесткая перелицовка искровской характеристики либеральной прессы в характеристику прессы главным образом охранительный («два шага вперед, а три назад»).
Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1863. № 1. Отд. II. С. 29–38; ценз. разр. 11 янв. 1863). без подписи.
Авторство Достоевского установлено по содержанию и стилистическим признакам Л. П. Гроссманом.[258]
Причиной, вызвавшей «Объяснение», было появление полемических откликов в ряде журналов на объявление о подписке на «Время» на 1863 г., которое являлось программной статьей, разъяснявшей суть почвеннического направления журнала, и содержало скрытые резкие нападки на редакцию «Современника». «Объяснение» развивает положения этой программной статьи и обращено к редакциям журналов «Отечественные записки», «Современник», «Искра», «Библиотека для чтения», «Русский вестник» и др.
Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1863. № 1. Отд. II. 175–188) без подписи.
В статье находит отражение состояние русской журнальной и газетной прессы в конце 1862-начале 1,863 гг., когда общественный подъем сменился правительственной реакцией. Передовая печать подверглась гонениям, были приостановлены «Современник» и «Русское слово». Однако по предварительным рекламам, напротив, создавалась видимость некоторого оживления консервативной и либеральной прессы. Среди новых периодических изданий, объявленных на 1863 г., были «Голос», политическая и литературная газета А. А. Краевского, «Весть», служащая продолжением «Русского листка», издателями-редакторами которой были В. Д. Скарятин и H. H. Юматов, «Очерки» — газета A. H. Очкина, «Заноза», сатирический «журнал», издаваемый сначала M. Π. Розенгеймом, а позднее (с 1864 г.) И. А. Арсеньевым, «Народное богатство» (с 1 ноября 1862 г.), «Современный листок политических, общественных и литературных известий», «Мирской вестник», «Мирское слово», «Народная газета», «Известия С.-Петербургской городской Думы» и др. Появились извещения о перемене в редакции «С.-Петербургских ведомостей» (арендатором-редактором стал В. Ф. Корш) и их «коренном преобразовании», о слиянии газетного отдела «Русского вестника» «Современной летописи» с «Московскими ведомостями», которые переставали быть монополией Московского университета и полностью переходили с 1863 г. в руки M. H. Каткова и П. M. Леонтьева, об отделении от «Русского инвалида» самостоятельной газеты «Современное слово» и, наоборот, о соединении редакций «Акционера» и «Дня». В «Журнальной заметке» Достоевский продолжает начатую им в статьях 1861–1862 гг. («Ответ „Русскому вестнику“», «По поводу элегической заметки „Русского вестника“», «„Свисток“ и „Русский вестник“», «Щекотливый вопрос») борьбу с реакционным «доктринерством» Каткова. Характеризуя направление периодики начала 1863 г., Достоевский выделяет Каткова как предводителя, «петуха», и называет остальные вторящие ему журналы и газеты кудахтающим «стадом куриц». Он берет под защиту от них либеральное общественное движение последних шести лет и его результаты. Достоевский обличает Каткова в незнании народа и непонимании состояния и потребностей русского общества, в преклонении перед английским государственным устройством и институтом сословий и попытках внедрить эти чуждые установления в России. Особенное возмущение Достоевского вызывает аристократическая позиция катковского журнала в вопросах образования. С не меньшим сарказмом он пишет о программе издаваемого А. А. Краевским «Голоса», не лишенного показного либерализма и вместе с тем наряду с прочими газетами этого года не выходящего за границы «умеренности и аккуратности». Славянофильская газета «День», с которой Достоевский резко полемизировал ранее, вызывает у него более мягкое отношение.
С газетой Достоевский сходится в тезисе о необходимости ликвидации разрыва между обществом и «почвой», но для него остается неприемлемым ретроспективный идеал аксаковской газеты и ее пессимизм в оценке достижений современного развития. «Журнальная заметка» Достоевского примыкает к той линии его публицистики 1861–1862 гг., в которой проявилось сочувствие писателя либеральному общественному движению тех лет. Он выступает с опровержением ложных обвинений в поджигательстве, предъявляемых молодежи во время весенних пожаров 1862 г. Так же как в двух предназначенных для публикации во «Времени» и запрещенных статьях о пожарах, направленных против «потворства подобным толкам» и, в частности, «двусмысленного отзыва об этих слухах» в передовой статье «Северной пчелы».[259] Достоевский в «Журнальной заметке» язвительно высмеивает редактора «Русского листка» В. Д. Скарятина за намеки на связь зарева пожаров с «подметной литературой», то есть прокламацией «Молодая Россия». Газету В. Д. Скарятина, автора антинигилистической статьи «О табунных свойствах русского человека», опубликованной в «Современной летописи» «Русского вестника» (1862. № 17) и попавшей под сатирический обстрел «Искры», Достоевский относит к тому же катковскому направлению и называет «силящейся пропеть петухом курицей». Однако «подметные листки неизвестной кучки» Достоевский отделяет от демократического движения. Для статьи характерна оптимистическая оценка произведенных в начале 60-х годов реформ, начиная с вопросов о воспитании, грамотности, трезвости и кончая вопросом крестьянским. Такая «самодеятельность общества» внушала Достоевскому надежду на возможность сближения интеллигенции и народа, и он ратовал за принцип свободы, за возможность «и теперь делать и заявлять». Призывая общество обратиться к «почве», Достоевский в соответствии с антикрепостнической программой его журнала «Время» в целом[260] выступал за право народа на самостоятельные решения, выражал веру в его развитие, защищал народ от злобных выпадов того же Скарятина в «Русском листке» и отстаивал положение о большей ответственности материально обеспеченных и образованных сословий.
Журнальные заметки
Впервые опубликовано в журнале «Время». 1863. № 2. Отд. H. С. 213–226 без подписи.
Принадлежность статей Достоевскому засвидетельствована H. H. Страховым (см.: Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. T. 18. С. 209).
Заметка «Молодое перо» тесно связана с последующими полемическими выступлениями Достоевского в адрес Салтыкова-Щедрина, в частности со статьей «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах».
Рядом с названием статьи «Ответ „Свистуну“» в списке H. H. Страхова поставлен знак вопроса. Впервые включая эту статью в собрание сочинений писателя, Л. П. Гроссман писал в примечаниях по поводу примеров, приведенных в ней для доказательства положения: «…гениальные-то люди и ошибаются чаще всего в средствах к проведению своих мыслей», а также об оценке деятельности Игнатия Лойолы как о характерных для Достоевского (Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: В 23 т. Пг., 1918. T. 23. С. 203). Эти наблюдения исследователя могут быть дополнены: в «Ответе „Свистуну“» есть и другие принципиально важные формулировки, перекликающиеся с теми, которые содержатся в статьях, бесспорно принадлежащих Достоевскому (подробнее см.: Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. T. 20. С. 209–210).
«Журнальные заметки» — начало нового этапа в полемике «Времени» (а позднее — «Эпохи») с «Современником», которая велась на протяжении всего периода издания журналов братьев Достоевских (см. об этом: Нечаева В. С. 1) Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Время». 1861–1863. M., 1972. С. 266–287; 2) Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. M., 1975. С. 185–189; Фридлендер Г. M. Новые материалы из рукописного наследия художника и публициста // Литературное наследство. T. 83. M., 1971. С. 97–107).
На этом новом этапе полемика «Времени» с «Современником» стала полемикой Достоевского с Салтыковым-Щедриным. Она возникла в обстановке начавшегося кризиса революционно-демократических идей, связанного с крушением надежд революционно-демократического лагеря на ближайшее осуществление крестьянской революции. В этих условиях Достоевский противопоставил почвенническую идеологию революционно-демократической, которая, по его мнению, со смертью Добролюбова и заключением в Петропавловскую крепость Чернышевского была профанирована их учениками и последователями. Первое же выступление Достоевского в адрес революционной демократии было воспринято ею как тактический ход редакций „Времени“, воспользовавшейся уроном в рядах противника для нанесения удара. Это в значительной Степени повлияло на характер и содержание полемики Достоевского с Салтыковым-Щедриным.
Однако, несмотря на формы ведения спора, его принципиальная идейная подоплека, в основе которой лежали политические, эстетические и этические разногласия писателей, была очевидной. Отголоски этой длившейся более полутора лет полемики можно найти в целом ряде прямо к ней не относящихся произведений Достоевского и Салтыкова-Щедрина, написанных как в 60-х, так и в позднейших годах. Идейные взаимоотношения писателей, привлекавшие внимание еще дореволюционных исследователей,[261] подробно рассмотрены в кн.: Борщевский С. Щедрин и Достоевский: История их идейной борьбы (M., 1956). Однако С. С. Борщевский рассматривает отношения Достоевского и Салтыкова-Щедрина как спор непримиримых антагонистов, борьбу революционного (Щедрин) и реакционного (Достоевский) мировоззрений. Между тем принципиальные идейные расхождения писателей не исключали глубинной общности их гуманистической позиции и идеала. Эта общность — в беспощадном отрицании существующего мира, в боли за поруганную личность, в понимании сложности человеческих отношений, обусловленной самой природой человека. «Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества», — писал Щедрин об авторе «Идиота», выражая в этих словах и свое собственное писательское кредо (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1970. T. 9. С. 412).
Начало полемики с Салтыковым-Щедриным было положено Достоевским в «Объявлении о подписке на журнал „Время“ на 1863 г.», напечатанном в сентябрьском номере „Времени“ за 1862 г.
На обвинение Достоевскому не могли сразу ответить те, к кому оно в первую очередь было адресовано: ведущие органы революционной демократии «Современник» и «Русское слово» правительственным распоряжением от 15 июня 1862 г. были приостановлены на 8 месяцев. Тем не менее реакция либеральной прессы, и в частности «Отечественных записок», побудила Достоевского выступить в январском номере «Времени» за 1863 г. с «Необходимым литературным объяснением по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов». Эта статья лишь усугубила конфликт Достоевского с революционно-демократическим лагерем, так как писатель резкой гранью отделил в ней Чернышевского и Добролюбова от их последователей, которые, по его словам, «бездарно волочили великую мысль по улице и вместо того, чтоб произвести энтузиазм, надоели публике». В особую заслугу «Времени» Достоевский поставил разногласия с Чернышевским и Добролюбовым, когда они «были боги», подчеркнув тем самым беспристрастность и принципиальность в позиции своего журнала, что в атмосфере назревающей полемики могло быть и было воспринято как элемент похвальбы.
Первый по возобновлении, январско-февральский, номер «Современника» в конце января уже поступил в цензуру, поэтому ответа на «Необходимое литературное объяснение…» в нем еще быть не могло. Однако «Современник» не прошел мимо напечатанного в сентябрьской книжке «Времени» «Объявления о подписке…». В хронике „Наша общественная жизнь“ (печатавшейся анонимно) Щедрин язвительно цитировал приведенные выше строки из него, прямо относя их к так называемым «мальчишкам» — как презрительно окрестил передовую молодежь катковский «Русский вестник»: «…мальчишки — это, по счастливому выражению „Времени“, „пустые и безмозглые крикуны, портящие все, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют, мальчишки — это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с “Временем»! «Время» свистит и в то же время говорит: «из чести лишь одной я в доме сем свищу!») и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма» (Современник 1863. № 1 2. Отд. II. С 372). В примечании Щедрин следующим образом оговаривал свое свободное цитирование: «Справедливость требует, однако ж, сказать, что „Время“ не прилагает этих эпитетов собственно к мальчишкам; по своему обыкновению, оно беседует в пустыне и о пустыне. Но этот „маленький кнутик рутинного либерализма“ — прелесть! Как должно было взыграть сердце H. Ф. Павлова при чтении этих строк! Что должен был он сказать! Очевидно, он должен был сказать: все это я уже целых два года думаю, a M. M. Достоевский только возвел в перл создания!» (там же). Таким образом, Щедрин не только конкретизировал адрес, в который послал свое обвинение Достоевский, но и уподобил позицию редактора «Времени» M. M. Достоевского позиции H. Ф. Павлова, издателя проправительственной газеты «Наше время». В этом же номере «Современника» Щедрин выразил свое отношение к напечатанному в 12 книжке «Времени» за 1862 г. письму писателя Г. Π. Данилевского, известного под псевдонимом А. Скавронский. В своем письме в редакцию «Времени» Данилевский извещал читателей, что он не имеет никакого отношения к печатающемуся в Москве H. Скавронскому (псевдоним А. С. Ушакова). В редакционном примечании к письму были подробно перечислены произведения Данилевского (А. Скавронского) с указанием, где и когда они были напечатаны.
В неподписанной заметке-«рецензии» на «Литературную подпись» (под таким заголовком было напечатано во «Времени» письмо А. Скавронского) Щедрин высмеял хлестаковский поступок Г. П. Данилевского, сделал веский упрек редакции «Времени» в поощрении хлестаковщины. Представленная сатириком интрига А. и H. Скавронских задевала и лично Достоевского, так как в ней заключался пародийный намек на сюжетную коллизию «Двойника».
С «Объявлением о подписке на журнал „Время“ на 1863 год» резко полемизировал в этом же номере «Современника» и M. А. Антонович в своем «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев», напечатанном анонимно. Выпады в адрес журнала Достоевских содержались и в разделе «Внутреннее обозрение», автором которого был Г. З. Елисеев.
Материалы первой книжки «Современника» за 1863 г. давали, таким образом, понять читателям и редакции журнала «Время», что «Современник», не оставивший без ответа сентябрьского «Объявления о подписке…», не пройдет мимо напечатанного в январском номере «Времени» за 1863 г. «Необходимого литературного объяснения…».
Подтверждением этому было письмо за подписью «Свистун» в 40 номере газеты «Очерки», появившееся на следующий день после выхода в свет январско-февральской книжки «Современника», — 10 февраля 1863 г. Автор письма, которое Достоевский приводит полностью в статье «Ответ „Свистуну“», сопоставляя высокую оценку Добролюбова в «Необходимом литературном объяснении…» с пренебрежительным отзывом о нем же в статье «Н. A. Добролюбов. По поводу первого тома его сочинений», написанной H. H. Страховым (Время. 1862. № 3), уличал редакцию «Времени» «в явной недобросовестности и непоследовательности».
Газета «Очерки», просуществовавшая немногим более трех месяцев (с 1 января по 8 апреля 1863 г.), была своего рода филиалом «Современника», так как ее издатель, либеральный журналист A. H. Очкин, привлек к участию в ней ведущих сотрудников «Современника» — Г. З. Елисеева и M. А. Антоновича. Г. З. Елисеев был фактическим редактором «Очерков». Участием Антоновича и Елисеева определился круг печатавшихся в газете авторов, близких или прямо принадлежавших к «Современнику» (см.: Якушин H. И. Газета «Очерки» — орган революционной демократии // Рус. Лит. 1969. № 1 С. 151 164)
Кто был автором письма в редакцию «Очерков», скрывшимся под псевдонимом «Свистун»? «Словарь псевдонимов» И. Ф. Масанова и другие источники не дают ответа на этот вопрос. Анализ содержания, фразеологии и лексики письма позволяет выделить из ряда возможных и известных авторов как наиболее вероятных Антоновича и Салтыкова-Щедрина. Не исключено также, что напечатанное в «Очерках» письмо было написано ими совместно. Сам Достоевский прямыми и точными данными на этот счет, возможно, не располагал, хотя в полном неведении, по-видимому, не был. Об этом свидетельствует иронический акцент, сделанный в его «Ответе „Свистуну“» на эпитете «посторонний». Так или иначе, письмо в «Очерках» могло быть воспринято писателем в одном ряду с полемическими выступлениями в адрес «Времени» в январско-февральской книжке «Современника».
В свете обозначившейся в выступлениях «Современника» и «Очерков» перспективы полемики революционно-демократических изданий с журналом «Время» Достоевский счел тактически более целесообразным предварить ответ «Современнику» «Ответом „Свистуну“», в котором отстаивал основные положения статьи „Необходимое литературное объяснение…“, доказывая, что в них нет противоречия с мыслями, высказывавшимися во «Времени» ранее. Опровергая обвинения в недобросовестности и непоследовательности, предъявленные «Свистуном» редакции «Времени», Достоевский утверждал, что они — следствие ограниченности собственных убеждений его оппонента, его одностороннего подхода к людям и явлениям жизни, его неспособности преодолеть «безграничное поклонение перед авторитетами».
Если в «Ответе „Свистуну“» Достоевский, хотя и не без иронии, выделял своего оппонента из разряда „хлебных свистунов“, то в статье «Молодое перо» прямо причислял к таковым Салтыкова-Щедрина, которого узнал в анонимном авторе рецензии на «Литературную подпись» А. Скавронского. Подчеркнуто конкретной направленностью этой статьи Достоевский, возмущенный личными выпадами Щедрина против M. M. Достоевского в хронике «Наша общественная жизнь», как бы парировал содержавшееся там же замечание сатирика о том, что «Время», «по-своему обыкновению <….> беседует в пустыне и о пустыне» (см. выше, с. 536). Щедрин не назван в статье по имени, его инкогнито как автора рецензии на «Литературную подпись» было приоткрыто Достоевским в прозрачном намеке, сопровождавшемся оскорбительной сентенцией, которая вызвала справедливое возмущение Щедрина (см. ниже, с. 540). Дискредитируя сатирика в глазах читателей, Достоевский тем самым ставил под сомнение авторитет «Современника», членом редакции и ведущим сотрудником которого с 1863 г стал Щедрин. Этой двойной целью и был предопределен характер статьи-отповеди Достоевского за Скавронского, неожиданной по своей резкости и по самой сути содержащихся в ней оценок и уподоблений.
Г. П. Данилевский (А. Скавронский), представленный в статье «Молодое перо» скромным писателем-тружеником, имел в литературных кругах репутацию, близкую к характеристике, данной ему сатириком,[262] которая была одной и неглавной в ряду причин, побудивших Достоевского выступить против Щедрина. «Литературную подпись» А. Скавронского Достоевский расценивал как закономерный поступок писателя, дорожащего своим трудом, как факт, не заслуживающий ни большого общественного внимания, ни тем более осуждения. В реакции Щедрина на этот факт Достоевский видел проявление безыдейности его юмора, своего рода искусство для искусства, с которым еще недавно на страницах «Современника» вели борьбу Чернышевский и Добролюбов Достоевский утверждал, что деятельность Щедрина идет вразрез с идеями вождей революционной демократии.
Достоевский начинает свою статью подражанием слогу О. И. Сенковского (барона Брамбеуса), оговариваясь в примечании, что делает это «не без цели» Эти первые строки должны были навести читателя на мысль о сходстве критической манеры Щедрина с манерой барона Брамбеуса, напомнить о его рецензии на «Мертвые души» Гоголя, которой редактор «Библиотеки для чтения» снискал себе особую «славу» (см.: Библиотека для чтения. 1842. № 8. T. 53. Отд. VI. С. 24–54). Эту многолетней давности рецензию воскресил для читателя Чернышевский, процитировавший ее как образчик поверхностной критики Сенковского в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1856) «Вы видите меня в таком восторге, в каком еще никогда не видали, — цитировал Чернышевский Сенковского. — Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю вам о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма! Да еще какая поэма!» и т. д.[263] То, что в «Современнике» еще вчера было предметом осуждения, сегодня стало образцом для подражания — к такому логическому выводу подводил Достоевский читателя, сближая Щедрина с Сенковским.
Не оставил без внимания Достоевский и выпад Щедрина в рецензии на «Литературную подпись» А Скавронского против Тургенева, обвинив сатирика в передергивании фактов из желания угодить редактору „Современника“ Некрасову.
Таким образом, писатель, имя которого сам Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков» поставил рядом с именем Гоголя, был выведен в «Молодом пере» беспринципным, гоняющимся за дешевой славой журналистом, к которому Достоевский обращал свое сентенциозное: «Береги честь смолоду».
В статье «Молодое перо» определился памфлетный характер последующей полемики Достоевского со Щедриным, резкость которой усугублялась от выступления к выступлению, как с той, так и с другой стороны.
Опять «Молодое перо»
Впервые опубликовано в журнале «Время» (1863. № 3. Отд. II. С. 148–163) без подписи.
Принадлежность статьи Достоевскому засвидетельствована H. H. Страховым (см.: XVIII, 209) и подтверждается связью этой статьи с другими выступлениями писателя, направленными против M. E. Салтыкова-Щедрина. «Молодое перо», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление…», «Чтобы кончить» (см. наст. том).
Статья «Опять „Молодое перо“», как указано в ее подзаголовке, — ответ на напечатанную в мартовском номере «Современника» статью «Тревоги „Времени“». Достоевский начал писать ее, по-видимому, не ранее 19 марта — даты выхода в свет мартовской книжки „Современника“ — и закончил не позднее конца марта, так как 3 апреля мартовский номер „Времени“ уже вышел в свет.
«Тревогами „Времени“» завершился мартовский выпуск анонимной щедринской хроники «Наша общественная жизнь», в котором журнал Достоевских задевался неоднократно. Полемически заострена против «Времени» была в мартовской книжке «Современника» и другая принадлежащая Щедрину анонимная статья — «Несколько полемических предположений». В этом же номере «Современника» выпады в адрес журнала Достоевских содержались также в статье Ю. Г. Жуковского «Крестьянское дело и общественная инициатива» и во «Внутреннем обозрении» Г. З. Елисеева (см.: Современник. 1863. № 3. Отд. I. С. 183; Отд. И. С. 39).
«Тревоги „Времени“» — первое развернутое выступление Щедрина против журнала Достоевских, вызванное последовательно появившимися в 1 и 2 его номерах за 1863 г. статьями Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» и «Молодое перо». Щедрин подверг резкой критике идейную позицию журнала «Время», воспользовавшись в сатирических целях напечатанным в первом номере этого журнала за 1863 г. стихотворением Ф. H. Берга «Из-за моря птицы прилетали…». Уподобив редакцию и сотрудников «Времени» «скромным птицам, утицам залетным» из этого стихотворений, Щедрин пишет «продолжение этой диковинной пьесы», в которой среди птиц фигурируют Ф. M. и M. M. Достоевские и H. H. Страхов.
Сатирик утверждал в своей статье, что «Необходимое литературное объяснение…» Достоевского лишено каких бы то ни было оснований. «Кого вы обидели? Кто заявлял вам об обиде? По поводу чего вы объясняетесь и извиняетесь?» — обращается он к редакции «Времени» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 197). Эволюцию журнала Достоевских Щедрин связывал с именами Каткова и Булгарина. «Вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени» (там же. С. 198), — предрекал он и в редакционном примечании к этому месту своей статьи констатировал, что катковствовать «Время» уже начало статьей «Молодое перо». В этом редакционном примечании, написанном, как справедливо полагал Достоевский, самим Щедриным, последний выражал свое возмущение содержавшимися в статье «Молодое перо» оскорбительными намеками и сентенциями, адресованными ему лично.
В «Необходимом литературном объяснении…» Достоевский писал по поводу «нападений» на журнал «Время» в конце 1862 г.: «Иные из этих нападений основаны чисто на конкуренции и имеют в виду одну только подписку». В стремлении подорвать репутацию «Времени» у подписчиков обвинялся редактор «Отечественных записок» и «Голоса» А. А. Краевский. «Разражаться друг против друга в подписное время — старинная привычка старинных журналов, а отвыкать от старинных привычек, известно, нехорошо…», — иронизировал Достоевский. Это его рассуждение Щедрин оспаривал в статье «Несколько полемических предположений».
В противоположность Достоевскому Щедрин утверждал здесь, что некоторым изданиям полемика приносит несомненные выгоды, не уменьшая, а наоборот, увеличивая число их подписчиков. Чтобы лишить этих выгод издания, «которые, по всей справедливости, пользуются названием литературных помойных ям» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 3), сатирик предлагает называть их в полемике не настоящими именами, а псевдонимами. Проектируя эту меру для петербургской газеты «Русский листок», которая именуется в статье то «Убогим», то «Плохим листком»,[264] Щедрин соглашается отступить от нее только в том случае, «если „Убогий листок“ даст положительное обязательство сравняться в либерализме по крайней мере с M. M. Достоевским» (там же. С. 6). Язвительный смысл этого сближения усугублялся тем обстоятельством, что в статье «О новых литературных органах и о новых теориях», напечатанной в январском номере «Времени» за 1863 г., Достоевский сам разоблачал реакционность «Русского листка». Возлагая на реакционных публицистов, и в частности на одного из редакторов «Русского листка» В. Д. Скарятина, ответственность за распространение в народе в связи с пожарами слухов и настроений, враждебных студенческой молодежи, Достоевский уподоблял их испуганным, все преувеличивающим «хохлаткам», объединял понятием «кудактающее направление». Вероятно, по аналогии с этими уподоблениями Достоевского Щедрин писал в своей статье о его брате: «М. M. Достоевский есть не что иное, как проживающий инкогнито Петр Иваныч Бобчинский, которого роль должна бы собственно в том заключаться, чтоб „петушком-петушком“ за кем-нибудь подпрыгивать, но который, вследствие знакомства своего с Хлестаковым, возомнил, что может быть самостоятельным и имеет право на знакомство с министрами» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 3).
С позиций «Современника» выступали «Искра», «Русское слово» и «Очерки». Беспощадно отвергающий, разоблачительный характер полемики революционно-демократической прессы с журналом «Время» был вызван утопической расплывчатостью и политической неопределенностью проводимых им идей, которые тем не менее в программных заявлениях журнала, и прежде всего в статьях Достоевского, сочетались с резкой критикой последователей Чернышевского и Добролюбова. «А знаете ли вы, что с „Русским вестником“ все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере не обманываешься: войдешь в „Русский вестник“ — ну, и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и скользко…» (там же. С. 198) — так охарактеризована компромиссная позиция „Времени“ в статье «Тревоги „Времени“», в принадлежности которой Щедрину Достоевский не сомневался.
В статье Щедрина Достоевского возмутило утверждение о том, что своим успехом» «Время» обязано восьмимесячной приостановке в 1862 г. «Современника». Это возмущение было усугублено появлением через несколько дней после выхода в свет мартовского номера «Современника» статьи И. И. Дмитриева в «Очерках», где успех «Времени» не только связывался с приостановкой «Современника», но и приписывался особого рода «смекалке, которою щедро одарены, например, наши барышники» (см. ниже, С. 547).
Статья «Тревоги „Времени“» и сопутствующие ей выступления как Щедрина, так и других представителей революционно-демократической журналистики преследовали цель полной компрометации журнала, на страницах которого были напечатаны «Необходимое литературное объяснение…» и «Молодое перо» Достоевского. Это в известной степени обусловило характер комментируемой статьи, прежде всего и главным образом направленной на дискредитацию личности сатирика. Не называя имени Щедрина и лишь ограничившись угрозой разоблачения, Достоевский тем не менее придал своей статье черты памфлета. С еще большей резкостью, чем в статье «Молодое перо», он писал здесь о Щедрине как о представителе «искусства для искусства в обличительном роде», категорически причислял его, следуя своей же классификации, к свистунам, свистящим из хлеба. Страстно отстаивая позиции «Времени» как самостоятельного и прогрессивного журнала, Достоевский противопоставлял его как реакционным и пиберальным, так и революционно-демократическим органам русской журналистики.
Статья Достоевского не встретила сочувственных откликов. После ее появления в поддержку Щедрина выступила «Искра», которая, процитировав пародийные стихи из статьи Достоевского, писала в анонимной заметке «Козни злонамеренных»: «„Время“ достигло своей цели — разоблачило себя вполне перед своими читателями <…> свистунам нечего будет делать: «Время» само решилось себя освистать, разбить и расхлестать» (Искра. 1863 19 апр. № 14 С. 207).
Отрицательно отнесся к статье «Опять „Молодое перо“» и Тургенев, которого защищал Достоевский в полемике со Щедриным 7 (19) мая 1863 г он писал H. В. Ханыкову по поводу мартовского номера «Времени»: «Там, между прочими любезностями, в одной полемической статье автор обращается к своему противнику со следующими стихами.
Как вы находите уровень, до которого (чуть было не сказал: поднялась) опустилась российская литература?» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем·в 30 т. Письма. M., 1988. T. 5. С. 178; там же, с. 180 и 183).
Прямого ответа со стороны Щедрина на статью «Опять „Молодое перо“» не последовало. Однако в 9 выпуске «Свистка», вышедшем приложением к апрельскому номеру «Современника», журнал «Время» и лично Ф. M. и M. M Достоевские задевались неоднократно. Неозаглавленный анонимный сатирический перечень, помещенный на двух последних страницах «Свистка» и начинающийся словами: «Для следующих номеров „Свистка“ между прочим имеются в виду следующие статьи», был главным образом посвящен «Времени» и Достоевским. В этом перечне, составленном Щедриным, упоминалась «детская сказка в стихах» «Самонадеянный Федя» и были приведены две строфы из нее, которыми впоследствии в сатирических целях, задевая, в частности, и Щедрина, Достоевский воспользовался в романе «Идиот». Материалы «Свистка» свидетельствовали о намерении «Современника» и лично Салтыкова-Щедрина продолжить полемику с журналом «Время». Она приостановилась, так как журнал Достоевских был запрещен, на апрельском номере 1863 г. С началом издания в 1864 г. «Эпохи» полемика Достоевского с Щедриным возобновилась.
Ответ редакции «времени» на нападение «Московских Ведомостей»
Впервые опубликовано в изд.: Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: в 14 т. СПб., 1882. T. 1. С. 249–254 (в тексте «Воспоминаний» H. H. Страхова, засвидетельствовавшего здесь же авторство Достоевского). Подпись: редакция «Времени».
Заметка сотрудника катковских изданий К. А. Петерсона (1811–1890) «По поводу статьи „Роковой вопрос“ в журнале „Время“», ставшая объектом полемической отповеди Достоевского, была, по всей вероятности, инспирирована редакцией «Московских ведомостей». Как видно из текста ее (целиком приводимого Достоевским), издателям «Времени» предъявлялось обвинение в том, что, опубликовав антипатриотическую статью «Роковой вопрос» без подписи, в качестве редакционной, они тем самым солидаризировались с ее автором и уподобились «бандитам», которые «наносят удары с маской на лице».
В условиях, когда на западе Российской империи происходило польское восстание, обвинение, выдвинутое газетой Каткова, было равносильно политическому доносу. Уловив в нападках Петерсона симптомы надвигающейся бури, угрожающей существованию журнала, Достоевский попытался отвести или смягчить готовящийся удар. Не дожидаясь выхода очередной книжки «Времени», он направляет «Ответ редакции» в газету «С.-Петербургские ведомости», рассчитывая, что там ответ этот напечатают незамедлительно. Однако эта попытка самозащиты не имела успеха. По свидетельству Страхова, статья Достоевского была набрана, но цензор, напуганный слухами о крайне неблагоприятной реакции на «Роковой вопрос» в правительственных сферах, «не решился ее пропустить».[265] 24 мая 1863 г., уже через два дня после появления заметки Петерсона, последовало «высочайшее повеление» о закрытии журнала. Официальное распоряжение на этот счет было опубликовано несколько позже в газете «Северная почта» (1 июня 1863 г.).
Подробное освещение всех обстоятельств, связанных с запрещением журнала «Время», дано в воспоминаниях Страхова (С. 247–256).[266]
«Если бы „Время“ не было запрещено, — утверждал здесь Страхов, — мы бы подняли горячую полемику с московскими изданиями, стараясь перещеголять их в патриотизме,·споря о том, кто лучше и глубже понимает русские интересы».[267] Достоевский в письме к Тургеневу от 17 июня 1863 г. писал: «…запретили журнал за статью в высшей степени, по-нашему, патриотическую. Правда, что в статье были некоторые неловкости изложения, недомолвки, которые и подали повод ошибочно перетолковать ее <…> Но Мы понадеялись на прежнее и известное в литературе направление нашего журнала, так что думали, что статью поймут и недомолвок не примут в превратном смысле <…> Мысль статьи <…> была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (то есть прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится».
Следует особо отметить, что самое название статьи Страхова было полемическим намеком не только на стихи Пушкина, но и на публицистику Каткова. В статье «Польский вопрос», являвшейся своего рода программным документом, содержащим развернутый, подкрепленный ссылкой на непреложные факты истории план беспощадных действий против восставшей Польши, Катков писал: «Вопрос о Польше был всегда и вопросом о России. Между этими двумя соплеменными народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти. Оба государства были не просто соперниками, но врагами, которые не могли существовать рядом, врагами до конца. Между ними вопрос был уже не о том, кому первенствовать или кому быть могущественнее: вопрос между ними был о том, кому существовать…» (Рус. вести. 1863. № 1. С. 476–477).[268]
Из воспоминаний Страхова видно, что и ему, и братьям Достоевским претила катковская безжалостно историческая, слишком «крутая и узкая» трактовка проблемы польско-русских государственных отношений. По определению Страхова, она грешила «поразительной скудостью категорий для суждений».[269]
Полемика Достоевского с Петерсоном содержала ряд достаточно резких выпадов, направленных непосредственно против издателя «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Как и в целом ряде прежних своих полемических выступлений, Достоевский осуждал Каткова за неверие в самостоятельность русского «национального развития», за преклонение перед западной цивилизацией в «англизированном» ее выражении.
Через два месяца после закрытия «Времени» Страхов добился помещения в «Русском вестнике» нового разбора его статьи, написанного самим Катковым и снимавшего основные обвинения Петерсона. Сравнительно мягко упрекнув автора «Рокового вопроса» за вольные и невольные комплименты полякам (до этого в специальном письме Страхов сумел убедить Каткова в своем отнюдь не восторженном отношении к полякам и полонофилам), Катков в заключительной части статьи подверг резкой критике характерное для Достоевского и Страхова противопоставление самобытной православной России католической Европе О содержании «Ответа редакции „Времени“ на нападение „Московских ведомостей“» Катков, если и знал, то только понаслышке. Тем не менее рассуждения его о «всемирной» цивилизации, необходимо связующей и объединяющей все народы, и России как одной «из самых коренных сил Европы» выглядели полемическим ответом на обвинение в пренебрежении к русской народности, высказанное Достоевским и в настоящей статье.
Господин Щедрин, или раскол в нигилистах
Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1864. № 5. С. 274–294) без подписи.
Статья «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» написана Достоевским в ответ на статью Щедрина «Литературные мелочи», которая появилась в «Современнике» (1864. № 5). Эта статья открывалась размышлениями сатирика о «дряни» и «дрянных людях», вызванными «Записками из подполья» Достоевского, содержала далее прямые сатирические выпады в адрес А. А. Григорьева, M. M. Достоевского и H. H. Страхова и завершалась «драматической былью» «Стрижи», в которой под покровом сатирической аллегории были представлены редакция и ближайшие сотрудники журнала «Эпоха».
Свою полемику с журналом Достоевских, прерванную весной 1863 г., Щедрин возобновил в крайне неблагоприятных для него условиях резко обострившихся разногласий между «Современником» и «Русским словом».[270] Эти разногласия, обозначившиеся еще в начале 1862 г., когда M. А. Антонович в «Современнике» и Д. И. Писарев в «Русском слове» выступили с принципиально различными оценками романа Тургенева «Отцы и дети»,[271] еще более четко определились после появления в «Современнике» в августе 1863 г. щедринского цикла «Как кому угодно», где сатирик выразил свое скептическое отношение к утопическому идеалу Чернышевского, считая его изображение в романе «Что делать?» тактически несвоевременным[272]
В ноябрьской книжке «Современника» за 1863 г. в хронике «Наша общественная жизнь» Щедрин выступил уже с прямой критикой позиций той части молодого поколения (по терминологии сатирика — «детей»), которая не хочет выйти из своего «замкнутого уютного мира» в реальный «мир грубости и пошлости». Критика была направлена в адрес Д. И. Писарева и его последователей, группировавшихся вокруг журнала «Русское слово».
В январском выпуске хроники «Наша общественная жизнь» Щедрин еще более резко писал об общественном индифферентизме радикальной молодежи, упрекал ее в «понижении тона», утверждал, что так называемые нигилисты, мечтающие об осуществлении утопического идеала, но практически ничего не делающие для его приближения, «суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты» (Современник. 1864. № 1. Отд. II. С. 28). Нарисованная здесь же картина литературного обеда у некоего мецената представляла прозрачную сатирическую аналогию положению редакции «Русского слова», издававшегося гр. Г. А. Кушелевым-Безбородко. Эта сатирическая сцена в значительной степени повлияла на характер ответных выступлений Д. И. Писарева и В. А. Зайцева в «Русском слове».
В статье Писарева «Цветы невинного юмора», написанной в виде рецензии на «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» Щедрина, сатирик был охарактеризован как беспринципный юморист, представитель искусства для искусства. Смех Щедрина, — доказывал Писарев, — «бесплодное проявление чистого искусства, подобное лирическим воздыханиям г-д Фета, Крестовского и Майкова» (Рус. слово 1864. № 2. Отд. II. С. 24).
Неприкрытой грубостью тона отличалась напечатанная в этом же номере «Русского слова» статья Зайцева «Глуповцы, попавшие в „Современник“».
В статьях Писарева и Зайцева варьировались обвинения, предъявленные Щедрину за год перед тем Достоевским. Возможно, главная мысль статьи Писарева была не только повторением мысли Достоевского, первым бросившего Щедрину упрек в служении «чистому искусству» (см в наст. томе статьи «Молодое перо» и «Опять „Молодое перо“»), но и оформилась под ее влиянием, хотя автор «Цветов невинного юмора» причислял к рангу жрецов «чистого искусства» и «весь легион сотрудников „Времени“» (Рус. слово. 1864 № 2. Отд. II. С 6)
С явной ориентацией на полемику Щедрина с Достоевским в 1863 г. была написана статья Зайцева «Глуповцы, попавшие в „Современник“», в которой пародировались щедринские «Тревоги „Времени“»: «Бедный сатирик! Бедный публицист! — восклицал, обращаясь к Щедрину, Зайцев, — сочувствую вам! И за что это вас обидели, за что заставили вас будировать, между тем как вы всегда были готовы улыбнуться и развеселиться» (там же. Отд. III. C. 35). Зайцев солидаризировался в оценке Щедрина с журналом «Время», который год тому назад «заподозрил искренность его нигилизма» (там же. С. 38). Упрекая сатирика в бессмысленных юмористических намеках на роман «Что делать?», содержащихся, по его мнению, в хронике «Наша общественная жизнь», Зайцев припоминал Щедрину и его насмешку в «Свистке» над «Записками из Мертвого дома» Достоевского.
После появления в «Современнике» мартовского выпуска хроники «Наша общественная жизнь», где Щедрин, целя в публицистов «Русского слова», писал о «вислоухих» и «юродствующих», которые в своем доведенном до абсурда рвении способны скомпрометировать любую мысль, любое дело, в «Русском слове» против Щедрина выступил Г. E. Благосветлов. В статье «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“» Благосветлов с иронией констатировал «изумительное сходство» между суждениями Щедрина о «вислоухих» и «юродствукидих» и выпадом Достоевского в «Объявлении о подписке на журнал „Время“ на 1863 год» против «свистунов, свистящих из хлеба», который был исходным моментом в полемике Щедрина с Достоевским.
Таким образом, Достоевский оказывался очевидно причастным к полемике внутри революционно-демократического лагеря.
В мартовском номере «Эпохи» в «Заметках летописца» H. H. Страхов информировал читателей журнала о начавшейся между «Современником» и «Русским словом» полемике, которая обещает быть очень жаркою (Эпоха. 1864. № 3. С. 339). Называя далее начавшуюся полемику «междоусобною битвою», Страхов доказывал читателям, что было бы ошибкой считать ее фактом «весьма немаловажным». Страхов игнорировал принципиальный характер спора между «Современником» и «Русским словом», главная цель его заметки — в пространном цитировании статьи Писарева, замечания которого в определении достоинств и характера юмора Щедрина, по его мнению, «очень метки и остроумны» (там же. С. 340). Осенью 1864 г. в статье «Литературные кусты», предназначавшейся для октябрьской книжки «Современника», но оставшейся не опубликованной при жизни Щедрина, последний писал об этой заметке Страхова как о причине возобновления своей полемики с журналом Достоевских (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. T. 6. С. 507–508). Это авторское свидетельство нуждается, однако, в существенном дополнении, так как «Заметки летописца» Страхова были не единственным поводом к возобновлению полемики между «Современником» и журналом Достоевских. В 1–2 и 4 номерах «Эпохи» были напечатаны «Записки из подполья» Достоевского, полемически направленные в адрес Чернышевского как автора романа «Что делать?». В условиях вспыхнувшего внутри революционно-демократического лагеря конфликта, когда «Русское слове» обвиняло «Современник» и Салтыкова-Щедрина в измене идеям Чернышевского и Добролюбова, для «Современника» было принципиально важно выступить с отповедью «подпольному парадоксалисту». Это и осуществил Щедрин в статье «Литературные мелочи». В открывавшем ее рассуждении о «дряни» и «дрянных людях» сатирик не только парировал личный выпад против него, содержащийся в «Записках из подполья», но и косвенно оценивал главную мысль этого произведения, его героя.
«Записки из подполья» определили сатирический колорит и эзоповские средства завершавшей статью «драматической были» «Стрижи», действие которой происходит в погребе и в которой дан коллективный, но вместе с тем выпукло индивидуализированный аллегорический портрет редакторов и ближайших сотрудников «Эпохи». Ф. M. Достоевский, выведенный в образе «Стрижа четвертого, беллетриста унылого», выражая мысли Щедрина, сам характеризует «Записки из подполья», названные здесь «Записками о бессмертии души» (Современник. 1864. № 5. Отд. II. С. 24).
Статью «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» Достоевский писал во второй половине июня 1864 г., по-видимому, в течение нескольких дней под непосредственным впечатлением от статьи Щедрина «Литературные мелочи» и в ответ на нее.
Памфлет Достоевского преследовал более широкие цели, нежели только карикатуру на Щедрина. Полемика, развернувшаяся в революционно-демократическом лагере, в представлении Достоевского компрометировала самые основы революционно-демократической идеологии, которую он и стремился окарикатурить в своем памфлете, используя для этого не только материалы журнального спора, но и распространившиеся в связи с ним в литературных кругах слухи. В ответ Щедрину, сатирически высмеявшему в «Стрижах» миросозерцание, пропагандируемое «Эпохой», Достоевский окарикатуривает убеждения так называемых нигилистов, создает карикатурный образ самого Щедрина, делая его центральной фигурой своего повествования.
Вероятно, задетый насмешками «Искры» над его стихами из статьи «Опять „Молодое перо“» Достоевский сам критиковал их и объяснял факт их появления. Эти строки, зафиксированные в рукописи, носят характер самооправдания, что, по-видимому, и побудило Достоевского отказаться от них в окончательном тексте. Большей эмоциональностью, чем в печатном тексте, была отмечена в рукописи оценка статьи Щедрина «Литературные мелочи» с ее «драматической былью» «Стрижи».
Сам Достоевский определил жанр центральной части своей статьи как отрывок из романа-карикатуры и основывался на материалах, которые уже содержали в себе элементы предвзятости, тенденциозности (статья Писарева «Цветы невинного юмора») и карикатуры (статьи «Глуповцы, попавшие в „Современник“» Зайцева и «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“» Благосветлова). В ответ на уничтожающую сатиру, в корне подрывавшую редактируемый им журнал, Достоевский стремился скомпрометировать ее автора, переводя полемику с ним, как и ранее (см. статьи «Молодое перо» и «Опять „Молодое перо“»), в сугубо личный план. Писатель впадал в очевидные и им самим сознаваемые противоречия, когда вкладывал в уста беспощадно и несправедливо разоблачаемого им критика и хроникера «Современника» положительный отзыв о журнале «Время», настаивал на общности его и своих мыслей, превращая таким образом своего непримиочмлгл оппонента и единомышленника.
Известная противоречивость в мировоззрении Щедрина, критическое осмысление им после крушения революционной ситуации в России революционно-демократических идей Чернышевского и Добролюбова, его поиски практических путей к обновлению жизни и наряду с этим его резкая, не свободная от полемических передержек критика как наиболее радикальных последователей идей Чернышевского и Добролюбова, так и их принциаиальных противников, — все это и было причиной раздавшихся в адрес сатирика в 1864 г. обвинений в двойственности и неискренности его убеждений, — обвинений, которые Достоевский сделал темой и содержанием своего памфлета.
С ответом на статью Достоевского в «Современнике» выступил Антонович (см. об этом ниже, в примечании к статье «Необходимое заявление»). Из-за возникших в редакции «Современника» разногласий[273] целый ряд статей Щедрина, относящихся к его полемике с «Русским словом» и «Эпохой», остался ненапечатанным (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. T. 5, 6). В статье «Г-дам „семейству M. M. Достоевского“», издающему журнал «Эпоха», написанной в конце 1864 г. в форме открытого письма и также оставшейся ненапечатанной, Щедрин подвел итоги своего личного участия в полемике «Современника» с «Временем» и «Эпохой», выразил свое отношение к статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах»: «Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности, — писал сатирик, обращаясь к издателям и сотрудникам „Эпохи“, — имел удовольствие беседовать об вас <…>. Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя — и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная. И, заметьте, я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности; <…> я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное миросозерцание — и, разумеется, успел в этом как нельзя лучше. <…> вы выпустили на мой личный счет целую эпопею под названием „Щедродаров, или Раскол в нигилистах“… Говорю, положа руку на сердце, упражнение это нимало не оскорбило меня. Прочитавши его, я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то ехидное и гадкое. Столько лжи, клевет и самых недостойных сплетен, пущенных в упор, в виде ответа на оценку, может быть и резкую, но все-таки чисто литературного свойства, — воля ваша, а это уж слишком игриво!» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. T. 6. С. 524–525). Щедрин писал это уже после появления в печати «Необходимого заявления» Достоевского, в котором последний назвал статью «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» своей. Поэтому в примечании к цитированной выше статье сатирик просил Достоевского извинить его за «резкость», полагая, что он «сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва» (там же. С. 525).
Отрицательные отзывы на статью Достоевского появились в «Русском инвалиде»: А. И-н (А. С. Суворин). Журнальные и библиографические заметки (1864, 8(20) авг. № 175. С. 3) и в «Искре»: Цередринов X. (В. П. Буренин). Видения редакторов. Ерундиада, или Начало конца (1864. 25 авг. № 32).
По-видимому, сам Достоевский после напечатания своего памфлета испытывал известную неудовлетворенность, которой можно объяснить появление в 7 номере «Эпохи» за 1864 г. статьи H. Соловьева «Теория безобразия», где снова, но уже в благожелательном для Щедрина смысле оценивалась статья Писарева „Цветы невинного юмора“. «Г-н Писарев, — писал H. Соловьев, — с особенною резкостию напал на Щедрина, называя его то поклонником чистого искусства, то человеком, пишущим для своего удовольствия. На него, говорит он, опирается симпатия молодежи и потому нужно его уронить. Худо делает г-н Писарев. Щедрина менее всего можно назвать пишущим для своего удовольствия; он был первый писатель, создавший деловую практическую литературу». Автор возмущался далее советом Писарева Щедрину «популяризировать чужие идеи»: «Самостоятельной деятельности, а не пережевывания до тошноты Бокля, Льюиса и Дарвина — вот чего нам нужно» (С. 12).
Однако острота конфликта между «Современником» и «Эпохой», ярким проявлением которой была статья Достоевского, не ослабевала и далее, когда оппонентом Достоевского в «Современнике» стал Антонович (см. в наст, томе статьи «Необходимое заявление» и «Чтобы кончить»).
Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском
Впервые опубликовано: в журнале «Эпоха» (1864. № 6. С. I–VI)[274] с подписью: Федор Достоевский.
Ф. M. Достоевского с его старшим братом, погодком, с которым он вместе воспитывался, а в период учения в Инженерном училище, когда Михаил Михайлович жил в Ревеле, где служил в кондукторской роте, состоял в постоянной переписке, объединяла общность литературных и общественных интересов. После возвращения осенью 1847 г. M. M. Достоевского в Петербург, где он выступает как переводчик, беллетрист и критик, личные и творческие контакты между братьями укрепляются. Познакомившись через Федора Михайловича с петрашевцами, Михаил Михайлович на время разделяет и его увлечение идеями утопического социализма. О степени душевного родства писателя в эту пору с любимым братом свидетельствуют его показания во время следствия. На вопрос комиссии, с кем он чаще встречался и был наиболее тесно связан, Ф. M. Достоевский ответил: «Совершенно откровенных отношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлою Достоевским» (XVIII, 136). О том же говорит и письмо, отправленное Федором Михайловичем брату 22 декабря 1848 г. — в день разыгранного ритуала смертной казни, ее отмены и оглашения нового приговора. Рассказывая брату о пережитом, он писал: «…в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый!» (XXVIII, кн. 1, 161). В свою очередь M. M. Достоевский был также предан Федору Михайловичу. Он поддерживал последнего духовно и материально во время каторги и службы в Сибирском линейном батальоне, а затем — по переселении его в Тверь и в Петербург. До конца своих дней Федор Михайлович сохранил о Михаиле Михайловиче память как о самом близком ему человеке, сыгравшем большую роль в его жизни. Объясняя, почему он после смерти брата счел своим долгом взять на себя расчеты с его кредиторами (после закрытия «Эпохи» и ликвидации табачной фабрики) и заботы об его семье, Ф. M. Достоевский писал A. H. Майкову 21 марта (2 апреля) 1868 г.: «А ведь Вы не знаете, чем всю жизнь, с первого моего сознания, был для меня этот человек? Нет, Вы этого не знаете!» (XXVIII, кн. 2, 280).[275]
Кроме публикуемого некролога характеристике M. M. Достоевского как человека и редактора, его взаимоотношений с сотрудниками журналов и, в частности, с самим Ф. M. Достоевским посвящены также «Примечание к статье H. Страхова „Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве“» и реплика «За умершего», включенная в апрельский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.
Необходимое заявление
Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1864. № 7. Отд. X. С. 1–4) с подписью: Федор Достоевский.
«Необходимое заявление» было вызвано опубликованием в июльском номере «Современника» статей «Торжество ерундистов» и «Стрижам», которыми M. А. Антонович ответил на памфлет Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». Достоевский выступил здесь с решительным отказом продолжать полемику с «Современником» на том уровне мелочной уничижительной брани, к которому она сводилась в статьях Антоновича. Статья «Торжество ерундистов» появилась в «Современнике» без подписи, «Стрижам» — под псевдонимом «Посторонний сатирик» и с подзаголовком: «Послание обер-стрижу, господину Достоевскому». Антонович раскрыл инкогнито Достоевского, прямо заявив во второй статье, что памфлет «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» «нацарапал сам обер-стриж, господин Достоевский Феодор», и свое возмущение этим памфлетом выражал в личных оскорблениях, направленных в адрес его автора и других сотрудников «Эпохи». Критик «Современника» пытался мистифицировать Достоевского, утверждая, что «драматическая быль» «Стрижи» была написана не Щедриным, а им, «Посторонним сатириком». По-видимому, в этих же целях Антонович предпослал статье «Торжество ерундистов» заголовок, совпадающий с названием статьи Щедрина, которую завершали «Стрижи», — «Литературные мелочи», а статью «Стрижам» начал щедринской страницей, взятой им из написанного, но не появившегося в «Современнике» из-за внутриредакционных разногласий ответа Щедрина Достоевскому (см. об этом выше, с. 555–556).
Однако Достоевский, как об этом свидетельствуют его записные тетради, не поддался мистификации, хорошо ощущая различие в полемических приемах Щедрина и Антоновича (см. XX, 197).
«Необходимое заявление» Достоевского было своего рода апелляцией к общественному мнению. Писатель, очевидно, не умалял и своей собственной роли в том заострении и подчеркнутом огрублении полемических приемов, которые продемонстрировал в своих статьях Антонович. Поэтому в «Необходимом заявлении» он стремился к сдержанности и лаконизму.
В августовском номере «Современника», появившемся ранее выхода в свет июльской книжки «Эпохи» с «Необходимым заявлением» Достоевского, Антонович в «Вопросе, обращенном к стрижам» пояснял свою полемическую тактику «Современник», — писал он здесь, — принял за правило руководствоваться в полемике известною в уголовном праве системою возмездия — око за око, зуб за зуб, то есть наказывать всякую литературную ракалию тем же оружием, которым она сама согрешает. Доказывать какой-нибудь ракалии, что ее приемы не хороши, не деликатны, — дело трудное, доказательствами ее не проймешь; а гораздо лучше каждую ракалию заставить на ее же собственной спине почувствовать прелесть ее полемических приемов, может быть и опомнится и на будущее время исправится» (Современник. 1864. № 8. Отд. II. С. 340).
На «Необходимое заявление» Достоевского и на помещенную в том же номере «Эпохи» анонимную заметку Страхова «Мрак неизвестности» («Заметки летописца»), также вызванную указанными выше статьями Антоновича, последний отвечал в сентябрьской книжке «Современника» пятью статьями, объединенными заглавием «Литературные мелочи» (см. ниже, примеч. к с. 567). В первой из них — «Стрижи в западне», сопоставляя выдержки из своих статей с цитатами из статей Достоевского против Щедрина, Антонович демонстрировал сходство полемических приемов. Свои излишества по сравнению с Достоевским Антонович объяснял и оправдывал тем, «что всякий долг необходимо возвращать с процентами» (Современник. 1864. № 9. Отд. II. С. 97). После этой статьи Достоевский окончательно отказался вести полемику с Антоновичем (см. выше статью «Чтобы кончить»). Полемика «Современника» с «Эпохой», длившаяся вплоть до прекращения «Эпохи» на февральском номере 1865 г., стала полемикой Антоновича со Страховым.
Летом и осенью 1864 г., после напечатания статьи Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» и ответных на нее выступлений Антоновича, в газетах и журналах появился ряд неодобрительных отзывов, квалифицировавших полемику «Современника» с «Эпохой» как неприличную брань.
Однако все эти отзывы касались лишь внешнего характера ведения спора, игнорировали его принципиальную основу.
Чтобы кончить
Последнее объяснение с «Современником»
Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1864. № 9. С. 1–6) без подписи.
Принадлежность статьи Достоевскому удостоверяется списком H. H. Страхова.
«Последнее объяснение с „Современником“» стало действительно последним в ряду полемических выступлений писателя, начатом статьей «Молодое перо» и продолженном статьями «Опять „Молодое перо“», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление».
Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>
Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1864. № 9. С. 51–55) с подписью: Ф. Достоевский.
В сентябрьском номере «Эпохи» за 1864 г. были напечатаны «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» H. H. Страхова, в состав которых были включены одиннадцать писем к мемуаристу Ап. Григорьева из Оренбурга, куда он уехал в конце мая — начале июня 1861 г. учителем русского языка и словесности в тамошнем кадетском корпусе и где пробыл до мая 1862 г. В письмах этих Ап. Григорьев делился со Страховым как своими сокровенными переживаниями, так и размышлениями над современным состоянием литературы, обосновывал отдельные положения «почвеннической» теории и «органической» критики, высказывал суждения о ряде литературных деятелей тех лет, писал о своих местных делах и впечатлениях, переводческой и критической работе, взаимоотношениях с редакцией журнала «Время», с которой в эту пору у него наметилось некоторое расхождение. Достоевский сопроводил публикацию послесловием, затронув взволновавшие его в письмах Ап. Григорьева и комментариях к ним Страхова моменты.[276]
1
…женевец Лефорт воспитал его… — Ф. Я. Лефорт (1656–1699) — ближайший соратник Петра I. Родился в Женеве, в богатой купеческой семье. Девятнадцати лет отправился в Россию, где завоевал любовь и признание молодого Петра. О Лефорте было написано уже в конце XVIII — начале XIX в. несколько монографий, в том числе книга Базевиля «Краткая история жизни Лефорта» (Basseuille. Précis historique sur la vie de Leforte, 1784). Влияние Лефорта на Петра I в книге Базевиля, как и в других европейских исследованиях по новой истории России, было сильно преувеличено. Но скорее всего Достоевский имеет в виду не западных историков и публицистов, а очень популярную рукопись «Записки о древней и новой России» H. M. Карамзина, особенно следующее место, процитированное H. А. Добролюбовым в статье «Первые годы царствования Петра Великого» (1858): «К несчастию, сей государь, худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес; вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией» (Добролюбов H. А. Собр. соч.: В 9 т. M.; Л., 1962. T. 3. С. 40).
2
…заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами… — Достоевский, полемически пародируя штампы и нелепости, свойственные западным книгам о России, выделяет получившие большое распространение многотомные путевые впечатления маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 г.» и барона А. Гакстгаузена (Haxthausen, 1792–1866), в 1843–1844 гг. путешествовавшего по России, автора «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (1847–1852).
3
…есть свой король в Швабии… — Достоевский несколько видоизменяет ставшую поговоркой реплику Гофмана, героя повести Гоголя «Невский проспект» (1835): «Я швабский немец; у меня есть король в Германии».
4
…печь булки и коптить колбасы… — В России, особенно в Петербурге, было много колбасников и булочников — немцев, как парикмахеров и гувернеров — французов. Это нашло отражение и в литературе. См., например: В. И. Даль. «Колбасники и бородачи» (1844), П. Каратыгин. «Булочная, или Петербургский немец, водевиль в одном действии» (1843).
5
…Веберы и Людекенсы. — К. Вебер — булочник и петербургский домовладелец. «Людекенс» — известная петербургская колбасная.
6
…с великанами и великаншами… — И. И. Панаев писал в «Современнике» (1860. № 10. С. 407) об одном из таких предприимчивых дельцов — Гебгарде, привезшем в Петербург «Голиафа XIX столетия». «Диковинками» удивлял русского зрителя американский антрепренер Барнум Финеас Тейлор, показывавший «морскую женщину» и карлика Тома Пуса.
7
…с ученым сурком… — С учеными сурками выступали в России шарманщики, преимущественно савояры. В период расцвета «натуральной школы» савояры наряду с чиновниками и дворниками — характерные герои физиологических очерков; наиболее известный из очерков — «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича (1845).
8
…обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия… — В. И. Даль приводит в «Толковом словаре», как повсеместно распространенное в русском народе, изречение: «Хитер немец: обезьяну выдумал!» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. M., 1955. T. 2. С. 578). Ироническое описание Достоевским развлечений, просвещающих русскую публику, возможно, навеяно строками из стихотворного фельетона H. А. Некрасова «Говорун» (1843–1845), героя которого, Белопяткина, упоминает писатель в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863):
9
…служить у помещиков Буеракиных… — Имеется в виду управитель Федор Карлыч в «Губернских очерках» (отдел «Талантливые натуры», третий очерк «Владимир Константинович Буеракин») неточно называемый дальше Иваном Карлычем. Стиль управления Федора Карлыча имением так живописует староста Буеракина: «А ведь мизерный-то какой! Я раз, знаете, собственными глазами из окна видел, как он там распоряжаться изволил… Привели к нему мужика чуть не в сажень ростом; так он достать-то его не может, так даже подпрыгивает от злости. „Нагибайся!“ — кричит. Насилу его уняли!..» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч. M., 1965. T. 2. С. 312). Очерк «Владимир Константинович Буеракин» Достоевский вспоминает также в «Зимних заметках о летних впечатлениях».
10
…другие являются в виде естествоиспытателей — каких-нибудь заседателей. — Иронические намеки Достоевского здесь, как и в дальнейшем, обобщены и с трудом поддаются конкретизации; они с разной степенью справедливости могут быть отнесены и к знаменитому немецкому естествоиспытателю Петру-Симону Палласу (1741–1811), свыше сорока лет изучавшему природу и население России, автору трехтомного научного труда «Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches«(СПб., 1771–1776), и к ботанику Ф. Кону (1828–1898), очерк которого «Роза» (Рус. вестн. 1860, № 4) вызвал иронические реплики в петербургских журналах. Ясна памфлетная направленность сарказмов Достоевского — «немецкая» наука и Академия — главный объект иронии писателя. Журнал «Время» считал создание национальной науки одним из главных условий успехов просвещения в России. Именно так формулировалась задача в статье «Жрецы науки для науки»: «Мы предпочитаем успехи образованности на нашей родине всем успехам науки на Западе <…> требуем, чтобы русским было дано право смотреть на западную науку с точки зрения русской образованности и заимствовать оттуда то, что при настоящем ее состоянии благотворно и применимо» (Время. 1863. № 1. С. 148).
11
…будущего памятника тысячелетию России. — Споры и толки вокруг прошедшего по конкурсу проекта памятника M. О. Микешина (1836–1896) в 1860 г. оживленно обсуждались журналистикой. И. И. Панаев в «Петербургской жизни» солидаризовался с автором двух статей о проекте в «Русском вестнике» (Один из проектов для памятника тысячелетия России //Рус. вестн. 1859. № 11. С. 156–163; Еще два слова о проекте памятника тысячелетия России // Там же. 1860. № 2. С. 157–162): «В художественных кружках много толковали о памятнике по случаю приближающегося тысячелетия России. Для этого, как известно, открыт был конкурс и утвержден, если мы не ошибаемся, проект молодого, талантливого художника г-на Микешина. Проект этот был довольно подробно рассмотрен в „Русском вестнике“. „Русский вестник“ не находит его удачным; нам — мы откровенно признаемся — он также кажется неудовлетворительным. Задача, конечно, очень трудная — и если мы не решимся винить художника в отсутствии мысли, то по крайней мере позволим себе заметить, что мысль его проекта весьма неопределенна. Вообще такого рода громадные художественные проекты требуют, кроме большого таланта, серьезной обдуманности. Шутка сказать: памятник тысячелетию России! В памятнике г-на Микешина мы видим разных знаменитых лиц нашей истории, но не видим ни России, ни русского народа» (Современник. 1860. № 2. С. 374–375). В спорах, принял участие и фельетонист «Светоча» А. П. Сниткин (Амос Шишкин), иронизировавший по поводу статьи Готье, наполненной самыми вздорными суждениями о России: «О проекте Микешина русская публика узнала в первый раз из "Journal de St. Pe-tersbourg", где француз Теофиль Готье-сын рассыпался в красноречии о народности русской и решил утвердительно, что 26 августа 1862 года России минет ровно тысяча лет. Русские журналы не сподобились получить никакого известия о результате конкурса. <…> Теофиль Готье, вероятно ослепленный честью, что он первый известит русских о их народном памятнике, восторгается проектом г-на Микешина и не замечает в нем промахов; мало того, сгоряча он даже берется судить о прошлой судьбе нашего народа и, как говорится, попадает пальцем в небо» (Светоч. 1860. № 3. С. 96). Памятник, сооруженный по проекту Микешина, был открыт в Новгороде 8 сентября 1862 года.
12
…не все переводят «Россияду» Хераскова… — M. M. Херасков (1733–1807) — русский писатель XVIII в., создатель «Россияды, ироической поемы» (1799). Переводы из Хераскова не на «санскритский», конечно, а на немецкий язык, действительно, существовали: известны, в частности, переводы из Хераскова немецкого писателя «бури и натиска» Я. Ленца (1751–1792).
13
Есть знаменитые сочинения — и заключает такою нелепостью… — Наиболее «знаменитыми» немецкими сочинениями, помимо труда Гакстгаузена, была книга Иоганна Генриха Блазиуса (1809–1870), немецкого зоолога, «Путешествие по европейской части России в 1840–1841 гг.» («Reise in europäischen Rußland in den Jahren 1840–1841»), «добросовестного ученого» (Герцен), «который с редким умом и беспристрастием так оценил Россию, что большей части из нас, русских, можно бы было у него поучиться» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. M., 1900, T. 1. С. 31); Генриха Иосифа Кёнига «Картины русской литературы» («Literarische Bilder aus Rußland»), написанной, в сущности, совместно с H. А. Мельгуновым (1804–1867), и «холодные компиляции, не свободные от официального влияния», по определению Герцена, Иоганна Генриха Шницлера (1802–1871) «Essai d'un statistique générale de L'empire de Russie (Очерк общей статистики Российской империи. Париж, 1829); «La Russie, la Pologne et la Finlande» (Россия, Польша и Финляндия, Париж, 1835); «Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas» (Внутренняя история России в царствование императоров Александра и Николая. Париж, 1847). Достоевский, вероятно, имел в виду сочинения вроде книг Шницлера, но, возможно, и знаменитый труд Гакстгаузена, получивший высокую оценку Герцена в «России» (1849), видевшего в нем первооткрывателя русской сельской общины.
14
…иногда даже на 28 дней… — Достоевский иронизирует над кратковременностью путешествий по России А. де Кюстина, А. Дюма-отца и других французских авторов сочинений о России.
15
…выучив мимоходом — вертеть столы… — Вместе с А. Дюма-отцом в Россию приехал американский спирит и медиум Даниель (Дуглас) Юм (Hume), выступавший неоднократно на медиумических сеансах. Юм и его сеансы стали в конце 50-х — начале 60-х годов объектом для иронии фельетонистов. См.: Дружинин А. В. Рассказ, перед которым все вымыслы — прах и ничтожество, или Правдивое повествование медиума, состоящего в числе сотрудников «Века», о знакомстве с господином Гомом и неописанные чудеса по части столоверчения, духовидения и чернокнижия (1861; Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1867. T. 8. С. 623–633).
16
В Москве он взглянет на Кремль — удивительнейших приключений. — Пародируется главным образом книга А. де Кюстина.
17
…быт Сандвичевых островов. — Так назвал Гавайские острова (расположены в северной части Тихого океана, ныне входят на правах штата в состав США) в честь графа Сандвича, первого лорда Адмиралтейства, открывший их в 1778 г. капитан Джеймс Кук (1728–1779). Путешествие Кука и последовавшие за ним другие экспедиции вызвали большой интерес к жизни и быту экзотических островов Океании. Появилось много компилятивных публикаций в русских журналах («Острова Уалак, Сандвичевы и Таити, из путевых заметок Жюльен де ла Гравьера» — Репертуар и пантеон. 1853. № 11; «Гонолулу, резиденция короля Сандвичевых островов, описанная Андерсоном» — Репертуар и пантеон. 1855. № 5; «Об Океании и ее жителях. Чтение T. H. Грановского» — Рус. вестн. 1856. № 1). Достоевский сравнивает французские сочинения о России с книгами европейских путешественников о дальних островах Океании.
18
…поговорит о Пушкине — подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер… — Андре Шенье (Chenier, 1762–1794) — французский поэт позднего классицизма; его творчество действительно вызвало большой интерес Пушкина («Андрей Шенье», 1825 и др.) Антуанетта де Лижье де Лагард Дезульер (Deshoulières, 1637–1694) — французская поэтесса. Ее идиллии были популярны в XVIII— начале XIX в. в России, наиболее известны переводы А. Ф. Мерзлякова (Идиллии госпожи Дезульер, пер. А. Мерзлякова, M., 1807). Дезульеровские идиллии для Достоевского и его современников (Герцена, Добролюбова и др.) — синоним фальшиво-пасторального изображения народной жизни (см. также статью «Книжность и грамотность»). Достоевскому, конечно, хорошо было известно отрицательное отношение Пушкина к идиллическому роду поэзии, в частности эпиграмма его на В. И. Панаева «Русскому Геснеру» (1817). Пересказывая в фельетонной манере суждения французов о Пушкине, Достоевский обобщает различные легковесные, но претендующие на глубокомыслие мнения, нелепые легенды и слухи, встречавшиеся даже в серьезных книгах. Среди тех, кого задевает ирония Достоевского, видимо, следует назвать А. де Кюстина, отрицавшего саму возможность появления искусства в России: «Самый воздух этой страны враждебен искусству <…> Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком» (Кюстин. Николаевская Россия. M., 1930. С. 61). Пушкину Кюстин предпочел другого славянского поэта — А Мицкевича. Переводы из Пушкина его разочаровали: «Он заимствовал свои краски у новой европейской школы. Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом». Весьма просто объясняет Кюстин популярность Пушкина в России: «Для того чтобы составить эпоху в жизни невежественного народа, окруженного народами просвещенными, ему достаточно переводить, не тратя умственных усилий. Подражатель прослывет созидателем» (там же. С. 171).
19
…похвалит Ломоносова — «Трех мушкетеров»… — Пародируется содержание путевых очерков А. Дюма (Impression de voyage en Russie. Paris, 1858–1859). Достоевский, как установила В. А. Дороватовская-Любимова, «точно воспроизводит весь план путешествия Александра Дюма и затем выделяет отдельные его моменты, которые передает в пародийном освещении»; Дюма неоднократно сообщает о своем желании встретиться с Шамилем, упоминает армян и грузин, восторгавшихся «Тремя мушкетерами». Дюма, рассуждая о преждевременной смерти русских писателей, упоминает Пушкина, убитого на дуэли «сорока восьми лет», и Лермонтова — погибшего в «сорок четыре года» (см.: Литературный критик. 1936, № 9 С. 203–204). О вооруженных стычках с горцами Дюма рассказывает в главах «Les abrecks» и «Le secret» («Le Caucase») Достоевский завершает памфлет на западные книги о России, открыто пародируя путевые очерки А. Дюма, но одновременно мало изменяя обобщающему характеру полемики. Дается оценка всем суждениям французов о литературе, старым и новым, равно отличающимся высокомерно-снисходительным тоном. Среди пародируемых книг — и откровенно враждебные, в которых о русской культуре говорится мимоходом и пренебрежительно (Ancelot J. Six moix en Russie. Paris, 1827; Dupré de Sainte-Maure É. L'Hermite en Russie. Paris, 1829; May J.-B. Sainte-Péterbourg et la Russie en 1829. Paris, 1830, и т д.), и специальные работы, пропагандирующие русскую культуру во Франции, но весьма поверхностные, вроде статей Ш. Сен-Жюльена о Пушкине (Revue des deux Mondes. 1847, № 4) и Крылове (Ibid. 1852. № 3).
20
Лафонтен (Jean de La Fontaine, 1621–1695) — знаменитый французский баснописец.
21
Последние нелепые возгласы — боевых криков. — Речь идет об антирусской кампании в Англии и Франции в период Крымской войны. Непосредственно затронула западная пропаганда И. С. Тургенева, протестовавшего против тенденциозного, приспособленного к политическим событиям перевода Э. Шаррьера «Записок охотника» (Mémoires d'un seigneur russe, ou Tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes. Paris, 1854).
22
Цицерон (M. Tullius Cicero, 106 — 43 до н э.) — римский оратор, философ и государственный деятель.
23
Вот про господина Греча — называться литературой. — H. И. Греч (1787–1867) — писатель, журналист, филолог, автор имевшего большой успех романа «Черная женщина» (1834), вместе с Ф. В. Булгариным в 1831–1859 гг издавал «Северную пчелу». Речь идет о «Парижских письмах с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии» (СПб., 1839. Ч. 1 и 2). Французскому писателю Ш. О. Сент-Бёву (1804–1869) он говорил о пользе цензуры для успехов русской культуры и просвещения в присутствии Гюго, который, по уверению Греча, согласился со следующими его словами: «Я сказал, притом напрямки, что литература, которая не распространяет здравых понятий, благородных правил, не старается искоренить порока и не уважает чести и добродетели, не есть литература и что только тот писатель достоин уважения, который возвышает собою и своими творениями достоинство человека и гражданина» (Ч. 2. С. 129).
24
…отставные наши кавалеристы… — Достоевский иронизирует над путевыми записками русских офицеров разных родов войск, насмешливо перечисленных Герценом в «Письмах из Франции и Италии», и над тем распространенным типом русского туриста, о котором повествовал А. В. Дружинин в очерке «Наши за границей», где фигурирует некий Ваня Ожогин, «отставной гусар, весь июль месяц таскавшийся за моими стопами в Швейцарии и напоследок таки занявший у меня четыреста целковых», и беспардонно лгавший немецкой публике на французском языке петербургского денди (Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1867. T. 8. С. 517–531).
25
Нотр-Дам — Собор Парижской богоматери (Notre Dame de Paris).
26
…знавшие всю подноготную о Пальмерстоне — «Пахотника и бархатника» — Достоевский частично пересказывает авторскую характеристику героя повести Д. В. Григоровича «Пахатник и бархатник» (Современник. 1860. № 11) Ипатова. Генри Темпл, лорд Пальмерстон (1784–1865) — премьер-министр Великобритании в 1859–1865 гг., тори, в период Крымской войны — министр иностранных дел.
27
…ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе… — Альфред де Мюссе (1810–1857) популяризировал в 1830–1840 гг. жанр драматических пословиц (proverbes dramatique), о котором так писал критик «Современника»: «Г-н Мюссе создал новый род небольших драматических разговоров, который он назвал пословицами (proverbe), потому что они действием своим выражают смысл, заключающийся в этих пословицах. Эти драматические пьески, печатавшиеся в «Revue des deux Mondes», в первый раз были представлены на сцене петербургского французского театра (1842–1843) и уже потом в Париже на сцене Théâtre Français. В них нет почти никакого сценического действия; главное достоинство их заключается в том неуловимо тонком и изящном светском разговоре, который может быть понят и передан только такими образованными артистами, каковы г-жа Аллан, Плесси и г-н Аллан. Пьески эти имели и на петербургской и на парижской сцене успех блистательный» (Современник. 1848. № 12. С. 198–199). Жанр «драматических пословиц» получил в 40-50-х годах большое распространение в России и встретил решительное противодействие театральной критики. Больше всего усердствовал в борьбе с «пословицами» А. Григорьев, холодно отзывавшийся не только о многочисленных русских подражаниях Мюссе и Фелье, но и о пьесах Тургенева («Где тонко, там и рвется», «Провинциалка») и самого родоначальника жанра. А. Григорьев так описал «общие физические признаки» пословиц: «…сфера жизни в них берется по большей части великосветская, то есть в них действуют люди высшего тона, которые занимаются различными, нехитрым умам непонятными делами, или действуют иногда люди хотя и не большого света, но зато разочарованные: женские лица — тоже вообще развитые женщины, которые преимущественно занимаются тем, что называется технически игрою в чувство, делом хотя, конечно, и праздным, но дающим возможность выказывать различные натуральные, благоприобретенные и даже часто противуестественные свойства прекрасной и изящно развитой личности. <…> Главнейшая задача авторов подобных произведений — тонкость: тонкость чувствований, тонкость разговоров, тонкость стана героинь, тонкость голландского белья героев, — тонкость такая, что стан, того и гляди, переломится, — разговор как раз перейдет в нечто, простому здравому смыслу и невоспитанному чувству непонятное; чувства, того и жди, — совсем испарятся или улетучатся; тонкость голландского белья чуть что не ставится главным признаком достоинства человеческого. Кончаются тут дела обыкновенно сознанием героя и героини, что они могут позволить себе любить, или иногда трагически: герой и героиня расстаются „в безмолвном и гордом страданье“…» (Григорьев А. Литературная критика. M., 1967. С. 49–50).
28
…«Раканы» (название, конечно, выдуманное) — при виде Ракана в трех лицах. — Достоевский мистифицирует читателя, имея в виду конкретный литературный факт: пьесу H. В. Сушкова (1796–1871) «Раканы, или Трое вместо одного. Анекдот в лицах, в одном действии, в стихах» (Раут. 1 Литературный сборник в пользу Александрийского детского приюта. M., 1851; представлена в первый раз 4 октября 1850 г. в имп. Большом московском театре). Маркиз Ракан (Honorât Racan marquis de Bueil, 1589–1670) — французский поэт, наиболее известное его произведение — пасторали «Les bergeries», главным героем которых был пастух Тирсис. Анекдот о трех Раканах приводится в книге Таллемана де Рео (Tallemant des Réaux. Les historiettes): маркизе-девственнице Гурнэ поочередно являются, выдавая себя за Ракана, Этан де Бюей, Ивранд и, наконец, сам Ракан и благодарят за присланную Ракану книгу маркизы. В 1850 г. в Париже была играна комедия «Les Trois Racan».
29
…чистить сапоги г-ну Случевскому. — Стихи К. К. Случевского (1837–1904), опубликованные в «Современнике» и других журналах («Ходит ветер избочась…», «На кладбище», «Статуя», «Весталка», «Я видел свое погребенье…» и др.), вызвали много фельетонных насмешек и пародий (H. А. Добролюбова, H. Л. Ломана). Иронизировали и над статьей А. Григорьева «Беседы с Иваном Ивановичем» (I860), неумеренно восторженной по тону: в ней Случевский сравнивался с Лермонтовым. А. П. Сниткин разбирает статью Григорьева и стихи Случевского в двух фельетонах — в марте (Светоч. 1860. № 3) и в июне, замечая, что «иной раз, действительно, мы так похвалим и ободрим какого-нибудь даровитого юношу, что не поздоровится от этаких похвал. Аполлон Григорьев уж это доказал…» (Светоч. 1860. № 6. С. 53).
30
…имя им — легион. — См.: Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 30; Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 9.
31
…legion d'honneur'e… Орден Почетного легиона был учрежден в 1802 г. Наполеоном I. П. Мериме, о котором пойдет речь далее в статье, был командором (одна из высших степеней) этого ордена.
32
…ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю — драма «Le Faux Demetrius». — П. Мериме был знатоком и пропагандистом русской литературы во Франции. Он перевел на французский язык «Пиковую даму», «Цыган», «Выстрел» Пушкина, «Ревизора» и отрывки из «Мертвых душ» Гоголя. Автор статей о Пушкине и Гоголе, исторического исследования о Запорожской Сечи и Лжедмитрии. В 1862 г. П. Мериме избрали почетным членом Общества любителей русской словесности. Упоминаемая Достоевским пьеса П. Мериме явилась плодом увлечения писателя русской историей: «Le Faux Demetrius, scenes dramatiques» («Revue des deux Mondes. 1852, 15 dec. T. 16. P. 1001–1047). Сцены Мериме были опубликованы на русском языке в сопровождении статьи А. Зернина в 1858 г. (Зернин А. О самозванцах по поводу сочинения Проспера Мериме: «Episode de l'histoire de Russie — Les Faux— Démétrius» — Библиотека для чтения. 1858. T. 147. Отд. 3. С. I — 64). Достоевскому, который, по свидетельству Д. В. Аверкиева, хорошо знал Мериме (Аверкиев Д. В. «Дневник писателя», 1886. СПб., 1886. Вып. 1. С. 37), конечно, была известна полемика в русских газетах и журналах вокруг перевода Мериме «Пиковой дамы» и статьи о Гоголе. В 1877 г. Достоевский, сравнивая «Гузлу» и «Песни западных славян», так говорит о Мериме, совершенно в духе «Введения»: «Этот преталантливый французский писатель, впоследствии sénateur и чуть не родственник Наполеона III, теперь уже умерший, в этой «Gouzla» изобразил, под видом славян, конечно, лишь французов, да еще французов-то парижан; иначе они и не умеют: для настоящего француза, кроме Парижа, ничего на свете не существует» (XXV, 40).
33
…из «Марфы Посадницы» Карамзина. — Повесть H. M. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) для Достоевского такой же эталон псевдоисторической литературы, как «Фрол Силин» — псевдонародной.
34
…на самого Дюма, настоящего маркиза Davis la Pailletterie. — Отец А. Дюма был сыном чернокожей рабыни Сессеты Дюма и маркиза де ля Пайетри. Достоевский, вероятно, напоминает читателю скандальный судебный процесс А. Дюма с издателями Вероном и Жирарденом, подробно освещавшийся французской и русской прессой. Фельетонист «Современника» в «Современных заметках» (1847 Кн. 3. Отд. «Смесь») приводил слова Дюма из речи на процессе: «Я получил <…> орден Карла III, пожалованный не писателю, но человеку, мне, Александру Дюма Деви, маркизу де ла Паллетри, другу герцога Монпансье» — и иронически их комментировал: «Выходка громкая! И в самом деле, какая дерзость со стороны гг. Верона и Жирардена потребовать к суду маркиза де ла Паллетри, друга герцога Монпансье!».
35
…всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей… — Сен-Жером — гувернер в автобиографической трилогии Л. H. Толстого. О «гувернере с розгами» Достоевский писал в 1877 г, вспоминая гл. XIII–XVII «Отрочества» (Дневник писателя, январь, гл. II, 5, «Именинник»). Фамилия Мон-Ревеш навеяна романом Жорж Санд «Мон-Ревеш» («Mont Revêche», 1853). Первые две части романа печатались в приложении к «Современнику» (1853. № 9, 12); в следующем году роман был опубликован целиком. Мон-Ревеш — родовой замок героя романа — графа Флавиана де Сольж. В «Униженных и оскорбленных» Анна Андреевна Шумилова гордится тем, что получила образование «в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш…».
36
…хотя и посадили Понсара в Академию… — Ф. Понсар (Ponsard, 1814–1867) — французский драматург школы «здравого смысла». Наибольшую известность принесла ему пьеса «Честь и деньги» (L'Honneur et l'argent, 1853; рус. пер. К. Ушакова. 1857). Именно эта пьеса послужила главным основанием для избрания Понсара в 1855 г. во Французскую академию на место Баур-Лормана. Отношение Достоевского как к творчеству Понсара, так и к факту избрания его в Академию, откровенно ироническое. В. Дороватовская-Любимова считает, что в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский пародировал пьесу Понсара и другие сочинения «школы здравого смысла» (см.: Литературный критик. 1936. № 9. С. 208).
37
Вы до сих пор — из двух сословий: les boyards и les serfs. — Полемика Достоевского направлена против типичных суждений западных публицистов, видевших в России только два сословия: «бояр» и «крепостных».
38
Нет у нас галлов и франков… — Галлы, или кельты, — народность арийского происхождения; издавна населяли большую часть Центральной и Северо-Западной Европы. Франки — группа западногерманских племен. Достоевский имеет в виду образование государств в Западной Европе, в первую очередь франкского государства, и широко распространенную в России, особенно в кругах, близких к славянофилам, «теорию завоеваний» Огюстена Тьерри в его знаменитой книге «Рассказы из времен Меровингов».
39
, …нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек… — По избирательному закону июльской монархии во Франции устанавливался ценз в 200 франков прямых-налогов в год; только способным уплатить его предоставлялось избирательное право. Таких избранных во Франции было около 220 000 граждан. Достоевский, говоря о цензе, вероятнее всего, вспоминал «Письма из Франции и Италии» Герцена, его ненависть к Парижу, «стоящему за цене», и симпатии к Парижу, «стоящему за ценсом» (Герцен А. И. Собр. соч. M., 1955, T. 5. С. 29). По вопросу о цензе в 1861–1862 гг. развернулась дискуссия между И. С. Аксаковым и А. И. Кошелевым в еженедельнике «День» (1861. 23 дек. № 11; 1862. 10 февр. № 18;16 февр.№ 19; 24 февр. № 20; 17 марта. № 23). Дискуссию открыла статья И. Аксакова, отвергавшего ценз и идею ценза как западное явление, которое неуместно в современной пореформенной русской ситуации: «Под именем ценза разумеется в наше время на Западе — размер поземельного владения, или имущества вообще, или каких бы то ни было доходов, дающий человеку право участвовать в общественных делах своей страны посредством избрания представителей или в качестве представителя, — или же право принадлежать к известному сословию. Мы сказали: на Западе, но мы должны прибавить, что это западное начало существует и у нас, и именно в дворянском сословии: известно, что право голоса на дворянских выборах дается, на основании закона, определенным числом душ, принадлежащих помещику на крепостном праве. Теперь крепостного права уже не существует, и — вот почему мы утверждаем, что вопрос о цензе весьма важен в настоящую минуту…» (День. 1861. 23 дек. № 11. С. 1). А. И. Кошелев возражал Аксакову, утверждая, что ценз не может быть отнесен к исключительно западным началам, так как существовал в России с древних времен. Кошелев, не находя в идее ценза ничего ненормального и предосудительного, занял в этом вопросе несравненно более четкую и ясную классовую позицию в сравнении с демагогическим и расплывчатым выступлением Аксакова, в конечном счете вылившимся в банальное славянофильское осуждение cens electoral <избирательный ценз (франц.)> во Франции и Англии и suffrage universel <всеобщее избирательное право (франц.)>. Достоевский, развивая концепцию коренной противоположности России и Запада, шел в данном вопросе дальше славянофилов, отрицая вообще существование ценза в России.
40
Наука, конечно, вечна — народного характера. — Отклик Достоевского на полемику между западниками и славянофилами 50-х годов о народности в науке. Достоевский формулирует здесь среднюю, «нейтральную» точку зрения, с одной стороны, соглашаясь с мнением Ю. Ф. Самарина («Народность есть существенное условие успешного развития науки и движения науки вперед»), но, с другой стороны, в западническом духе подчеркивает «вечность и незыблемость» законов науки для всех.
41
Он заслюжиль розга и полючит розга!.. — Достоевский имеет в виду повторение Федором Карлычем, управителем имения Буеракина, одних и тех же слов.
42
Одной только насмешки над умом своим он не снесет… — Cp. у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — а только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим» (Гоголь H. В. Полн. собр. соч. Л., 1952. T. 8. С. 413).
43
…ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе… — Речь идет, вероятно, об А. А. Краевском, карьера которого послужила основой для фельетона И. И. Панаева «Очерк петербургского литературного промышленника» (Современник. 1857. № 12).
44
Англичанин смеется над своим соседом — на национальные его особенности. — Достоевский в своих суждениях опирается на мнения об английских туристах, бытовавшие в русской литературе и журналистике.
45
…во времена Жанны д'Арк или крестовых походов? — Жанна д'Арк (Jeanne D'Arc, 1412–1431) — национальная героиня Франции, сожженная 12 мая 1431 г. в Руане по приговору духовного суда в период Столетней войны между Англией и Францией. Достоевский в статье о Жорж Санд (Дневник писателя. 1876. Июнь. Гл. 1. § 2) называет ее роман «Жанна» «произведением уже гениальным, представляющим собою светлое и, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса о Жанне д'Арк. В современной крестьянской девушке она вдруг воскрешает перед нами образ исторической Жанны д'Арк и наглядно оправдывает действительную возможность этого величавого и чудесного исторического явления…» (XXIII, 35). Достоевский, напоминая известные исторические эпизоды соперничества Франции и Англии, отвергает возможность истолкования их как случайных внешних событий; причину взаимного недоверия он склонен видеть в коренной противоположности двух национальных типов культуры, «в крови, в целом духе обоих народов».
46
Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию? — Видимо, Достоевский имел в виду «Записку о древней и новой истории России» H. M. Карамзина.
47
Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем — богатырскую силу. — Достоевский имеет в виду запись M. Ю. Лермонтова в альбоме В. Ф. Одоевского (1841): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел <…> и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать <…> Такова Россия». Это высказывание Лермонтова было широко известно уже в 40-х годах: впервые черновой набросок был опубликован в «Отечественных записках» (1844. T. 32) с некоторыми изменениями: опущены слова «У России нет прошедшего», а вместо слов «она вся в настоящем и будущем» напечатано: «Россия вся в будущем». Словами поэта «Россия вся в будущем» заканчивает А. П. Милюков «Очерк истории русской поэзии» (1847 г.; 2-е изд. — 1858).
48
…рассказы Толстого… — Достоевский говорит о кавказских и севастопольских рассказах Л. H. Толстого, напечатанных в журнале «Современник» в 1853–1856 гг., опираясь на почти единодушное мнение о них русской критики.
49
Мы набросились на одного Жорж-Занда — зачитались! — Признание автобиографическое. О необыкновенной популярности романов Жорж Санд Достоевский рассказывал в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе». (XXIII, 33)
50
Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным — на 61 год. Объявление об «Отечественных записках» было подписано: «Редакторы и издатели А. Краевский, С. Дудышкин». Эти же имена значились и на обложке журнала. Пресса встретила «повышение» в должности Дудышкина и известие о будущих литературных занятиях А. Краевского «свистом» и насмешками. H. Г. Чернышевский издевался в «Полемических красотах»: «Отделом критики заведуют в „Отечественных записках“ г-да Дудышкин и Краевский. О миросозерцании г-на Краевского я не буду говорить, потому что считаю это напрасным. Я буду говорить только о г-не Дудышкине, или, точнее выражаясь, для г-на Дудышкина. Мне очень понятны были многие совершавшиеся на страницах „Отечественных записок“ странности в прежние времена, лет за пять и за шесть, когда на обертке журнала выставлялось имя одного только г-на Краевского. Начав после четырех или пяти лет, в которые не читал я русских журналов, пересматривать „Отечественные записки“ за нынешний год, я уже не умею объяснить себе этих странностей, потому что на обертке журнала читаю: „Издаваемый А. Краевским и С. Дудышкиным“» (Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч. M., 1950. T. 7. С. 751). И. Панаев в «Свистке» иронизировал: «В старые годы думали, что все критические статьи пишет сам Андрей Александрович <…> Необходимы подписи под статьями. Нам приятно будет познакомиться с критическим дарованием г-на Краевского, а без подписей это невозможно. — Сколько подписчиков будет у г-на Краевского, когда появятся на обертке статьи с его подписью <…> Любопытно, в высшей степени любопытно!!» («На рубеже старого и нового года. Грезы и видения Нового Поэта». — Современник. 1861. № 1, «Свисток». С. 25). «Разве не скандал само объявление об издании „Отеч<ественных> за<писок>“ в будущем году?», — восклицал Посторонний критик во «Времени» («Письмо Постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“» — XXVII, 131). Достоевский многократно зло и полемично затрагивает объявление «Отечественных записок» о подписке на 1861 г. в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве», а также в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе».
Жорж Санд упоминается в объявлении «Отечественных записок» в кратком очерке истории журнала: «Тогда же (в 40-х годах. — В. T.) „Отечественные записки“ познакомили русскую публику с Жоржем Сандом».
51
От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. — Достоевский, как известно, был в глазах критики 1840-1850-х годов одним из виднейших представителей так называемой «натуральной школы», А. Григорьев ставил его даже во главе направления — школы сентиментального натурализма. Слова Достоевского скорее всего — полемический выпад против славянофильских пренебрежительных оценок натуральной школы — К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и др. Ю. Ф. Самарин в статье «О мнениях „Современника“ исторических и литературных» (Москвитянин, 1847, № 2), в частности, пророчил: «Не поддержанная ни одним сильным талантом, она (натуральная школа. — В. T.) должна исчезнуть так же скоро и случайно, как она возникла, как составлялись и исчезали на нашей памяти многие литературные кружки».
52
Господин надворный советник Щедрин… — На обложке и титульном листке «Губернских очерков» (M., 1857) было обозначено: «Губернские очерки. Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал M. E. Салтыков». Надворный советник — в табели о рангах — гражданский чин седьмого класса.
53
Он постиг назначение поручика Пирогова… — Герой повести «Невский проспект» (1835) Пирогов, по мнению Достоевского, один из вечных типов, созданных гением Гоголя. «Поручик Пирогов, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. (гл. XV, «Нечто о вранье»), — сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь!» (XXI, 124).
54
он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. — Повесть Гоголя «Шинель» (1842) оказала огромное влияние на формирование художественного метода Достоевского, особенно значительное в Первом произведении писателя — «Бедные люди».
55
Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика… — Эпизодическое лицо в «Мертвых душах»: о его приезде в город NN и помещении в шестнадцатом номере гостиницы сообщается в главе пятой; в главе седьмой ему уделено еще несколько строк.
56
Ему стоило указать на них пальцем — как называются. — Образ навеян повестью Гоголя „Вий“ (1835).
57
…сам г-н — бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. — Достоевский имеет в виду слова H. А. Добролюбова в статье «Стихотворения Ивана Никитина» (1860): «Читая такое стихотворение, так и припоминаешь себе альбомные побрякушки: „Я вас любил, любовь еще быть может…“, или „Нет, нет, не должен я, не смею, не могу“ и т. п.» (Добролюбов H. А. Собр. соч. Л., 1963. T. 6. С. 170). Добролюбов к «альбомному» роду поэзии относился пренебрежительно, принципиально отвергая любые стихи в этом роде поэзии, кому бы они ни принадлежали. В статье «Стихотворения Л. Мея» (1857) он так объяснял свою позицию: «Собственные произведения г-на Мея относятся более к разряду альбомных и могут быть интересны единственно для тех, кого они касаются» (Там же. Л., 1961. T. 2. С. 162). Отнесение Добролюбовым к разряду «альбомных побрякушек» лирических шедевров Пушкина вызвало отповедь «Времени». А. Григорьев возражал Добролюбову в статье «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности»: «Мы <…> огорчаемся до глубины души, когда альбомными побрякушками называют вещи Пушкина, которыми все мы некогда душевно жили и доселе еще жить способны: а ведь огорчения кровь портят!» (Время. 1861. № 3. С. 41). С нигилистической оценкой творчества Пушкина Добролюбовым Достоевский резко полемизирует также в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве».
58
Он любил нашептывать странные сказки — которое она получила. — Речь идет о «Сказке для детей» (1840) M. Ю. Лермонтова.
59
Он рассказывал нам свою жизнь — не то смеется над нами. — Достоевский, как и многие современники, рассматривал творчество Лермонтова преимущественно в автобиографическом аспекте, видя в главных героях «байронических» поэм, «Штосса» и «Героя нашего времени» отражение биографии и образа мыслей их творца. Ему были хорошо известны воспоминания E. П. Ростопчиной, писавшей о том, как Лермонтов „забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом покидать и оставлять в тщетном ожидании, другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность“ (M. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. M., 1964. С. 288). Эти слова Ростопчиной находят опору в отношении к женщинам Лугина — героя незаконченной повести «Штосе», чтение которой Лермонтов превратил в мистификационно-театральное представление, согласно тем же воспоминаниям (там же. С. 291).
60
Наши чиновники знали его наизусть — из департамента. — По мнению В. И. Левина, в этих словах уже заключена одна из главных тем «Записок из подполья» (Левин В. И. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз 1972. № 2 С. 156). Достоевский развивает тему вырождения печоринства и мефистофельства на различных человеческих судьбах, продемонстрированную Салтыковым-Щедриным в «Губернских очерках» (раздел «Талантливые натуры»).
61
…«насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом»… — Цитата из «Думы» (1838) Лермонтова.
62
И над вершинами Кавказа / Изгнанник рая пролетал — Цитата из «Демона» (1841) Лермонтова.
63
…он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. — Лермонтов был убит на дуэли с H. С. Мартыновым 15 (27) июля 1841 г. недалеко от Пятигорска, на склоне горы Машук. О дуэли долгое время было запрещено писать (впервые печатно о гибели Лермонтова на дуэли было сообщено в мемуарах 1858 г. A. M. Меринского), что, естественно, создало благодатную почву для различных легенд и слухов, оказавших влияние и на мнение Достоевского о причинах и обстановке смерти поэта. Почти те же слова Достоевский употребляет в статье «Книжность и грамотность», говоря о «глупой, смешной, ненужной» смерти Печорина.
64
…господин Ламанский среди всего Пассажа — не созрели. — Граф Эссен Стенбок-Фермор, купив два смежных дома на Невском проспекте, построил на их месте по проекту К. А. Желязевича Пассаж, открытый 9 мая 1848 г. Здесь были торговые ряды, кондитерские, «кабинет восковых фигур», панорама. В концертном зале устраивались музыкальные вечера, пел хор цыган. Пассаж — место проведения лекций, общественных диспутов, литературно-художественных вечеров. В 1900-х годах Пассаж перестроили по проекту H. П. Козлова: был надстроен третий этаж, появились колонны у главного входа, реконструировали театральный зал.
13 декабря 1859 г. в зале Пассажа состоялся публичный диспут о деятельности акционерного общества «Русское пароходство и торговля». Интересы правления общества защищал Смирнов: H. П. Перозио выступал обличителем, и на его стороне было большинство публики; специалист по финансовым вопросам E. И. Ламанский исполнял обязанности супер-арбитра. Ламанский закрыл диспут словами, получившими широкое распространение и вызвавшими многочисленные насмешки в печати: «Мы еще не созрели для публичных споров».
65
Господин Погодин — мы совершенно созрели. — Диспут M. П. Погодина, сторонника норманнской теории происхождения государства, и ее противника — H. И. Костомарова при большом стечении публики состоялся 19 марта 1860 г. Л. Ф. Пантелеев так описывал окончание диспута: «Погодин же в заключительном слове сказал между прочим: «Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных прений». Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли из залы на руках» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. M., 1958. С. 233). Диспут и слова M. П. Погодина породили большое число пародий и фельетонов во многих петербургских журналах и газетах, в том числе в «Светоче», «Современнике», «Времени», «Искре».
66
Помним мы появление г-на Щедрина — что и сосчитать нельзя было… — «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина были опубликованы в «Русском вестнике» (1856. № 8-12), а в начале 1857 г. вышли отдельным изданием. «Губернские очерки» — первое по значению и общественному резонансу культурное событие второй половины 50-х годов, ознаменовавшее начало новой эры русской жизни и открывшее так называемый жанр «обличительной» литературы. Критика была почти единодушна в высокой оценке «Губернских очерков» как яркого общественно-политического явления, хотя далеко не все признавали их значительными с художественной точки зрения. В необозримой критической литературе, вызванной «Губернскими очерками», резко выделяются глубиной оценки статьи Чернышевского, Добролюбова и отдельные, разбросанные по разным статьям высказывания Достоевского. «Губернские очерки» способствовали стремительному возвышению «Русского вестника» M. H. Каткова и росту подписчиков на журнал. H. А. Мельгунов писал А И. Герцену 28 февраля 1857 г.: «…Успех „Русского вестника“ невероятный, небывалый. В середине января у «Современника» было около 3 000 подписчиков, у „Русского вестника“ — 4 500! Но знаешь ли отчего? По милости Щедрина (провинциальные очерки), Чичерина, Павлова, Бабста, Корша (его обозрения) и пр.» (Литературное наследство. M., 1955. T. 62. С. 346).
67
…почтенный журнал — о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. — M. H. Катков, И. Ю. Юматов, В. К. Ржевский, Б. И. Утин, M. С. Степанов и другие публицисты «Русского вестника» ратовали за введение в России английских учреждений и порядков, что дало основание противникам Каткова для упреков его журналу в англоманстве, к которым с большой энергией присоединился и журнал «Время»: редкое выступление Ф. M. Достоевского обходилось в 1861–1863 гг. без саркастических замечаний об «англомане» M. H. Каткове, достигнув кульминации в статье «Щекотливый вопрос». Не менее излюбленная тема «Русского вестника» — политические события в Италии, в интерпретации которых наглядно выразились симпатии руководителей журнала, настойчиво рекламировавшего консервативный курс государственного деятеля тогдашней Италии К. Б. Кавура (1810–1861) Противоположной точки зрения придерживался «Современник»: Чернышевский в отделе «Политика» (1859–1861 гг) и статье «Граф Кавур».(1861); Добролюбов — в статьях «Два графа» (1860), «Из Турина» (1861), «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861) Достоевский разделял иронически-отрицательное отношение Добролюбова и Чернышевского к Кавуру, не одобряя, правда, тона выступлений «Современника»: «Если кто с вами согласен, что Кавур был человек довольно дюжинный, так это мы. Если кто мог негодовать тоже вместе с вами, что такая дюжинная душа властвует над всеми, вопреки гениальным, из умения воровски пользоваться гениальными мыслями, так это мы. Но вы уж слишком размахались» (XX, 154–155). Так же негативно оценивал Достоевский, и вообще «Время», публицистику «Русского вестника» по крестьянскому вопросу, продолжая полемику журнала «Светоч», наиболее последовательно изложенную в статье А. П. Милюкова «Заключительное слово „Русской беседы“» (Светоч. 1860. № 2. С. 1–29).
68
…О Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах… — Достоевский перечисляет героев и социальные типы в «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина. Живоглот — исправник Иван Демьяныч Маремьянкин в уездном городе Черноборске, прозванный так за чудовищный аппетит (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч. M., 1965. T. 2. С. 40). Живоглот действует или упоминается в очерках «Неприятное посещение», «Приятное семейство», «Первый шаг». Порфирии Петрович — один из чиновничьих столпов Крутогорска, «человек, казенных денег не расточающий, свои сберегающий, чужих не желающий» (там же. С. 74). Помимо специально отведенного ему очерка «Порфирии Петрович», он фигурирует во «Введении», «Общей картине», «Неумелых», «Дороге», а также в рассказе «Жених» (1857; см. там же. T. 4. С. 5–64) О Живновском — «преемнике» гоголевского Ноздрева и предтече капитана Лебядкина — см.: «Обманутый подпоручик», «Общая картина», «Просители», «Дорога». Помимо «Губернских очерков», Живновский действует в двух отрывках из «Книги об умирающих» (1858; см. там же. С. 180–188), в «Сатирах в прозе», «Невинных рассказах», «В среде умеренности и аккуратности». «Озорник» — самый острый очерк цикла, предвещающий будущую манеру сатирика; озорник — символическая фигура консерватора, отрекающегося от прежних либеральных увлечений молодости, отстаивающего «всеобщий и энергический» принцип чистой творческой администрации. «Талантливые натуры» — так в «Губернских очерках» озаглавлен раздел о провинциальных Печориных и Мефистофелях — Корепанове, Лузгине, Буеракине, Горехвастове. Именно этому разделу посвятил большую часть статьи о цикле H. А. Добролюбов.
69
…едва только оставил — Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина… — Пальмира — город в оазисе Сирийской пустыни, славившийся роскошью, богатством и архитектурными памятниками. Как утверждает Д. В. Григорович, название Петербурга «Северная Пальмира» современники соединяли с именем Ф. В. Булгарина, часто пользовавшегося им в «Северной пчеле» (Григорович Д. В. Полн. собр. соч. СПб., 1884. T. 9. С. 74). «Пальмирой Севера» Петербург называли и раньше Булгарина — еще с середины XVIII в. В журналистике 1840–1860 гг. выражение «Северная Пальмира» чаще всего употребляется иронически.
70
…Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна… — Речь идет о тех очерках Салтыкова-Щедрина, в которых выведены поэтические народные типы, как «смирные», так и «хищные», — «Общая картина», «Христос воскрес!», «Аринушка», «Старец», «Матушка Мавра Кузьмовна». Крутогорская кормилица — купчиха Палагея Ивановна, самое поэтическое лицо «Губернских очерков», олицетворение подлинной человечности и истинного христианства; ее сердечной «благотворительности» автор противопоставляет игру в благотворительность крутогорской Антигоны, княжны Анны Львовны. К образу крутогорской «матушки» и «кормилицы» Салтыков-Щедрин обратился также в рассказе «Добрая душа» (1868), где она, правда, носит другое имя — Анны Марковны Главщиковой. «Матушка Мавра Кузьмовна» — повесть о раскольничьем быте, вошедшая в состав «Губернских очерков». Выделил повесть и ведущий литературный критик «Времени» А. Григорьев в статье «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы»: «..Даровитый и добросовестный Щедрин повел было полемически рассказ о Марфе Кузьмовне и других прикосновенных к ее делу лицах <…> а закончил рассказ, может быть, помимо воли своей и желания вовсе уж не комически» (Время. 1861. № 3. С. 14).
71
…громко звякнула лира Розенгейма… — M. П. Розенгейм (1820–1887) — поэт и журналист, получил известность многословными и тяжеловесными «обличительными» стихами, в основном вошедшими в цикл «Русские элегии» (Розенгейм M. П. Стихотворения. СПб., 1858). Как характерного представителя умеренно-либеральной обличительной литературы Розенгейма жестоко высмеял в своих статьях и пародиях H. А. Добролюбов.
72
…раздался густой и солидный голос г-на Громеки… — С. С. Громека (1823–1877) — либеральный публицист, служил жандармом до появления своих знаменитых сенсационных статей о злоупотреблениях полиции: «Два слова о полиции», «Пределы полицейской власти», «Полицейское делопроизводство», «О полиции вне полиции», «Последнее слово о полиции» (Рус. вести. 1857–1859) — эти статьи и имеет в виду Достоевский, одновременно намекая на жандармское прошлое Громеки. После 1863 г. Громека вернулся к государственной деятельности: с 1864 г. он седлецкий губернатор в Польше. Достоевский в статье «„Свисток“ и „Русский вестник“» (Время. 1861. № 3) вновь вспомнил Громеку и отрадное впечатление, впервые произведенное его статьями, со временем сильно потускневшими, как и другие надежды конца 50-х годов: «Я читал статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием <…> без нравственного очищения, без внутреннего развития, — никакие специальности, ни Пальмерстоны, ни Громеки, ни даже обличители посыпанья песком, не войдут настоящим образом в наше сознание: конечно, и они тоже способствуют нравственному развитию, даже очень; но вместе с этим не мешает и чего-нибудь посимпатичнее…»
73
…мелькнули братья Милеанты… — Третьестепенные публицисты 60-х годов В. и E. Милеанты были «прославлены» статьей Добролюбова «Письмо из провинции» (Современник. 1859. № 1). История неожиданного возвышения братьев Милеантов такова. В «Иллюстрации» появилась антисемитская статья П. Я. Шпилевского (псевдоним «Знакомый человек») «Западнорусские жиды и их современное положение» (1858, № 35), вызвавшая волну протестов в печати. Один из протестов появился в «Русском вестнике» (1858, № 11), подписанный 150 лицами, среди них, писал Добролюбов, было много таких, о которых публика не имеет никакого представления, в том числе и «сами г-да Милеанты (В. Милеант и E. Милеант)» (Добролюбов H. А. Собр. соч. Л., 1963. T. 7. С. 332–333). M. А. Антонович, вспоминая яротест в «Русском вестнике» и статью Добролюбова, писал, что «было, по крайней мере, 77 подписей лиц, не только не составлявших гордости литературы, но совсем никому не известных, посчитавших за честь стоять рядом с гордостными именами и рассчитывавших приобрести этим путем известность и себе, чего некоторые из них и добились, например, два брата — В. Милеант и E. Милеант, действительно получившие большую российскую известность и даже воспетые в стихах» (Шестидесятые годы в воспоминаниях M. Антоновича и Г. Елисеева. Л., 1933. С. 63). Братьев Милеантов Добролюбов также упоминал в «Нашем демоне (будущее стихотворение)» (1859) и «Новом назначении „Свистка“» (1860, опубл. 1862).
74
…закишели бессчетные иксы и зеты… — Речь идет о так называемой «алгебраической» или «алфавитной» гласности, о которой Добролюбов с сарказмом писал: «Под рассказом обыкновенно подписано; какой-нибудь зет или икс, а чаще и ничего не подписано; местность не обозначена; к кому голос относится, неизвестно. Я долго ломал себе голову, чтобы узнать, о чем хлопочут восторженные рассказчики, и наконец остановился на предположении, которое на первый раз может вам показаться странным, но которое не лишено своей доли правдоподобия. Я полагаю, что все безыменные известия в наших газетах сочиняет один какой-нибудь шалун, желающий подурачить вас, господ редакторов» (Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 7. С. 349). «Алгебраическую» гласность высмеивает Достоевский в статье «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (1863 г.).
75
О, не думайте, г-да европейцы — но об Островском потом. — Эти слова об A. H. Островском, как следует из текста «Введения», прямо отсылают читателя к статье M. M. Достоевского о «Грозе» (Светоч. 1860. № 3. С. 1–37)
76
…пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. — В октябрьской книжке «Отечественных записок» (1860) появилась статья П. И. Вейнберга под псевдонимом «Непризнанный поэт» — «Литература скандалов» (Отеч. зап. 1860. № 10. С. 29–39) об издании Сочинений Ивана Панаева (СПб., 1860) и «Очерков из петербургской жизни Нового Поэта» с послесловием редакции Статья Вейнберга в первом номере «Времени» за 1861 г. упоминается также в «Письме Постороннего критика…» (Отд. II. С. 47). Ироническая реплика Достоевского в основном направлена против редакционного послесловия (Отеч. зап С. 37–39).
77
…«оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов… — Достоевский цитирует стихотворение Добролюбова «Наш демон (будущее стихотворение)» (1859). У Добролюбова:
(Добролюбов H. А. Собр. соч. Л., 1963. T. 7 С. 348)
78
Это все от здоровья, это все молодые соки — хорошие признаки!.. — Достоевский полемизирует с редакционным послесловием к статье П. И. Вейнберга «Литература скандалов»: «…люди более отважные, нежели знающие, более молодые, нежели талантливые, схватились за насмешку над наукою и литературою, которые как бы ни были ограничены своим объемом у нас, все-таки стоят недосягаемо выше тех насмешек, которыми их потчуют. Началось насмешками над историей, над литературой, над политической экономией и публицистами Запада в то время, когда мы, по нашим познаниям, были пигмеи перед этими авторитетами, и кончилось свистом, без всяких рассуждений, над лицами, трудившимися над историей, литературой и политическими науками. <…> Наше общество молодо в литературном деле до степени невероятной, хотя оно в этом нисколько не виновато» (Отеч. зап. 1860. № 10. С. 38). Достоевский в «молодости» общества как раз и видит одно из главных его преимуществ и к тому же весьма сочувствует литературному «свисту», особенно когда он задевает руководителей «Отечественных записок» и «Русского вестника».
79
Известен факт, что грамотное простонародие — и не обрежутся. — Достоевский полемизирует со статьями В. И. Даля (1801–1872) «Письмо к издателю» (Рус. беседа. 1856. Кн. 3. «Смесь»), «О грамотности» (СПб. ведомости. 1857. № 245); И. С. Беллюстина (1820–1890) «Теория и опыт» (Журнал Мин-ва народного просвещения. 1860. Кн. 10), в которых говорилось о вреде грамотности для простонародья, а также — с органами печати, поддерживавшими такую ретроградную точку зрения («Выписка из письма по поводу статей В. И. Даля» — Сев. пчела. 1857 № 278). Достоевский отталкивается непосредственно от следующего сравнения Даля: «Нож и топор — вещи необходимые; а между тем сколько было зла от ножа и топора». Выступления Даля и Беллюстина против грамотности вызвали почти единодушную отрицательную реакцию общества и прессы.
80
Мы расскажем вам это так — над острожною жизнию. — Прямое указание Достоевского на личный каторжный опыт, дающий ему право не только «теоретически» не согласиться с мнением Даля. Достоевский возражает Далю и в «Записках из Мертвого дома».
81
Взгляните на так называемых начетчиков — своих единоверцев. — Эти (и ниже) суждения Достоевского о раскольниках также основаны на личных наблюдениях писателя, а также возможно, навеяны «Старцем» и «Матушкой Маврой Кузьмовной» Салтыкова-Щедрина. Раскол Достоевский оценивает как явление огромной, первостепенной значительности, свидетельствующее о неисчерпаемых силах, таящихся в народной массе. Точка зрения Достоевского одинаково далека от официальной антираскольничьей пропаганды и идеалистических воззрений на староверцев. «Время» уделяло расколу и религиозным сектам исключительное внимание; в журнале было напечатано несколько больших рецензий на литературу о старообрядчестве и радикальная по политическому смыслу статья А. Ф. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» (Время. 1862. № 10, 11).
82
…появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч. — Иван Яковлевич Корейша (1780–1861) — московский юродивый. Его имя часто мелькало на страницах журналов и газет 60-х годов, особенно после выхода книги И. Г. Прыжова «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» (СПб., 1860). Литературным Иваном Яковлевичем тогда нередко называли издателя «Домашней беседы» В. И. Аскоченского. Марфушу-юродивую также наряду с Корейшей упоминали в прессе, сравнивая со знаменитой французской гадалкой Ленорман. Иронически о девятнадцатом столетии — веке «Ивана Яковлевича и Марфуши» — писал Л. П. Блюммер в статье «Опыт окончания истории русской словесности г-на Шевырева» (Светоч. 1861. № 1. С. 53). О популярности Марфуши свидетельствует «Светоч», упоминающий о ней в «Хронике событий в России» как о прямой предшественнице Ивана Яковлевича: «Давно ли еще в Петербурге здравствовала известная Марфуша, к которой ездили на поклон не только супруги апраксинских торговцев, но и прекрасная половина гостинодворской аристократии и даже барышни, воспитанные в разных учебных заведениях на французском и немецком языке» (Светоч. 1860. № 6. С. 33). Корейша послужил прототипом юродивого Семена Яковлевича в романе «Бесы».
83
Взгляните на воскресные школы. — Воскресные школы возникли в 1859 г. в Киеве по инициативе профессора П. В. Павлова и H. И. Пирогова и затем стали быстро распространяться по всей России. Обучались в них главным образом солдаты и рабочие, обучали безвозмездно студенты, офицеры, чиновники, писатели 1860 год был самым горячим временем в жизни воскресных школ в Петербурге, возникавших одна за другой в разных частях города: к 1 января 1861 г. было открыто до двадцати школ. Основными принципами воскресных школ были «бесплатное обучение, бесплатность преподавательского труда, одинаковые права всех учащихся». Решительным сторонником воскресных школ был «Светоч». «Время» полностью унаследовало от него эту традицию и давало обширную доброжелательную информацию об этом культурном движении большого масштаба, продемонстрировавшего в равной степени энтузиазм интеллигенции и тягу народа к просвещению. Но у воскресных школ были и серьезные, облеченные властью противники. Уже 30 декабря 1860 г. министр народного просвещения (по указанию шефа жандармов) подписал циркуляр, вводивший строгое наблюдение за деятельностью воскресных школ, студенческая история и петербургские пожары подготовили почву для распоряжения Александра II о закрытии воскресных школ (июнь 1862); они были разрешены снова в 1864 г., но поставлены под строгий контроль духовенства и полиции.
84
…народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. — А. И Герцен — в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXX, «Не наши»). Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. (февраль, гл. I, § 2) развивает эту же мысль, оказавшуюся столь же справедливой и 15 лет спустя: «…народ для нас всех — всё еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представляли. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех» (XXII, 44).
85
..кто-то удостоверял — берем на себя примирение цивилизации с народным начало. — Речь идет об отклике И. Панаева (Современник. 1860, № 10) на «Объявление о подписке на журнал „Время“ на 1861 год».
86
…но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. — Речь идет о басне Эзопа «Борей и Солнце». Мораль басни: цели нужно достигать мягкостью и убеждением, а не силой.
87
…некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах… — Как видно из следующих статей Достоевского, здесь имеются в виду статьи Добролюбова «Стихотворения Никитина» (1860) и Дудышкина «Пушкин — народный поэт».
88
Мы помним — появление в «Отечественных записках» статьи г-на Дудышкина о Фонвизине. — Белинский перешел из «Отечественных записок» в «Современник» в конце 1846 г. О переходе сообщил в печати Булгарин (Сев. пчела. 1846. 5 окт. № 224). Краевский ответил на его фельетон брошюрой «Объяснение по нелитературному делу», вызвавшей новое выступление Булгарина. Он приглашал «бывших сотрудников „Отечественных записок“» высказаться о брошюре, сильно принижавшей роль Белинского в журнале (Там же. 6 ноября. № 251). 8 ноября «Северная пчела» опубликовала объявление о подписке на «Современник»; в тот же месяц вышла листовка Белинского, Некрасова и Панаева «По поводу нелитературного объяснения». В ней о деятельности Белинского в журнале было сказано: «Г-н Белинский принимал в «Отечественных записках» самое деятельное участие в продолжение почти семи лет; отделы критики и библиографии этого журнала преимущественно наполнялись его трудами, начиная с восьмой книжки 1839 г. и до четвертой нынешнего, когда он решительно отказался от всякого участия в журнале г-на Краевского. Но, извещая об этом, для большей ясности следовало бы прибавить, что одиннадцатая и последняя статья г-на Белинского «О сочинениях Пушкина», доставленная в редакцию еще в апреле, напечатана в октябрьской книжке и что статья эта последняя, писанная им для «Отечественных записок» (Некрасов H. А. Собр. соч. M., 1953. T. 12. С. 33–34).
Достоевский в 1846 г. был близок к Белинскому и рано узнал о его намерении уйти из журнала Краевского. «Белинский оставляет „Отечественные записки“», — писал он в апреле 1846 г. M. M. Достоевскому. Хорошо была известна Достоевскому история перехода Белинского в «Современник», о чем свидетельствуют его письма к брату от 26 ноября и 17 декабря 1846 г. С. С. Дудышкин, литературный критик и журналист, после ухода Белинского из «Отечественных записок» и смерти В. Майкова в 1846 г. становится ведущим критиком «Отечественных записок». Статьи его были хорошо приняты современниками. И. А. Гончаров сообщал в письме от 25 октября (6 ноября) 1847 г. к Ю. Д. Ефремовой «Степан Семенович Дудышкин начинает входить в моду умные и дельные его статьи в «Отечественных записках» и частию в «Современнике» замечены и расхвалены всеми умными и дельными людьми» (Гончаров И. А. Собр. соч. M., 1955. T. 8. С. 238). Среди «умных и дельных людей» был и В. Г. Белинский. Он в письме к В. П. Боткину от 4–8 ноября 1847 г. выделил Дудышкина как самого способного из начинающих критиков: «Есть в Питере некто г-н Дудышкин, чиновник, кончивший курс в Петербургском университете. Ему лет 30 <…> Покойник Майков убедил его, что он может писать, и заставил писать в „Отечественные записки“, — и что же, этот Дудышкин дебютировал статьею о Фонвизине, которая, по моему мнению, просто превосходна. <…> Я пришел от нее в восторг <…> я читаю в „Отечественных записках“ статью на книжку Григорьева о еврейских сектах. Статья прекрасная, фактов в ней больше, чем в книжке, и есть взгляд, которого нет в книжке. Чья эта статья? Да все Дудышкина же <…> Читаю в 8 № „Отечественных записок“ статью о французской литературе — статья дельная; чья? — Все Дудышкина же. Понравились мне в „Отечественных записках“ две или три рецензии, чьи? — Дудышкина» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. M., 1965. T. 12. С. 407). Столь же лестно отозвался Белинский о работах Дудышкина «Сочинения Фонвизина» и «„Еврейские религиозные секты в России“ г-на Григорьева» во «Взгляде на русскую литературу 1847 года»: «В статьях г-на Дудышкина видно знание дела, он хорошо пользуется историческим изучением развития, чтобы объяснить им литературные произведения данной эпохи. Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в длинноте и многословии, иногда в такой статье почти ничего не говорится о книге, на которую она написана, но насказано много иногда и хорошего, но всегда некстати о предметах, вовсе чуждых разбираемой книге. Г-н Дудышкин умел избежать этих недостатков, видно, что он взялся за дело с готовым уже содержанием в голове <….> и потому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пишет» (Там же. M., 1956. T. 10. С. 355) Достоевский вслед за Белинским, как бы ссылаясь на мнение критика, называет статью о Фонвизине «довольно дельной».
89
…Валериан Николаич Майков, брат — Аполлона Николаича Майкова. — В. H. Майков (1823–1847) — литературный критик и социолог, сотрудник «Отечественных записок» с 1846 г., автор статей, в которых первые произведения Достоевского «Бедные люди», «Двойник» и др. нашли глубокую и вместе с тем во многом отличную от разборов Белинского оценку (см… I, 476, 492–493) Достоевский был хорошо знаком с В. H. Майковым в 1846–1847 гг., неоднократно посещал кружок Майковых, весьма близкий по настроению к кругу идей и обществу Петрашевского: большинство участников его (В. и А. Майковы, Достоевский Салтыков, Плещеев, Вл. Милютин) были и посетителями «пятниц» Петрашевского. По всей видимости, Достоевский и с петрашевцами сблизился во многом благодаря Плещееву и В. H. Майкову. После ухода Белинского из «Отечественных записок» В. H. Майков стал ведущим критиком журнала, но тяготился зависимостью от Краевского и уже в середине апреля выражает желание перейти в «Современник». Многие видели в Майкове преемника Белинского, но 15 июля 1847 г он скоропостижно умер. A. H. Майков (1821–1897) — поэт, брат В. H. Майкова. Достоевский познакомился с ним еще в 40-х годах, знакомство перешло в дружбу, продолжавшуюся вплоть до смерти Ф. M. Достоевского.
90
…слова о Жорже Занде в объявлении «Отечественных записок» — верх совершенства… — В объявлении «Отечественных записок» имя Жорж Санд было упомянуто в связи с общей деятельностью журнала в 40-х годах: «Общественные вопросы, явившись в нашей литературе еще в сороковых годах, были тогда же встречены в «Отечественных записках» с полным сочувствием. Стоит просмотреть множество статей того времени о пролетариате, чтоб поверить наши слова. Тогда же „Отечественные записки“ познакомили русскую публику с Жоржем Зандом. Мы от этого прошедшего и теперь не отказываемся; но если дальнейшая разработка вопросов общественных поставила их в более тесные пределы, то это решение мы считаем только вернейшим шагом к их успеху» (Сев. пчела. 1860. 8 окт. № 233).
91
…одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии. — Статья A. H. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина» (Отеч. зап. 1851. № 6). Содержание статьи Афанасьева пересказывает полковник Ростанев в «Селе Степанчикове и его обитателях».
92
…до чудовищной статьи о Пушкине — русской литературы. — Со взглядом С. С. Дудышкина на творчество Пушкина писатель полемизирует в статье «Книжность и грамотность».
93
Таким образом разъединяются силы — вражды. — Достоевский, характеризуя положение дел в литературно-журнальном мире, опирается на суждения самих спорщиков, в частности И. Панаева, писавшего в «Петербургской жизни»: «Две партии бледно обрисовываются в петербургской литературе: несколько человек, считающих себя избранными, потому что они хранят чистоту искусства, как некогда господа Греч и Булгарин хранили чистоту языка. Это поклонники искусства для искусства. Другая, более многочисленная партия — это люди, убежденные, что искусство должно служить обществу, не усыпляя его одними сладкими звуками, а, напротив, пробуждая его к деятельности и самосознанию. Первые называют последних невеждами, ничего не смыслящими в искусстве и посматривают на них с презрением; последние смотрят на первых с ироническим сожалением и называют их людьми отжившими, отсталыми…» (Современник. 1860. № 3. С. 208).
94
Недавно г-ну Воскобойникову — «Перестаньте драться, г-да литераторы». — H. H. Воскобойников (1836–1882) — публицист, сотрудник «Библиотеки для чтения», «Московских ведомостей», его статьи публиковались и во «Времени». Речь идет здесь о его фельетоне «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы» (СПб. ведомости. 1860. 30 ноября. № 261) Он вызвал бурную реакцию в печати.
95
…Аскоченские, Чернокнижниковы… — В. И. Аскоченский (1813–1879) — реакционный журналист, писатель, историк, редактор журнала «Домашняя беседа» (1858–1877). В русской журналистике 60-х годов «Домашняя беседа» по праву снискала себе геростратову славу, как представителя партии обскурантов и называет Достоевский здесь и в других статьях Аскоченского. Иван Александрович Чернокнижников и псевдоним беллетриста и критика А. В. Дружинина (1824 1864). Михаил Лонгинов рассказывает о рождении псевдонима «Чернокнижников» следующее: «Я помню, что кто-то предложил связать все наши «imbroglio» <путаница (итал.)> нитью длинного романа, на манер "Mémoires du diable", или "Confession générale" Фредерика Сулье. Рамой для этого должны были служить похождения праздных чудаков, ходящих по Петербургу покупать вещи, отыскивать попутчиков и гувернанток и т. д. по объявлениям полицейской газеты и беспрерывно натыкающихся на эксцентрические и забавные сцены. Весь этот цикл стихов, рассказов и похождений получил от Дружинина название «Чернокнижия». Но всему этому суждено было еще довольно долго существовать лишь "für Wenige" <для немногих (нем.)> <…> первые три главы „Чернокнижникова“ писаны Дружининым (особенно стихи) при деятельном сотрудничестве H. А. Некрасова и младшего из членов нашего кружка, покойного В. А. Милютина <…> Главы эти писались в Парголове, где H. Некрасов проводил лето, а Дружинин и Милютин у него нередко гостили. Тут же помещены рассказы и шутки разных других лиц, но невозможно определить теперь, что именно принадлежит кому в первоначальном „Чернокнижникове“ (Дружинин А. В. Соч. СПб., 1867. Т. 8. С. XI, XIII). Дружинин был наиболее плодовитый и популярный фельетонист 50-60-х годов, русский «Жюль Жанен». Достоевский, высоко ценивший возможности фельетона, сам неоднократно обращавшийся к этому жанру, критически относился к развлекательным сочинениям Дружинина. Он писал M. M. Достоевскому 30 января — 22 февраля 1854 г.: «…от Дружинина тошнит» (XXVIII, кн. 1, 174).
96
…сам великолепный Кузьма Прутков… — Козьма Прутков — литературный псевдоним, под которым выступали А. К. Толстой (1814–1875), A. M. Жемчужников (1821–1908) и В. M. Жемчужников (1830–1884). Достоевский был неизменным почитателем, а иногда и подражателем Козьмы Пруткова. Начиная с «Села Степанчикова и его обитателей» (1859) стихи и афоризмы Козьмы Пруткова прочно войдут в творчество Достоевского.
97
Г-н Панаев в начале своих интересных литературных воспоминаний… — В январской книге «Современника» были опубликованы первые четыре главы воспоминаний, в февральской — еще четыре. Достоевский имеет в виду третью главу, живописующую интересы, времяпрепровождение и эстетические вкусы в кругу почитателей талантов Кукольника, Брюллова, Глинки. «Время» отнеслось к «Литературным воспоминаниям» Панаева с большим интересом и встретило их как явление незаурядное и в известном смысле полезное. В журнале появились две большие рецензии (в марте и декабре), видимо, принадлежащие H. H. Страхову. По предположению В. С. Нечаевой, в написании мартовской рецензии не исключено прямое участие редакции, особенно в заключительной ее части, содержащей общую оценку: «Оканчивая разбор „Воспоминаний“ г-на Панаева, мы не можем не отдать справедливости (и делаем это с величайшим удовольствием) искренности рассказов автора, непринужденности и, во всяком случае, чрезвычайной занимательности их. Но главное, мы должны быть особенно благодарны г-ну Панаеву за то, что он решился записать и опубликовать свои воспоминания. У нас так мало сочинений в этом роде; нельзя не пожелать, чтоб пример г-на Панаева соблазнил кого-нибудь из старых литераторов сделать то же самое. Мы же с нетерпением ждем продолжения «Воспоминаний». (Время. 1861. № 3. С. 108).·
98
Один из важнейших членов — драмы из жизни итальянских художников. — H. В. Кукольник (1809–1868), автор драматических фантазий „Джулио Мости“, „Джакобо Санназар“ (1833), „Давид Риццио“ (1839), дилогии „Доменикино“ (ч. 1. „Доменикино в Риме“ (1837); ч. 2. „Доменикино в Неаполе“ (1838)). И. И. Панаеву принадлежит остроумная пародия на драматические фантазии Кукольника: «Два отрывка из большой драматической грезы „Доменикино Фети, или Непризнанный гений“» (1847). А согласно «Воспоминаниям Панаева» (2-я глава), одну из своих речей он завершил таким признанием: «— Сказать ли вам, господа, что смущает меня, — произнес Кукольник в заключение, — я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. M., 1950. С. 42). Достоевский пародирует произведения Кукольника в «Бедных людях» и в «Неточке Незвановой», а позднее фигура Нестора Кукольника сопровождает, комически оттеняя, образ Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».
99
...в день лиссабонского землетрясения. — Знаменитое лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 г. Вольтер откликнулся на это трагическое событие «Поэмой о гибели Лиссабона, или Проверкой аксиомы: „Все благо“» (1756), впервые восстав против теории Лейбница о «предустановленной гармонии». Поэма Вольтера оказала сильное влияние на творчество Достоевского, с наибольшей очевидностью оно сказалось в бунте Ивана Карамазова, как на это указал еще Л. П. Гроссман в статье «Русский Кандид (к вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского)» (Вести. Европы. 1914. № 5).
100
…(тогда всё издавались «Меркурии»). — Самым известным был «Французский Меркурий» («Mercure de France») — газета, основанная в 1672 г. и просуществовавшая до начала XIX в. В России выходил «С.-Петербургский Меркурий» (1793), «Московский Меркурий», журнал, издававшийся в 1803 г. П. И. Макаровым и др., Меркурий — в римской мифологии бог красноречия, покровитель торговли, вестник богов; имя его употребляется в значении: вестник, посланец.
101
«Шопот, робкое дыханье…» — Цитируется стихотворение А. А. Фета (1850), воспринятое современниками как поэтическое откровение партии «чистого искусства» и вызвавшее рекордное количество пародий.
102
Панглос — герой философского романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), все происходящее в мире, в том числе и лиссабонское землетрясение и другие бедствия и несчастия считающий вполне целесообразными «в лучшем из возможных миров», утверждающий, что в конечном счете «все к лучшему». Слова Панглоса пародируют философию Лейбница, его тезис в «Теодицее» (1710): «Бог не создал бы мира, если бы он не был лучшим из всех возможных».
103
…Служенье муз, дескать, не терпит суеты. — Цитата из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825). Поэтическая формула, охотно и часто используемая защитниками «искусства для искусства». Добролюбов в статье «Стихотворения Ивана Никитина», с которой полемизирует Достоевский, писал: «…поэты наши считают почему-то нужным сторониться от общественной деятельности, повторяя вслед за Пушкиным:
Критики, зараженные слухами об эстетических теориях, поддерживают их в этом убеждении, уверяя, что когда идет ломка и перестройка общественного здания, тогда поэт должен быть ни при чем, ибо он рожден не для житейского волненья и проч….» (Добролюбов H. А. Собр. соч. Л., 1963. T. 6. С. 177).
104
Аполлон Бельведерский — скульптура Леохара (IV в. до н. э.); мраморная копия с утраченного оригинала хранится в Ватикане.
105
…«новы все впечатления бытия»… — Цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).
106
«Мрамор сей ведь бог»… — Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828), продолжающая «тему» Аполлона Бельведерского. В полемике с утилитаристами Достоевский использует известные строки Пушкина:
107
…и вы, сколько ни плюйте на него… — Реминисценция из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830):
108
…обвиняется сам г-н Щедрин… — Достоевский, вероятно, имея в виду, в частности, упреки в адрес Щедрина С. П. Шевырева в статье о «Детских годах Багрова внука» С. T. Аксакова, отмечал в «Губернских очерках» «какое-то болезненное влечение к отрицательной стороне» жизни, «рано привитое не вполне, не художественно понятым Гоголем», наводящее «болезненный мрак на все его произведения…» (Рус. беседа. 1858. T. 2. кн. 10. С. 67–68). Отрицательно относился к «Губернским очеркам» и А. Григорьев, выговаривавший E. К. Эдельсону в письме от 13 (25) декабря за мягкий тон статьи. Однако «кадил» Эдельсон Щедрину весьма умеренно, утверждая, что «деятельность Щедрина не художественная» и что писателям «с такою тревожною деятельностью исключительным служителям временных социальных вопросов, некогда глубоко вникнуть в жизнь, чтобы вынести оттуда широкое поэтическое миросозерцание» (Эдельсон E. H. Щедрин и новейшая сатирическая литература // Утро: Литературный сборник. M., 1859. С. 362–363). С подобного рода мнением и такой постановкой вопроса Достоевский был решительно не согласен.
109
…г-н — бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением о г-не Тургеневе… — Достоевский, видимо, полемизирует со словами Добролюбова в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860): «Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г-на Тургенева не из тех титанических талантов, которые единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать» (Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 99). Достоевскому безусловно хорошо было известно о конфликте Тургенева с руководителями «Современника» и о недовольстве писателя статьей Добролюбова.
110
«В малороссийских рассказах — куда бы годился он?» — Цитируются «Черты для характеристики русского простонародья» (Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 222–223). Добролюбов выделяет курсивом только слова «мерзостно-отвратительные картины», во всех остальных случаях — курсив Достоевского. «Известный русский критик», «строгий критик» — А. В. Дружинин, над статьей которого об «Украинских народных рассказах» (Библиотека для чтения. 1859. № 11) иронизирует Добролюбов. Достоевский специально оговорит в статье, что его мнение не распространяется на украинские рассказы Марка Вовчка.
111
«Но дело не в приговорах — обратить внимание». — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 222–223. Курсив — Достоевского кроме выделенной Добролюбовым отрицательной частицы «не».
112
…несколько превосходных страниц — русского простонародья. — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 224–228. Достоевский соглашается с резко полемическими суждениями Добролюбова о статьях H. С. Толстого «Вечера с разговором» (1859), в которых откровенно господствовала помещичье-крепостническая точка зрения и доказывалась необходимость сохранения телесного наказания для крестьянства, и со статьей славянофила В. А. Черкасского «Некоторые общие черты будущего сельского благоустройства» (1858), также писавшего о пользе розог. Достоевский полностью разделяет гнев Добролюбова, издевавшегося над теми «защитниками» народа, которые «дипломатически» проповедуют, что «существенная и отличительная черта русского простого человека — „недостаток инициативы“, необходимость постороннего понуканья».
113
«Надо заметить — нувеллистов и проч., и проч.» — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 228–229. Курсив — Достоевского.
114
«Мы помним — не бывала». — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 229–235. Курсив — Достоевского, кроме выделенных критиком слов «к ней».
115
…Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку. — Христофор Колумб (1451–1506) — мореплаватель; после открытия островов Америки (1492–1498) — Кубы, Таити и др. — вице-король новых земель.
116
«Фантазия! Идиллия! Мечты золотого века! — закричали — русского народа». — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 235.
117
«Да, мы находим — жизни». — См.: Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 240–241.
118
…возбудит только смех и напомнит басню «Медведь и Пустынник». — Речь идет об «услуге», оказанной медведем спавшему пустыннику в басне И. А. Крылова «Пустынник и Медведь» (1808).
119
«Если вы хотите — вашей цели». — Цитата из статьи «Луч света в темном царстве» (1860) (Добролюбов H. А. Собр. соч. T. 6. С. 303).
120
Лауру у клавира… — Имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера «Лаура у клавесина» («Laura am Klavier», 1781).
121
…она уже в вечности — настает олимпийское спокойствие. — Возможно, что Достоевский имеет в виду здесь не только «Диану», но и другое антологическое стихотворение Фета «Венера Милосская» (1856), особенно заключительные строчки:
122
Маркиз Поза — герой драмы Шиллера «Дон Карлос» (1787), переведенной M. M. Достоевским в 40-х годах (Библиотека для чтения. 1848. № 2–5). О его переводе см.: Коган Г. Ф. Цензурная история «Дон-Карлоса» в переводе M. M. Достоевского. // Фридрих Шиллер: Статьи и материалы. M., 1966. С. 320–329. Героя Шиллера Достоевский также упоминает в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» и статье «Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого)».
123
…про Крутогорск, про темное царство. — Крутогорск — губернский город в очерках Щедрина. Достоевский намекает на статьи Добролюбова о Салтыкове-Щедрине и Островском: «Губернские очерки» (1857), «Тайное царство» (1859), «Луч света в темном царстве» (1860). Мнение Достоевского о «Губернских очерках» было очень близко к взгляду Добролюбова. Он находил анализ Добролюбова драм Островского более верным и точным, чем анализ А. Григорьева, создавшего своеобразный культ Островского. Достоевский писал H. H. Страхову 6 (18) апреля 1869 г.: «Знаете ли, я убежден, что Добролюбов правее Григорьева в своем взгляде на Островского. Может быть, Островскому и действительно не приходило в ум всей идеи насчет Темного царства, но Добролюбов подсказал хорошо и попал на хорошую почву» (XXIX, кн. 1, 36). Но в начале 60-х годов Достоевский больше склонялся к точке зрения А. Григорьева и M. Достоевского, противопоставлявших «утилитарной» трактовке Добролюбова иную, «русскую», точку зрения, считавших мнение Добролюбова узким и односторонним.
124
Читать, читать, а после — хвать! — Неточно цитируемые слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5) У Грибоедова: «Вот молодость!. читать!. а после хвать!.»
125
«Мысль, сказанная — заниматься». — Цитата из обзора С. С. Дудышкина «Русская литература» (Отеч. зап. 1861. № 6. С. 45) В скобках ироническое разъяснение Достоевским главной мысли статьи Дудышкина о Пушкине.
126
Герострат (Herostratus) — эфесец, сжег храм Дианы (Артемиды Эфесской) в 356 г до н. э. для того, чтобы сделать известным свое имя потомкам. Жители Эфеса запретили произносить имя Герострата, однако оно сохранилось в трудах Феопомпа (IV в. до н. э.) и со временем приобрело символическое значение.
127
Гелертер (нем. Gelehrter) — человек науки, оторванный от жизни и практической деятельности, схоласт, начетчик.
128
«…может быть да, а может быть нет»… — Достоевский пародирует С. С. Дудышкина, придравшегося к следующим словам писателя из статьи „Свисток“ и „Русский вестник“: «В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность всепонимания, такое свидетельство о всечеловечности и, главное, в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть (!?), главнейшая особенность русской мысли…» (Отеч. зап. 1861. № 4. С. 139). В том же обзоре Дудышкин стремится доказать справедливость своей точки зрения: «…для того-то, чтоб не повторять бездоказательство этого рокового в вопросе о народности, может быть, и был задан вопрос о народности Пушкина. Может быть, это признак народности, а может быть, признак высшей художественности. <…> Может быть, может быть… скажем и мы, но эти «может быть» нужно доказать, а главное, разбить на составные части слишком сложное понятие народности, что и делает теперь наука» (там же) Далее Дудышкин резюмирует: «„Может быть“, Пушкин окажется народным поэтом больше, нежели мы с вами теперь воображаем. А может быть, он окажется меньше народным, и тогда нужно будет покориться силе научных и эстетических доказательств» (там же. С. 140) В июньском обзоре «Русская литература» Дудышкин с удовлетворением выписывает слова Каткова (см.: Рус. вести. 1861. С. 17) о Пушкине, уличая его в непоследовательной и пристрастной полемике с «Отечественными записками»: «…он, может быть (вот в этом-то и дело; отчего же вы не прочитали нашей статьи)… он, может быть, коснулся и более глубоких основ ее, которые могли бы иметь всемирное значение; но эти намеки не ясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны: мы сами сомневаемся и спорим об их значении» (Отеч. зап. 1861. № 6. С. 46) Дудышкин, воспользовавшись гипотетическими суждениями Каткова, повторяет сказанное ранее в полемике со «Временем»: «Точно так же вы говорите, что Пушкин, может быть, коснулся более глубоких основ нашей жизни <…> То, что вы повторяете, сказали и мы: может быть, Пушкин коснулся глубоких основ нашей жизни, а может быть и нет; во всяком случае, это нужно доказать. Таков смысл вашей статьи, таков был смысл и нашей» (там же. С. 47). Дудышкин выделяет столь важные для него слова и в статье Гоголя о Пушкине: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть (!), единственное явление русского духа» (там же. С. 49).
129
..г-н Буслаев говорит в своей книге… — Ф. И. Буслаев (1818–1897), — исследователь русского языка, народной поэзии и древнерусского искусства, профессор Московского университета (с 1850), академик (с 1860) Речь идет о его исследовании «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (T. 1–2. 1861). Буслаев был постоянным автором «Отечественных записок». В глазах Дудышкина он был первым и непререкаемым авторитетом по вопросам народности и народного просвещения; Дудышкин находил в его трудах значительный шаг вперед в изучении проблемы народности по сравнению с мыслями виднейших публицистов 40-х годов, в том числе и Белинского. Дудышкин советовал в целях просвещения руководителям «Времени» обратиться к сочинениям Буслаева: «…мы просим журнал „Время“ прочесть сочинение г-на Буслаева и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворовским смельчакам. Да пусть они не забудут, что г-н Буслаев не касался, или, лучше сказать, не развивал ни общественного, ни политического значения этого слова» (Отеч. зап. 1861. № 4. С. 134). Очевидно, что Достоевский здесь отвечает на совет Дудышкина. «Время» иронически относилось к немецкой «мифологической школе», представителями которой были постоянно сотрудничавшие в «Отечественных записках» Афанасьев и Буслаев. Ироническое замечание А. Григорьева об A. H. Афанасьеве, который «сочинял по Гримму богов кочерги и ухвата», вполне разделялось и Достоевским. Но в то же время журнал Достоевских не был согласен и с общей отрицательной оценкой трудов Буслаева и Афанасьева, данной «Современником» в рецензии A. H. Пыпина «По поводу исследований г-на Буслаева о русской старине» и в «Полемических красотах» H. Г. Чернышевского (1861). Так, А. Григорьев в статье «Взгляд на книги и журналы, касающиеся истории русского народного быта», с удовлетворением писал о том, что Афанасьев, оставив «богов кочерги и ухвата», «добросовестно и полезно» занялся «собиранием материалов народного быта» (Время. 1861. № 4. С. 171). «Новый органический взгляд» на народность Григорьев отмечал в диссертации Буслаева (там же. С. 172).
130
холодный, наружный, кантемировский или фонвизинский скептицизм. — Суждения Достоевского о творчестве А. Д. Кантемира (1709–1744) и Д. И. Фонвизина (1745–1792) восходят к мнениям Белинского, так писавшего о сатирах Кантемира в статье «Русская литература в 1840 году» (1841): «Очевидно, что сатиры Кантемира — явление чисто случайное; что дух народный в них не участвовал; что они вышли не из этого духа, не его выразили и не к нему возвратились. Одно уже иностранное происхождение их автора показывает, что они не имели в самих себе никакой необходимости, могли и быть и не быть <…> Книга приняла их в себя, в книге и остались они; их знают школы, а не общество, но и школам известны они как мертвый исторический факт, а не как живое явление, по законам внутренней необходимости возникшее из предшествовавшего ему явления и оставившее после себя какие-нибудь результаты, которые в свою очередь породили какие-нибудь явления» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. M., 1954. T. 4. С. 415).
Достоевский напоминает исторические этапы развития русской литературы С. С. Дудышкину, автору статей о Фонвизине (которую он вслед за Белинским считал «дельной») и Кантемире.
131
Чего мне ждать? тоска, тоска! — Цитата из «Евгения Онегина» («Отрывки из путешествия Онегина», 1829–1830).
132
Рудин и Гамлет Щигровского уезда… — герои произведений И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) и «Рудин» (1856). Эти произведения сыграли значительную роль в эволюции Достоевского-художника и неоднократно привлекали внимание Достоевского-публициста. По мнению Страхова, которое в данном случае высоко авторитетно, Достоевский «в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большою яркостию своего „подпольного“ героя…» (Отеч. зап. 1867 № 2. „Наша изящная словесность“. С. 555). О Рудине Достоевский как о русском историческом типе недавнего прошлого говорит в «Дневнике писателя» за 1877 г. (январь, гл. II, подглавка 2) и 1880 г. Достоевский так разъяснял А. Д. Градовскому русскую сущность типа Рудина: «Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, — ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое — давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была, собственно, в том, что он на своей ниве работы не нашел и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему, как вы утверждаете» (XXVI, 155).
133
…времена Перикла… — С именем знаменитого государственного деятеля Афин Перикла (род. между 500 и 400 г до н. э., ум. осенью 429 г. до н. э.) обыкновенно связывают представление о высшем расцвете афинской демократии, греческой литературы и искусства (Периклов век).
134
... «Видение короля»… — Первая из «Песен западных славян» А. С. Пушкина (1834). В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский развернул свой более ранний, восторженный отзыв о «Песнях западных славян»: «…шедевр из шедевров Пушкина, между шедеврами его шедевр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов, еще пятьдесят лет тому назад появившихся» (XXV, 39).
135
…не знают Барбье. — Анри Огюст Барбье (1805–1882) — французский поэт, прославившийся сатирическим сборником стихов «Ямбы» (1831). Стихи Барбье были необыкновенно популярны в России 40-х годов, особенно в среде петрашевцев. Влияние Барбье испытал поэт-петрашевец С. Ф. Дуров (1816–1869), товарищ Достоевского по петербургским кружкам и каторге; ему принадлежат многочисленные переводы стихов Барбье: «Как больно видеть мне повсюду свою горесть…» (1844), «Киайя» (1845). — Этот перевод одного из самых знаменитых ямбов Барбье читался на вечерах Петрашевского), «Есть бездна на земле, есть бездна роковая…» (1846).
136
…«птенцов гнезда Петрова»… — Цитата из третьей песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).
137
…«Русский вестник» бесконечно неправ — к народности»… — Достоевский цитирует (не совсем точно и с купюрами) обзор С. С. Дудышкина «Русская литература», возражение критика Каткову: «Если бы вы не допускали теперь, по примеру Байбороды, народности в жизни, у вас не было бы противоречий, не было и помину о «мотивах русской жизни», о «глубоких основах ее»; вы не примеривали бы к Пушкину понятия о народности, а просто назвали бы его великим поэтом, по силам его творческой фантазии, хотя и не европейским, в смысле великих идей, которых он был проповедником, и вопрос сочли поконченным; но вы хотели отстоять свое прежнее мнение и допустить новое, а от этого вышли противоречия, для оправдания которых вы сказали еще одно мнение, совершенно ложное: «что там, где идет спор о народности, там значит ее нет». На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей глубине. Известен результат этих споров и на Западе. Крутой поворот европейских литератур к самостоятельности, к народности, в котором, кажется, нельзя сомневаться теперь, но в то время этот поворот казался возвращением к грубости средневековых понятий» (Отеч. зап. 1861. № 6. С. 47–48).
138
…можно выписать длиннейший ряд — народного чтения. — В. И. Водовозов в статье «Русская народная педагогика» писал о потоке книг для народа на рубеже 50-60-х годов: «Таких изданий, например по каталогу Лермонтова и Комп<ании>, считается до 135 нумеров — цифра, на первый раз очень почтенная. Но сюда вошли еще далеко не все книжки и брошюры, назначенные для народного чтения; много есть таких, которых не примет на свои страницы даже порядочный каталог, а они все-таки издаются, иногда осьмым изданием» (Отеч. зап. 1861. № 9. С. 94).
139
«Отечественные записки» замечают — народных книг. — Статью Щербины редакция журнала снабдила замечанием: «Помещая эту важную статью по отношению к вопросу, всех занимающему, мы надеемся, что литература наша обратит внимание на этот «Опыт», и тогда обсуждение вопроса будет служить руководством для составителей подобных книг» (Отеч. зап. 1861. № 2. С. 279).
140
…сказка Пушкина о «Кузьме Остолопе»… — «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830) А. С. Пушкина впервые была опубликована В. А. Жуковским в 1840 г. под заглавием «Купец Кузьма Остолоп, по прозванию осиновый лоб» (в тексте «поп» тоже был заменен «купцом». Подлинный текст Пушкина увидел свет лишь в 1882 г.
141
«Нам просто немыслимо — одни слова!» Цитата из статьи H. Щербины «Опыт о книге для народа» (С. 279–280). Курсив везде Щербины.
142
…издание Меналка или Тирсиса… — Имеются в виду идиллии «русского Геснера» В. И. Панаева (1792–1859) «Дафнис и Милон», «Меналк и Тирсис», опубликованные в 1815 г. в Казани. В публицистике 60-х годов со свойственным ей ироническим отношением к пасторальной литературе Меналк и Тирсис обычно упоминались в пародийно-сатирическом плане.
143
«Мы любим — одни слова! — Щербина цитирует стихотворение И. С. Аксакова «Добро б мечты, добро бы страсти» (1853). Выделенная Щербиной курсивом строчка стихотворения Аксакова — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (реплика Гамлета во второй сцене второго действия)
144
«Иная книга — воспитания…» — Цитата из статьи Щербины (С. 280–282) Курсив везде Щербины.
145
...переводы «Потерянного Рая» или «Франциля Венецияна»… — Щербина имеет в виду одну из многочисленных прозаических, переделок на русский язык поэмы Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667) «Франциль Венециян, или История о храбром рыцаре Франциле Венециане и о прекрасной королеве Ренцывене» — популярная в XVIII–XIX вв. лубочная переделка рыцарского романа.
146
Пале-рояль (Palais-Royal) — дворец в Париже; там помещалось знаменитое кафе, где собирались либеральные и демократические деятели и где 13 июля 1789 г. Камиль Демулен призвал парижан к восстанию. В 60-х годах Паре-рояль был известен своими увеселительными заведениями.
147
«Подобные — невозможно не зная». — Цитируется статья Щербины (С. 282).
148
«То кровь кипит, то сил избыток»… — цитата из стихотворения M. Ю. Лермонтова «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой…» (1839).
149
…«одно худое видеть»? — Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811)
150
…наши передовые — четвертью столетия. — Достоевский, возможно, говоря о «наших передовых», имеет в виду героя «Дворянского гнезда» Паншина, а именно его рассуждения по поводу известной «Думы».
151
«Хрестоматия — того просишь». — Цитируется статья Щербины (с. 283–285) Курсив принадлежит Щербине.
152
…«Травник», «Мысленник», «Громник», «Волховник», «Колядник»… — Речь идет о народно-медицинских, суеверных и гадальных книгах, весьма распространенных не только в допетровские времена, но и значительно позднее. См. о них: Тихонравов H. С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. T 2; Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Вып. 3.
153
…«Письмовник» Курганова… — «Письмовник» (1769) H. Г. Курганова (1725–1796), математика, профессора Морского корпуса, — самая популярная книга XVIII в., выдержавшая 10 изданий. В народ проникли многие сюжеты и анекдоты из «Письмовника».
154
…«Битвы русских с кабардинцами», «Милорда Георга», «Анекдотов о Балакиреве» «Старичка-Весельчака», «Новейшего острокомического и астрологического телескопа», «Мамаева побоища»… — Перечисляются известные книги так называемой лубочной, или «серобумажной», литературы. «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» принадлежит перу H. Зряхова; имела огромный успех в народной (главным образом мещанской) среде. «Повесть о приключении милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы…» (1872) — роман M. Комарова (1730-е? — 1812?), в XIX в. перешедший в лубок, десятки раз переиздававшийся вплоть до 1918 г. «Старичок-весельчак, рассказавающий древние московские были» — также неоднократно издававшаяся лубочная книга XVIII в. «Анекдоты о Балакиреве» («Балакирева полное собрание анекдотов, шута, бывшего при дворе Петра Великого») — лубочное издание книги К. А. Полевого «Полные избранные акнекдоты о придворном шуте Балакиреве, любимце Петра I» (ч. 1–4, M., 1830), в которую вошли анекдоты и изречения, заимствованные из самых различных источников. Анекдоты пользовались огромным успехом в демократической читательской среде. И. А. Балакирев (1699–1763) — слуга Петра I, позже — шут при дворе Анны Иоанновны «Новейший астрономический и астрологический телескоп» «Новейший и самый полный астрономический телескоп, или Самовернейший, общий и подробный астрономический, астрологический, физический, диэтический и экономический наставник для городских и сельских жителей, с предсказательным календарем на 336 лет». «Мамаево побоище» — лубочная повесть Ивана Гурьянова (1820-е — 1850-е годы). «Дмитрий Иоаннович Донской, или Ужасное мамаевское побоище. Повесть XIV столетия» (1839). «Плохая выборка из „Истории“ Карамзина, разукрашенная фризурными взглядами и фризурным слогом», — отозвался о ней Белинский (Полн. собр. соч. M., 1954. T. 3. С. 236).
155
«Всякая подделка — мимо ушей». — Цитируется статья Щербины (с. 285).
156
…название «Читальник» до того необыкновенное и маленько мужицкое… — У Щербины: «Из книг, писанных „маленько мужицким слогом“ и назначенных собственно для простонародья, издателю почти нечего взять для „Читальника“» (с. 285). Выражение «маленько мужицкое» восходит к С. А. Бурачку (1800–1876), издателю «Маяка», обратившегося в статье о Пушкине и его критиках к «добрым русским»: «Давайте выражать русское горячее чувство, мудрое знание и силу богатырской души — живым, кипучим, родным, народным, маленько мужицким словом…» (Маяк. 1843. Янв. С. 31).
157
«Народ, с одной стороны, тоже дитя»… — Цитируется статья Щербины (с. 286).
158
Вон у Гоголя один герой — обиделся. — Имеется в виду следующий эпизод в «Мертвых душах» Гоголя (гл. XI): «Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был поповичем, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: „Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!“».
159
…словечко князя Талейрана: «Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle!» — Ш. M. Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord, 1754–1838), герцог, французский политический деятель и дипломат, прославившийся хладнокровием и проницательностью, умением скрывать свои планы. Ему приписывают выражение «Pas trop de zèle!» <Поменьше усердия! (франц.)> С этими словами, по широко распространенному преданию, он обратился к молодым дипломатам, рекомендуя для пользы их и дела не очень проявлять рвение по службе. Ср.: Guerlac O. Les citation françaises. Paris, 1961. P. 274.
160
La critique est aisée, mais l'art est difficile. — Изречение, во времена Достоевского чаще всего приписывавшееся Буало, в действительности цитата из комедии Ф. Нерико-Детуша (1680–1754) «Прославленный» (д. II, сц. 5). Ср. Guerlac O. Les citations françaises. P. 97.
161
…точно из души нашего мужичка извлечен квадратный корень. — К этому же сравнению прибегает герой «Записок из подполья»: «…все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня».
162
…вроде «Покорения Казани» из «Истории» Карамзина. — Дела казанские описываются в IV и V главах восьмого тома «Истории» Карамзина. Достоевский вспоминает эти страницы «Истории» в «Дневнике писателя» за 1876 г. «Осада была ужасная, — и Карамзин описал ее потом чрезвычайно красноречиво». «История» Карамзина, как об этом писал Достоевский в статье «Одна из современных фальшей», была настольной книгой в семье Достоевских; «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которую вслух по вечерам нам читал отец» (XXI, 134)
163
«Не подходи, не подходи! ты с ветру!» — кричит Обломов. — Обломов встречает одинаковыми репликами Волкова, Судьбинского, Пенкина и Тарантьева: «Не подходи, не подходи! Ты с холоду» («Обломов». Ч. 1, гл. III, гл. IV).
164
Конечно, книга — автос-эфа, как выражается г-н Щербина. — «Книга для него — авторитет; печать в глазах его имеет большой кредит: он знает, что священное писание — книга, гражданские законы — в книгах. <…> книга для народа — авторитет, «автос-эфа» (Отеч. зап. С. 286). Автос-эфа (греч. autos epha) — сам сказал; здесь употреблено как формула, выражающая слепое подчинение авторитету.
165
…не такой же народ ипохондрик, как ипохондрик г-на Писемского — смерть. — «Ипохондрик» — комедия А. Ф. Писемского (1852). Достоевский имеет в виду главного героя комедии — Дурнопечина, внушившего себе, что он смертельно болен.
166
«Говорящие животные и деревья покажутся народу бахарьством — книги»… — Цитируется статья Щербины (с. 286) Бахарьство — болтовня, выдумка — от „бахорить“ — болтать, говорить лишнее.
167
«От народной — историков». — У Щербины: «По отделу историческому, от народной исторической песни и легко понятного по языку сказания летописи, должен постепенно и последовательно перейти к местам, почерпнутым из отечественных историков, местам, имеющим отдельный, определенный и замкнутый в себе интерес: народу не по душе отрывочность, незаконченность, неокругленная замкнутость в предмете его любопытства» (с. 287).
168
…для чего непременно приводить в «Читальнике» подлинную грамоту — непонятнее? — Достоевский пересказывает и частично цитирует следующее место статьи Щербины: «В другом случае, вместо того чтоб брать отрывок из историка, например о восшествии на престол Михаила Федоровича Романова, издатель может привести подлинную грамоту о призвании на царство дома Романовых. В этой грамоте вступительно изображена вся история времен самозванцев, да и написана она народным, в смешении с церковно-славянским, языком, уважаемым народом и вполне понятным сколько-нибудь грамотному простолюдину» (с. 287).
169
«Подобного рода — с Запада». — Цитата из статьи Щербины (с. 287).
170
Вот вы, например — гигиенических сведений». — У Щербины: «…в «Читальнике» должна находиться небольшая статья юридического содержания, выведенная из настоятельных и всеобщих потребностей и данных народного быта, сообразно со статистикой преступлений и смотря на большинство каких-либо известных их видов. Тут же должно поместить и статейку гигиенического содержания, обусловливаемого бытом нашего простонародья. Сколько мрет, болеет, калечится понапрасну от совершенного отсутствия в народе самых простых, общих, крайне необходимых гигиенических сведений!.. Европеец несказанно ужаснулся бы, если б прочитал в нашем «Календаре», какое огромное количество ежегодно умирает детей в каждой губернии» (с 283)
171
Далее у вас предположено — «какие есть науки?» — у Щербины: «В этом же отделе поместятся календарные сведения, необходимые народу в его обиходе, выбор из словаря иностранных слов, вошедших во всеобщее употребление, и в начале отдела читатель найдет небольшую краткую статью, содержащую в себе определение всех наук, что сделано и в «Письмовнике» Курганова. Она, положим, будет называться „Какие есть науки“» (с. 288).
172
«Чтоб яснее — в них». Цитируется статья Щербины (с 289) Курсив Щербины.
173
Первый отдел, — формах. — Статья Щербины (с. 289).
174
…из «Памятников старинной русской литературы» H. Костомарова, «О мудреце Кериме» Жуковского, небольшие рассказы Даля, как-то «Ось и чека» — «Притча о хмеле»… — «Памятники старинной русской литературы» издавались Г. Кушелевым-Безбородко под ред. H. Костомарова (СПб., 1861–1862. Вып. 1, 2); «Притча о хмеле» («О хмельном питии, или о высокоумном хмеле и худоумных пьяницах») помещена во втором выпуске (с. 447–449). «О мудреце Кериме» — вторая повесть («рассказ повеселее») из произведения В. А. Жуковского «Две повести. Подарок на Новый год издателю „Москвитянина“» (1844). «Ось и чека» — небольшая притча В. И. Даля опубликованная в 3-й книжке «Сельского чтения» (СПб., 1845).
175
«Этот отдел — ее явлениях». — Цитируется статья Щербины (с. 287)
176
«Слово о полку Игореве» в переводе Дубенского! — Д. H. Дубенский (ум. 1863), магистр московского университета, издал в своем переводе «Слово о Полку Игореве» (M., 1849).
177
…«Малое слово о Великом (Петре I)» Бенедиктова… — Стихотворение В. Г. Бенедиктова (1807–1873) «Малое слово о Великом» (1855).
178
…и — об инфузориях! — у Щербины: «Или, например, инфузории в капле воды и тому подобное, выбранное из многих книг и изложенное не в научной форме, но ясно, занимательно, просто, для восприятия непосредственным созерцанием человека, находящегося, так сказать, еще почти в моменте эпического состояния» (с. 291).
179
Словарь иностранных слов — и теперь? — У Щербины: «Небольшой словарь важнейших и общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык, что бывает необходимо при чтении газет и книг и что слышится в повседневном быту» (с. 291).
180
В нем, видите ли — народ гуманически. — У Щербины «Здесь будут выбраны и систематически расположены целые пьесы и места из народной словесности и русских писателей, способные развивать и направлять народ гуманически, или представлять ему сведения и факты, выраженные в беллетристической форме» (с. 292).
181
…«Что ты спишь, мужичок?..» или «Ах, зачем меня силой выдали». — Включение стихотворений А. В. Кольцова (1809–1842) «Что ты спишь, мужичок?..» (1841) и русской песни («Ах, зачем меня…») (1838) в «Читальник» вызвало у критика «Светоча» ироническую ассоциацию-картину·«Измучились бедные Ивановцы: в сухой год у них хлеб засохнет, в сырой — вымокнет, а там, на беду, червь выест — просто и не знают, что и делать! — А вот что, говорят им наши просветители прочитайте в наших книжках песни Кольцова: „Урожай“, „Песню пахаря“, „Что ты спишь, мужичок?“ и другие (Хрестоматия), авось хлеб то и станет родиться…» (Светоч 1861 № 1 °C. 3–4)
182
«в ней выражено чувство чести — нашему простонародью» — Цитируется статья Щербины (Отеч. зап. С. 292) Курсив Достоевского. Ранее П. Кусков писал во «Времени». «В „Песне про купца Калашникова“, будьте уверены, все их внимание остановится на речах царя Грозного, а выражение чувства чести по отношению к жене они и не поймут, они и не заметят. У них у всех есть маленькое сознание этого. Нужно взяться задело попроще; а то перехитришь и вседело испортишь. „Боярин Орша“ в этом деле сильней бы подействовал; тут на сцене боярин: он знает, что уделает, а купец Калашников такой же мужик, как они! глуп, неучен, оттого так и делает» (Время·. 1861. № 5. С. 11).
183
…народные славянские рассказы и предания из книги Боричевского… — Имеется в виду книга историка и этнографа И. П. Торнавы-Боричевского (1810–1887) «Повести и предания славянского племени» (1840–1842).
184
(Должно быть напечатано — авторитета»). — У Щербины: «Они должны быть напечатаны церковнославянским шрифтом, равно как и места из Четиих Миней, для ознакомления народа с церковнославянскою грамотою и чтоб придать книге более веса и авторитета» (Отеч. зап. С. 294)
185
…последние дни Иисуса Христа из книги Иннокентия. ·— Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857) русский богослов и церковный оратор, ректор Киевской духовной академии Трактат Иннокентия «Последние дни земной жизни господа нашего Иисуса Христа, изображенные по сказаниям всех четырех евангелистов» вызвал сомнение у представителей ортодоксального богословия (противником Иннокентия выступил Филарет, по настоянию которого было назначено секретное дознание «об образ «мыслей архимандрита Иннокентия») и был напечатан только после смерти автора. О нем см.: Погодин M. П. Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия. M. 1867.
186
…места из объяснений на литургию из сочинений Гоголя и других… — Имеется в виду богословское сочинение H. В. Гоголя «Размышление о божественной литургии» (1848)
187
…из «Начертания христианских обязанностей» Кочетова. — И. С. Кочетов (1789–1854) — протоиерей, с 1841 г. ординарный академик имп. Академии наук, его сочинение «Начертание христианских обязанностей» в 40-60-х годах служило учебником в светских и духовных учебных заведениях.
188
…из поучений Иродиона Путятина… — P. T. Путятин (1807–1869) — известный проповедник, его «Краткие поучения» стали появляться в печати с 1842 г., некоторые из них были помещены в «Русской хрестоматии» Галахова (ч. 1)
189
…слово о пьянстве Тихона Задонского. — Имеется в виду популярная проповедь воронежского и елецкого епископа Тихона Задонского (в миру Тимофея Савельевича Соколова; 1724–1783), пятнадцатитомное собрание сочинений которого вышло в начале 1860-х годов. О Тихоне Задонском см.: IX, 511–513.
190
…принятие христианства Константином Великим. — Константин Великий (274–337), с 325 г. византийский император, по словам галльского панегириста Евсевия («Vita Constantini»), перед смертью принял крещение. Православная церковь чтит память Константина как святого и равноапостольного.
191
…принятие христианства на Руси Владимиром… — Владимир Святославич (вторая половина X в. — 1015), великий князь Киевский, принял и ввел на Руси христианство в 988 г. Православная церковь за крещение Руси чтит Владимира святым и равноапостольным. Принятие христианства имело место и до 988 г.
192
…житие св. Ольги, Кирилла и Мефодия, Нестора-летописца. — Ольга, великая княгиня, умерла в 969 г., завещав похоронить ее по христианскому обряду. Канонизирована православной церковью. Кирилл (в миру Константин) (826–869) и Мефодий (мирское имя неизвестно; род. до 820 — ум. 885) — братья, славянские первоучители и апостолы, святые как православной, так и римско-католической церкви. Нестор (1056–1114) — монах Киево-Печерского монастыря, древнерусский писатель, автор «Чтения о князьях Борисе и Глебе», «Жития Феодосия», составитель «Повести временных лет».
193
Описание святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Афона… — В Иерусалиме находится верховная христианская святыня — храм св. Гроба. Сам город и его окрестности — места, почитаемые христианами всего мира. Вифлеем — легендарное место рождения Христа, небольшой город к югу от Иерусалима на территории древней Иудеи. Афон — гористый и лесистый полуостров в Греции, в Эгейском море; одно из самых почитаемых мест восточного православного христианства.
194
…извлечения из путешествий Барского, инока Парфения, Муравьева… — В. Г. Григорович-Барский (1701–1747) — русский паломник. Его книга «Пешеходца Василия Григорьевича Барского-Плаки-Албова, уроженца киевского, монаха антиохского, путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся <…> им самим писанное, и пр…» полностью опубликована в 1778 г. и переиздавалась 6 раз. Парфений (Петр Аггеев, 1807–1878) — автор получившей большую популярность и любимой Достоевским книги «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения» (1855). Об отношении писателя к этой книге см.: XV, 528. A. H. Муравьев (1806–1874) — писатель, видный чиновник Синода, автор книги «Путешествия по святым местам в 1830 году» (СПб., 1832), вызвавшей избрание его в 1837 г. членом Российской Академии.
195
Так представлялись — недостатки. — Цитируется статья Щербины (Отеч. зап. С. 295).
196
«…Из смеси — навязывать?»— Цитируется статья П. Кускова «Вместо фельетона» (Время, 1861. № 5. «Смесь» С. 11).
197
…журнал «Учитель» — много ль из пяти останется?.. — Еженедельный журнал «Учитель» издавался в 1860-х годах известными педагогами И. И. Паульсоном (1825–1898) и H. X. Весселем (1834–1906). Журнал пропагандировал педагогические идеи Песталоцци и Дистервега. Постоянным рецензентом и библиографом журнала был бывший петрашевец Ф. Г. Толль (1823–1867). «Уточки», над которыми иронизирует Достоевский, — в № 2 «Учителя» в разделе «Наглядное обучение арифметике»: «4 утки поплыло в пруд, а 3 другие к берегу. Сколько всех было уток в пруду» (16 янв. № 2. С. 76). Ранее в журнале «Время» над этим разделом «Учителя» издевался П. А. Кусков в своем разборе содержания журнала за первое полугодие 1861 г. (Время, № 6. С. 185–200): «…в журнале „Учитель“ заметно необычайное стремление приблизить российский народ к немецкому началу, он для этого на последних страницах не ленится даже рисовать целые ряды шляп, удочек, уточек, кувшинчиков в разном количестве для наглядного обучения арифметике, и бог знает на какие хитрости поднимается он для развития в детях мысли» (там же. С. 199). П. А. Кускову очень резко отвечал Ф. Г. Толль в статье «О детских журналах» (Учитель. 1861. 1 дек. № 23. С. 973–975).
198
…собрать бы их все да сжечь! — Неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. III, явл. 21, реплика Фамусова).
199
«В видах средств — из них». — Цитируется статья Щербины (с. 298).
200
«Нужно постановить — в народе же». — Щербина (с. 296–297).
201
«Есть еще способ — по деревням». — Щербина (с. 297).
202
…все — Фролы Силины, благодетельные человеки! — Об отношении Достоевского к повести H. M. Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791) см.: III, 511–512.
203
«Часто распространение книги — чаще». — Цитируется статья Щербины (с. 297).
204
…«Зефироты» же, например… — Речь идет о первоапрельском шуточном рассказе В. Ф. Одоевского «Зефироты» (Сев. пчела, 1861, № 73, 1 апр. С. 289–290). В мистификации Одоевского рассказывалось о некоей породе полулюдей-полуптиц, размножающихся «при посредстве поцелуев» и обладающих неотразимым оружием: их глаза, испуская «нечто вроде электрического пламени», испепеляют все живое на огромном расстоянии. Рассказ Одоевского стал настоящей сенсацией, взволновав умы петербуржцев. Не помогло даже специальное «Объяснение» «Северной пчелы»: «По неосмотрительности наборщика в статье „Зефироты“ <…> пропущено несколько слов в самом ее начале. Напечатано: „На днях получена здесь Chiapes Advertiser“, следует читать: „На днях получена здесь газета „Chiapes Advertiser“ за пять лет XXIX столетия с 2857 по 2861 год“» (Сев. пчела, 1861, № 74. 3 апр. С. 294). Как свидетельствует некто А. Полоротов, автор тогда же появившейся брошюры «Зефироты и зевороты». (СПб., 1861), «статью эту народ читал в Петербурге во всех ресторанах, трактирах и ресторациях два дня кряду, в особенности много читателей было в воскресенье, — этого было весьма достаточно для того, чтобы весть о вновь открытых крылатых людях, питающихся только запахом цветов, разнеслась повсюду, с горячими уверениями вестовщиков, что это действительная правда, потому что напечатано в газетах, с ссылкою на затронутое этого вопроса наукой и т. д. А так как, при всем этом, нынче такое время, что все и диковинки становятся не в диковинку, то девять десятых народонаселения в Петербурге уверовали в истину открытия и возможности существования зефиротов <…> огромное большинство и посейчас находится в уверенности, что рано или поздно, а привезут зефирота в Петербург и станут показывать сперва, конечно, в Пассаже, а потом на масленице, и на Адмиралтейской площади» (С. 9-10). О впечатлении, произведенном на петербургскую публику, писал П. Горский в фельетоне «Истинно счастливый и практичный человек нашего времени. (Исторический рассказ)» (Библиотека для чтения. 1861. № 4. С. 4–11). О популярности, выпавшей на долю шутки, говорят и другие факты: «Зефиротом», в частности, называли в кругу E. А. Штакеншнейдер H. Г. Помяловского (Штакеншнейдер E. А. Дневник и записки (1854–1886). М.—Л., 1934. С. 292–293).
205
Трудящийся достоин платы, это давно сказано. — Ср.: «трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 10); «трудящийся достоин награды за труды свои» (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 7).
206
…о каре Новгорода… — Имеется в виду совершившееся в 1478 г. присоединение Новгородской земли к Московскому великому княжеству, за которым последовало подавление Иваном III попыток сопротивления со стороны новгородцев.
207
…об осаде Лавры… — Имеется в виду осада польско-литовскими войсками Лжедмитрия II Троице-Сергиевой лавры (23 сентября 1608 — 12 января 1610 г.).
208
…о смерти Ивана-Царевича… — Возможно, имеется в виду сын Ивана IV (Грозного) Иван (1554–1581), убитый своим отцом. Но Достоевский мог иметь в виду и брата Петра I Ивана Алексеевича (1666–1696).
209
…путешествий Кука… — Описания путешествий Джемса Кука (James Cook, 1728–1779) многократно переиздавались в различных русских переводах начиная с конца XVIII в.
210
…путешествия капитана Бонтекое, гениально составленного из прежних материалов Александром Дюма… — Биллем Исбранц Бонтеку (Bontekoe) (1587–1647?) — голландский мореплаватель, совершивший в 1618–1625 гг. трудное и опасное путешествие в юго-восточную Азию и Китай. 19 ноября 1619 г. на находившемся в Индийском океане корабле «Нью-Хорн», капитаном которого был Бонтеку, произошел пожар, приведший к взрыву запасов пороха; оставшиеся в живых члены экипажа, предводительствуемые Бонтеку, на шлюпке добрались до Суматры, где подверглись нападению туземцев, вынуждены были вновь выйти в море и наконец у берегов Явы были подобраны голландским флотом. Написанный Бонтеку рассказ о своем полном приключений плавании был опубликован в 1646 г. в Голландии, а в 1663 и 1681 гг. издан в переводе на французский язык. Воспоминания Бонтеку послужили основой для рассказа «Bontekoe», открывавшего цикл документальных рассказов А. Дюма-отца «Les drames de la mer» («Драмы на море»), который печатался в петербургском журнале «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts» (1852. 5. 81. Fevr. P. 384–425). Отдельные издания «Les drames de la mer» вышли в Париже в 1853 и 1860 гг. Рассказ «Bontekoe» был переведен на русский язык уже в 1852 г. См.: «Капитан Бонтеке» — Библиотека для чтения. 1852. T. 113. Ч. 2. Июнь. С. 144–180 (анонимный перевод); «Капитан Бонтеку» — Морской сборник. 1852. T. 8. № 7 (июль). С. 15–32; № 8 (август). С. 91–120 (пер. В. К. Шульца). Подробное изложение записок Бонтеку содержится в статье «Гибель голландского корабля „Нью-Горн“» в 7-м томе «Библиотеки путешествий», изданной А. А. Плюшаром (СПб., 1854), 6-й и 7-й тома этой серии — «Рассказы о кораблекрушениях» ·— представляют собой сделанное В. M. Строевым изложение западноевропейских печатных источников.
211
…статьи — Хомякова, Константина Аксакова… — В № 1 «Дня» опубликованы статьи К. С. Аксакова «Наша литература» (с. 7–8) и А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России» (с. 3–7)
212
..всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы. — Областной отдел открывался следующими словами редакции: «Мы намерены помещать в этом отделе не только «вести из областей», присылаемые в редакцию в виде писем от наших постоянных или временных корреспондентов, но и статьи, посвященные обсуждению какого-либо областного вопроса или вопроса всеобщей важности, но которого основание, повод, точка отправления стоят на областной почве. <…> Кроме того, мы желали бы представить в этом отделе нашим читателям такого рода описания, которые бы знакомили их с физиономией, тоном, нравственным характером наших губерний» (с. 12). Славянский отдел редакция «Дня» намеревалась превратить в международную политическую трибуну: «Открывая славянский отдел в нашем издании, мы имеем основание надеяться, что сделаем его со временем довольно полным источником разнообразных и верных сведений о положении и движении славянского дела. Но мы поставили себе и другую задачу. <…> мы желали бы (и приглашаем к тому и другие органы нашей печати) иметь в виду не одних русских, но и славянских читателей, сообщать не одни сведения, но и обсуждать общие вопросы, постоянно возбуждаемые антагонизмом западного и славянского мира, и не оставлять без внимания враждебные выходки европейской публицистики. <…> Именно теперь в настоящую трудную минуту, нужно было бы живое и дружеское слово славянам, такое слово, которое, возбуждая и поддерживая в них чувство славянской народности, в то же время скрепляло бы их духовную связь с Россиею, связь, без которой их собственное, самобытное развитие и преуспеяние — немыслимо и невозможно! Пусть помнят это славяне!» (с. 16).
213
…Аскоченский, говорят, восторженно похвалил его… — B. И. Аскоченский, редактор мракобесной «Домашней беседы», с энтузиазмом процитировал передовую И. Аксакова в № 1 «Дня» и выразил сочувствие славянофильской газете: «Мы с напряженным вниманием прочитали profession de foi новорожденной газеты «День» и от души порадовались такому взгляду на принятую ею задачу, о каком за несколько лет тому и подумать было опасно» (Домашняя беседа. 1861. № 42. C. 817). Вновь восторженно приветствовал «День» Аскоченский месяц спустя: «Дай бог здоровья редакции, что она не стала дожидаться обычного срока появления в свет газет и журналов. Не такое теперь время, чтоб стеснять себя подобного рода формальностью: в литературе нашей пожар; тушить надо, — кто первый поспел на тревогу, тому честь и слава» (Там же. № 46. С. 895). Аскоченский призывал новый орган печати не следовать пагубному примеру других появившихся в 1861 г. журналов — «Времени» и «Века». «Помоги господи! Но тронет ли новорожденная газета главный и существенный элемент жизни народной — веру православную, проведет ли она ее, как ярко-серебряную нить, в пестрой, а больше черной ткани быта общественного, — этого мы не видим? покамест; имеем даже основание опасаться, чтоб и „День“, вслед за „Временем“ и „Веком“, не склонился к западу современного умничанья о религиозности и преданности вере, прикрывающей якобы грубое безверие» (там же. № 42. С. 819–820).
214
«И на каком же — уже брезжит». — Цитата из передовой И. С. Аксакова «Москва 14-го октября» (День. 1861. № 4. С. 1; курсив Достоевского). Обвинения русского общества во всепроникающей «лжи» вызвало единодушно (исключение — Аскоченский) отрицательный прием в печати 1860-х годов. Характерно в этом смысле пародийное стихотворение В. С. Курочкина «Когда мне в первый раз принес рассыльный „День“…» (1861) в составе фельетона «Дни и ночи. (Образцы славянофильского витийства и поэтические грезы барона Тираха Толерансова)» (см.: Поэты «Искры». Л., 1955. T. I. С. 194–195).
215
Одно худое видеть… — цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811).
216
Ни один западник — неоконченном. — Трудно определить, какое произведение К. С. Аксакова, более всех славянофилов уделявшего внимание «миру» и «русской общине», имеет в виду Достоевский. В газете «День» часто публиковались (или перепечатывались) статьи и наброски К. С. Аксакова. В редакционном примечании к статье П. Бланка, в частности, приводятся следующие слова из записной книжки Аксакова о «мире»: «Замечательно, как, с одной стороны, народ ставит высоко мир, совет и пр., как высшее выражение ума и жизни вообще; с другой — видит в собрании людей — множество людей, толпу, и в ней силу стихийную, которая неразумна; почему толпа и может двигаться с силою, невольно все и всех увлекающею и часто увлекаемою незнанием. Мир судит бог, говорит народ, и в то же время: мир силен, как вода, и глуп, как дитя. Мир умен и мир глуп» (День. 1861. № 4. С. 7). «День» счел необходимым перепечатать и «Краткий исторический очерк Земских соборов» из вышедшего в 1861 г. первого тома Собрания сочинений К. С. Аксакова (M. 1861. С. 298–306). Очерк представляет собой вступление к «Истории земских дум», работу над которой прервала смерть Аксакова. Весьма вероятно, что именно это сочинение привлекло внимание Достоевского, и в первую очередь, должно быть, следующее место очерка: «В самых первых временах в славянских народах мы встречаем человеческое общество, мир, и необходимое проявление его существования — совещание, носившее в древности наименование Веча. Народ, живущий под такими условиями, имеет на языке русском особое наименование Земли. Этим словом обозначается общественно-человеческое начало. Дела земские есть дело народное, то есть общественно-человеческое. Такой быт народный не есть быт общественный в тесном значении этого слова, как например быт родовой: напротив, этот быт — быт общинный — есть уже дело чисто человеческого духа и потому составляет заслугу у тех народов, где он встречается. Являясь под условиями этого, быта, славянское племя является племенем не государственным, не ищущим внешнего, принудительного устройства. Самое яркое тому доказательство — это то, что совещание славянской общины требовало единогласия для решения дела, как единого истинного пути для решения. — Есть другой путь, принятый иным началом, началом внешней правды, или началом государственным, началом, зиждущимся, как сила внешняя, на принуждении. Этот путь — есть путь большинства и меньшинства. По этому началу, те, которых больше, — правее. Но здесь является внешнее насилие, побеждает множество, основываясь на счете, и принудительно налагает свое мнение на меньшинство. Мы согласны, что, с точки зрения государственности, строго развитой, начало единогласия является не практическим; но точно так же, как и любовь братская, самопожертвование, всякая добродетель и вообще вся нравственная сторона человека является непрактическою» (День. 1862. 6 янв. № 13. С. 3).
217
Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе… — Речь идет о статье «Наша литература», сопровожденной редакционным примечанием: «Рукопись, к сожалению, не оконченная, найденная с бумагах К. С. Аксакова и писанная им в конце 1859 г. Она принадлежит к собранию статей, которые он предполагал издавать отдельными брошюрами под общим названием «Труды и Дни» (День. 1861. № 1. С. 7).
218
…это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего… — Достоевский иронизирует над исполненными гордыни словами К. Аксакова: «…сама история вмешалась в дело, и вопрос освобождения крестьян, возникновению которого так способствовала резко отделяющаяся от остальной литературы славянофильская дружина, — обратил на себя всеобщее внимание и вызвал дельные труды по этой части» (День. 1861. № 1. С. 8).
219
У него вся литература наша — иноземному идеалу. — В статье К. Аксакова утверждалось: «А мы разорвали нашу связь с прошедшим, снялись с корня, и вот причина беглого и ветреного хода нашей литературной и всяческой деятельности. Мы было прильнули к чужому самостоятельному развитию, но, лишившись всякой своей почвы, своего дна, так сказать, — мы ничего и чужого удержать в себе, как в решете, не можем. Все бежит сквозь; ничего не остается; или лучше: постоянно остается пустота. (День. 1861. № 1. С. 7).
220
«Портрет купца — жить должно? — К. Аксаков, прямо не называя имени A. H. Островского, рассуждал в статье «Наша литература»: «Была ловля и на купцов. Купец скорее дался, благо в нем позамерла русская жизнь, не то что в крестьянине. Вышел купец похож. И борода схожа и речь схожа: должен говорит, а не: должен, ну, и быт похож, и лед замерзшей старины, и мокрая грязь раскисшей новизны: слякоть, распутица. Сходно. А где же настоящий купец? Где душа его? где то, что в нем жить должно? где добро народно-человеческое, которое, как в грязном сундуке, в быте купеческом, и про которое прослышать можно бы? <…> Один из литераторов в особенности отмежевал себе купца» (День 1861 № 1. С. 8) Об отношении M. M. и Ф. M. Достоевских к Островскому см.; XVIII, 205, 206, 245.
221
...суждение барича в желтых перчатках.·— Достоевский иронически переосмысляет жанровую картинку из корреспонденции H. Б. «Было замечено в „Московских ведомостях“, помнится в одном письме из Твери, что есть посредники, которые слывут у народа за французов. Они являются на сельский сход в белых перчатках и говорят мужику «вы». Мы очень хотим верить в добрые намерения таких господ, очень сочувствуем их деликатности и вежливости в обращении с крестьянами, но положительно уверяем, что эти «вы» и белые перчатки на сельском сходе — карикатура» (День. 1861. № 4. С. 10: H. Б. Из Каширы. Письмо 2-е). Этим словам H. Б. сопутствует примечание И. Аксакова: «Конечно, карикатура, с этим мы безусловно согласны» (там же. С. 10). Достоевский вспомнит «карикатуру» в статье «Два лагеря теоретиков. (По поводу «Дня» и кой-чего другого)»: «Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на „вы“?»
222
…выше князя Луповицкого вы еще не подымались. — Комедия К. С. Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (1851) появилась в печати отдельным приложением к «Русской беседе» (1856. № 1). Герой комедии, вернувшись из Парижа, пытается привить крестьянам своего поместья плоды европейского просвещения, терпит в этом полную неудачу, тогда как крестьянский мир во главе со старостой убеждает его в преимуществах исконно русского просвещения над всяческой западной премудростью.
223
«Что видим мы — Покайтеся!.»— Цитируется передовая И. С. Аксакова «Москва 21-го октября» (День. 1861 № 2. С. 1–2; курсив И. Аксакова).
224
…ошибку в фальшь не ставят. — Выражение это записано Достоевским под № 260 в «Сибирской тетради» (см.: IV, 242).
225
…уверяет его — много ума. — Корреспонденцию H. Б. в газете сопровождали редакторские примечания И. С. Аксакова, корректирующие слишком реакционные мысли корреспондента. H. Б. писал: «Без преувеличения можно сказать, в последние пять, шесть лет очень много было написано в пользу «низших братии» такого, после чего самый тип крестьянина возводился на высоту какой-то чуть не святыни. Целые партии как будто лозунгом своим брали защиту и восхваление крестьянских добродетелей; учение о высоте крестьянской просвещенности сделалось учением передовых: малейший намек о грубости их нравов был бы сочтен уже обскурантизмом, отсталостью. Целые легионы прозелитов такого учения высыпали вслед за тем на всех путях общественной деятельности…» (День. 1861 4 ноября № 4. С. 9). И. Аксаков отмежевывается от признания крепостника: «Едва ли можно так легко относиться к такому явлению, как сочувствие „к низшим братьям“ Без всякого сомнения, в этом историческом нравственном движении общества было много преувеличенного, натянутого и ложного (еще более было тут подражательности подобному же движению на Западе), — но таков удел всякой великой мировой идеи, поступившей в кровообращение общественного организма, ставшей предметом жизненной разработки, сделавшейся, достоянием миллионов отдельных человеческих единиц. Дело в том, что ведь „низшие братья“ и теперь все же остаются „низшими“, и если участь их несколько облегчена после вековых страданий, то еще нам рано покоиться на лаврах, считать себя совершенно расквитавшимися и спешить умерять свои великодушные порывы, которые и всего-то гостят в нас так недавно, по поговорке: без году неделю! Автор письма, без сомнения, думает согласно с нами, но мы сочли необходимым сделать это примечание, чтобы устранить всякие недоразумения» (там же). В другом месте H. Б. обвинял крестьянское сословие: «Вслушайтесь в те крестьянские речи, которых наслушиваются теперь помещики при своих попытках к соглашению, — и вы, конечно, признаете крайнюю несостоятельность крестьянских юридических понятии. <…> это просто следствие невежественного состояния, которое пробует и пытает всякими лишними требованиями и захватами выяснить себе наконец существо действительных своих прав, допускаемых законом» (там же. С. 10). И. Аксаков возражал: «Неужели автор видит во всем этом одно невежество и ему все в этом деле до очевидности ясно? Поздравляем его с таким завидным даром. Что касается до нас, то и нам несколько мудрено выяснить себе отношение бывших крепостных к крепостной барщине, и т. п. А ставить в вину крестьянину, что бродит ощупью в таком важном для него и в то же время темном деле, в разрешении которого он не участвовал, — не слишком ли это будет неосторожно?..» (там же, с. 10).
226
«Нам слишком хорошо — отзыва». — Редакторское примечание И. Аксакова (День. 1861. № 4. С. 10).
227
«Мы даже думаем — развитие?·— Примечание И. Аксакова (День. 1861. № 4. С. 9).
228
Вилень (франц. vilain) — крестьянин.
229
Jus primae noctis (лат.) — право господина на первую ночь с невестой вассала (крепостного).
230
…французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа. — Ален-Рене Лесаж (1668–1747) — французский писатель, автор нравоописательно-сатирических романов «Хромой бес» (1707) и «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735), хорошо известных в России с середины XVIII в. и оказавших значительное влияние в конце XVIII— начале XIX в. на развитие также и русского нравственно-сатирического романа. Достоевский ценил в «Жиль Блазе» «сухость рассказа», которой он намеревался следовать в «Житии великого грешника» (см.: наст. изд. T. 10. С. 320). В повести «Кроткая» Достоевский вспоминает «сцену Жиль Блаза с архиепископом Гренадским» («История Жиль Блаза», кн. 7, гл. II–IV) и неизменно оценивает ее как «шедевр». Французское издание «Жиль Блаза» было в библиотеке Достоевского, опыт Лесажа в жанре авантюрного романа, а также созданный им образ «хромого беса» Асмодея учитывались Достоевским при решении им своих художественных задач, и, в частности, при создании сцены Ивана с чертом в «Братьях Карамазовых». Лесаж был также автором романа «Похождения Роберта Шевалье, прозванного Бошеном, капитана флибустьеров в Новой Франции» (1732); пародийное упоминание о «флибустьерах» в «Бесах» делает возможным предположение о знакомстве Достоевского хотя бы по названию и с этим менее известным романом Лесажа.
231
оживает египетская мумия гальванизмом.·.— Имеется в виду рассказ Э. По «Разговор с мумией» (рус. пер. 1895).
232
умерший человек, рассказывает о состоянии души своей… — По всей вероятности, речь идет о новелле «Месмерическое откровение» (рус. пер. 1896).
233
…описание путешествия на луну… — Сюжет новеллы По «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля» (рус. пер. 1853).
234
…полет шара, перелетевшего из Европы через океан в Америку. — Рассказ Эдгара По «История с воздушным шаром» (рус. пер. 1896). Появление рассказа По, принятого за хроникальную заметку о действительном событии, вызвало в Нью-Йорке сенсацию.
235
«Русский вестник» стоит читать — Достоевский имеет в виду богатый информацией политический и в особенности, конечно, литературный отдел журнала. В последнем нередко печатались произведения лучших писателей того времени — Тургенева, Островского, Щедрина, Толстого и др.
236
Вторая книжка «Русского вестника» уже вышла с библиографическим отделом, покамест еще незначительным… — В февральской книжке «Русского вестника» за 1861 г. были напечатаны: «Заметка о русской журналистике» Я. К. Грота и рецензии M. H. Лонгинова на Сочинения И. С. Тургенева в издании H. А. Основского (M., 1860) и на третье издание Стихотворений Надежды Тепловой (Терюхиной) (M., 1860).
237
…как только начал издаваться «Русский вестник». — С января 1856 г. и в течение нескольких последующих десятилетий журнал являлся единоличной собственностью M. H. Каткова и выходил под его редакцией.
238
…и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов… — См.: Современник. 1861 № 1. Свисток. № 7. Гл. «Ответ на вопрос, или Освистанный вместе со всеми другими журналами „Современник“». С. 40.
239
…от вас веяло таким ораторством, пальмерстонством, кавурством… — Смысл этой полемической реплики пояснен в статье Достоевского «Ответ „Русскому вестнику“».
240
…читал я и об тротуарах, посыпаемых песком в июле месяце… — Намек на статью H. Ф. Павлова «Из московских записок» (Рус. вести. 1859. № 8. Кн. 1).
241
…об «Современнике» говорится в «статье» то, что об нем теперь все говорят… — Начиная с 1859 г. все более прояснялся радикальный курс «Современника», руководителя которого убедились в антинародном характере подготавливаемых правительством реформ (освобождение крестьян «без земли»). В связи с этим ряд органов печати (в том числе вначале и вольная русская печать за границей) обвиняют их в скептицизме, отрицании положительных устоев общественно-политической и экономической жизни страны, в глумлении над искусством, литературой и наукой (история, философия). Первым против «крайностей» «Современника» выступил от лица русской революционной эмиграции А. И. Герцен, напечатавший в «Колоколе» свои получившие широкий общественный резонанс статьи «Very dangerous!!!» (Колокол. 1859 1 июня Л. 44) и «Лишние люди и желчевики» (там же. 1860. 15 окт. Л. 83), в которых выражалось несогласие с дискредитацией Добролюбовым и Чернышевским либерального «обличительного направления» в литературе и представителей мыслящего дворянства — «лишних людей».
С 1861 г. усиливаются выступления против «Современника» либеральной печати. В февральском и апрельском номерах «Русского вестника» за 1861 г. появляются статьи «Старые боги и новые боги» и пространные извлечения из книги профессора Киевской духовной академии П. Юркевича «Из науки о человеческом духе», обвиняющие Чернышевского в невежестве и цинизме в области философии и нравственности. Несколько позже только в одной книжке журнала «Отечественные записки» печатаются сразу шесть статей против «Современника».
242
Всё это готово считать, как мы уже сказали где-то, свою домашнюю стирку за интересы человечества. — Выражение «домашняя стирка» было употреблено Достоевским в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве».
243
…Украли пук моих стихов! — Цитата из эпиграммы И. И. Дмитриева (перевод из Э. Лебрена, 1729–1807) «Я разорился от воров!» (1803–1805).
244
…недавний прием Лакордера в Французскую академию. Гизо, отвечая на его речь… — Прием аббата Ж. Лакордера во Французскую академию, во время которого Лакордер и известный историк и политический деятель Ф. Гизо обменялись речами (24 января 1861 г.), иронически описывается в февральском политическом обозрении «Времени» за 1861 г. Цитата из речи Гизо, приведенная ниже Достоевским, заимствована им из указанного обозрения (см.·Время. 1861. № 2. С. 68–71).
245
Уж не для того ли вы и похвалили Пушкина, чтоб сказать что-нибудь в пику «Современнику»? — «Похвала» M. H. Каткова Пушкину была полемически направлена против «Очерков гоголевского периода» и других статей Чернышевского, в которых, по словам Каткова, «…у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя…» (Несколько слов вместо «Современной летописи» Рус. вести. 1861. № 1. С. 480). Догадка Достоевского об отнюдь не восторженном личном отношении Каткова к Пушкину подтвердилась в ходе дальнейшей полемики.
246
Неужели ж вы сходитесь с странными мнениями г-на Дудышкина и его чудовищных последователей в «СПб ведомостях», № 61, 1861 года? — Речь идет о статьях: Дудышкин С. С. Пушкин — народный поэт (Отеч. зап. I860. № 4) и Гымалэ (Ю. А. Волков). Литературные впечатления (С.-Петерб. ведомости. 1861. 14 марта. № 61). Достоевский называл «чудовищной» и первую из них (см.: «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Несколько позже, в статье «Книжность и грамотность», он выражал намерение «тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина», сводившиеся к отрицанию народности творчества Пушкина, к вульгарному пониманию народности как простонародности. Намерение это не осуществилось, по всей вероятности, потому, что некоторые положения статьи «Книжность и грамотность» являлись по сути дела развернутым полемическим опровержением точки зрения С. С. Дудышкина и его единомышленников.
Гымалэ (Ю. А. Волков) запальчиво вызывал противников Дудышкина на открытый бой и требовал от них хотя бы «единого доказательства» народности Пушкина. Особенно «чудовищной» должна была представляться Достоевскому характеристика, данная Гымалэ пушкинскому изображению Татьяны: «Это очерк, набросанный великим талантом, но талантом, у которого не было родной почвы <…> и ничего народного, истинно нашего, не отразилось в этом грациозном очерке, которому мы, по крайней мере, не умеем, не можем сочувствовать…»
247
…Прочтя его злую статью против нас, мы наскоро успели сделать одну заметку в смеси нашего журнала — Подразумевается обширное полемическое в отношении Каткова и его статьи «Наш язык и что такое свистуны» примечание Достоевского к одной из страниц «Письма с Васильевского острова в редакцию „Времени“», помещенного в отделе «Смесь» апрельской книжки журнала.
248
…«Русский вестник» предполагает, что мы будто бы обиделись его статьей и приняли его выходку против «Свистка» «Современника» на свой счет. — Подразумевается следующий отрывок из статьи Каткова «Наш язык и что такое свистуны»: «Журнал „Время“ выпустил против нас едкую статейку на наши „Несколько слов вместо “Современной летописи»» <…> Собрав все средства своей иронии и сарказма, „Время“ казнит нас беспощадно. По всем признакам, оно обиделось тем, что мы слишком неуважительно отозвались о наших литературных критиках и журнальных самообозрениях; может быть, то же оно приняло на свой счет, что было сказано нами о балаганных отделах в журналах, полагая, что прямо или косвенно это обозначение может быть отнесено к той половине его книжек, которые заняты критическими статьями. Но мы не имели в виду „Времени“ и даже не знали о нем, когда писали наши строки» (Рус. вести. 1861. № 3. Литературное обозрение и заметки С. 18).
249
…протрубившего еще в начале года с олимпийским величием о том, что он «идет, идет!..» — Речь идет о статье «Несколько слов вместо „Современной летописи“» (Рус. вести. 1861. № 1), в которой оповещалось об открытии в этом журнале специального литературно-критического отдела.
250
…не говорите нам, что мы будто бы глумились над г-ном Громекой и хотели имя его превратить в собрикет. — Подразумеваются несколько достаточно иронических фраз из статьи Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“». («Я читал статьи г-на Громеки» и т. д. — см. выше, с. 167), вызвавших следующую отповедь в статье Каткова «Наш язык и что такое свистуны»: «Г-н Громека сказал несколько горячо прочувствованных слов о деле ему знакомом. Кому было угодно, тот мог оспаривать его слова, но ничего неблагонамеренного в них не было, и публика встретила их с сочувствием. Откуда же эти попытки сделать его скромное и почтенное имя каким-то прозвищем, собрикетом?» (Рус. вести. 1861. № 3. Литературное обозрение и заметки. С. 20). Собрикет (франц sobriquet) — насмешливое прозвище, кличка.
Отношение Достоевского к статьям С. С. Громеки, напечатанным Катковым, было резко отрицательным, хотя это и не высказывалось им прямо.
251
…Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется. — Скрытая «зависть» к Белинскому сквозила в отрывке статьи Каткова «Наш язык и что такое свистуны», изобиловавшем резкими выпадами против литературной критики журнала братьев Достоевских. «С нынешнего года, — писал здесь Катков, — издается у нас ежемесячный журнал „Время“, в котором половина книги бывает занята прекрасными критическими статьями, писанными приятным слогом, где тоном самого счастливого самодовольства разбираются все фазы нашей духовной жизни, объясняется, как прежде была у нас гладь и ширь необъятная, как потом господствовал у нас французский классицизм, и как мы шалили романтизмом <…> и как явился великий Белинский, и что такое Пушкин, и что такое Лермонтов <…> и как все замыкается великим Островским» (Рус. вести. 1861. № 3. Литературное обозрение и заметки. С. 14–15). В таком контексте определения «великий Белинский» и «великий Островский» имели иронический смысл. «Невеждой и крикуном» (хотя и не в буквальном смысле этих слов) выглядел Белинский также в статье «Из современных записок», принадлежавшей перу известного библиографа, а впоследствии начальника главного управления по делам печати M. H. Лонгинова (1823–1875). Утверждая, что Белинский «не знал последовательно событий истории литературы» и «отношений писателей между собою», что «история литературы самая слабая сторона в сочинениях» критика, Лонгинов писал: «Нельзя принимать безусловно всех его литературных приговоров, писанных иногда в ослеплении пристрастья. Это могут делать только некоторые рьяные фельетонные витязи, о которых сказано в одном неизданном стихотворении:
Они умели занять у Белинского только его недостатки и довести их до крайностей <…> Поставьте Белинского в пример людям самонадеянным и невежественным, они дойдут до нелепости, пародируя и преувеличивая именно его темные стороны. За эти недостатки подлежит и Белинский нелицеприятному суду…» (Рус. вести. 1861. № 6. С. 129, 130–131). Автором процитированного «неизданного стихотворения» был князь П. А. Вяземский, в стихах которого имя Белинского фигурирует неоднократно (см.: Вяземский П. А. Избранные стихотворения. M. Л., 1935. С. 312, 447, 448, 451, 452, 460)
252
Это наша Диогенова бочка. — Согласно античному преданию, киник Диоген (ок. 404–323 до н. э.) призывал довольствоваться малым и потому жил в бочке. В данном случае этим выражением характеризуется позиция «Свистка» в отношении литературно-общественной жизни.
253
Помню я, как у нас Жорж Занд называли Егором Зандом, а Барбеса — балбесом. — Подразумевается одно из высказываний О. И. Сенковского, любившего потешаться над «безнравственностью» и «сумасбродством» убеждений и творчества Ж. Санд: «… великая Егор Санд произвела великую драму „Козима“, каковая великая драма, от природы очень скучная, а по содержанию своему весьма беспутная, упала головою вниз, хотя в ней разложена была полная коллекция безнравственных умствований, которые составили славу романов упомянутой Егора Санд» (Библиотека для чтения. 1840. T. 12. № 8. «Смесь». С. 27). Тем не менее отношение Сенковского к Жорж Санд было скорее двойственным, нежели безоговорочно враждебным. Так, например, русский перевод повести Жорж Санд «Ускок», которым восхищался юноша Достоевский (см.: Дневник писателя. 1876. Июнь), появился именно в «Библиотеке для чтения» (1838). Арман Барбес (1809–1870) — французский революционер. Вместе с Луи Огюстом Бланки (1805–1881) руководил в 1839 г. вооруженным восстанием в Париже, которое потерпело поражение.
254
…выгодно для всех «умеющих разрешать загадку жизни». — Намек на стихотворение Г. Гейне «Вопросы» (Книга песен. Цикл стихов «Северное море», II); рус. пер. Ф. И. Тютчева и M. Л. Михайлова (см.: Генрих Гейне: Переводы русских поэтов. M., 1956. С. 28, 92).
255
. …выставлен был на смех и на позор публике некто Виссарион Вихляев; имя Виссарион сильно намекало на одно из действующих лиц тогдашней литературы. — В 1830-1840-х годах Белинский, его идеи и манера речи пародировались на театральных подмостках не раз. По свидетельству А. И. Вольфа, в сезон 1838–1839 гг. «для разъезда дана была комедия „Семейный суд“, замечательная только тем, что в числе действующих лиц фигурирует студент Виссарион Григорьевич Глупинский, все толкующий о гегелевской философии, об объективной индивидуальности и проч. Явно, что под именем Глупинского следует разуметь Белинского, находившегося тогда еще в Москве, но уже сделавшегося известным своими критическими статьями. Только знаменитость может удостоиться чести пародии. Мартынов был натурален и прост в этой роли и нисколько ее не утрировал» (Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1881 года. СПб., 1877–1884. Ч. 1–3. С. 71). Автором этой комедии был В. А. Каратыгин. В сезон 1847–1848 гг. в чиновничьей и купеческой среде большим успехом пользовался водевиль П. А. Каратыгина «Натуральная школа». А. И. Вольф характеризует этот водевиль следующим образом: «Что качается до „Натуральной школы“, то она имела, что называется у французов, un succès de scandale (скандальный успех). Под видом учителей, выписанных для женского пансиона, являются представители молодого литературного поколения, сотрудники „Отечественных записок“ и „Современника“, и употребляют фразы, напичканные философскими и научными терминами, которыми часто злоупотреблял Белинский. Максимов 1-й копировал И. И. Панаева, выведенного в пьесе под именем Вихляева…» (там же. С. 125) Достоевский, по-видимому, смешивает обе пьесы.
256
...ишь пачулей надушился, обольститель, ловлас… — Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнул относительнонас и «Русский вестник»… — Сравнивая полемические приемы Каткова с «заушениями» падкой на дешевую сенсацию «толпы», глумившейся в свое время и над Белинским, Достоевский не преувеличивал. В изображении редактора «Русского вестника» Достоевский — автор статьи «Образцы чистосердечия» — действительно был представлен одним из «эманципаторов с грязными руками», бульварным волокитой, мечущим бисер перед доступной женщиной. Катков писал. «Уничтожив Камня-Виногорова, критик журнала „Время“ обращается в заключение к г-же Толмачевой с изяществом франта, надушенного пачулей <…> с чувством возвышенного самодовольства он выставляет на вид изящество своих манер и сличает свою особу с распростертым фельетонистом, который грубо заявил неприличие факта, любезно признанного опасным». И далее: «Мы не знаем, из каких внутренних побуждений взялись обличительные заметки Камня-Виногорова; но не совсем опрятный тон этих заметок много ли хуже этого опрятного легкомыслия, которое слышится в словах элегантного критика, поднесшего свой букет артистке с любезным замечанием, что настоящее слишком грязно и пошло для нее, что она с своими воззрениями и мимическими чтениями „Египетских ночей“ принадлежит лучшему будущему?» (Рус. вести. 1861. № 3. С. 25, 34, 35). Ловлас — герой-соблазнитель в романе С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747–1748), имя его стало нарицательным.
257
…уж не выводит ли «Русский вестник» нашего участия в эманципации из того, что мы соглашаемся, что в романах Дюма-фиса и во французских водевилях чрезвычайно много сального, цинически обнаженного, грубо извращенного, и что читать и смотреть их несравненно опаснее, чем слушать «Египетские ночи»? — Подразумевается согласие Достоевского с заявлением Толмачевой о том, что развращающим воздействием на «дам и девиц» чреваты не «Египетские ночи» Пушкина, а «грязные и безнравственные французские романы» и «пошлые французские водевили». Дюма-фис — Александр Дюма-сын (1824–1895) — французский романист и драматург, автор романа (1848) и драмы (1852) «Дама с камелиями».
258
Читали вы «Семейную хронику»? Помните там, как жена Багрова целый год прикладывала к голове своей пластырь? — Достоевский напоминает одно из колоритных описаний чрезмерно крутого обращения со своими домочадцами Степана Михайловича Багрова — деспотического главы патриархального семейства, изображаемого в «Семейной хронике» С. T. Аксакова (Аксаков С. T. Собр. соч. M., 1955. T. 1. С. 113).
259
…ведь это было восемьдесят лет назад… — Рассказав о насильной — по приказу помещика-самодура Куролесова выдаче замуж крепостной женщины, у которой уже «есть муж и двое детей», автор хроники заключает: «Трудно поверить, что могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет. Но в истине рассказа нельзя сомневаться».
260
В этом номере нашего журнала мы печатаем подробнейшее изложение известного процесса госпожи Лафарж… — Истории г-жи Лафарж, осужденной в 1840 г. за отравление мужа, была посвящена одна из статей цикла «Из уголовных дел Франции» (Время. 1861. № 5).
261
…умысел другой тут был. — Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты» (1808).
262
А ведь вы знаете историю; вы часто о ней говорите. — Намек на конфликт Каткова с профессором H. И. Крыловым, специалистом по истории римского права, отважившимся на сотрудничество во враждебной «Русскому вестнику» газете «Молва». В отмщение за это Катков поместил на страницах своего журнала несколько ругательно-полемических статей, указывающих на «ученическое неведение» историка.
263
…«вопрос, которого не разрешите вы»! — Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).
264
Он и перед этим еще говорил о Пушкине много оригинального… — Достоевский имеет в виду суждения Каткова о Пушкине (в статье «Наш язык и что такое свистуны»), предваряющие полемику с защитниками Толмачевой и апологетами «Египетских ночей». Сделав ни к чему не обязывающий реверанс в сторону журнала «Время» («Нам очень приятно, что „Время“ горячо отстаивает Пушкина от г-д — бова, Дудышкина и других»), Катков далее так пишет о поэте: «…пусть скажут, соответствует ли все им сделанное тем силам, которые в нем чувствуются, и пусть также скажут, что значит Пушкин для остального мира, между тем как везде, а равно и у нас, видим мы могущественное влияние Байронов и Шиллеров? <…> Пушкин действительно выразил момент жизни нашего общества, и мы чувствуем понятные нам указания этой жизни; он, может быть, коснулся и более глубоких основ ее, которые могли бы иметь всемирное значение, но эти намеки не ясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны; мы сами сомневаемся и спорим об их значении». И далее: «Давно уж замечено о странной судьбе наших талантов: они исчезали со сцены в ту самую минуту, когда только что можно было ожидать от них зрелого слова; они являлись проблесками и исчезали в ту самую пору, когда начинали становиться действительной силой. Как будто судьба колебалась, дать ли ход тем развитиям, которые могли бы запечатлеть наше русское слово бессмертным значением; как будто не было еще решено, наступила ли пора заявить в нашей жизни истинные начала, которые таятся в нашем призвании. Действительно, пора эта еще не наступала, и жизнь лучших умов в нашей среде была и остается жизнию одних надежд и чаяний» (Рус. вести. 1861. № 3. С. 17–18). Заметив по поводу именно этих суждений Каткова: «но теперь мы не будем разбирать его окончательного мнения», — Достоевский выступит с развернутым возражением своему оппоненту в статье «Книжность и грамотность».
265
На все эти мнения мы будем отвечать в особой статье, как мы уже обещали прежде, в начале появления нашего журнала. — Речь идет об обещании, данном Достоевским в заключительной части Введения к «Ряду статей о русской литературе». В «особой» статье Достоевский собирался опровергнуть «некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах», то есть в «Современнике» (статьи Добролюбова о Марко Вовчок, Никитине и др.) и в «Отечественных записках» (статья Дудышкина). Ответом Добролюбову явилась статья «Г-н — бов и вопрос об искусстве».
266
…по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской. — Венера Медицейская — римская копия с греческой статуи I в. до н. э., найденная в 1680 г. близ Рима и приобретенная семейством Медичи (отсюда ее название) В настоящее время — в галерее Уффици во Флоренции. Венера Милосская — эллинистическая греческая статуя II в. до н. э., найденная в 1820 г. на острове Милосе. Хранится в Париже, в Лувре.
267
Разве резец не только Фидия и Праксителя — до последних выражений страстности? — Фидий (V в. до н. э.) и Пракситель (V в. до н. э.) — великие древнегреческие скульпторы.
268
Разве Рашель — на клятву Клеопатры. — Рашель (сценическое имя Феликс-Элизы Рашель, 1821–1858) — знаменитая французская трагическая актриса, выступавшая в классическом репертуаре и гастролировавшая в 1850-х годах в Москве и Петербурге.
269
Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь с 1645 г., отец Петра I.
270
Маркиз де Сад (Донасьен-Альфонс-Франсуа, граф де Сад, 1740–1814) — французский писатель, автор романов «Justine, ou Les malheurs de la vertu» (1790); «Juliette» (1798) и др., описывающих извращенную жестокость. См. о нем: Ерофеев В. Метаморфоза одной литературной репутации // Вопросы литературы. 1973. № 6. С. 135–168.
271
…о каких любовниках тут говорится — их было много… — неточная цитата из третьей главы «Египетских ночей» (в оригинале вместо «тут говорится» — «идет речь», вместо «n'aveva» — «aveva»).
272
…«два журналиста в качестве литераторов»…· — Достоевский иронически относит эти слова из третьей главы «Египетских ночей» к представителям современной ему журналистики начала 1860-х годов.
273
Пир; его картина — царица торжественно произносит свою клятву. — Изложение стихотворной импровизации итальянца («Чертог сиял…»), завершающей повесть «Египетские ночи». Импровизация эта представляет дополненную поэтом обработку более раннего стихотворения Пушкина «Клеопатра» (1824–1828).
274
…болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвилье при виде своих жертв. — Мария-Маргарита маркиза Бренвилье (Brinvilliers, ок. 1630–1676) — участница нашумевшего уголовного процесса. В 1676 г. осуждена и обезглавлена за отравление отца, сестер и двух братьев с целью овладения наследством. При аресте у маркизы Бренвилье была обнаружена исповедь с описанием ее переживаний в момент совершения преступлений.
275
…он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории… — По всей вероятности, Достоевский имеет в виду церемонию бракосочетания Клавдия Друза Нерона (37–68), римского императора с 54 г., славившегося своей жестокостью и распущенностью, с мальчиком Спором (см.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. M., 1966. С. 158).
276
…отрывок из письма к нам одного приятеля… — На самом деле это отрывок из полемической статьи H. H. Страхова, также посвященной истории с Толмачевой и вопросу о «Египетских ночах» (см. выше, с. 485–486) Статья предназначалась для журнала «Время», но Достоевский не напечатал ее (см.: Страхов Н. Н. Критические статьи. Киев, 1902. T. 2. С. 263–270; ср.: Нечаева В. С. Журнал M. M. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861–1863. M., 1972. С. 267–208.
277
…Пушкин применил к нам стихи Петрарки… — Цитируемые стихи — из послания Ф. Петрарки (1304–1374) к Джакомо Колонна («A Giacomo Colonna») — Пушкин выбрал эпиграфом к шестой главе «Евгения Онегина».
278
Не в похвальбу — нашей журналистике. — Согласно «Списку экземпляров, разосланных по губерниям в 1862», напечатанном при первом номере «Времени» за 1863 г., у журнала было 4 302 подписчика — больше, чем у «Отечественных записок» и «Русского слова», но меньше чем у «Современника» и «Русского вестника». Это был успех для журнала, издающегося всего второй год, поразительный. «Время» имело основания гордиться таким результатом
279
Даже во многих — любовь. — Продолжение полемики с «отрицательным» направлением «Современника» и принципами «реальной критики» Добролюбова, сформулированными в статьях «Темное царство» и «Луч света в темном царстве».
280
Многие из теперешних — ушли дальше. — Речь идет об «Отечественных записках», где много раз в объявлениях о подписке и статьях главных критиков журнала говорилось о прогрессе, достигнутом ими в разработке проблемы народности после смерти Белинского.
281
Другие наши — за народ — Имеются в виду славянофилы.
282
Третьи хотят — самый лучший. — Имеется в виду «Русский вестник» Каткова, англоманство которого было излюбленной мишенью для полемики и пародий в 1850–1860 годах; его часто высмеивал и Достоевский.
283
Четвертые бродят — в стертый пятиалтынный. — Речь идет о журналах «Современник», «Русский вестник» и в меньшей степени «Русское слово». Выражение «стертый пятиалтынный» Достоевский впервые употребил в статье «Книжность и грамотность», определяя тип человека, утратившего национальные черты и превратившегося в «общечеловека». Начиная с «Объявления» эти же самые слова Достоевский будет язвительно относить к теоретикам крайнего «западничества» и в либеральном, и в революционно-демократическом его вариантах. В «Объявлении о подписке на 1863 год» он писал: «Они (теоретики. — В. T.) хотят единственно начал общечеловеческих и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что все сливается в одну форму, в один общий тип, который, впрочем, они сами никогда не в силах определить» (с. 245). Здесь в равной степени задеты Катков, а также и руководители и сотрудники «Современника» — Добролюбов, Чернышевский, Антонович.
284
Стонет сизый голубочек… — первая строка стихотворения И. И. Дмитриева, неоднократно перелагавшегося на музыку (см.: Иванов Г. К. Русская поэзия в отечественной музыке M., 1966. Вып. 1. С. 118).
285
В том же номере есть и другая «заметка»… — Достоевский допускает ошибку: «Заметка для журнала „Время“», которую он подразумевает, была напечатана не в августовской, а в июльской книжке «Русского вестника» за 1861 г.
286
…чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватали из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде. — Достоевский подразумевает следующее место из «Заметки для журнала „Время“»: «…в этом журнале пространно разбиралась одна из наших статей. Разбор этот действительно не отличается ни особенною добросовестностью, ни знанием дела; рецензент находит в статье то, чего автор не говорит; спутывает мысли и факты и опровергает произведения собственной фантазии…» (Рус. вести. 1861. № 7. Литературное обозрение и заметки. С. 97). Из контекста «Заметки…» не ясно, против какой именно рецензии или статьи «Времени» нацелен этот выпад.
287
…нет науки, нет литературы? — Вы уж так часто об этом говорили и прежде… — Достоевский имеет в виду высокомерные суждения Каткова о скудости современной «литературы без науки», высказанные в статье «Несколько слов вместо „Современной летописи“» (Рус. вести. 1861. № 1).
288
Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет… — Подразумеваются пренебрежительные суждения о русской народности в той же статье Каткова, подвергнутой резкой критике в статье Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“». По вопросу о народности «Русскому вестнику» возражали также «Отечественные записки», поддержанные Достоевским в статье «Книжность и грамотность» (Время. 1861. № 7). «„Русский вестник“, — отмечал здесь Достоевский, — бесконечно неправ, говоря, что „там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет“, и „Отечественные записки“ совершенно правы, отвечая ему на это…».
289
«Иван Александрович! Ступайте управлять департаментом!»— Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. III, явл. 6). В данном случае Достоевский применяет против Каткова его же полемическое оружие. В полемике с «Временем» Катков обвинял сотрудников этого журнала, метя, главным образом в Достоевского, в хлестаковщине, фразерстве и фанфаронстве.
290
…один я соловей — Нет, вы нам сами сделайте свое собственное фью-фью-фью, как говорит г-н Щедрин..:— Стремясь уязвить самолюбие Каткова, Достоевский ставит его на одну доску с автором бессодержательных и претенциозных обличений, высмеянных в очерке Щедрина «Литераторы-обыватели» (Современник. 1861. № 2). Обращаясь к этому обличителю, Щедрин писал: «Вспомните, mon cher, что соловей потому имеет право наслаждаться самим собой и заслушиваться до опьянения своих песен, что песни, которые он поет, суть его собственные песни! Сделайте-ка нам ваше собственное „фю-ию-ию-ию“, и тогда я первый готов буду признать ваше право на самонаслаждение» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1965. T. 3. С. 452).
291
«..Щедрин, которого вы так хорошо знаете» — намек на то, что большинство очерков из циклов «Губернские очерки» и «Невинные рассказы» (1856–1857) впервые публиковались в «Русском вестнике» В течение 1857 г. в типографии Каткова было отпечатано также несколько отдельных изданий «Губернских очерков».
292
…жизнь придет сама собою и принесет что-нибудь, самое лучшее, аглицкого товару-с… — Намек на англоманство Каткова, которое особенно желчному осмеянию подвергнется несколько позже в статье Достоевского «Щекотливый вопрос» (октябрь 1862 г.).
293
Налагаете бремена тяжкие и неудобь-носимые… и т. д. — Достоевский имеет в виду слова из Евангелия: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 46).
294
Мы согласились, что крикуны ошибаются. — Согласие с Катковым имеет здесь безусловно иронический оттенок. Достоевский намекает на одно из основных положений своей статьи «„Свисток“ и „Русский вестник“», где «крикуны» и «свистуны» до известной степени оправдываются им и даже берутся под защиту.
295
…вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотами»… — «Полемические красоты. Коллекция первая», направленные против «Русского вестника», были напечатаны в шестой книжке «Современника» за 1861 г.
296
Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. — Достоевский имеет в виду резкий тон Чернышевского в «Полемических красотах» и неоправдавшиеся надежды «Русского вестника» на смягчение этого тона. В отрывке из статьи Каткова «Старые боги и новые боги» (Рус. вести. 1861. № 2), цитируемом в «Полемических красотах», есть строки: «Г-н Чернышевский <…> начинает уже говорить человеческим языком по предметам политической экономии» (Чернышевский H. Г. Собр. соч. M., 1950. T. 7. С. 716).
297
Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним. — До опубликования настоящей статьи выпады Достоевского против Чернышевского были сравнительно немногочисленны и не отличались враждебностью. Чернышевский, например, подразумевался при нападках Достоевского на «утилитарную» теорию искусства в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Гораздо резче выпады против Чернышевского в записных книжках 1860–1862 гг. Говоря: «Мы так часто задевали…», Достоевский, быть может, имеет в виду и выпады против Чернышевского некоторых сотрудников журнала, например H. H. Страхова.
298
«Отечественные записки», после этих красот, поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом — единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. — В июльской книжке «Современника» за 1861 г. Чернышевский поместил вторую половину «Полемических красот» («Коллекция вторая, красоты, собранные из „Отечественных записок“»). Достоевский имеет в виду следующие отклики на них и на ряд других статей Чернышевского («О причинах падения Рима», «Граф Кавур», «Непочтительность к авторитетам» и др.), напечатанные в августовской книжке «Отечественных записок» за 1861 г.: 1) Альбертини H. В. Политические идеи Токвиля и отзыв о нем в «Современнике»; 2) Альбертини H. В. Автору «Полемических красот»; 3) Бестужев-Рюмин К. H. Французские софизмы в параллель с русскими; 4) Анонимный обзор в отделе «Русская литература», принадлежащий, судя по некоторым полемическим выпадам, перу фактического редактора журнала С. С. Дудышкина; 5) заключительную часть раздела «Современная хроника России», написанную С. С. Громекой; 6) приложенное к этой хронике пространное письмо «От С. С. Громеки к H. Г. Чернышевскому». Все эти публицисты обвиняли Чернышевского в поверхностной или грубо тенденциозной интерпретации текущих проблем политики, философии, истории и литературы.
299
…только в «Десяти итальянках» и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. — «Десять итальянок» — «A decade of italien women» — нечто вроде исторического романа или очерков английского писателя Томаса Адольфуса Троллопа (1810–1892). В августовской книжке «Отечественных записок» за 1861 г. печаталось окончание этого произведения без указания имен автора и переводчика.
300
То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. — В указателе литературы о Чернышевском, относящейся к этому периоду, о нем зафиксирована только одна брошюра: Гогоцкий С. С. Заметка на статью «Современника» «Национальная бестактность». 2-е изд. Львов, 1864. По словам автора указателя, «заметка» эта, датированная ноябрем 1861 г., представляла собою «оттиск из какого-то заграничного издания», вышедшего в свет, надо полагать, в конце 1861 или в начале 1862 г. (см.: О Чернышевском. Библиография. 1854–1910. Сост. M. H. Чернышевский. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1911. С. 8, 12). Но эта брошюра была написана не в Москве и скорее всего позже настоящей статьи Достоевского. Возможно, говоря об «отдельных брошюрах», Достоевский подразумевал направленную против Чернышевского статью П. Д. Юркевича (1827–1874) «Из науки о человеческом духе», которая сначала была напечатана в «Трудах Киевской духовной академии» (1860 № 4) и перепечатывалась затем в весьма значительных извлечениях в апрельской и майской книжках «Русского вестника» за 1861 г. Достоевского могло ввести в заблуждение следующее замечание Каткова, предваряющее перепечатку статьи Юркевича в «Русском вестнике»: «Имя г-на Юркевича, преподающего в Киевской академии философию, встретилось нам здесь впервые, под статьею, которая по своему объему (195 страниц) могла быть издана особою книжкой» (Рус. вести. 1861. № 4. С. 79).
301
…к чему вы напечатали стихотворение князя Вяземского… — Речь идет о стихотворении П. А. Вяземского из цикла «На дороге и дома», напечатанном в августовском номере «Русского вестника» за 1861 г. под рубрикой «Заметка». По-видимому, Достоевский истолковал это стихотворение как пасквиль на Чернышевского, использованный Катковым в качестве ответа на «Полемические красоты».
302
…мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли, поворотите на одну дорожку. — Достоевский имеет в виду свою оценку направления «Русского вестника», высказанную в статье «Книжность и грамотность»: «„Русский вестник“, вступив благополучно на свою новую булгаринскую дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству „Отечественных записок“, усомнился даже в существовании русской народности». Прогноз Достоевского оправдался, и впоследствии он с удовлетворением вспоминал в статье «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (1863), что «Время» «обличало г-на Каткова и предрекало ему новобулгаринский путь» уже в самом начале шестидесятых годов.
303
…по временам — протестах против горькой действительности… — Намек на крестьянские восстания под предводительством Разина и Пугачева, имена которых упоминались несколько позже в напечатанных во «Времени» статьях А. П. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» и M. В. Родевича «Некоторые черты из истории послепетровского времени» (Время 1862. № 10–11; 1863. № 4). Достоевский, по всей вероятности, учитывал при этом и книгу H. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» 1858 г., в которой рассказывалось о поголовном уничтожении помещиков восставшими крестьянами.
304
Одна фаланга нынешних теоретиков не только отрицает существование русского земства — но просто отрицает в самом принципе народность. — Достоевский подразумевает публицистов «Современника» — Чернышевского, Добролюбова, Антоновича.
305
Еще у Шиллера маркиз Поза мечтает о космополитизме. — См.: Шиллер Ф. Дон-Карлос, д. III, явл. 10; д. IV, явл. 21.
306
Петровские реформы создали у нас — так называемое образованное общество, переставшее не квас пить, как уверяет «Современник», а вместе с квасом и мыслить о Руси… — Полемический ответ на ироническую интерпретацию «Современником» истории становления славянофильской, а вместе с тем и почвеннической доктрины. В статье «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе „Времени“)» Антонович писал: «История „почвы“ начинается с „Маяка“, толковавшего, впрочем, не о почве, а о народности. С легкой руки почтенного журнала поднялись продолжительные и ожесточенные споры о народности; явилась народность в науке, народность в искусстве, народность в жизни; явилось также и отрицание этой троякой народности. <…> Вдруг раздается новая фраза: „почва“ <…> Фраза о почве до того мила своей неопределенностью, что на ней сошлись и согласились даже те, которые некогда враждовали между собою из-за фразы о народности <…> и другая сторона враждовавших принялась распевать по древним „крюкам“:
„Да, мы оторвались от почвы, от утробы и персей нашей матушки — Древней Руси, затянули полное тело ее, красавицы, в узкое немецкое платье, вместо квасу поим ее водою. А то ли дело квас! Подкрепляемые им римляне покорили весь мир. И если б мы пили квас, давно бы уже соединили всех славян в одну огромную братскую семью, и земля наша была бы тогда велика и обильна“» (Современник. 1861. № 12. С. 172, 173).
307
…они не понимают и того, что значит «сблизиться с народом» — не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение. — Достоевский повторяет обвинения по адресу «западничества», высказанные им уже ранее в полемике с «Русским вестником». Главным средством сближения образованного класса с народом (или земством) Достоевский считал взаимовыгодный обмен духовными ценностями, то есть, по его определению, «просвещение <…> с обоих концов». В статье «Последние литературные явления. Газета „День“» та же идея выражена словами народа, обращенными к русским образованным людям, прошедшим выучку на Западе: «Научите же вы меня теперь тому, что вы за морем узнали, и опишите мне в точности все ваши странствования и страдания. Я же вас научу тому, что вы своего позабыли».
308
«Мы ли к народу должны подойти, — говорит «Современник», — или он к нам?» — «Народ должен подойти к нам, или, лучше, мы должны подвести его к себе…» — Осудив незадолго перед тем методы народного просвещения, рекомендованные деятелями славянофильского и либерального толка (см. статью «Книжность и грамотность»), Достоевский не соглашается здесь с выводами также и демократа M. А. Антоновича (в статье «О почве…») о роли грамотности для улучшения положения народа. Последний полагал, что без руководства со стороны разночинно-демократической интеллигенции народ будет читать не столько «хорошие», сколько те «дурные книги», при виде которых «невольно возбуждается досада на изобретение типографского искусства». Поэтому Антонович утверждал: «…народ, предоставленный самому себе и своему настоящему течению, не далеко уйдет по пути развития <…> верхний слой необходимо должен помогать ему» (Современник. 1861. № 12. С. 184, 185). Это рассуждение Антоновича Достоевский полемически квалифицирует как проявление «олимпийского величия» публицистов «Современника», их неверия в народные идеалы.
309
«А народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа». — В пылу полемики Достоевский приписывает в данном случае Антоновичу точку зрения на народ, скорее близкую взглядам В. А. Зайцева, но совершенно чуждую направлению «Современника». Из контекста статьи «О почве…» видно, что подобная — пассивистская — точка зрения решительно осуждалась Антоновичем. Он писал: «Есть еще целая группа взглядов на почву, по-видимому самых разнообразных, но в существе дела очень сходных между собою; все они, подобно изложенным выше, приводят к апатии и совершенному равнодушию в народном деле. „Везде и во всем, говорят одни, много значит народ. А посмотрите на наш народ, что он такое? Как он глуп, груб и невежествен! Он ничего не знает, не понимает своего положения, своих отношений и своих выгод; что прикажете делать с ним? Нет, нет, ничего не поделаешь; наш народ слишком, слишком невежествен; оттого-то он и находится в таком положении. Оттого-то участь его так горька. Никак нельзя и помочь ему, подождем, пока он хоть немного образуется и сделается повежливей“» и т. д. (см.·. Современник. 1861. № 12. С. 183, а также С. 184–185).
310
Нас убеждают согласиться в том, что народ — наше земство — глуп, потому что г-да Успенский и Писемский представляют мужика глупым… — Достоевский полемизирует здесь со вступительной частью статьи Чернышевского «Не начало ли перемены?», в которой говорилось о том, что своими рассказами H. В. Успенский внес значительный вклад в русскую литературу, отказавшись от идеализации народа, свойственной его предшественникам — Д. В. Григоровичу, И. С. Тургеневу и др. «Ведь г-н Успенский выставил нам русского простолюдина простофилею, — писал Чернышевский. — Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь кроме тупой нескладицы в народных мыслях» (Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч. M., 1950. T. 7. С. 874). Имя Писемского в статье Чернышевского не упоминается, но Достоевский имел основание назвать его народные рассказы в одном ряду с рассказами H. Успенского, так как в них акцентируется обычно также «нескладица в народных мыслях».
311
…не утешает нас даже и то соображение, представленное «Современником», что массы везде глупы — они поступают большею частию машинально. — В статье «Не начало ли перемены?» Чернышевский писал: «Русскому мужику трудно связать в голове дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум слишком неповоротлив, рутина засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже их…» (см. там же. С. 875). Определения «машинальное движение», «машинальное действие», «машинальное напряжение» при характеристике поведения и отдельного человека, и массы народа не раз употребляются Чернышевским в той же статье (см. там же, С. 885, 886). Близкое употребление этого определения мы встречаем в обобщающих характеристиках купеческой среды в статье Добролюбова «Темное царство»: «Там господствует вера в одни раз навсегда определенные и закрепленные формы. Знания здесь ограничены очень тесным кругом, работы для мысли — почти никакой; все идет машинально, раз навсегда заведенным порядком» (Добролюбов H. А. Собр. соч.: В 9 т. M.; Л., 1962. T. 5. С. 105).
312
…указало значение земства в нашей истории и непосредственное его выражение — общинный быт. — Здесь имеются в виду главным образом сочинения К. С. Аксакова, о котором Достоевский писал в статье «Последние литературные явления. Газета „День“». Незадолго перед этим (1861 г.) вышел в свет первый том «Полного собрания сочинений» К. С. Аксакова.
313
Поставляя выше всего, хотя и понимая по-своему интересы земства… — В передовой статье «Дня» (День. 1861. 3 дек. № 9) говорилось о том, что успешное решение важных практических задач пореформенного общественного развития — «вопроса о земских повинностях, об областном управлении, о судопроизводстве и о прочих преобразованиях, необходимость в которых так уже гласно заявлена», — по-настоящему возможно лишь после решения проблемы массового и добровольного перехода дворян в земство. К этим декларациям «Дня» редакция «Времени» относилась скептически. В статье «Рассказы H. В. Успенского» И. С. Аксаков сравнивался с «господином, который поклялся не прикасаться к воде, пока не выучится плавать». «„День“ <…> серьезно уверяет, — не без сарказма отмечалось в статье, — что в настоящую минуту мы, русские, не можем приступить ни к каким внутренним и самым необходимейшим для нас реформам, пока, дескать, помещики и дворяне все сами собою, совершенно и безусловно не перейдут в земство (№ 9-й „Дня“). Идея о переходе в земство великолепнейшая и плодотворнейшая. Но жди пока это случится само собою» (Время. 1861. № 12. Отд. II. С. 176).
314
…сказал такое живое и дельное слово — вопросе дворянском… — Подразумевается позиция «Дня» по вопросу о путях упорядочения новых экономических отношений между крестьянством и дворянством после 19 февраля 1861 г. Согласно положению о крестьянской реформе, за отходящую к ним землю крестьяне обязаны были в течение нескольких лет выплачивать своим бывшим владельцам денежный выкуп. Однако они зачастую не соглашались подписывать «уставные грамоты», регламентировавшие такие отношения между ними и помещиками. Как и большинство дворян, И. С. Аксаков считал, что отказ помещика от выкупа за землю означал бы его разорение. Вместе с тем он настойчиво доказывал, что и строптивость «освобожденных» крестьян естественна, так как в их сознании понятие о барщине и оброке неразрывно связано с крепостным состоянием, уже отмененным. Пореформенные «недоразумения» между крестьянами и помещиками И. С. Аксаков предлагал разрешить способом, рекомендуемым в пространной статье Д. Ф. Самарина «Уставная грамота», печатавшейся в нескольких номерах газеты «День». Опираясь на знание «народного быта» и народной психологии, на присущее народу, по его мнению, уважение к высшей власти, Д. Ф. Самарин уверял, что крестьяне охотно пойдут на уплату выкупа в форме государственной подати, взимаемой правительственными чиновниками. Полученную сумму правительство отдаст помещикам и таким образом претензии конфликтующих сторон будут удовлетворены. В случае же ежегодной недоимки в размере 4 или 5 миллионов рублей Д. Ф. Самарин советовал помещикам проявлять гуманность, свойственную просвещенным людям, и не настаивать на взыскании этой недоимки в последующие годы (День. 1861. 25 ноября. № 7. С. 2–5).
315
…о цензе, широко им понятом… — В статье «Москва. 23 декабря» Аксаков доказывал, что одинаково вредны как высокий, так и низкий поземельный цензы, назначаемые для вступления в высшее сословие. В первом случае это привело бы, по его мнению, к созданию замкнутой привилегированной касты наподобие западноевропейской поземельной аристократии, к которой большинство народа будет испытывать «неприязненное» чувство и служить «опорою всякому враждебному для меньшинства действию». Низкий же ценз сыграл бы роль развращающей приманки, вытягивающей из народа «лучшие его соки», которые в иной среде лишатся своей «органической производительности». Низкий ценз, полагал Аксаков, мог бы создать в России «нечто вроде польской шляхты — вредной общественной стихии, не имеющей ни той силы, какую дает аристократическое начало, ни силы, сознаваемой в себе массою простого народа, с которой разделяет шляхту ложный принцип превосходства» и т. п. Заключая свою статью славянофильским прогнозом идеального общественного устройства России, в котором будут мирно сосуществовать равноправные стихии личного и общинного землевладения, и предостерегая от попыток искусственного создания, в том числе с помощью ценза, всякого рода привилегий и «соблазнов», Аксаков утверждал: «В этом отношении должна быть предоставлена полнейшая свобода самой жизни; но это не свобода, если, например, для общины, для ее развития, затворив крепко все двери, вы оставите отворенною только одну — выход из общины в сословие личных землевладельцев…» (День. 1861. 5 дек. № 11).
316
Он поднял в интересах русской народности и польский вопрос… — В течение второй половины 1861 г. славянофильский «День» вел полемику с Чернышевским. Последний в статье «Национальная бестактность» (Современник. 1861. № 7) упрекал львовскую газету «Слово» за разжигание национальной розни между русинами и поляками, вредной для обоих народов, коренные интересы которых совпадают. Чернышевский разъяснял, что определяющей особенностью общественно-политической жизни Галиции является, как и в любом другом уголке земного шара, борьба сословий, а не народностей, и что все ее население равно испытывает гнет самодержавия. Статья Чернышевского вызвала возражения В. Ламанского и П. Лавровского (День. 1861. № 2–5), доказывавших, что и в XIX веке поляки высокомерно третируют русинов, малороссов и русских как племена низшие по развитию и так же, как их предки, мечтают о расширении своих границ до Днепра (включая Киев и Киевскую область) и Смоленска. «Не в одних русских видах, но для блага всего славянства обязаны мы соблюдать целость и единство русской земли», — писал В. Ламанский, делая отсюда вывод о необходимости бороться с угрозой этому единству со стороны Польши (День. 1861. 21 окт. № 2. С. 17).
Итоги полемики в «Дне» подвел И. С. Аксаков, высказавший ряд соображений по польскому вопросу, которые — в той или иной мере — были близки позиции журнала братьев Достоевских. Аксаков писал, что Россия «менее всех неправа в разделе и уничтожении Польши, но, как страна нравственная, тяжелее всех чувствует то, что было неправого в этом деле». Передовая Аксакова заканчивалась выражением надежд на будущее примирение России и Польши и призывала к всеславянскому единению. «Мы убеждены, что рано или поздно последует теснейшее и полнейшее, искреннее соединение славянской Польши с славянскою же Россией, что к тому ведет непреложный ход истории, — но не лучше ли, ввиду такого неизбежного исторического решения, предупредить все, что грозит нам бедой, враждой и раздором, добровольно, сознательно покоясь взаимно в исторических грехах своих, соединиться вместе братским, тесным союзом против общих врагов — наших и всего славянства?» (День. 1861. 18 ноября. № 6. С. 3, 4).
317
«Все ложь, все фальшь — все внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, заражены ею (то есть ложью)». — Неточная цитата из передовой статьи И. С. Аксакова «Москва. 14-го октября» (День. 1861. 15 окт. № 1), которую Достоевский уже цитировал раньше в статье «Последние литературные явления. Газета „День“» (наст, том. С. 147). За ту же мысль о фальши во «всем» критиковал Аксакова Чернышевский в статье «Народная бестолковость» (Современник. 1861. № 10; ср.: Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч. T. 7. С. 829).
318
Назад тому два месяца мы спрашивали у «Дня»: Неужели мы в полтораста лет хотя бы quasi-европейской жизни не вынесли ничего доброго, и только внутренне развратились… — Достоевский ссылается на свою статью «Последние литературные явления. Газета „День“» (Время. 1861. № 11 12; ср.: наст. том. С. 145), в которой он резко критиковал славянофилов за идеализм в понимании русской жизни и безоговорочно враждебное отношение к европейскому.
319
Нам припомнилась одна тирада из передовой статьи „Дня“ — которую мы всегда будем считать неизгладимым пятном наредакции. — Речь идет о передовой «Москва. 28-го октября». И. С. Аксаков резко осуждал в ней «студенческие беспорядки» в Петербургском университете (осень 1861 г.). Он расценивал их как прямое порождение «ложной» образованности послепетровского периода, и высказывал по адресу учащейся молодежи обвинения, граничившие с доносом. Обращаясь непосредственно к студентам и обзывая их «пустоцветами» и «пустозвонами», Аксаков советовал им «учиться» и не помышлять об участии в общественной жизни: «Бросьте все ваши бесполезные толки, волнения без содержания и без цели <…> Сами вы знаете, нигде, ни в каком государстве подобные явления не могут быть терпимы <…> вы еще не имеете полных прав гражданских, а следовательно, и голоса в делах общественных» (День. 1861. 28 окт. № 3. С. 2).
320
…что произвело наш русский раскол? — нельзя московскую, допетровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. — Достоевский возражает против основного положения статьи «Краткий исторический очерк земских соборов», являвшейся, по существу, перепечаткой авторского вступления к первому тому Полного собрания сочинений К. С. Аксакова (M., 1861). Полемизируя с братьями К. С. и И. С. Аксаковыми, Достоевский в данном случае опирается прежде всего на исторические исследования А. П. Щапова «Русский раскол старообрядства» (Казань, 1858) и «Земство и раскол (с XVIII столетия)» (Отеч. зап. 1861. № 12), в которых раскол рассматривался как выражение народного протеста против самодержавия. В 1862 г. Достоевский поместил во «Времени» несколько статей о расколе, написанных Щаповым, хотя и считал его «человеком без твердого направления деятельности», а потому относился к нему «осторожно» (записная книжка 1876–1877 гг. см.: Нечаева В. С. Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Время». 1861–1863. M, 1972. С. 196–199).
321
«День» говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь… — Подразумеваются слова из передовой статьи И. С. Аксакова «Москва. 14-го октября»: «И сколько накопили мы лжи в течение нашего полуторастолетнего разрыва с народом!.. Это не значит, чтобы до разрыва не было у нас ни зла, ни мерзостей: их было много, но то были пороки, порождения грубости и невежества. Только после разрыва заводится у нас ложь: жизнь теряет цельность, ее органическая сила убегает внутрь, в глубокий подземный слой народа, и вся поверхность земли населяется призраками и живет призрачною жизнию!» (День. 1861. 15 окт. № 1).
322
…бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку… — Приводимое выражение принадлежит не И. С. Аксакову, а А. К. Толстому, напечатавшему в газете «День» (1861. 11 ноября. № 5. С. 3) притчу «Государь ты наш, батюшка…». Здесь говорится о том, как Петр I, заваривая «кашу» государственных реформ из «круп», добытых «за морем», помешивал ее «палкой». В заключение поэт указывает на то, что слишком крутую и слишком соленую кашу, заваренную Петром, придется расхлебывать «детушкам» (см.: Толстой А. К. Собр. соч. M., 1963. T. 1. С. 251).
323
…об образовании народа думали только немногие горячие головы. — По всей вероятности, намек в первую очередь на H. И. Новикова и A. H. Радищева. Незадолго до опубликования статьи «Два лагеря теоретиков» Достоевский поместил на страницах своего журнала статью Д. Маслова «Державин-гражданин» (Время. 1861. № 10), являвшуюся, по существу, панегириком Радищеву и Новикову (см.: Нечаева В. С. Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Время» 1861 1863. С. 204–205).
324
…известную мысль Монтескье — всякий народ достоин своей участи… — Шарль-Луи Монтескье де Секонда (1689–1755) — французский писатель и философ-просветитель, автор сочинения «О духе законов» (1748; рус. пер. кн. 1 — 1755, полностью— 1809–1814), где он утверждает, что законы у каждого из народов отвечают «общему духу нации» и «следуют за нравами» (кн. 19, гл. 4–5, 21–26; ср. Монтескье Ш. Избранные произведения. M., 1955. С. 412, 421–424). В 1862 г. в Петербурге начало выходить новое издание этого наиболее известного труда Монтескье в переводе E. Коренева, вышедшее впервые в 1839 г.
325
Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала. — Подразумеваются Л. Блан во Франции, Ф. Лассаль и Г. Шульце-Делич в Германии, считавшие кооперативные товарищества и производственные ассоциации рабочих, субсидируемые правительством, и ссудосберегательные кассы действенным средством перехода к социализму (см. о Л. Блане: Жуковский Ю. Г. Историческое развитие вопроса о рабочих ассоциациях во Франции // Современник. 1864, № 4, 6). С убеждениями Достоевского в том, что в отличие от западноевропейского капитализма, неизбежно порождающего пролетариат, крестьянская артель представляет оригинальную русскую форму социальной ассоциации, перекликаются выводы помещенной в журнале «Время» (1861. № 3. Отд. II. С. 42–68) анонимной рецензии на книгу А. Корсака «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе и России». Рецензент полагает, что с отменой крепостного права в России создаются благоприятные предпосылки для процветания ассоциаций в кустарной промышленности.
326
…посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями. — Критике архаической системы образования в английских университетах, царящей в них кастово-аристократической замкнутости, нарочитой отрешенности от живой действительности была посвящена во «Времени» анонимная статья M. И. Владиславлева, написанная в связи с выходом в свет книги В. Игнатовича «История английских университетов» (СПб., 1861). Статья заканчивалась рядом четко сформулированных полемических возражений на апологию английской университетской жизни в среде русских англоманов: «И если наши англоманы между хорошими в Англии вещами указывают нам на тамошние университеты, то пусть не обижаются на нас, если мы скажем, что классическое тамошнее воспитание несовременно <…> метод занятий студенческих совсем не приспособлен к принципу систематического развития, какое нужно для современного человека, и к интересам науки; что их нельзя назвать пристанищами свободной науки и что в самой стране они поддерживают господство только авторитета, предания и формы» (Время. 1861. № 11–12. С. 48–49).
327
…времен очаковских и покоренья Крыма. — Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. 2, явл. 5).
328
…Облитый горечью и злостью… — цитата из стихотворения M. Ю. Лермонтова «1-е января».
329
…в своем объявлении об издании газеты «Наше время»… — Далее приводится цитата из объявления, напечатанного в этой газете (1862. 4 окт. № 212).
330
Его обвиняют, что он ретроград. — Многочисленные обвинения такого рода выдвигались «Современником», сатирической периодикой во главе с «Искрой», герценовским «Колоколом» и даже «Русским вестником». Они были обусловлены тем, что с конца 1861 г. под влиянием официального поворота к реакции либерал H. Ф. Павлов перекрасился в охранителя. С этого периода его газета «Наше время» приобретает полуофициозный характер и пользуется регулярной финансовой поддержкой со стороны правительства как привилегированное издание, включившееся в активную борьбу с революционно-демократической идеологией.
Враждебное отношение к Павлову передовой демократической печати безусловно разделялось и Достоевским, всегда очень чутко реагировавшим на несоблюдение этических норм. В своей антипатии к H. Ф. Павлову Достоевский руководствовался также специфически идеологическими, почвенническими соображениями, обусловленными различным подходом его журнала и газеты «Наше время» к дворянскому вопросу. Ряд статей Б. H. Чичерина, печатавшихся в газете Павлова и представлявших собою реакционно-аристократическую апологию дворянства как единственной серьезной руководящей силы в государстве, вызвал еще за несколько месяцев до опубликования статьи «Щекотливый вопрос», самую резкую критику журнала братьев Достоевских (см.: Нечаева В. С. Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Время». 1861–1863. M., 1972).
331
…г-н Краевский, который вовсе никогда не бывал ни весельчаком, ни… ну и так далее… — Типичная для публицистики 1860-х годов насмешка над Краевским. В связи с такого рода выпадами против издателя «Отечественных записок» «Искра» отмечала в своей «Хронике прогресса»: «…А. А. Краевский до того потерял свой ученый и литературный кредит в общем мнении, что сделался развлечением даже для „Развлечения“» (Искра. 1862. 31 авг. № 33. С. 430). Наиболее полное выражение антипатия Достоевского к Краевскому получила несколько позже (см. статью «Каламбуры в жизни и литературе» и комментарий к ней) Впрочем, из дальнейшего контекста «Щекотливого вопроса» видно, что уже и здесь, издеваясь над Катковым, Павловым, Леонтьевым и другими публицистами, все более склонявшимися после крестьянской реформы к правой общественно-политической ориентации, Достоевский ставит по существу в один ряд с ними и Краевского.
332
…кричит в своем пискливом объявлении о «Голосе» — до него сделала Франция. — Это объявление было напечатано в газете «С.-Петербургские ведомости» (1862. 30 авг. № 189). Называя его «пискливым», Достоевский ядовито подчеркивает отчетливо сказавшееся в нем своекорыстие умеренного либерала Краевского, заявившего о своей готовности беспрекословно служить властям предержащим, то есть «держать нос по ветру». Краевский, например, с неодобрением констатировал в своем объявлении, явно солидаризируясь при этом и с Катковым, и с Павловым, что «давно уже, но с особенною силою после Севастополя, дух отрицания овладел» руской литературой и журналистикой сверх всякой меры и до сих пор «не встречает надлежащего отпора». Всегда отличавшийся осторожностью и расчетливой предусмотрительностью, Краевский тем не менее с ханжеским сожалением заявлял о том, что именно «осторожность не была нашею добродетелью». Сущность направления будущего «Голоса» Краевский определял следующим образом: «…будучи твердо убеждены, что время отрицания и разлада проходит, мы радостно приветствуем наступление новой эпохи — эпохи согласного действия сверху и снизу, для сооружения нового на месте разрушенного, для укрепления того, что, по-видимому, поколеблено. Водворению и упрочению этого согласия, от которого только и можно ожидать прочного, действительного прогресса, — будет преимущественно посвящена наша газета…». Достоевский уже здесь не без основания подозревает Краевского в равнодушии к критическому реализму большой русской литературы. Дальнейшие события, в частности предпочтение, отданное Краевским и некоторыми его сотрудниками ежедневной печати, и обнаружившийся при этом недостаток уважения к таким писателям, как Тургенев и даже Гоголь, полностью подтвердили эти подозрения.
Что касается отказа «от республики», Достоевский имеет в виду следующую декларацию из объявления Краевского: «Относительно иностранной политики наше полнейшее сочувствие принадлежит ныне повсюду укрепляющемуся в Европе общественному порядку. При настоящей степени развития общества во всех значительных государствах Европы мы не верим успеху там республиканской формы правления. Франция представляет яркую картину тех результатов, до которых доходит общество, когда оно, подчиняясь влиянию энтузиастов, провозглашает республику, не сделавшись наперед республиканским по мысли и чувству» (С.-Петербургские ведомости. 1862. 30 авг. № 189).
333
Как будто и прежде-то кто-нибудь стоял собственно за республику! — Как будто республики желает кто-нибудь и теперь! — Характерный для Достоевского выпад против нагло преуспевающих буржуа (к которым он относит и Краевского), лицемерно маскирующих свои материально-эгоистические интересы громкими словами о свободе, всеобщем благоденствии.
334
Иных обвиняемых, особенно таких, которые почему-либо не могли защищаться — «Русский вестник» и его редактор г-н Катков. — Под «обвиняемыми» подразумеваются Герцен и отчасти Огарев. В период возникновения петербургских пожаров и появления прокламации «Молодая Россия», призывавшей к свержению самодержавия и немедленному повсеместному физическому уничтожению «императорской партии» (вторая половина мая 1862 г.), в реакционно-либеральных кругах русского общества господствовало убеждение в том, что эти события — прямое следствие провокационных указаний из Лондона. В связи с этим, а также задетый рядом статей Герцена, в особенности же статьею «Молодая и старая Россия», защищавшей авторов упомянутой прокламации, как людей по молодости лет излишне горячих, но безусловно честных и благородных, Катков выступил в своем журнале с пространной «Заметкой для издателя „Колокола“», отличавшейся беспримерной резкостью тона. В этой «заметке» такие определения личности Герцена, как «фразеолог», «бездушный фразер», «жалкий ломака», «шутовской папа», были еще не самыми грубыми. Возлагая на Герцена всю тяжесть ответственности за происходящее в России, Катков называл его человеком, променявшим «совесть» на дешевую популярность, тщеславным «генералом от революции», который «сам сидит в безопасности, а других посылает на подвиги, ведущие их в казематы и в Сибирь» (Рус. вестн. 1862. № 6. С. 834, 844, 845). Катков писал о том, что «Молодую и старую Россию» он прочел «с несравненно большим омерзением, чем прокламацию. Там просто дикое сумасбродство, — утверждал он, — а тут видите вы старую блудницу, которая вышла плясать перед публикой» (там же. С. 848). Откровенной ненавистью была проникнута катковская характеристика деятельности Герцена в целом. Осуждая редактора «Русского вестника» и в данном случае, Достоевский находится под определенным воздействием анонимного автора «Современной хроники России» в журнале «Отечественные записки», который следующим образом отзывался о полемике Каткова с Герценом: «Тут хладнокровие наконец изменило почтенному журналу: он стал раздражителен, сварлив и начал браниться так, как никогда не бранились его противники. <…> Получив возможность бороться с мнением Колокола, он поспешил сейчас же сорвать сердце, дать волю накопившейся желчи, заняться личными счетами <…> Хотелось бы нам сказать кое-что по этому случаю г-ну Герцену, но удерживаемся только потому, что не хотим воспользоваться односторонним правом открыто нападать на те мнения, которые нельзя защищать так же открыто…» (Отеч. зап. 1862. № 8. С. 47–48; курсив наш. — А. В.).
335
…преследовали г-на Владимира Зотова… — Подразумевается вспыхнувшая во второй половине 1858 г. бурная полемика ряда периодических изданий с знакомым Достоевскому, вероятно, еще по кругу петрашевцев В. P. Зотовым, потворствовавшим появлению на страницах редактируемой им еженедельной газеты «Иллюстрация» нескольких анонимных антисемитских фельетонов под общим названием «Дневник знакомого человека», вызвавших негодование всей передовой русской печати. Уже первый из этих фельетонов, рассказывавший о поведении белорусского еврея «г-на N», неожиданно разбогатевшего в результате темных коммерческих махинаций, пестрил сентенциями вроде следующей: «Мильонер — значит великий человек. Долой ермолку, пейсы, балахон, нарядился во фрак — просто цымес! <…> Оставалось съездить в Париж, чтоб сделаться гениальным человеком. И поехал…» (Иллюстрация. 1858. 26 июня. № 25). Это зубоскальство встретило отпор со стороны газеты «Русский инвалид» (1858. № 168), на что «Иллюстрация» не замедлила ответить новым фельетоном (с характерным подзаголовком: «Западнорусские жиды и их современное положение»), в котором плутни, самодовольство и хвастовство «г-на N» квалифицировались уже как типичные черты нравственного облика всего еврейского населения западнорусских губерний (см… Иллюстрация. 1858. 4 сент. № 35). После этого со статьями, осуждавшими «Иллюстрацию» и поднимавшими вопрос о гражданских правах для евреев, выступили M. И. Горвиц (Атеней. 1858. № 42) и И. А. Чацкин (Рус. вести. 1858. № 9). Тогда анонимный сотрудник В. P. Зотова пустил в ход клевету. «Статья наша в № 35 «Иллюстрации», — писал он, — вызвала оппозицию со стороны иудофилов, без всякого сомнения, агентов знаменитого г-на N, который, как видно, не жалеет золота для славы своего имени, и вот явились в печати два еврейские литератора — некто Ребе-Чацкин и Ребе-Горвиц» (Иллюстрация. 1858. 30 окт. № 43).
Включившийся в полемику H. А. Добролюбов писал по поводу процитированного заявления автора «Дневника»: «Смысл этой фразы ясен <…> Передаем этот факт без всяких пояснений, которые считаем в этом случае излишними и даже унизительными для нравственного чувства как своего собственного, так и наших читателей, не нуждающихся, конечно, ни в каких возгласах для оценки подобных явлений. Впрочем, многие уважаемые литераторы и ученые торжественно протестовали против „Иллюстрации“ в „СПб ведомостях“, „Русском вестнике“ и „Московских ведомостях“» (Добролюбов H. А. Собр. соч.: В 9 т. M.; Л., 1962. T. 3. С. 471)». «С.-Петербургские ведомости» (1858). 25 ноября. № 258) напечатали литературный протест, подписанный несколькими десятками имен, в том числе Чернышевским, Тургеневым, К. Д. Галаховым, А. А. Краевским, В. Д. Спасовичем и др. С «Иллюстрацией» полемизировали также не только «Московские ведомости» (1858. № 140, 149), но и «Северная пчела» (1858. № 262). Но самую обширную подборку обличительно-полемических материалов, среди которых видное место занимали статья H. Ф. Павлова «Вопрос о евреях и „Иллюстрация“» и новые списки протестующих (среди них Марко Вовчок (M. А. Маркович), П. А. Кулиш, H. И. Костомаров и T. Г. Шевченко) поместил на страницах своей «Современной летописи» «Русский вестник» (1858. № 11).
Отвечая на этот поток писем, статей и протестов, В. P. Зотов оправдывался тем, что как редактор он физически не в состоянии уследить за каждым неосторожным или бестактным словом своих сотрудников. Тем не менее он не назвал автора «Дневника», укрывшегося под псевдонимом «Знакомый человек» (см.: Иллюстрация. 1858. 27 ноября и 11 дек. № 47 и 49). Недавно установлено, что им был публицист П. M. Шпилевский (см.: Учен. зап. Тартуск. ун-та. 1959. № 78. С. 120).
336
…Как провозвестник // Московских дум и английских начал. — Неточная цитата из сатирического стихотворения «Дружеская переписка Москвы с Петербургом», написанного H. А. Некрасовым совместно с H. А. Добролюбовым и напечатанного анонимно в четвертом номере «Свистка» (Современник. 1860. № 3). У Некрасова:
337
…цитует древнейших мудрецов, так сказать Гостомыслов «Русского вестника»… — Ироническая квалификация сотрудников журнала Каткова, сочинения которых цитировались или упоминались в статье «Кто виноват?» Многие из них подвизались в «Русском вестнике» с начала его существования. Гостомысл — легендарный славянский князь, отличавшийся необыкновенной мудростью. С его именем в русских летописях связывается сказание о призвании на Русь варягов.
338
Стряхнули даже пыль с мирно почивающих, но незабвенных статей г-на Громеки «О полиции вне полиции». — В предшествующей полемике с Катковым Достоевский склонен отвергать обвинение в издевательском и даже мало-мальски пренебрежительном отношении к деятельности С. С. Громеки в «Русском вестнике». Между тем ближайшее знакомство со статьями этого публициста, напечатанными в журнале Каткова, убеждает в том, что отношение к ним со стороны Достоевского не было лояльным. Дело в том, что, критикуя в целом ряде статей неуважение к законам и произвол, бумажную волокиту и безграничный бюрократизм, царящие в русском судебно-полицейском аппарате, Громека в то же время неумеренно восхищался эффективной и в высшей степени общественно полезной, по его мнению, деятельностью лондонской полиции и английского суда присяжных и пропагандировал их в качестве образца для подражания в русских условиях (см.: «Два слова о полиции» // Рус. вести. 1857. № 6; «Пределы полицейской власти» // Там же. 1858. № 5. «Полицейское делопроизводство» // Там же. № 7; «О полиции вне полиции» // Там же. № 10; «Последнее слово о полиции»//Там же. 1859. № 4).
339
Привели цитаты из «Биографа-ориенталиста» и «Чиновника». — Статья H. Ф. Павлова «Чиновник», посвященная анализу одноименной комедии графа Соллогуба, была напечатана в «Русском вестнике» (1856. № 6 и 7). Остроумная и дельная, она снискала одобрение многих литераторов того времени, в том числе таких авторитетных, как Чернышевский и И. С. Тургенев (краткую сводку положительных отзывов о ней см. в кн.: Вильчинский В. П. H. Ф. Павлов. Л., 1970. С. 120–121). Что касается Достоевского, то его, по-видимому, неприятно «изумила» некоторыми своими выводами вторая из названных статей Павлова — „Биограф-ориенталист“ (Рус. вести. 1857. № 3). Она представляла собою реакцию на статью В. Григорьева „Т. H. Грановский до его профессорства в Москве“ (Рус. беседа. 1956. Кн. 3 и 4), в которой набрасывалась тень на нравственный облик Грановского и ставилось под сомнение значение его ученой деятельности и западнических убеждений. Отвергая узкий специализм претензий к Грановскому со стороны В. Григорьева, H. Ф. Павлов писал: «Нам нужны еще не прихотливые произведения ограниченной специальности <…> а, напротив, деятели, подобные Грановскому, которых влияние на общество поднимает науку и в общественном мнении ставит самих специалистов на подобающее им почетное место» (Рус. вести. 1857. № 3. С. 250). Это во многом противоречило точке зрения Достоевского на людей сороковых годов, получившей через десяток лет художественное воплощение в центральных образах романа «Бесы». Еще большее «изумление» у почвенника Достоевского наверняка должны были вызвать и обобщающие суждения автора «Биографа-ориенталиста» на тему о русской «самобытности» и «пристрастии к иностранному»: «Россия оказала пристрастие к иностранцам и прекрасно сделала. У славян иностранное является не историческою случайностью, не подмогой в исторических затруднениях, не временным оживлением, а законом, без которого немыслима их история <…> пристрастие к иностранному обнаруживается не в одних высших классах — это взгляд неверный и поверхностный, а во всех без изъятия, как только свет ученья озаряет в них ум и как только они сталкиваются на практике, в жизни, в домашнем обиходе с плодами иностранной образованности» (Рус. вести. 1857. № 3. С. 226, 227).
340
Как жаль, что ничего не цитировали — посыпанья песком московских тротуаров в июле месяце. — Достоевский вновь подтрунивает над Павловым, подчеркивая убогость сюжета его обличительной статьи «Из московских записок» (Рус. вести. 1859. № 8), в которой метались громы и молнии на этот раз по явно ничтожному поводу. Возмутившись поведением дворника, тупо выполнявшего бессмысленный приказ «хожалого» посыпать песком и без того удушливо пыльные в летний зной улицы Москвы, Павлов указывал затем еще на два-три факта, свидетельствовавшие о халатности и недостатке служебного рвения в действиях низшей городской администрации. Этим, по существу, исчерпывалось содержание его статьи.
341
…г-н Катков, единственно из удовольствия повредить профессору Крылову — статьи, которые именно вели к возбуждению юношества против их наставников и учителей… — Аналогичное обвинение Каткову выдвигалось Достоевским задолго до появления в печати статьи «Кто виноват?». Речь идет о целом ряде статей из. Русского вестника», в которых обличалось невежество профессора римского права H. И. Крылова: «Изобличительные письма» и «Дополнительная заметка» Байбороды, «Письмо к редактору» П. M. Леонтьева, «Объяснение от редактора» M. H. Каткова (Рус. вестн. 1857. № 4). Все эти статьи компрометировали H. И. Крылова в глазах студентов Московского университета, которым он читал лекции. Псевдонимом „Байборода“ пользовались M. H. Катков, Ф. M. Дмитриев и П. M. Леонтьев.
342
…грешнее того козла… — Подразумевается описанный в Библии обряд возложения грехов еврейского народа на козла, отпускаемого затем в пустыню (Книга Левит, гл. 16, ст. 21–22). Отсюда крылатое выражение «козел отпущения».
343
…можно добраться до Аргонавтов… — Другими словами, чуть ли не до начала «истории» рода человеческого. Согласно античной мифологии, аргонавтами (моряками с корабля «Арго») назывались греческие герои, отплывшие во главе с Язоном в далекую Колхиду, чтобы похитить там золотое руно.
344
…или по крайней мере до призвания трех князей варяжских, до сих пор неизвестно откудова. — Отголосок журнальной полемики между сторонниками различных теорий происхождения Руси. Более популярная «норманнская» теория защищалась M. П. Погодиным, автором книги «О происхождении Руси» (1825), «жмудская» — H. И. Костомаровым, выступившим со статьей «Начало Руси» (Современник. 1860. № 1). 19 марта 1860 г. состоялся публичный диспут между Погодиным и Костомаровым, однако вопрос о происхождении Руси остался по-прежнему неясным. В полемике принимали участие Чернышевский и Добролюбов, считавшие концепцию Погодина научно не обоснованной (Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч. M., 1950. T. 7. С. 296–299; Добролюбов H. А. Собр. соч.: В 9 т. M.; Л., 1963. T. 6. С. 39–43). Три князя варяжских — легендарные Рюрик, Синеус и Трувор, которые пришли управлять Русью по приглашению славян, погрязших в неурядицах и междоусобицах.
345
Поспешно назначается президент (лицо без речей и занимающееся римскими древностями)… — Намек на ближайшего единомышленника Каткова профессора римской словесности в Московском университете П. M. Леонтьева, издавшего в 1855–1857 гг. «Пропилеи. Сборник статей по классической древности». Как соредактор и сотрудник Каткова по изданию «Русского вестника» Леонтьев не отличался особой плодовитостью. Быть может, также и этим обстоятельством, а не только намерением пародировать «парламентские формы» и преклонение перед ними русских англоманов катковского пошиба объясняется беглое замечание о нем Достоевского: «лицо без речей».
346
Я перевел «Ромео и Джульетту»… — Отрывки из пятого действия шекспировской трагедии в переводе M. H. Каткова были напечатаны в журнале «Московский наблюдатель» (1839. № 1) под названием «Сцены из „Ромео и Юлии“». Полный перевод трагедии был напечатан Катковым в следующем году.
347
…я написал еще одну статью, кажется о Пушкине — я уже забыл, об чем я писал. — Речь идет о статье Каткова «Пушкин» (Рус. вести. 1856. № 1, 3), написанной в связи с выходом в свет шеститомных «Сочинений Пушкина» в издании П. В. Анненкова (СПб., 1855). Слова «кажется о Пушкине» намекают на «забывчивость» Каткова, резко изменившего к 1861 г. свое былое положительное отношение к Пушкину. Полемизируя с редактором «Русского вестника» в 1861 г., Достоевский порицал его за пренебрежение к русскому реализму послепушкинской поры и особенно за чрезмерную недооценку самобытности и народности творчества Пушкина, во многом аналогичную суждениям таких критиков, как С. С. Дудышкин и Гымалэ (Ю. А. Волков).
348
Я затеял тогда мой удивительный журнал… — «Русский вестник» под редакцией M. H. Каткова начал издаваться с января 1856 г.
349
Кажется, моему почтенному оппоненту розги не нравятся?.. — Намек на непримиримую позицию, занятую «нигилистами», то есть представителями разночинно-демократического лагеря, в полемике по вопросу о телесных наказаниях в средних учебных заведениях. Поводом для полемики явились «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий киевского учебного округа», опубликованные известным педагогом-гуманистом H. И. Пироговым (Журнал для воспитания. 1859. № 11). Несмотря на то что H. И. Пирогов занимал тогда важный пост попечителя Киевского учебного округа, он не сумел противостоять реакционерам от педагогики, ратовавшим за телесные наказания, и это нашло отражение в изданных им «правилах». С резкой отповедью H. И. Пирогову выступил прежде всего Добролюбов в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (Современник. I860. № 1). О других отрицательных откликах демократической печати на упомянутые «Правила» см.: Добролюбов H. A. Собр. соч.: В 9 т. M., Л., 1963. T. 6. С. 473. Что касается Достоевского, он не согласился с чрезмерно суровым, по его мнению, отношением критиков-демократов к H. И. Пирогову. В записной книжке, относящейся к 1860–1862 гг., он отмечал: «Вы набросились на г-на Пирогова как на человека, совершенна потерянного, забросав его грязью, и в лице Пирогова оскорбили всех. Общество благодарнее, чем вы думали. Оно может простить заблуждение. Вы не простили, то есть вы человека не цените, люди без гуманности».
350
Я уже объявил раз, что даже самой народности не признаю — ревели со мною заодно… — См. комментарий к статьям Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“ и „По поводу элегической заметки „Русского вестника“». „Петербургские передовые ревели со мною заодно“ — по всей вероятности, намек на С. С. Дудышкина и Гымалэ (Ю. А. Волкова), отрицавших народность творчества Пушкина. См. реальный комментарий к статье Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“».
351
Те же, которые шли далее его, ушли потом очень далеко. — Намек на участь декабристов, отправленных Николаем I в „каторжные норы“ Сибири.
352
В англомании есть и еще одно драгоценное свойство — ни одной йоты не уступаешь из своих убеждений — а мы-то форсим и куражимся над готовым!.. — Эта и некоторые другие тирады из перебранки англоманствующего «Оратора»-Каткова с «нигилистом» и другими оппонентами «слева» — результат пародийного преломления знаменитого эпизода романа Тургенева «Отцы и дети» (1862), восторженно встреченного Достоевским. В десятой главе романа Павел Петрович Кирсанов говорит Базарову: «…я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь <…> английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.
— Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров…». Слова Павла Петровича Кирсанова «…без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, — а в аристократе эти чувства развиты, — нет никакого прочного основания общественному… bien public общественному зданию. Личность, милостивый государь, — вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится» — также находят пародийное соответствие в заявлении «Оратора»-Каткова: «Да, в основании всеобщей пользы полагается всегда наша собственная. Это совершенно согласно с личным началом, то есть началом западным, и следовательно, и британским…». Наконец, цинично-хвастливая фраза «Оратора»: «Во-первых, прослывете крепко убежденным и стойким, потому что ничего не уступаете, а во-вторых, можно проповедовать без конца, а на деле…», прерываемая на полуслове резонно-издевательской подсказкой нигилиста: «Ни с места!» — является пародийным вариантом базаровского резюме в той же беседе: «…вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public?».
353
А еще лучше два шага вперед, а три назад. — Скрытая и, по-видимому, намеренно неточная цитата из разночинно-демократической «Искры». Весь титульный лист «Искры» от 19 октября 1862 г. (№ 40) занимала карикатура, изображающая молоденькую женщину — «Идею», вдохновенно парящую в воздухе по направлению к окну, забранному решеткой, и ковыляющую внизу с потухшим взором неряшливую старушку — «Прессу», сгибающуюся под тяжестью растрепанных тюков с газетами. Карикатура сопровождалась подстрочником, высмеивающим чрезмерно осторожный способ либерального движения к прогрессу:
«Идея. Мы уговорились ехать вместе?
Пресса. Извините — не могу… дала обет идти пешком: три шага вперед и два назад.
Идея. Ну, так конный пешему не товарищ — прощайте!».
Несколько видоизменяя формулировку «Искры» и вкладывая ее в уста угрюмого нигилиста, Достоевский пользуется ею в качестве характеристики либерально-дворянской печати, цинично переходящей на охранительные позиции.
354
Вот уже более месяца как высокородный маркиз Андрью выпустил свое объявление о новой газете «Умеренный басок». — Маркиз Андрью — А. А. Краевский. «Умеренный басок» — газета Краевского «Голос», объявление об издании которой было напечатано в газете «С.-Петербургские ведомости» (1862. 30 авг. № 189).
355
С плодами сладкими принес кошницу Тавр. — Цитата из стихотворения Г. P. Державина, включенного им в состав его «Описания торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила» (1791). Достоевский имеет в виду также и пояснение содержания этой строки, сделанное H. Кошанским: «…как юный невольник, новой владычице своей» (Кошанский H. Общая реторика. 2-е изд. СПб., 1830. С. 18–19). Цитата из Державина и подразумеваемое разъяснение ее в общеизвестной реторике полемически указывали на переход Каткова в услужение «новой владычице» — охранительной печати.
356
Я тоже принес плоды, но за мой десерт рассчитываю на весь обед. — Очередной намек на материальную подоплеку перехода H. Ф. Павлова в лагерь охранителей. Как издатель опекаемой правительством антидемократической газеты «Наше время» Павлов с октября 1861 по апрель 1862 г. получил через Министерство внутренних дел 26 тысяч рублей и требовал добавки (Валуев П. А. Дневник. M., 1961. T. 1. С. 157).
357
…известный своею древностию толстый журнал «Старухины записки». — Здесь в уста Каткова вложено пародийное название «Отечественных записок» Краевского, часто встречающиеся в полемических статьях и заметках Достоевского и Ап. Григорьева.
358
Враги его отыскали — полногрудая Лурлея, к которой он писал в свое время стишки… — Подразумевается издатель мракобесной „Домашней беседы“ В. И. Аскоченский, опубликовавший в молодости сборник стихотворений с эротической окраской. Сборник осмеяли „враги“ Аскоченского, поместившие на страницах сатирического журнала „Искра“ серию пародийных стихов и карикатур под названием: «Амурные аккорды и скандалезные картинки, или Иллюстрированный Аскоченский. (Извлечено из собрания стихотворений Виктора Ипатьевича, изданного в Киеве в 1846 году)» (Искра. 1861. 27 окт. № 41. C. 596–597). В пародии были строчки:
Аскоченский-стихотворец высмеивался «Искрой» также в статье «Газета „День“ и Иван Яковлевич Корейша». В одном из подстрочных примечаний к этой статье указывалось: «Полногрудая Лурлея, обманутый Гименей и пр. заимствовано из книжки стихотворений г-на Аскоченского» (Искра. 1861. 24 ноября. № 45. С. 656).
359
…пробиваюсь статьями «о сухих туманах». — „Сухой туман“ — название компилятивной статьи Я. И. Вейнберга, трактовавшей вопрос о происхождении некоторых физических явлений в природе (Атеней. 1858. Ч. 5. Сент. и окт. С. 182–190; 258–267). Статья подвергалась насмешкам из-за явной незначительности своей темы и полного несоответствия ее содержания профилю «Атенея», на обложке которого было указано: «Журнал критики, современной истории и литературы». Употребляя название этой статьи в качестве характеристики содержания «Русского вестника», нередко грешившего тяжеловесной ученостью и сухостью, академической удаленностью от текущей литературной и общественно-политической злобы дня, Достоевский-пародист идет по стопам Добролюбова, удачно заимствуя из его сатиры приемы борьбы с тем же противником. Еще до начала ожесточенной полемики «Русского вестника» с «Современником», высмеянной затем в статьях Достоевского, иронически сетуя на «невнимание» к нему и его «Свистку» со стороны катковского журнала, Добролюбов писал: «До сих пор солидные люди нас знать не хотели, или, говоря любимым слогом некоторых ученых, „игнорировали“, и это чрезвычайно нас беспокоило. «Что же это в самом деле, — думали мы, — разве мы не стоим никакого внимания? Ну, положим, я дурен; так и скажи, что я дурен, а не молчи! Ведь писали же в „Атенее“ несколько статей о сухих туманах: что ж, мы разве хуже сухих туманов?» (Добролюбов H. А. Собр. соч.: В 9 т. M.; Л., 1963. T. 7. С. 395).
360
Москва, России дочь любима, // Где равную тебе сыскать! — Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы», выбранная Пушкиным в качестве эпиграфа к 7-й главе «Евгения Онегина». Стихотворение это цитируется в «Дружеской переписке Москвы с Петербургом», привлекшей внимание Достоевского в связи с его полемикой с Катковым.
361
Это противно, это абструзно! — Пародия на стиль публицистики M. H. Каткова. Прилагательное «абструзный» (вместо абстрактный), употребленное в «Элегической заметке» Каткова, щедро цитируемой Достоевским в статье «По поводу элегической заметки „Русского вестника“», уже тогда вызвало со стороны писателя град насмешек. «Эко словечко-то! — восклицал он. — Тридцать педантов, сойдясь вместе, не выдумают ничего лучше этого слова!» И далее: «О милое словечко! Где это вы его достали? По делу виден художник».
362
…по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов… — Намек на выражение «свистуны из хлеба» и «свист из хлеба» из статьи А. Ленивцева (псевдоним А. В. Эвальда) «Недосказанные заметки» (Отеч. зап. 1862. № 10. Отд. III. C. 222–223). Выражения «свист», «свистуны» полемически восходят к названию сатирического отдела «Современника» — «Свисток».
363
…г-н Краевский — с своим новым «Голосом»… — Газета «Голос» под ред. А. А. Краевского выходила в Петербурге с 1863 по 1884 г. Статья, направленная против объявления «Времени», была напечатана не в «Голосе», который в 1862 г. еще не издавался, а в «Отечественных записках» того же Краевского (Отеч. зап. 1862. № 10. Отд. III. C. 222–223). Достоевский намеренно путает названия обоих изданий Краевского, каламбурно обыгрывая название газеты — «Голос».
364
Тамберлик Энрико (1820–1889) — знаменитый итальянский тенор. В сезон 1862-63 г. он гастролировал в Петербурге, и объявление о его бенефисе 11 января 1863 г. было помещено в газете «Голос» (1863. 8 янв. № 7).
365
…вот уже четыре месяца как они выходят из себя. — В апрельском номере «Современника» за 1862 г. M. А. Антонович писал в обзоре «Русская литература»: «„Время“ не имеет ни твердой программы, ни определенного направления. „Какая же вы почва? — вы печатаете одни страсти и ужасти“» (Современник. № 4. С. 271). В «Недосказанных заметках» А. Ленивцев (А. В. Эвальд) присоединился к упрекам Антоновича и обратился к редакции «Времени» со следующими словами: «О почве вы не имеете понятия; для разработки этого понятия вы ничего не сделали; работали для этого одни славянофилы» (Отеч. зап. 1862. № 10. Отд. III. C. 222). И далее: «…братья Достоевские, неизвестно с чего и почему, объявили себя славянофилами» (там же. № 11. Отд. III. C. 43).
366
…«ненавидим пустозвонных крикунов, свистунов, свистящих из хлеба»… — Неточная цитата из программной статьи «Времени», объявляющей подписку на 1863 г. Там сказано: «…мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют, свистунов, свистящих из хлеба…» (Время. 1862. № 9. С 9)
367
…как жены Цезаря, на репутации которых не долженствовало быть ни пушинки сомнения… — Подразумевается выражение, по свидетельству Плутарха и Цицерона, произнесенное Юлием Цезарем, который, будучи уверен в невиновности своей жены, все-таки развелся с ней, когда стало известно, что к ним в дом на ритуальное празднество женщин тайно проник мужчина: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений». Слова эти вкладывает в уста Цезаря также и Шекспир (см.: Ашукин H. С., Ашукина M. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. M., 1966. С. 230).
368
…поднялись крошечные Петры Великие, в душе администраторы и чиновники… — Намек на M. E. Салтыкова-Щедрина, занимавшего ранее различные административные посты, в том числе вице-губернатора в Рязани (1858) и Твери (1860).
369
…санктифирует… — санкционирует (от лат. sanctio — нерушимое постановление).
370
…становится на фербант… — высылается, или прогоняется (от нем. verbannen — высылать, ссылать, отгонять от себя, прогонять).
371
…после четырехсотлетних страданий народа… — Речь здесь идет об Украине, находившейся с XIV в. под гнетом польских феодалов. Особенно долгим и мучительным владычество их было в Правобережной и Западной Украине, в том числе в Галиции (которая еще в XII в. называлась Червонной Русью).
372
«У меня это вдруг», — говорит Хлестаков. — Цитата из комедии H. В. Гоголя «Ревизор» (д. 1, явл. VIII).
373
Слыхал когда-то о лорде Джоне Росселе, Кобдене и хлебных законах… — Джон Россель (Рассел, 1792–1878) — английский государственный деятель, глава партии вигов, премьер-министр в 1846–1859 и 1865–1860 гг.; Ричард Кобден (1804–1865) — английский политический деятель, лидер фритредеров. Оба они поддерживали начавшееся в Англии в 1830-х годах движение за отмену «хлебных законов», устанавливавших высокие пошлины на импорт продуктов земледелия, выгодные для крупных землевладельцев. В 1846 г. «хлебные законы» в Англии были отменены, что явилось ударом для земельной аристократии и способствовало быстрейшему развитию капитализма в стране.
374
…как можно сметь свое суждение иметь! — Измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 3): «…не должно сметь // Свое суждение иметь».
375
Вы свищете из чести… — На это обвинение M. E. Салтыков-Щедрин в статье «Наша общественная жизнь» ответил: «„Время“ свистит и в то же время говорит: „Из чести лишь одной я в доме сем свищу!“» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч. M., 1968. T. 6. С. 21). Последние слова — перефразированная цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (Пушкин В. Л. Опасный сосед. Пг., 1922. С. 12) Первый номер «Времени», в котором напечатана комментируемая статья, имеет дату цензурного разрешения — 11 января 1863 г., сдвоенный номер «Современника», за январь-февраль, где напечатано начало цикла «Наша общественная жизнь», был разрешен цензурой 5 февраля 1863 г. Поэтому Салтыков-Щедрин уже здесь имел возможность откликнуться на статью Достоевского.
376
Значит, и Чернышевский, и Добролюбов свистуны из хлеба. — Добролюбов был основателем «Свистка», Чернышевский руководил в это время в «Современнике» отделом критики.
377
…вы проиграли дело с г-ном Писемским, по поводу фельетонов Никиты Безрылова. — Никита Безрылов — псевдоним А. Ф. Писемского. Его фельетоны, подписанные этим псевдонимом, печатались в «Библиотеке для чтения» (1861. № 12 и 1862. № 2). Г. З. Елисеев в «Современнике» резко обрушился на Писемского за эти фельетоны как на редактора «Библиотеки для чтения». В ответах от имени редактора и от лица Никиты Безрылова Писемский писал: «Не понимать смеху— чисто органический недостаток, почти равняющийся непониманию вкуса пищи» (Библиотека для чтения. 1862. № 1, отд. II. С. 112–114). Таким образом, Писемский отверг истолкование своих фельетонов как имеющих политический антидемократический смысл. Однако сотрудники «Современника» в следующем номере «Искры» (1862. № 7) заявили о своей солидарности с Елисеевым. Достоевский, по-видимому, считал, что полемику с Писемским, который на деле в своих фельетонах отнюдь не был аполитичен, следует вести более умело и тонко, отвечая на сатиру сатирой и на юмор юмором, а не прямым политическим разоблачением.
378
…Лев Камбек и стулья на Невском проспекте… — Лев Логинович Камбек— журналист, редактор «Петербургского вестника», в 1861–1862 гг. обличитель мелких, незначительных злоупотреблений (См.: XII, 285). Cp. также стихотворение Д. Д. Минаева «Демон века», где есть такая строчка:
(Минаев Д. Д. Думы и песни Д. Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (темного человека). СПб, 1863. С. 151).
Упоминанием о «стульях на Невском проспекте» Достоевский задевает редакцию «Искры» (см.: Искра. 1863. № 1. С. 3). Возможно, что Достоевскому было известно стихотворение одного из деятельных сотрудников «Искры» — Д. Д. Минаева — «Песня о стульях на Невском проспекте. (Уличное воспоминание)» (см.: Минаев Д. Д. Думы и песни… С. 164–165).
379
…вечно юного и вечно возможного Аскоченского да еще кукельван. — Виктор Ипатьевич Аскоченский (1813–1879) — реакционный журналист, с 1858 по 1877 г. издавал еженедельную газету «Домашняя беседа». Обскурантизм, доходящий до крайнего мракобесия, восстановил против него прессу 1860-1870-х годов. Кукельван, вернее кукольван, — растение. В. И. Даль пишет о его семени: «…идет в аптеки, а более известно как отрава на рыбу, которая делается от него бешенкою, верховодкою» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. M., 1955. T. 2. С. 214). Это выражение как синоним верхоглядства и безответственности часто встречалось в журнальных статьях 1860-х годов (см., например: Степанов H. Современные бичи человечества: откуп и пиво с кукельваном//Искра. 1862. № 3. С. 67).
380
…про корнета, играющего на пистоне, и про Сорокина. — А. Сорокин — владелец книжного магазина в Петербурге, упомянутый в предисловии к альманаху «Зубоскал».
381
…про г-на Каткова, фаддейбулгаринствующего на Москве… — С 1863 г. редактор и издатель «Русского вестника», в прошлом — либерал и член кружка Белинского, Катков стал· вдохновителем реакционной политики самодержавия. Это дало Достоевскому основание сравнить его с Фаддеем Булгариным, в молодости дружившим с декабристами, а после 1826 г. ставшим правительственным агентом.
382
…ведь вы унижались даже до попрека — ставя нам это в стыд. — Речь идет о фельетоне Никиты Безрылова (А. Ф. Писемского) «Идеальный редактор». Здесь сказано: «…воображаемый мой редактор знает все науки — качество тоже довольно редкое в петербургских редакторах, которые если и опытны в каких-нибудь учениях, так разве в каких-нибудь коммерческих, хозяйственных, так, например, по части разведения табаку, или выделки сигар…» (Библиотека для чтения. 1862. № 2. Отд. II. С. 149). О папиросной фабрике M. M. Достоевского писала также «Искра» (1863. 12 апр. № 13. С. 195).
383
Ну смели бы вы напасть на Тургенева, если б не раздался голос «Современника»! — Отклик на журнальную полемику вокруг романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», возникшую в 1862 г. «Современник» отозвался на выход романа статьей M. А. Антоновича с резкими обвинениями по адресу Тургенева в отрицательном отношении к демократической молодежи. В качестве заглавия ее критик использовал название романа ретрограда В. И. Аскоченского «Аскодей нашего времени» (см.: Современник. 1862. № 3. Отд. II. С. 65-.14). По слезам Г. З. Елисеева, «Современник» окрестил этим именем самого Тургенева для вящего его унижения в глазах читателя (Елисеев Г. З. Воспоминания // Шестидесятые годы. M.; Л., 1933. С. 274).
384
…один год — счастье — нужно немного и ума… — Перефразировка слов, приписываемых А. В. Суворову: «Сегодня удача, завтра удача, помилуй бог! Надобно же немного и ума!» (Полевой H. А. История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск. СПб, 1843. С 312).
385
Господа Краевский, Скарятин, Катков и проч. засвидетельствовали о себе и о своем призвании в пышнейших объявлениях. — См.: СПб. ведомости. 1862. 30 авг. № 189 (объявление о «Голосе»), Рус. листок. 1863. № 1 (вступительная редакционная статья), Рус. вести. 1862. № 9 (о централизации в руках M. Каткова и П. Леонтьева «Русского вестника» и «Московских ведомостей»).
386
Даже предчувствовался отчасти г-н Илья Арсеньев. — Илья Александрович Арсеньев (1820–1887) — журналист, сотрудничавший в „Северной почте“, основанной министром внутренних дел П. А. Валуевым, затем совместно с M. П. Розенгеймом издававший „Занозу“, официальным редактором которой он становится с 1864 г. В середине 60-х годов основал «Петербургский листок» и «Петербургскую газету» и участвовал в ряде скандальных процессов с их сотрудниками, которых он эксплуатировал. В литературных кругах было известно, что он был агентом III отделения.
387
…«что уж республикой теперь не надуешь Андрея Александровича». — А. А. Краевский писал в объявлении о газете «Голос»: «При настоящей степени развития общества во всех значительных государствах Европы мы не верим успеху там республиканской формы правления. Франция представляет яркую картину тех результатов, до которых доходит общество, когда оно, подчиняясь влиянию энтузиастов, провозглашает республику, не сделавшись наперед республиканским по мысли и чувству». (СПб. ведомости. 1862. 30 авг. № 189).
388
…даже «День» и тот, в первых двух номерах своих, вышел с сильнейшей диатрибой против нашего общества. — В 1 и 2 номерах газеты «День» была опубликована редакционная статья, в которой писалось: «В самом деле, какие бы ни были тому исторические причины —·настоящее положение наше довольно безотрадно. Мы попали в какой-то безотрадный круг <…> Куда ни оглянешься — везде отсутствие общественной силы, — везде и всюду присутствие громадной, могущественной силы государственной, исполняющей в то же время должность силы общественной» (День. № 2. С. 2).
389
…о чем и сама комиссия — в своем новом проекте устава о книгопечатании. — В первоначальном проекте устава о книгопечатании, составленном комиссией, высочайше учрежденною при Министерстве народного просвещения (СПб., 1862), говорилось о жалобах со стороны литераторов на произвол цензуры. Как ответ на них рассматривался закон об отмене для выходящих в Москве и Петербурге изданий в области наук, словесности и искусств объемом в двадцать и более печатных листов предварительной цензуры и замене ее карательной. Однако эта мера не привела к облегчению положения редакторов журналов: их действия были скованы судебной и административной ответственностью — после третьего предупреждения издания прекращалось.
390
…«Русский вестник» — с своими английскими началами?.. — В «Отечественных записках» с явным сочувствием так характеризовалось направление катковского журнала: «„Русский вестник“ хлопочет о приискании не только новых форм, но и новых начал для нашего будущего развития. Он выбрал начало аристократическое, как наиболее целительное, наиболее обещающее нам всякого благополучия. Всякий понимает, что под именем аристократии почтенный журнал этот разумеет не то привилегированное сословие, которое погубило Францию, губит Пруссию, разъедает Австрию, а ту великую политическую силу, которая создала образцовые учреждения Англии и вознесла эту страну на степень недосягаемого политического могущества». (Отеч. зап. 1862. № 12. С. 58).
391
…образование, принимаемое как привилегия аристократии… — В «Русском вестнике» была опубликована статья M. M. Вольского «Оксфордский университет», в которой восхвалялись «твердость и постоянство политического быта Англии», «постепенность политических реформ». Могущественное содействие такому порядку автор статьи видит в воспитании, причем в воспитании прежде всего «тех классов общества, в руках которых находится управление страной». (Рус. вестник. 1861. № 2. С. 595–596).
392
В новой газете «Очерки» помещена была довольно умненькая побасенка «Продолжение летописи села Горохина»… — В аллегорической истории «Село Горохино», опубликованной в газете «Очерки» от 13 и 14 января 1863 г. (№ 13 и 14) рассказывалось о падении в селе Горохине вечевого устройства и возобновлении форм самоуправления после манифеста 19 февраля, о пережитках крепостничества в народном сознании и о неудаче вследствие этого попыток нововведений, предпринимаемых мировым посредником.
393
…статьи, принадлежавшие г. Щапову… — Поздравительной новогодней статьей А. П. Щапова, историка и публициста-демократа, открывалось издание газеты «Очерки». А. П. Щапов, как и Достоевский, возлагал большие надежды на дальнейшее поступательное развитие русского общества. «Здравствуй новый год надежд, надежд на гласный суд, на областные земские собрания! Великий вопрос освобождения крестьян в 63-м году вступит в новую фазу движения и раскрытия. Да будет он залогом и инициативой нашега всеобщего народного освобождения от рутины, апатии и обновления», — писал Щапов. (Очерки. 1863. 1 янв. № 1).
394
Мы сами иногда посвистывали. — Достоевский прежде всего имеет в виду свою статью «Щекотливый вопрос», названную в подзаголовке: «Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями». Эта статья и комментируемые слова писателя вызвали презрительно-иронический отклик M. А. Антоновича в 9 выпуске «Свистка»: «Даже „Время“, болезненное и хилое, по самой природе своей предназначенное для плача и сетования, усиливалось и натужилось свистать, — что, конечно, очень вредно действовало на его слабый организм, оно осклаблялось болезненно и раздражительно, и это осклабление в простоте своей принимало за свист; оно сочиняло статьи „со свистом и пляскою, с переодеванием“ и т. д., рассуждало о „хлебных свистунах“, о „либеральных кнутиках“ и т. д. Вследствие этого, подражая той знаменитой мухе, которая говорила некогда: „мы орали“, и „Время“ говорит теперь о себе: „и мы свистали!“ Действительно, свистали; оно свищет и теперь, только в собственный кулак и на собственную шею» (Современник. 1863. № 4. «Свисток». С. 6–7).
395
…Петра Великого… — К осмыслению и оценке деятельности Петра I Достоевский не однажды обращался в своем творчестве; наиболее развернутый отзыв о нем содержится в статье „Два лагеря теоретиков“ (1862; см. выше, с. 229–232)
396
Михаил Михайлович Сперанский (1722–1839) — граф, государственный деятель и ближайший советник Александра I, сторонник конституционной монархии, автор «Плана государственного преобразования» (1809). В 1812 г. подвергся опале и был сослан в Нижний Новгород; в 1819–1821 гг. занимал пост сибирского генерал-губернатора; в последние годы царствования Александра был возвращен из ссылки. В николаевскую эпоху руководил изданием «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов». См. о нем: Корф M. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. T. 1–2.
397
Игнатий Лойола — колотил головой об стену. — Дон Иниго Лопес де Рекальдо Лойола (1491–1556) — основатель и первый генерал иезуитского ордена. В 1622 г был канонизирован папою Григорием XV. Высказанная здесь Достоевским отрицательная оценка католичества и папского Рима получит развитие в его позднейшем творчестве, и прежде всего в его романах «Идиот» и «Братья Карамазовы». Однако уже в 1864 г., в набросках неосуществленной статьи «Социализм и христианство», Достоевский выразил свое отношение к католическому христианству в формулировках, близких к тем, которые вложит через несколько лет в уста князя Мышкина.
398
Белинский — раза три в жизни основным образом менял свои убеждения. — В статьях 1860-х годов Достоевский часто упоминает Белинского. В 1867 г. за границей им была написана не дошедшая до нас статья «Знакомство мое с Белинским», в которой, по-видимому, Достоевский не только излагал свои впечатления от встреч с Белинским, но и оценивал его убеждения. Замысел этой статьи, вероятно, в какой-то степени преломился впоследствии в «Дневнике писателя» за 1873 и 1877 гг. См. об этом подробнее: Достоевская А. Г. Воспоминания. M., 1971. С. 159–161, 425–428, а также в кн.: Кирпотин В. Достоевский и Белинский. M., 1976.
399
Михаил Васильевич Родевич (р. 1839) — публицист 1860-х годов, воспитатель пасынка Достоевского П. А. Исаева.
400
Николай Петрович Сокальский (1834–1871) — публицист 1850-1860-х годов, сотрудник «Современника», а также «Времени» и, других изданий.
401
«Указанными статьями — прогрессивной и гуманной?» — Достоевский цитирует анонимный обзор «Текущая журналистика», напечатанный в воскресном 46 номере газеты «Сын отечества» за 1862 г (18 ноября. С. 1108) Этот обзор почти целиком был посвящен разбору октябрьской книжки «Времени».
402
Вообще в «Современнике» как будто начинается опять искусство для искусства. — Поборником «чистого искусства» выступал А. В. Дружинин, который сотрудничал в «Современнике» в эпоху «мрачного семилетия», после смерти Белинского и до прихода в 1855 г. в журнал Чернышевского. Смысл утверждения Достоевского в том, что Салтыкову-Щедрину, занявшему в «Современнике» после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского положение одного из ведущих критиков, по сути дела, ближе принципы теоретика искусства для искусства, нежели идеи вождей революционной демократии, боровшихся за реалистическое гоголевское направление в литературе. Достоевский здесь в известной мере предвосхитил обвинения против Щедрина Д. И. Писарева в полемической статье последнего «Цветы невинного юмора» (1864).
403
Еще у Кошанского сказано, что хорошие мысли предпочитаются блестящему слогу. — Достоевский, по-видимому, имеет в виду следующее рассуждение H. Ф. Кошанского: «Есть люди, кои полагают Красноречие в громких словах и выражениях и думают, что быть красноречивым значит блистать Реторическими украшениями, и чем высокопарнее, тем кажется им красноречивее. Они мало заботятся о мыслях и их расположении и хотят действовать на разум, волю и страсти Тропами и Фигурами. Они ошибаются» (Кошанский H. Частная реторика. СПб., 1832. С. 11).
404
…вы бы тотчас же «впились» в нарушителя собственности. — Здесь и ниже Достоевский обращается к Щедрину, пользуясь его же словом из рецензии на «Литературную подпись» А. Скавронского. Сатирик писал там: «В заключение, мы просим извинения у г-на H. Скавронского, что привлекли его к этому нелепому делу. Он поймет, что предметом статьи нашей служил не он, а собственно А. Скавронский, который почему-то впился в H. Скавронского и требует, чтоб их разлучила публика» (Современник. 1863. № 1–2. Отд. II. С. 141–142).
405
…молодое поколенье зажигает дом богатого владельца — и деревянный домик скромного счастливца. — Достоевский не только не был солидарен с журналистами, обвинявшими молодежь в поджогах, но в статье „О новых литературных органах и о новых теориях“ прямо обвинял реакционную прессу в подстрекательстве общественного мнения. Кроме того, Достоевский, несомненно, был солидарен с двумя запрещенными цензурой редакционными статьями его старшего брата, которые были посвящены петербургским пожарам (см.: Литературное наследство. M., 1973. T. 86. С. 48–54). В них отвергалось обвинение молодого поколения и требовались розыски виновных.
406
…таланты здесь изображены под видом домов, что употребляется в литературе (см. дом Краевского на Литейной и дом Старчевского на Мойке). — Издатель «Отечественных записок» и «Голоса» Андрей Александрович Краевский (1810–1889) и издатель «Сына отечества» Адальберт-Войтех Викентьевич Старчевский (1818–1901) были петербургскими домовладельцами. Достоевский, по-видимому, намекает на тот факт, что эти журналисты нажили себе состояние от литературы, умело подвизаясь на поприще издательской деятельности.
407
…я не читал его «Бедных в Малороссии» — Но я зато читал его «Беглых в Новороссии» и знаю наверно, что роман этот имел очень большой круг читателей и приобрел писателю значительную известность. — В своей рецензии на «Литературную подпись» А. Скавронского (Г. П. Данилевского — см. выше, с. 538) Щедрин пародирует названия трех его произведений: «Пенсильванцы и каролинцы на Украине», «Село Сорокопановка» и «Беглые в Новороссии». Сатирик следующим образом описывает тот «кабалистический маскарад, в котором А. и H. Скавронские интригуют друг друга и не могут никак опознаться»: «„Да ты H. ли Скавронский?“ — вопрошает А. Скавронский. „Да ты А. ли Скавронский?“— в свою очередь вопрошает H. Скавронский. «Моя ли повесть „Село Сарановка?“ — мучительно спрашивает сам себя А. Скавронский, — или я все это во сне видел: и „Сарановку“, и „Пенсильванцев и виргинцев“, и „Бедных в Малороссии“?» (Современник. 1863. № 1–2. Отд. II. С. 140). Роман «Беглые в Новороссии», в несправедливом отношении к которому Достоевский упрекал Щедрина, был напечатан в 1 и 2 номерах журнала «Время» за 1862 г. В разгар полемики между Достоевским и Щедриным во «Времени» (1863. № 1–3) печатался другой роман А. Скавронского — «Беглые воротились». В конце 1863 г. оба романа, объединенные названием «Воля», вышли отдельным изданием в Петербурге (на обл. — 1864 г.). Это дало повод Салтыкову выступить с развернутой рецензией в декабрьской книжке «Современника» за 1863 г. Сатирик отрицательно оценивал произведение Данилевского-Скавронского как «совершенно исключительное явление в современной русской литературе». Эту исключительность сатирик видел «в невоздержанности, в фантазерстве и в бесцеремонном служении тому, что по-французски зовут словом blague, а по-русски просто-напросто хлестаковщиной». Подробно аргументируя свою оценку анализом романа «Беглые в Новороссии», Щедрин косвенно парировал предъявленные ему Достоевским за А. Скавронского обвинения.
408
«Ничего, ничего, молчанье!» — Цитата из «Записок сумасшедшего» H. В. Гоголя (1835).
409
…про известное заявление Тургенева, напечатанное в «Северной пчеле» прошедшей осенью! — Речь идет о «Письме к издателю „Северной пчелы“» И. С. Тургенева (Сев. пчела. 1862. 10 дек. № 334). Задетый неверным, с его точки зрения, освещением в печати его конфликта с «Современником», Тургенев доказывал, что инициатива его разрыва с редакцией «Современника» принадлежала исключительно ему, в то время как редактор журнала Некрасов старался предотвратить этот разрыв. В подтверждение этого Тургенев ссылался, в частности, на письмо к нему Некрасова, в котором тот признавался, что видит его часто во сне. Все это и дало повод Щедрину, не называя имени Тургенева, интерпретировать его письмо как заявление о своем величии.
410
Вы добиваетесь славы Сенковского, Жюль-Жанена, Дружинина… — Перечислены журналисты, прежде всего заботившиеся о форме своих сочинений. Жюль Жанен (Janin) (1804–1874) — известный французский театральный критик, член Французской академии.
411
Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога? — Достоевский намекает на сотрудничество Щедрина в конце 50-х годов в «Русском вестнике» и в 1862— во «Времени». Этим намеком, вызвавшим возмущение Щедрина, Достоевский давал понять, что анонимный автор рецензии на «Литературную подпись» А. Скавронского ему известен.
412
Впился-таки! — Достоевский начинает свою статью сатирической метафорой Щедрина, которой он воспользовался уже в статье «Молодое перо».
413
Вы рассердились на статью во «Времени». — «Тревоги „Времена“». — Свое отношение к статье «Молодое перо» Щедрин выразил в примечании, которое далее Достоевский полностью цитирует.
414
Вот это-то и значит свои бока подставлять. — Источником этой сентенции Достоевского были очерки самого Щедрина «Литераторы-обыватели» (1861) и «Клевета» (1861). В первом из них, высмеивая мелочной характер обличительной литературы, сатирик писал о незавидной судьбе корреспондента, обличителя узкоместных пороков и нравов, которого земляки-обыватели могут и сквозь «строй жизненных обстоятельств пропустить <…> могут легонько бока ему помять». В очерке «Клевета» Щедрин создал обобщающий образ глуповца, который «имел совесть покладистую и готов был на всякий подвиг <…> не только подслушивал и подсматривал, но даже и присочинял», и за это ему иногда «с замечательною щедростью накладывали <…> и в зубы, и в нос, и в скулы, а нередко повреждали и самые бока» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.·. В 20 т. M., 1965. T. 3. С. 435, 471). Ситуация, обрисованная сатириком в «Литераторах-обывателях», в журналистике 60-х годов не однажды сопоставлялась с аналогичными ей фактами реальной жизни.
Используя в комментируемой статье в отношении к Щедрину им самим созданный сатирический образ, Достоевский, как бы причисляет сатирика к им же высмеянному сонму «литераторов-обывателей».
415
…«розы рвал и фиалки поливал»… — Вероятно, перефразированная цитата из драмы A. H. Островского «Грех да беда на кого не живет» (Время. 1863. № 1): «Розы рвать, жасмины поливать!» (слова Жмигулиной — д. 1, сц. II, явл. 3).
416
И брызгал перлом водомет. — Неточная цитата из стихотворения В. В. Крестовского «Солимская гетера» (1858), посвященного А. П. Милюкову. По свидетельству последнего, Достоевскому, слышавшему это стихотворение из уст самого поэта, оно очень нравилось, и он «не раз просил Крестовского повторять его» (Ф. M. Достоевский в воспоминаниях современников. M., 1964. T. 1. С. 325). Использование строки из стихотворения Крестовского в иронической характеристике Щедрина, по-видимому, связано с появлением в № 1–2 «Современника» за 1863 г. анонимной отрицательной рецензии на издание его «Стихов» (СПб., 1862), автором которой был сатирик. В этой рецензии В. В. Крестовский охарактеризован как поэт «второго сорта», подражатель A. H. Майкова. В статье «Тревоги „Времени“», утверждая, что „ничто так не убивает дела, как неловкое подражание ему“, сатирик иронизировал: «Вспомните г-на Bc. Крестовского: мог ли A. H. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет?» (Современник № 3. Отд. II. С. 300). Достоевский был, очевидно, задет этими отзывами о ценимых им поэтах, с которыми к тому же его связывали узы дружеской симпатии.
417
…литературные, так сковать, прибавления к «Инвалиду-Современнику». — ·Достоевский обыгрывает название газеты «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», выходившей в Петербурге в 1831–1839 гг. (в 1840–1849 гг. — «Литературная газета»). Цель этого обыгрывания-подчеркнуть, что с утратой Чернышевского и Добролюбова «Современник» утратил и свою ведущую роль в общественной жизни.
418
…нигилист du lendemain — Щедрин вспомнит об этом определении, данном ему Достоевским, через десять с лишним лет в очерке «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» (1873; цикл «Помпадуры и помпадурши»), написанном под впечатлением от романа Достоевского «Бесы». Помпадур Феденька Кротиков говорит о герое гончаровского «Обрыва» Марке Волохове, введенном в щедринский очерк на правах действующего лица: „C'est un conservateur du lendemain…“ <Это консерватор завтрашнего дня (франц.)> (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1969. T. 8. С. 185).
419
Вы горько жалуетесь, что мы называем вас «молодым человеком» — Всё — молодым. — Щедрин говорит об этом в подстрочном примечании к своей статье, которое далее Достоевский приводит полностью.
420
…вроде «Корнета, играющего на пистоне» — в «Головешке». — Речь идет о карикатуре H. А. Степанова, помещенной в «Искре» (1862. 19 окт. № 40. С. 523). Комический смысл карикатуры и подписи к ней был основан на каламбуре и сводился к тому, что невежественный крупный чиновник (собеседник именует его «ваше превосходительство») не воспринимает слова cornet a piston (корнет-а-пистон) как название духового музыкального инструмента и, по собственному признанию, приехал в Павловск, «единственно, чтоб послушать, как играет корнет на пистоне».
421
…кураж! — смелее! (от франц. courage).
422
…попреков за табачную фабрику. — Владельцем табачной фабрики был M. M. Достоевский. «Искра», как справедливо пишет Достоевский, многократно высмеивала на своих страницах этот факт биографии редактора «Времени». В № 7 за 1863 г. «Искра» в статье В. П. Буренина за подписью «Хлебный Свистун» поясняла, почему она «перестала различать издательскую деятельность г-на M. Достоевского от его деятельности как папиросного фабриканта»: «И здесь и там фразы, велеречивые объявления вместо дела, и здесь и там сюрпризы вместо требуемого товара».
423
…«Головешка» — на постном масле начиная с самой подписки сидит… — Это выпад Достоевского в ее адрес «Искра» не оставила без ответа. В 16 номере журнала за 1863 г. была помещена карикатура H. А. Степанова, где на фоне обложки мартовского номера «Времени» изображен Косица (H. H. Страхов), повторяющий эти слова из статьи Достоевского, на которые возражает его собеседник, утверждающий, что «Искра» имеет семь тысяч подписчиков.
424
…московские известия о толстоте тела г-на Лонгинова… — Достоевский имеет в виду следующее место из «Московских писем» Салтыкова-Щедрина, подписанных псевдонимом «К. Турин»: «Носится слух, что некто, увидев в английском клубе M. H. Лонгинова, сказал: „сей человек утонул, распух, да с тех пор в оном виде и остался“» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 20).
425
…Барклай де Толли зашевелился… — Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818), князь, в начале Отечественной войны 1812 г. — военный министр и главнокомандующий 1-й русской армии; его тактика, вызвавшая недоверие к нему в самых широких кругах русского общества, сделала имя его нарицательным для обозначения всякого рода промедлений.
426
О призвании вашем из-за моря, к участию в «Современнике» — сама редакция столько уже печатала в своих объявлениях… — В объявлениях об издании «Современника» в 1863 г, печатавшихся в конце 1862 г. в газетах и журналах, говорилось, что журнал будет издаваться под редакцией H. А. Некрасова и «при постоянном участии в трудах редакции M. E. Салтыкова-Щедрина, A. H. Пыпина и M. А. Антоновича». Слова Достоевского «о призвании вашем из-за моря» отсылают нас к рассказу Щедрина «Гегемониев» (1859; «Невинные рассказы»), герой которого истолковывает летописную легенду о призвании на Русь варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора как аллегорию. «Зачем было отцам нашим, — рассуждает Гегемониев, — из-за моря варягов призывать, когда у нас и свои завсегда налицо?» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1965. T. 3. С. 11). Братья-варяги, призванные из-за моря, по Гегемониеву, суть не кто иные, как представители отечественной бюрократии. Говоря о призвании из-за моря Салтыкова-Щедрина, Достоевский тем самым прозрачно намекает на его принадлежность к варягам-бюрократам: только в начале 1862 г. Салтыков вышел в отставку с поста тверского вице-губернатора и, вернувшись в Петербург, на несколько лет всецело отдался писательскому и редакторскому труду.
427
…один господин — написал на нас длиннейшую статью с ядом и ругательствами. — Достоевский цитирует далее уже упоминавшуюся нами выше статью И. И. Дмитриева «Литературное обозрение» с подзаголовком «Незаслуженный успех. „Время“ 1863 года, книга 1-я и 2-я» (Очерки. 1863. 24 марта. № 81).
428
Пожар способствовал ей много к украшению ее журнала. — Перефразированная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5).
429
…эта статья появилась в «Современнике»… — Речь идет о повести И. И. Дмитриева „Провинциальная газета, ее редактор и сотрудники. Из записок литератора-обывателя“ (Современник. 1863. № 1–2. Отд. I. С. 319–350). В статье «Тревоги „Времени“» Щедрин, сравнивал действия героя этого произведения с тактикой редакции журнала «Время»: «Вы устраиваете примерное сражение; вы сами себя уязвляете, да потом сами же себе приносите оправдания и извинения. Косица обидит Косицу, Страхов Страхова, Григорьев Григорьева, а потом и поведут сами с собою ожесточенную полемику! Этот прием не нов; прочтите в прошлом номере „Современника“ статью г-на Дмитриева „Провинциальная газета“ и убедитесь, что герой этого рассказа давнЭо уже употреблял его для придания живости своему журналу» (там же. № 3. Отд. II С. 197).
430
…в апрельском нумере „Времени“ за прошлый год были помещены у нас две ваши статьи. — Действительно, в апрельской книжке „Времени“ за 1862 г. были напечатаны две пьесы Щедрина: „Соглашение“ и „Погоня за счастьем“, объединенные общим названием „Недавние комедии“ и вошедшие затем в книгу „Сатиры в прозе“ (СПб., 1863)
431
…в апреле же месяце прошлого года — „Современник“ еще издавался. — „Современник“ был приостановлен на 8 месяцев правительственным распоряжением от 15 июня 1862 г.
432
…plus royaliste que le roi. — Выражение Франсуа Рене Шатобриана в книге „Monarchie selon la charte“ (1816), ставшее крылатым.
433
, „Прихлопнет и не пикнете“, — говорите вы нам, грозя нам сим московским деятелем. Слова многознаменательные. — В статье «Тревоги „Времени“» Щедрин писал, обращаясь к редакции журнала «Время»: «Вы говорите, что г-на Каткова оспаривать можно и следует (и что вы так пристали к Каткову? или вы получили от него разрешение? смотрите, ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется — и не пикнете!)…» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 199). Слова сатирика оказались действительно многознаменательными, и тем более многознаменательными в перефразировке Достоевского. После опубликования в апрельской книжке «Времени» статьи H. H. Страхова «Роковой вопрос», посвященной польским событиям, в редактируемых M. H. Катковым «Московских ведомостях» (1863. 22 мая. № 109) появилась заметка К. Петерсона, обвинявшая автора «Рокового вопроса» (статья была напечатана в журнале за подписью «Русский») в полонофильстве. Эта заметка сыграла роль доноса, в результате которого журнал «Время» по повелению царя 24 мая был закрыт.
434
Чем выше вы, как литератор, Надимова, который утверждал, что надо крикнуть на весь свет и т. д.? — Достоевский приравнивает Щедрина к герою либерально-обличительной пьесы В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856), в образе которого воплощены характерные для либералов той поры представления о способах искоренения общественного зла. «Надо вникнуть в самих себя, — говорит Вадимов, — надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и, действительно, она пришла, — искоренить зло с корнями» (Соллогуб В. А. Чиновник, комедия в одном действии. СПб., 1856. С. 25). Язвительный смысл сделанного Достоевским сравнения Щедрина с Надимовым усугублялся тем, что сам сатирик еще в «Губернских очерках» устами одного из своих героев (рассказ «Озорники») высмеял поверхностно-обличительный пафос комедии Соллогуба: «…говорят и волнуются, что чиновники взятки берут! Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию. Конечно, я этого не оправдываю <…> но почему же они берут? Почему они берут, спрашиваю я вас?» (Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1965. T. 2. С. 266). Наиболее развернуто свое резко отрицательное отношение к пьесе Соллогуба Щедрин высказал в рассказе «Приезд ревизора» (1857; «Невинные рассказы»).
435
Живьем рады проглотить (ваши слова, употребленные против нас). — Достоевский имеет в виду следующие строки из статьи «Тревоги „Времени“»: «И не то чтобы вы не стремились обидеть кого бы то ни было: нет, у вас есть желание не только обидеть, но даже живьем проглотить» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 198).
436
…и яд ваш, и злость ваша, и остроумие ваше — всё это тоже младенчески чисто… — По-видимому, с этим утверждением Достоевского связано происхождение одного из псевдонимов Салтыкова-Щедрина: свой сатирический этюд «Цензор впопыхах», появившийся в «Свистке» (возобновленном после смерти Добролюбова в апрельской книжке «Современника» за 1863 г.), он подписал: Михаил Змиев-Младенцев.
437
Вас потянуло к нигилистам — Вы примкнули к ним, от души веря, что они всех сильнее. — Этот вывод Достоевского основан на высказываниях Щедрина в хронике «Наша общественная жизнь». Заканчивая ее первый январско-февральский выпуск, сатирик задавался ввопросом, отчего происходит «нравственное распадение в современном человеке, отчего он обязывается балансировать, отчего он никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила, что тут он дома?» (Современник. 1863. № 1–2. Отд. II. С. 376). В мартовском выпуске хроники, напомнив читателям свой вопрос, Щедрин утверждал, что так называемое мальчишество представляет «корпорацию, которая одна и может заключать в себе залоги действительной силы» (там же. № 3. Отд. II. С. 175).
438
Какой-нибудь «обличительный поэт»… — Под этим псевдонимом в «Искре» печатался Д. Д. Минаев (1835–1889), не однажды задевавший в своих сатирических стихах журнал «Время», его редактора и сотрудников (см., например, его «Ад» в 49 номере «Искры» за 1862 г.).
439
…вы — говорите, что мы садимся между двух стульев. — В «Тревогах „Времени“» Щедрин обращался к редакции «Времени»: «Какой руководящей мысли вы были органом? — никакой. Что вы высказали? — ничего. Вы постоянно стремились высказать какую-то истину вроде „сапогов всмятку“, вы всегда садились между двух стульев и до того простирали свою наивность, что даже не хотели заметить, как шлепались на пол» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 197–198).
440
Помните статью «О духе времени» г-на Антоновича. — Тогда-то вы и начали борьбу. — В статье «О духе „Времени“ и о г-не Косице, как наилучшем его выражении» (Современник. 1862. № 4) M. А. Антонович, подводя итоги своей полемики с H. H. Страховым, оценивал деятельность журнала «Время» за весь годичный период его существования. Цитируя статьи Ф. M. Достоевского, А. А. Григорьева, H. H. Страхова, Антонович стремился показать противоречивость в позиции журнала, заявлял о принципиальном характере разногласий между «Современником» и «Временем».
441
…а старая-то «Библиотека для чтения»… — Подразумевается «Библиотека для чтения», выходившая под редакцией А. Ф. Писемского, которого в 1863 г. сменил П. Д. Боборыкин. В 12 номере этого журнала за 1862 г. в статье M. И. Касторского «Несколько слов о литературных заслугах г-на Каткова» отрицательно оценивалась позиция «Времени» в полемике с Катковым из-за г-жи Толмачевой, хотя в целом статья Касторского была довольно критична и по отношению к Каткову. Кроме того, в первом и втором номерах журнала за 1862 г. была напечатана статья E. Ф. Зарина, отрицательно оценившая роман Достоевского «Униженные и оскорбленные».
442
…«Очерки», вот уже четвертый раз бросающиеся на нас с тем, чтоб нас проглотить… — Достоевский говорит здесь о четырех развернутых критических выступлениях в адрес «Времени» в 35, 53, 68 и 81 номерах газеты «Очерки».
443
…а «Русское-то слово»… — В 1 номере этого журнала за 1863 г. была подвергнута критике позиция редакции „Времени“, якобы основанная прежде всего на расчете привлечь возможно большее число подписчиков (Рус. слово. 1863. № 1. Отд. II. С. 93–94). В ответ на «Необходимое литературное объяснение…» Достоевского «Русское слово» выступило со статьей «Хлебная критика „Времени“» (1863. № 2).
444
Вы говорите, что мы не понимаем, что такое авторитет, и смешиваем его с лицами… — «…Вы даже понятия об авторитете не можете отделить от чьего-нибудь лица, — писал Щедрин в «Тревогах „Времени“», — вы даже думаете, что авторитет есть что-то такое, что можно ощупать, поцеловать и т. д. Для вас есть авторитет — Тургенев, авторитет — Добролюбов, дальше вы не идете» (Современник. 1863. № 3. Отд. П. С. 200).
445
…бюрократия прогрессизма. Вот вы к ней-то и примкнули… — По-видимому, Достоевский в это изобретенное им понятие вкладывал намек, оскорбительный для недавно оставившего государственную службу Салтыкова.
446
Век и Век и Лев Камбек — Ax, какой же это гусь! — В первом четверостишии Достоевский пародирует рифмы и темы сатирической поэзии «Искры». Рифма «Век» (название журнала) и «Лев Камбек» (имя популярного обличительного журналиста-хроникера) стала в 60-х годах своего рода сатирической рифмой-штампом. Многочисленным насмешкам и критике «Искры» и «Современника» подвергался H. H. Страхов за статью «Жители планет» (Время. 1861. № 1). Cp. выше, с. 282–283. Второе четверостишие является пародией на стихи Щедрина в «Тревогах „Времени“», где сатирик в свою очередь пародировал напечатанные во «Времени» стихи Ф. H. Берга.
447
Что это у вас в «Тревогах „Времени“» за Оленька P. такая и Машенька H.? Хоть убейте — ничего не понял… — Этим вопросом Достоевский отвечает на вопрос Щедрина, обращенный к редакции «Времени»: «И зачем вы анонимы употребляете? зачем вы беседуете с читателем в форме какого-то невинного письма от Машеньки H. к Оленьке Р.?» (Современник. 1863. № 3. Отд. II. С. 201). Достоевскому был, конечно, понятен смысл сатирической метафоры Щедрина: критические статьи, помещавшиеся во «Времени», часто были написаны в форме письма к редактору.
448
…император Александр I — дал полякам высшее устройство… — Подразумевается относительно либеральная конституция, дарованная Польше Александром I после Венского конгресса (1815) и действовавшая до польского восстания 1830 г.
449
Очень может быть, что поляки поторопятся перевести… — Перевод «Рокового вопроса» (правда, на французский, а не польский язык) появился вскоре в парижской прессе, сочувствовавшей польскому национально-освободительному движению. H. H. Страхов писал по этому поводу в своих воспоминаниях: «В „Revue de deux mondes“, 1 Août, 1863, появилась статья Мазада, в которой целиком и очень точно был переведен „Роковой вопрос“. Французский журнал находил в ней подтверждение своей мысли <…> с которой он сам смотрел на польское восстание <…> Статью мою Мазад приписал Достоевскому…» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. M. Достоевского. С. 258).
450
С горечью попрекнуло «Русское слово» «Современник». — Достоевский имеет здесь в виду прежде всего статью Г. E. Благосветлова «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“» (Рус. слово. 1864. № 4).
451
…в апрельской книге «Современника» г-н Щедрин очевидно стушевывается. — В апрельском номере «Современника» были напечатаны четыре рецензии Щедрина (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1966. T. 5. С. 436–443). Утверждение Достоевского связано, по-видимому, с тем обстоятельством, что в этом номере «Современника» не появился очередной выпуск хроники «Наша общественная жизнь», с которой Щедрин регулярно выступал в журнале на протяжении 1863 (за исключением летних месяцев) — начала 1864 г.
452
…он соединяется с каким-то посторонним сатирикам и едет в Москву издавать там свой собственный сатирический орган… — Поводом для распространения этого «слуха» было, возможно, намерение Щедрина издать «Альманах», о котором сохранилось единственное свидетельство в письме И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 1 (13) апреля 1864 г. «Перед самым моим отъездом (в середине февраля ст. ст. 1864 г.-·H. H.), — писал здесь Тургенев, — Салтыков говорил мне, что он хочет издать „Альманах“ и просил моего сотрудничества; узнайте от него, пожалуйста, не переменил ли он своего намерения?» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. M., 1989. T. 6. С. 7). «Предположение» Достоевского о существовании «постороннего сатирика» обыграл в июльском номере «Современника» M. А. Антонович, подписавший свой ответ Достоевскому псевдонимом «Посторонний сатирик».
453
…вышел майский № «Современника», и г-н Щедрин опять там… — В майской книжке «Современника» за 1864 г. были напечатаны без подписи статья Щедрина «Литературные мелочи» и его рецензия на комедию Ф. H. Устрялова «Чужая вина».
454
…«Греческий человек Трефандос» выглядывает из-за каждой строки, каждая мысль пахнет «фиками»… — См. ниже, примеч. к с. 343 (1).
455
…«Русское слово» теперь утверждает, что г-н Щедрин выражает вовсе не убеждения, а испускает «какую-то желтую жидкость». —
Достоевский цитирует упоминаемую выше статью Благосветлова «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“» (Рус. слово. 1864. № 4. Отд. II. С. 68).
456
…в наш «портфель редакции»… — Достоевский заключает в кавычки слова, за употребление которых он иронизировал над M. H. Катковым, приверженным «к парламентским формам выражения» (см. выше статью «Щекотливый вопрос»). В 1 номере «Современника» за 1864 г. в некрологе А. В. Дружинина о портфеле редакции «Современника» упомянул Некрасов. По этому поводу в «Заметках летописца» в мартовской книжке «Эпохи» H. H. Страхов иронически замечал: «Кстати, откуда произошло ложное мнение, господствовавшее несколько времени назад, что будто только у „Русского вестника“ есть портфель редакции? Вы видите, он есть и у „Современника“» (Эпоха. 1864. № 3. С. 329).
457
«Страшимся сказать» — «Опыта о новых хлыщах». — Достоевский пародирует следующие непосредственно предваряющие «Стрижей» строки из статьи Щедрина «Литературные мелочи»: «Страшусь сказать, но думаю, что молодой драматург в своем произведении имел в виду едва ли не „Эпоху“, журнал, в который, по-видимому, перешли все орнитологические тенденции „Времени“. Вот этот драматический опыт» (Современник. 1864. № 5. отд. II. С. 18). Название «Опыт о новых хлыщах», очевидно, связано с осмыслением Щедриным деятельности радикалов революционной демократии как сектаторства. Так, в январском выпуске хроники «Наша общественная жизнь» сатирик писал о зайцевской хлыстовщине, которая со временем «утвердит вселенную» (Современник. 1864. № 1. Отд. II. С. 26). Это полемическое название возникло у Достоевского, вероятно, по аналогии с названиями, приведенными у Щедрина в перечне «Для следующих номеров „Свистка“…» (в 9 выпуске «Свистка»), которые имели прямое отношение к Достоевскому: «Опыты самораздирания», «Опыты сравнительной этимологии, или „Мертвый дом“ по французским источникам», «Опыты отучения сотрудников от пищи и бесплатного снабжения их одеждою» (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. T. 5. С. 303–304, 623–626).
458
Произошло это назад тому года полтора. — Щедрин вошел в редакцию «Современника» в начале 1863 г., с возобновлением журнала после восьмимесячной приостановки его издания правительством в июне 1862 г.
459
…Правдолюбов скончался; остальные не оказались в наличности. — Речь идет о H. А. Добролюбове, умершем 17 ноября 1862 г., и H. Г. Чернышевском, который 7 июля 1862 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
460
…напечатать роман «Что делать?»! — Роман Чернышевского «Что делать?» печатался в «Современнике» с марта по май 1863 г.
461
…«когда наступят новые экономические отношения»… — О новых экономических отношениях много писали в «Современнике» Чернышевский и его последователи. В черновых набросках к «Крокодилу» Достоевский использует эту стереотипную формулировку в записи, очевидно направленной против Ю. Г. Жуковского. В окончательном тексте «Крокодила» в мечтах Ивана Матвеевича изобрести «новую собственную теорию экономических отношений» содержится намек на Чернышевского.
462
…статью г-на Скрибова — в журнале «Заграничное слово». — Речь идет о статье Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора», которую Достоевский цитирует далее в подстрочном примечании.
463
Город «Пупов» пора бросить. — Достоевский заменяет щедринский Глупов Пуповым. Советом бросить Глупов, выраженным в категорической форме, заканчивалась статья Писарева «Цветы невинного юмора». Щедрин не внял совету критика: Глупов, занимающий одно из главных мест в сатире Щедрина начала и середины 60-х годов, явился прообразом Глупова «Истории одного города».
464
…вы должны — популяризовать естественные науки, излагая их в виде повестей и рассказов. — Писарев в статье «Цветы невинного юмора» писал: «…естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию. И потому еще раз скажу г-ну Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его уменьи владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором» (Рус. слово. 1864. № 2. Отд. II. С. 42).
465
…яблоко натуральное лучше яблока нарисованного… — Достоевский приписывает этот тезис эстетике революционеров-демократов на основании высказываний Чернышевского в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). «Прекрасное в природе непреднамеренно; уже по этому одному не может быть оно так хорошо, как прекрасное в искусстве, создаваемое преднамеренно», — излагал Чернышевский мысль своих оппонентов. «Действительно, неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды были вкусны. Но тем не менее надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель», — утверждал он. «Мнение, будто бы рисованный пейзаж может быть величественнее, грациознее или в каком бы то ни было отношении лучше действительной природы, отчасти обязано своим происхождением предрассудку, над которым самодовольно подсмеиваются в наше время даже те, которые, в сущности, еще не отделались от него, — предрассудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтоб она облагородилась» (Чернышевский H. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. M., 1946. T. 2. С. 38, 59).
466
…яблоко натуральное и яблоко нарисованное, два совершенно разнородные предмета, которые никоим образом нельзя сравнивать — яблоко натуральное едят, но яблоко нарисованное для того именно и нарисовано, чтоб на него смотреть, а не есть. — В связи с этим рассуждением Антонович, отвечая Достоевскому, писал, что, даже утрировав чужую мысль, «стрижи» не могут ее опровергнуть, «Отчего же нельзя сравнивать яблока натурального с нарисованным? — спрашивал Антонович. — Перед нами два предмета <…> они однородны в том отношении, что и на тот и на другой я могу смотреть и притом с одинаковою целью, и тот и другой имеют одинаковое назначение — произвести на меня чрез посредство зрения известное впечатление <…> это только вы не можете понять, как можно сравнивать яблоко нарисованное с натуральным, а для всех это понятно, и сравнивание их не есть нелепость, как вы думаете, а серьезный вопрос, уже давно занимающий эстетиков…» (Современник. 1864. № 7. отд. II. С. 145). Достоевский не был удовлетворен ответом Антоновича и в «Необходимом заявлении» писал, что
«Современник» «выказал в своем возражении всю бедность своего понимания этого вопроса».
467
…сапоги во всяком случае лучше Пушкина… — Это высказывание Достоевского, часто приписываемое Писареву, не имеет прямых аналогий в статьях последнего.
468
…просвещенный Курочкин… — Поэт Василий Степанович Курочкин (1831–1875) — бессменный редактор и издатель „Искры“ (1859–1873), которую до 1865 г. он издавал и редактировал совместно с H. А. Степановым.
469
Островского можно печатать единственно потому, что он обличил московских купцов; другого же достоинства в нем нет ни малейшего… — Достоевский, по-видимому, основывается здесь на статье Писарева «Мотивы русской драмы» (Рус. слово. 1864. № 3), в которой критик пересматривал оценку образа Катерины из «Грозы» Островского Добролюбовым, утверждая, что статья последнего «Луч света в темном царстве» была ошибочной. Писарев отказывал Островскому в возможности изображать сильные протестующие характеры. Снижение образа Катерины сопровождалось в статье Писарева резкими высказываниями по адресу других пьес Островского.
470
…можно еще напечатать «Минина», но единственно в подписные месяцы. — Драматическая хроника A. H. Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» была напечатана в январском номере «Современника» за 1862 г.
471
…вздумалось похвалить его Бюхнеру, в „Stoff und Kraft“… — Л. Бюхнер поставил эпиграфом к главе «Бессмертие материи» своей книги «Kraft und Stoff» («Сила и материя») слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. V. сц. I):
(Перевод А. И. Кронеберга)
«Этими глубоко прочувствованными словами, — писал Бюхнер по поводу своего эпиграфа, — великий британец уже 300 лет назад очертил истину, которая, несмотря на свою ясность и простоту, несмотря на свою неоспоримость, до сих пор ни одним ученым естествоиспытателем не была доведена до общедоступного значения» (Buchner Louis. Kraft und Stoff. Frankfurt a. Main, 1856. S. 9).
472
Вам укажут пять «умных книжек», которые вы непременно должны прочесть, чтоб нам уподобиться. — Для этой пародийной сентенции Достоевского, возможно, исходными были следующие строки из статьи Писарева «Цветы невинного юмора»: «Если б г-н Щедрин не был блестящим беллетристом и если бы вследствие этого он был принужден побольше читать и размышлять, тогда он не питал бы вышеозначенного убеждения и понимал бы некоторые вещи, которых он теперь не понимает и которые поэтому постараюсь ему объясниты» (Рус. слово. 1864. № 2. Отд. II. С. 38). Кроме того, герой зайцевского романса-памфлета «Ты пойми, пойми, мой милый друг!» Яша Злючкин, в образе которого окарикатурен Щедрин, представлен либеральничающим по книжке (там же. № 4. Отд. III. С. 72–74)
473
…для счастия всего человечества — важнее всего должно быть — брюхо… — Этот сатирический вывод Достоевского основан на выступлениях в печати радикальных представителей революционной демократии, и в первую очередь Писарева и Зайцева. Так, в «Очерках из истории труда» Писарев утверждал: «…мы с полным основанием можем сказать, что человек захватывает приготовленный запас пищи вследствие размышления. Конечно, размышление это в высшей степени просто, потому что, как мы уже видели, все животные размышляют точно так же. Но именно по своей простоте это размышление, доступное всем людям без исключения, оказывало и до сих пор оказывает на судьбу нашей породы такое могущественное влияние, каким не пользуются ни чистейшие нравственные истины, ни величайшие научные открытия. Из этого размышления развилось все, что составляет красоту и гордость нашей цивилизации, и все, что составляет ее позор и страдальческий крест» (Рус. слово. 1863. № 11. Отд. I. С. 55–56). В прямой зависимости от насущных материальных нужд народа Писарев рассматривал вопросы этики и эстетики. В статье «Цветы невинного юмора» отчетливо проявились нигилистические тенденции критика в отношении искусства. Аналогичные идеи, но в еще более утрированной форме проводил в своих статьях Зайцев, который, например, в рецензии на книгу Я. Молешотта «Учение о пище», писал: «Судить, понимать, наслаждаться, положим, эстетическими творениями, человек может только тогда, когда организм его находится в условиях, благоприятных для этого. Заболели у человека зубы —·и он не только не станет восторгаться г-ном Фетом, хотя бы был самим г-ном Анненковым или самим г-ном Дудышкиным, а со злобой швырнет неповинные песнопения фетовской музы в угол. Человек не ел долго или слишком наелся — и ему не под силу рассуждать о важных материях». И далее: «По-видимому, в наше время должно казаться странным приводить доказательства в пользу того, что те или другие особенности, свойства и проявления деятельности того, что называется духом, зависят от принимаемой пищи» (Рус. слово. 1863 № 8 Отд. II. С. 50, 51). Самый термин «брюхо» Достоевским был употреблен уже после Зайцева, в памфлете которого «Ты пойми, пойми, мой милый друг!» герой диалогизирует со своими «мозгами» и «брюхом».
474
…«стряпчий городничему живот укусил». — Об этом эпизоде упоминает чиновник в рассказе Щедрина «Приезд ревизора» (1857; «Невинные рассказы»)
475
…статьи о мальчишках и об засиживателях новых идей… — Имеются в виду статьи хроники «Наша общественная жизнь», напечатанные в ноябрьском (1863 г.), январском и мартовском (1864 г.) номерах «Современника».
476
С яростию восстали Скрибов и Кроличков… — Речь идет о статьях «Цветы невинного юмора» Писарева и «Глуповцы, попавшие в „Современник“» Зайцева (см. выше).
477
…«Заграничное слово» прямо говорит, что вы это взяли из «Времени»… — О сходстве приведенных Достоевским цитат из «Объявления о подписке на журнал „Время“ на 1863 год» и мартовской хроники «Наша общественная жизнь» Щедрина писал Благосветлов в статье «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“» (см.: Рус. слово. 1864. № 4. Отд. II. С. 71).
478
Позади бесцветная // Дней былых равнина, // Спят в ней безответные // Слезы гражданина… — Достоевский цитирует напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1864 г. стихотворение И. И. Гольц-Миллера, начинающееся словами: «В сердце грусть тяжелая…». Писатель, по-видимому, намеренно заменяет в последней строке процитированного четверостишия слово «грезы» словом «слезы», высмеивая приверженность к последним в современной ему демократической поэзии.
479
…прочтите мой талантливый февральский фельетон в „Своевременном“… — Намек на статью хроники „Наша общественная жизнь“, напечатанную в февральской книжке «Современника» за 1864 г., где Щедрин писал о тяжелом положении народа в пореформенной России. В этой статье содержались сатирические выпады против запрещенного правительством «Времени» и идеологии почвенников.
480
…я сделал «новое — экономическое отношение»… — Достоевский в утрированном виде пересказывает далее следующие окрашенные горькой иронией строки, которыми Щедрин резюмировал свой подробный анализ полной лишений жизни русского мужика: «И потому, о москвич! ты, который с Плющихи или из-под Новинского поспешаешь на кабалистико-чревовещательный вечер на Спиридоновку или на юридическо-сиккофантское утро на Страстной бульвар, вспомни все изображенное выше и не торгуйся с ванькой, запрашивающим с тебя четвертак, не вынуждай его ехать с тобою за пятиалтынный, но действуй щедрой рукой и даже прибавляй пятачок на водку!» (Современник. 1864. № 2. Отд. II. С. 218).
481
…«страшимся сказать»… — Как и в начале статьи, Достоевский пользуется здесь сатирической гиперболой Щедрина.
482
…намекается, что мы, начав издание «Эпохи», будто бы изменили в некотором пункте свои убеждения. — В статье «Литературные мелочи» Щедрин писал, имея в виду редакторов и сотрудников «Эпохи»: «„Не роди ты меня, мать — сыра земля“, — умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики, и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да „тихим, кротким поведением“». И — далее: «Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти „Русский вестник“ или же, подобно Купидоше (см. комедию Островского «В чужом пиру похмелье»), замышляют только „удивить мир коварством!“..» (Современник. 1864. № 5. Отд. II. С. 17, 18).
483
Ну, скажите, в чем тут идея… — Достоевскому, который в «Записках из подполья» сделал выпад в адрес Щедрина как поклонника «гадчайшей, бесспорной дряни», был, вероятно, понятен полемический смысл рассуждений сатирика о «дряни» и «дрянных людях», содержавших косвенную оценку повести Достоевского и ее героя.
484
Когда-то, в молодости своей, он был — фурьеристом. — M. M. Достоевский заинтересовался учением Фурье в кружке С. Ф. Дурова и А. И. Пальма, куда он был введен Ф. M. Достоевским в конце 1847 г. Но, как известно из документов «дела петрашевцев» и мемуаров современников, он был настроен очень умеренно. По воспоминаниям С. Д. Яновского, когда Федор Михайлович, сблизившись с наиболее революционным членом кружка H. А. Спешневым, рекомендовал брату почитать Луи Блана, тот отвечал: «Я, кроме Фурье, никого и ничего не хочу знать, да, правду, сказать, и его-то, кажется, скоро брошу: все это не для нас писано» (Рус. вестн. 1885. № 3–4. С. 817). M. M. Достоевский вместе с А. И. Пальмой высказались против изменения мирных позиций кружка и перехода его к активному действию. Вследствие этого, а также благодаря горячей защите его Ф. M. Достоевским в его следственных показаниях Михаил Михайлович был через два месяца после ареста освобожден и даже, как невинно пострадавший и обремененный большой семьею, получил «негласное пособие
двести рублей серебром» (См.: Достоевский: Материалы и исследования. Л, 1974. Вып. 1. С. 254–265).
485
Процесс обращения от беспочвенного, отвлеченного верования к чисто русскому общению — произошел в нем органически… — Мнение о том, что M. M. Достоевский самостоятельно, «органически» пришел к почвенническим убеждениям, которые потом стали главным стимулом его совместной с Ф. M. Достоевским журнальной деятельности, подтверждает опубликованная им в журнале «Светоч» статья о «Грозе» Островского (1860, № 3). Она свидетельствует о том, что «ряд идей „почвенничества“ был впервые сформулирован в печати M. M. Достоевским, хотя бы и при участии брата.
Это делает вероятным, что M. M. Достоевскому принадлежала большая, чем это было принято думать до сих пор, роль в выработке идеологической платформы журналов братьев Достоевских» (Фридлендер Г. M. У истоков почвенничества… // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1971. T. 30, вып. 5. С. 406–410; см. также: Нечаева В. С. Журнал M. M. и Ф. M. Достоевских «Время». M., 1972. С. 28–29).
486
Он был человек — страстно любивший поэзию, и сам поэт. — В юности M. M. Достоевский зачитывался Жуковским, Шиллером, Гете, немецкими романтиками и сам писал стихи, подражая любимым поэтам. «Твои лирические стихотворенья были прелестны: „Прогулка“, „Утро“, „Виденье матери“, „Роза“ (кажется так), „Фебовы кони“, и много других прелестны. Какая живая повесть о тебе, милый! И как близко она сказалась мне», — откликался на его лирику Ф. M. Достоевский в письме от 1 января 1840 г. (XXVIII, кн. 1, 67).
487
Он написал несколько повестей и рассказов — в одном небольшом рассказе, помещенном в «Отечественных записках» в 48 году. — В «Отечественных записках» в 1848 г. были опубликованы повести M. M. Достоевского «Дочка», «Господин Светелкин» и рассказ «Воробей»; в 1849 г. — «Два старичка. Из воспоминаний праздного человека»; в 1850 г. — повесть «Пятьдесят лет»; в 1851 г. — комедия «Старшая и меньшая», в журнале «Пантеон» в 1852 г. напечатан эпизод из романа «Деньги» — «Брат и сестра» (ср.: Собр. соч. M. M. Достоевского в 2-х томах, вышедшее в 1915 г. в издательстве «Пантеон литературы»; в качестве введения к 1 тому этого издания приложен данный некролог).
Беллетристика M. M. Достоевского, посвященная в основном изображению быта городской бедноты, переживаний «маленького человека», продолжает традиции «натуральной школы». В лучших его произведениях таких, например, как рассказ «Воробей», явно ощутимо влияние «Петербургских повестей» Гоголя и «Бедных людей» Ф. M. Достоевского.
488
Несколько более ценил он свои переводы из Шиллера и Гёте — вторым изданием. — M. M. Достоевскому принадлежат переводы поэмы Гете «Рейнеке-Лис» (Отеч. зап. 1848), драм Шиллера «Дон Карлос» (Библиотека для чтения, 1848) и «Разбойники» (в кн.: Драматические сочинения Шиллера в переводах русских писателей, изд. под ред. H. В. Гербеля. СПб., 1857. Ч. 3), его трактата «Наивная и сентиментальная поэзия» (Отеч. зап. 1850), стихотворения «Боги Греции» (Светоч, 1860), повести Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (Светоч, 1860). Переводы Шиллера получили высокую оценку современников (H. А. Добролюбова, А. В. Дружинина, M. Л. Михайлова). Перевод «Рейнеке-Лиса» Гете до сих пор не утратил значения классического образца (см.: Жирмунский В. Гете в русской литературе. Л, 1937. С. 477).
489
…несколько статей его, в отделении критики. — Наиболее ярко представляют M. M. Достоевского-критика его статьи «О новейших русских писателях» (Пантеон. 1848), «Жуковский и романтизм» (Пантеон. 1852) и «„Гроза“ A. H. Островского» (Светоч. 1860). Во «Времени» была опубликована рецензия M. M. Достоевского на «Стихотворения» Плещеева (1861).
490
…«Цель оправдывает средства» — правило старинное — западническое… — В ответ на это в статье «Стрижи в западне» Антонович писал: «Действительно, примечание редакции к моему «Посланию» неловко, и редакция даже не хотела печатать его, так же как и все послание; но я напомнил ей, как теперь напоминаю всем читателям, те многочисленные, мизерные, но задорные статейки, которые некогда печатались в журнале стрижей под названием «Писем с Васильевского острова», о «повсеместном распространении невежества в литературе» и т. д.; к этим статейкам редакция стрижей всегда прибавляла свои примечания, в которых она говорила, что хотя она и не одобряет статеек, однако печатает их для хороших целей, для «оживления литературы», для ознакомления публики с оригинальными воззрениями статеек и т. д. <…> По образцу этих-то примечаний и для пародии их и составлено примечание к моему „Посланию“…» (Современник. 1864. № 9. Отд. II. С. 86).
491
Значит, он был знаком со мною, коли разговаривал со мной… — «Я, — отвечал Достоевскому Антонович, — …не знаю ни вас, ни вашей болезни, ни вашего лечения, не имею чести быть знакомым с вами и не имел даже никогда удовольствия говорить с вами…» (Современник. 1864. № 9. Отд. II. С. 105).
492
…как и когда получил я болезнь… — Писатель связывал происхождение и развитие своей болезни с годами, проведенными им на каторге, что, однако, противоречит свидетельству лечившего его врача С. Д. Яновского, который утверждал, что Достоевский «страдал падучею болезнью еще в Петербурге, и притом за три, а может быть, и более ле, до арестования его по делу Петрашевского, а следовательно, и до ссылки в Сибирь» (Достоевский в воспоминаниях современников. M., 1964. T. 1. С. 153–154).
493
Выражение «дуракова плешь» — в «Современнике». — В хронике «Наша общественная жизнь» Щедрин в характерной для него манере эзоповского иносказания оценивал правительственные реформы 60-х годов, иронизируя по поводу «того неторопливого поступания к идеалу, которым прониклась современная русская жизнь». Сатирик писал в связи с этим, что его читатель-«провинциал» «не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно к идеалу, а не от идеала. Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с какими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой плеши». Мое дело растолковать ему, что и как. Мое дело сказать ему: любезный провинциал! если ты побежишь под гору, то уткнешься в „Дураково болото“, тогда как если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в „Дуракову плешь“! Пойми» (Современник. 1863. № 1–2. Отд. II. С. 358).
494
В журнальном споре нашем он никогда, ничем — не участвовал! — Антонович, возражая Достоевскому, писал: «…доктор участвовал и упоминался в наших спорах» — и в доказательство приводил слова из статьи Достоевского «Опять „Молодое перо“»: «…статья ваша точно доктором вам прописана по рецепту». Принимая обращенную к Щедрину статью Достоевского на свой счет, Антонович писал по поводу процитированного: «…вы указанною фразою оскорбили меня и моего доктора ничуть не менее, чем я оскорбил вас и вашего доктора моею фразою» (Современник. 1864. № 9. Отд. II. С. 103).
495
Тут именно разумеется мой доктор… — На это Антонович отвечал: «…успокойтесь, г-н Достоевский, прекратите ваши изумления и успокойте вашего доктора; я не имел ни малейшего намерения ругать его, я вовсе не знаю его <…> он обруган не как личность, врачующая вас, а просто как слово „доктор“, как фраза, выдуманная вами в виде остроты над моею статьею, — собственно, обругана ваша статья, а не доктор» (там же. С. 105).
496
…«если и теща есть, так чтоб и теще!» — Слова слесарши Пошлепкиной из комедии Гоголя «Ревизор» (д. IV, явл. XI).
497
…вы отвечаете полемикой ровно в сорок восемь страниц! — Антонович ответил на «Необходимое заявление» Достоевского и заметку Страхова «Мрак неизвестности (Заметки летописца)» пятью статьями, объединенными названием «Литературные мелочи» и подписью «Посторонний сатирик»: «Стрижи в западне», «Проект», «К какой литературе принадлежат стрижи — к петербургской или московской?», «Уловки стрижей», «Увлечения стрижей» (Современник. 1864. № 9. Отд. II. С. 77–122).
498
Антонович — разрушил г-на Тургенева. — Достоевский имеет в виду резко отрицательную статью Антоновича об «Отцах и детях» Тургенева — «Асмодей нашего времени», появившуюся в мартовской книжке «Современника» за 1862 г. Упоминанием Антоновича Достоевский, очевидно, давал понять ему и читателям, что инкогнито, скрытое псевдонимом «Посторонний сатирик», — для него не тайна.
499
«Мастеры» вы, а не «Мистеры»! — Слово «мастер» (master) употребляется в английском языке в значении, близком к значению слова «мистер» (mister) — господин, при обращении к юноше.
500
Начальные строки стихотворения А. А. Фета (1854). В ответ на цитацию Достоевского Щедрин в оставшейся ненапечатанной тогда и дошедшей до нас в отрывке статье цитировал Пушкина: «Конечно, презирать не трудно // Отдельно каждого глупца» и т. д. (см.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. T. 6. С. 518).
501
…«посылать шиши в беспредельное пространство и считать их разрушительными гранатами»… — Достоевский неточно цитирует статью E. Ф. Зарина (Incognito) «Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме» (Отеч. зап. 1864. № 6. Отд. 1. С. 806).
502
Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными»… — В течение работы над «Униженными и оскорбленными» Достоевский действительно несколько раз сообщал корреспондентам, что находится «в лихорадочном положении», что сначала «запустил» роман, а потом «работал усиленно» (см.: XXVIII, кн. 2, 9 и 19)
503
«Помилуйте, — какие же глубокие мыслители Киреевский и Хомяков?» — Но Григорьев никогда нe понимал таких требований. — Возвращаясь к данному конфликту в «жизнеописании» Ф. M. Достоевского H. H. Страхов перепечатал его «Примечание», предварив новыми пояснениями. По словам Страхова, братья Достоевские «были прямыми питомцами петербургской литературы», в традиции которой вошло несколько насмешливое отношение к славянофильству. «Михайло Михайлович, — писал Страхов, — был, разумеется, более подчинен и был холоден или даже предубежден против славянофилов <…> Федор Михайлович, хотя и был тогда почти вовсе незнаком со славянофилами, конечно, не был расположен противоречить Григорьеву, и своим широким умом чувствовал, на чьей стороне правда. Как бы то ни было, очевидно, направление «Времени» через Ап. Григорьева примыкает к одной ветке погодинского славянофильства…» (Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч. СПб., 1883. T. I. С. 204). Страхов несколько преуменьшает противоречия, возникшие в это время между Ап. Григорьевым и Достоевскими. В начале 1860-х годов Достоевский расходился со славянофилами по многим вопросам (политическим и эстетическим). Особенно резкий протест Достоевского вызвала напечатанная в № 4 за 1861 г. газеты И. С. Аксакова «День» статья H. Б., оправдывающая крепостное право. Все эти несогласия нашли выражение в опубликованной в 12 книге «Времени» за 1864 г. статье Достоевского «Последние литературные явления. Газета „День“». Ап. Григорьева волновали резкие формы этой полемики.
504
Совершенная правда, что в журнале в первые годы его существования были колебания — не в направлении, а в способе действия. — Страхов имеет в виду стремление Достоевского в 1861–1862 гг. наладить контакты с радикальной журналистикой. Именно это явилось главной причиной недовольства Ап. Григорьева. В письмах к Страхову он возражал против «срамной дружбы» «Времени» с «Современником», призывал дать отпор «Искре»; «…нельзя, писал он, — работати Богу и Маммоне: нельзя признавать философию, историю и поэзию, и дружиться с „Современником“…» (см. более точную и полную публикацию его писем в кн.: Аполлон Александрович Григорьев: Материалы для биографии // Под. ред. В. Княжнина. Пг., 1917. С. 267, 285–286.
505
Требование же «нового и свежего человека» для Политического обозрения — не выражало направления журнала. — Отдел «Политического обозрения» во «Времени» с основания журнала до его закрытия вел A. E. Разин. Ап. Григорьев, желая, по всей вероятности, иметь во главе политического отдела журнала сотрудника, взгляды которого более бы соответствовали его почвеннической платформе, называл A. E. Разина «Стенькой Разиным» и усматривал в его статьях «дешевый либерализм» (Аполлон Александрович Григорьев Материалы для биографии // Под ред. В. Княжнина С. 285).
506
Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать — убеждения — Достоевский вообще придавал большое значение деятельности и личности Ап. Григорьева. Позднее, в 1868 г., он выражал Страхову пожелание «в „Заре“ пустить статью об Аполлоне Григорьеве, то есть не то чтоб биографию, а вообще о его литературном значении» В 1876 г, когда вышли в свет «Сочинения» Ап. Григорьева с «Предисловием» в 1 томе Страхова, в записных книжках Достоевского несколько раз повторяется заметка о том, что необходимо было описать «смерть Аполлона Григорьева», осветить ее обстоятельства.
507
…прочтите объяснение этого места у г-на Буслаева. — В приведенной Достоевским выше цитате из «Слова о полку Игореве» Ф. И. Буслаев указывал на слово Стрибожи как на мифологический архаизм, заимствованный автором «Слова» «из старых словес» (см.: Буслаев Ф. Русская народная поэзия. СПб., 1861. T. 1. С. 382).
508
…Кювье говорит о них… — Далее цитируется труд: Cuvier Chier. Le règne animal, distribué d'après son organisation. Paris, 1817. T. 1. P. 373.