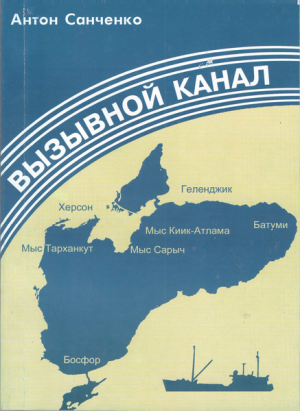
МОРЯК НА СУШЕ
и его проза
«Моряк в седле» — так называлась книга о Джеке Лондоне, который до своей трагической смерти в 1916 году был кумиром и учителем жизненной философии, а подчас и практики, молодых людей начала XX, недавно незамеченно минувшего, века. (Интересно, как отчетливо-рифмованно совпадают строки очень непохожих современников: «Вы говорили: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть…» /Маяковский/; «Джек Лондон, деньги, сила, власть…» /Булгаков/).
«Моряком на суше» можно назвать и Антона Санченко, списанного общей гнусной ситуацией с моря в абсурд и хаос берега. Это не просто обозначение его нынешнего статуса, а акцентуация факта, что он и в нашенском сухопутном «бордельеро» остается — не «в душе», а всей своей сутью и плотью — моряком, Человеком Моря.
Совершенно определенно существует и имеет все права на существование морская литература. Я всегда был противником раскладывания (или разлагания?) белль леттра по «отраслевым» полочкам: «производственная», «деревенская», «городская». (Ad absurdum можно дойти и до «фрезеровщицкая», «комбайнерская», «компьютерщицкая» и даже — «зубодолбежная»). Представьте себе только: «деревенщик» Ив. Бунин. Или: «Ялтинский мещанский писатель А. П. Чехов»! «Морская» тема имеет законное жизненное право называться таковой в силу своей отчетливой «отдельности». Она принадлежит совсем иной стихии, нежели вся прочая. У писателей-моряков не только своя особая лексика, у них иной, особый стиль мышления и высказывания.
Когда-то, когда я работал в знаменитой одесской газете «Моряк», ко мне приходило много моряков, пытавшихся писать (и часто, в смысле печатания, небезуспешно) «морскую» прозу. Это всегда было вполне литературно грамотно (нечастое, кстати, умение), остроумно, с интересными стилевыми находками — на уровне, правда, «хохмы» — но… Но все это было как бы нескончаемым продолжением «вахтенной трепологии» замечательнейшего, симпатичнейшего, всепьянейшего баюна-рассказчика Виктора Конецкого. «А между тем на полубаке старый боцман, дядя Сэм, разорви его собаки, так рассказывает всем,» — пелось в матросском фольклоре. Но ребята эти не поняли одного: феномен Конецкого заключался в том (и ограничивался тем), что он нашел свою «экологическую нишку», застолбил золотоносный участок, исчерпал его полностью и закрыл навсегда для эпигонов. Лучше его написать в этом жанре и стиле, видимо, нельзя, и, видимо же, не нужно. «Хватэ!» — как говорят украинские деды.
С первого взгляда может показаться, что Антон Санченко тоже увяз в упомянутой традиции. Ну, разве что, реалии. На окраинах Батуми у него «мирно потрескивают автоматы». Ну и что? Где проходка дальше Конецкого? Более того, спросим «внаглую», где попытка хотя бы подпрыжки к высотам планок Джозефа Конрада, Р. Л. Стивенсона?
Дальше Конецкого Санченко все-таки пошел. Отчасти. Несомненное достоинство его прозы — сжато-напряженная, «наэлектризованная», почти афористичная стилистика целых столбцов строк-двухстрочий-абзацев. И этим он отличается от свободно разглагольствовавшего «на тему и около нее» Виктора Викторовича. У него (Антона) есть великолепные лирические отступления, эдакие «Песни Песней» любящего моряка, обращенные к если не выдуманной, то к домечтанной, Прекрасной Даме Суши (что должно, по-моему, весьма утешить оставшихся на плаву моряков, не изверившихся в верности своих жен). В то время, как ВВ пришедшим с визитом пишущим и непишущим дамам давно предлагал. чокнуться.
И все-таки. Хотя автору предисловия положено бы спрятать в карман критические соображения и только помахивать надушенным напутственно-комплементарным платочком, я вынужден констатировать, что полностью вырваться из завораживающего плена «конецкости» Антону Санченко не удалось.
Ну и что? Его вещи берут за душу «конецкой» — и «санченковской» одновременно — искренностью и непринужденностью, тонким, интеллигентным остроумием, богатством культурных ассоциаций, обаянием завлекательного «баяния». (Знаете, был в фольклоре нашем славянском такой Кот-Баюн, подручный Бабки-Яжки, «завлекатель»). Ведь, если подумать, литература откуда пошла «вопче»? От россказней у костра вернувшихся из опасных дебрей охотников или брехней возвратившихся с моря рыбаков-моряков, Синдбадов всех времен и народов. Откуда же еще?
Так вот. Книжка Антона Санченко, которой я всеми порами сердца желаю успешно увидеть свет, имеет скромное, но законное право стоять у мариманов на одной полке с книгами Стивенсона, Дж. Конрада и Дж. Лондона, Бестужева-Марлинского, Станюковича, Соколова-Микитова, Дмитрия Лухманова, Бориса Житкова, Александра Грина, Николая Трублаини, Леонида Тендюка, Тура Хейердала, Ж.-И. Кусто, — и многих других, кто посвятил свое перо (или принтер компьютера, по-нонешнему) нелюдимой, но любимой даже без взаимности Иной Стихии, большей части земного шара — Морю.
А главное, ее жильцам-хозяевам и мученикам-рыцарям — морякам.
Виктор Сильченко,
прозаик, член комиссии по детективной, приключенческой, фантастической и научно-популярной литературе Союза писателей Украины.
СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ КУРСАНТОВ АКАДЕМИЙ
Законы жанра требуют словаря морских терминов. Между тем, на самом деле словарь не нужен. Ради эксперимента я давал читать эту книжку своему строго сухопутному другу Кузе, и единственным непонятным ему словом оказались «зары». Поскольку зары не являются чисто морским термином, я безболезненно заменил его на «кости», за что и извиняюсь перед великим азербайджанским народом, давшим флоту шеш-беш, танкера Нобеля (сказочки про динамит рассказывайте лауреатам) и подводника Магомеда Гаджиева (Эфенди, насылсын? Говорите хотя бы по-английски, когда проходите Босфор, из ваших разговоров с турецкими лоцманами нам теперь ни черта не понятно). И вообще, автор убедился, что наиболее бестолковыми по части морских терминов являются сами моряки, особенно радисты. Сколько раз его поправляла пехота по части «веревок» и «ходят». Но всех радистов превосходят курсанты пятого курса морской академии, которые на приказ старпома принести из ахтерпика ведро сурика реагируют мгновенно, но потом возвращаются с вопросом: «Извините, а где это?» Автору кажется, что когда академиков было меньше, а инженеров больше, это знали даже курсанты-судоводители.
Тропик — Бывают: Рака, Козерога и штральзундской постройки. После Рака начинают давать стакан тропического вина каждый день. После Козерога вино отбирают. Штральзундской постройки см. «тропик».
«атлантик» — Серия рыболовецких траулеров морозильных следующая за «тропиком». Лучшее судно для сороковых и Антарктики. Пароход.
«бармалей» — БМРТ, большой рыболовецкий траулер морозильный николаевской, завод «Океан», постройки. Пароход.
«Восток» — Плавбаза. Вершина гигантофилии. Предполагалось, что будет стоять на якоре посреди океана, мутить воду насосами, и рыба перепутает насосы с холодным течением, и сама придет к борту. Команду менять предполагалось вертолетами, а рыбу ловить «мыльницами». Рыба оказалась умнее. Пароход с собственным отделом кадров и трамваем (вместо вертолета).
«Гадючник» — На самом деле Юзефа Францевна никакого отношения к «Гадючнику» не имела. Всю жизнь проработала в рюмочной, конфискованной большевиками у Франца. См. также Е. Лигачев, винное дерево, бутлегер.
«Гарпунер Зарва» — Супертраулер объединения «Антарктика», порт приписки — Ильичевск. Эстонец, первый в мире гарпунер ненорвежец. См. «Гарпунер Прокопенко».
«Гарпунер Прокопенко» — Супертраулер, «Антарктика». Украинец, первый в мире ненорвежец. См. «Гарпунер Зарва».
«Голубая стрела», «Крымская стрела» — Скоростные катамараны, на волне трясет как на танке до Берлина.
«Дружба» — Фрегат. См. Мальта, Горбачев, Рейган.
«Звезда Черноморья» — Атлантик? «Звезда Азова» точно был супер. См. также, «Гарпунер Зарва».
Зиппо — Зажигалка из сухого пайка американских рейнджеров наряду с сигаретами, презервативами и горячими собаками.
«Копет-Даг» — В списке кораблей Гомера не значится.
«Крест» — Видимо имеется ввиду «Южный крест», павший жертвой борьбы с космополитизмом, но так и не ставший «Комсомольцем».
«Плавмаруся» — Плавмастерская.
«Профессор Миняев» — Учебно-производственное судно, на котором учат, что в Марокко дешевая кожа, но забывают объяснить, где у этого Марокко ахтерпик.
«Прощание славянки» — Марш, написанный по поводу Балканской войны 1912 года, когда сербы и греки воевали с болгарами за Македонию.
«рогатые» — Формула вежливости при обращении механика к судоводителю.
«Св. Анна», Брусилов — См. «Два капитана» В. Каверина.
«Седов» — Учебный барк МРХ, Балтийского отряда учебных судов (БОУС). Полярный исследователь. См. «Седовка», «Св. Фока».
«сквозняк» — Серия транспортных рефрижераторов «Шторм», «Ветер» и т. д., то что вояки называли бы дивизионом плохой погоды.
«супер-супер» — Вот «атлантик» был пароход.
«супер» — «суператлантик». Тоже пароход. Но в сороковых изгибает на волне. И главный двигатель — один, опять же. Начало гигантомании.
«Сэмэн» — Только автору известно по крайней мере два «Сэмэна»: СРТМ и РС-300. О каком из них идет речь — непонятно.
«тропик» — Большая серия рыболовецких траулеров морозильных конца шестидесятых, построенных в Штральзунде, ГДР. Пароход. Знаю механиков нежно любящих «тропики» и через двадцать лет после их переплавки на гвозди. Чем не могут похвастаться их любимые женщины. Кроме того, на «тропиках» были самые низкие оклады, и весь «резерв» приписывали к «тропикам». См. также «Шедар», «Южный Крест», «Кальмар». Баб-эль-Мандебский пролив.
«тропикан» — См. «тропик». Упоминаемый в тексте «Шедар» на самом деле тогда уже затонул у причала в Поти, и никак не мог быть в Мапуту.
«централка» — Херсон, старейшее мореходное училище страны, см. Александр Грин «Автобиографическая повесть», см. «Товарищ». Теперь — символ Бременхафена.
«Шедар» — См. «тропикан».
«Эстония» — «…хрустят плащи болония доставки загранплаванья, то теплоход «Эстония» ошвартовался в гавани», Александр Розенбаум, флотский военврач.
.... — В академическом издании Пушкина количество точек на месте пропущенных слов — разное. Например, в фразе из письма: «Только что закончил «Евгения Онегина», еще не успели остыть мои взопревшие седые....» Точек — четыре.
500 килогерц — 600 метров, кажется
SOS — Самая большая мистификация радистов. Ти-ти-ти-та-та-та-ти-ти-ти, и никаких мертвых душ.
Абандон — Судно, покинутое командой. Также — отказ судовладельца от судна в пользу страховщика или фрахтователя.
Абраг, абрек — Бандит.
аванец — Бывает отходной и приходной. Деньги, получаемые перед и после рейса, до расчета. К сумме заработка за рейс самими рыбаками обычно не прибавлялись. См. «Меридиан», «Горняк», «Уют», Юзефа Францевна, «Волна», «Бригада», «Люстдорф», «Баба Утя».
агловоз — Агломератовоз, см. Завод «Азовсталь»
Аденская копия Биг Бена — Часы на башне зафиксировали время ухода последнего англичанина из колонии (не считая «Бритиш петролеум»).
Адидас, Пума, Найк — Мокасины, по которым сборника Союза можно было отличить от моряка. Устарело, как все стеклянные бусы для аборигенов.
Айвазовский — Художник, порт приписки — Измаил.
аларм — Звук действительно мерзкий
Александр Матросов — Пехотинец действительно закрывший телом амбразуру дота под Невской Дубровкой. И это не было ни пропагандой коммунизма, ни рекламой пулеметов.
баббит — Товарная позиция наряду с бронзой См. ченч.
Баб-эль-Мандебский пролив — Самое гиблое место на земном шаре. См. «Любимая женщина механика Гаврилова», см. «тропик».
балласт — В отличие от воздухоплавания — вещь крайне необходимая. Чтоб пароходы не взлетали. См. остойчивость.
банановка — Самогон из скоропорта.
Барабаш — Пропольский гетьман, кум Хмельницкого, у жены которого последний обманом получил секретный польский документ. Здесь: капитан второго ранга, командир дивизиона торпедных катеров ТОФ и ДКБФ, 17 лет плавценза, преподаватель военно-морского училища и клуба юных моряков.
Барколоме Диас — Португальский капитан, давший настоящее название мысу Бурь (переименован королем Жуаном в мыс Доброй Надежды), и вынужденный повернуть на обратный курс у Великой Рыбьей Реки в результате забастовки команды.
Батуми — Порт в Аджарии, база ГМП, в котором остался весь танкерный флот Черного моря.
батюшка — См. помполит.
Беня (Бенцион) Крик — Бандит.
Бербоут-чартер — Разновидность демайс-чартера. Любимая чартер-парти братьев Кудюкиных.
Бикини — Атолл в Тихом океане. Часть женского туалета.
Бич — См. «Третий лишний» стр…47.
бичевать — Сидеть на биче.
Бичкамер, Конецкий — ВВ никогда в жизни не сидел на биче, потому что 14 раз прошел севморпутем (каботаж, см.), какой тут Торресов пролив на паруснике (капитан Дж. Конрад, см.). (Изрядно запоздавший ответ спорщикам со стр. 49)
Блатной пароход — Термин видимо польский. В Польше отсидку в тюрьме можно заменить рейсом на рыбаке на срок вдвое меньший.
бомж — От бича отличается тем, что в Керчи не живет. Любимое ругательство ялтинских бомжей: «Тебя надо в Керчь отправить».
боны — Сетевые заграждения от подводных лодок и боевых пловцов, а также чеки Внешторгбанка, последний курс обмена 1:25
Бриндизи — Порт в Италии, военно-морская база со времен Цезаря и паромный терминал на Грецию с тех же времен. Пиво дороговато.
Бургас — Порт в Болгарии, база Рыбного Стопанства. Пиво отличное.
вельбот — Позывной пограничного корабля.
Верньер, секстан — Не спрашивайте у американских штурманов, их уже не учат.
виски — Ячменный (кукурузный, ам.) самогон, приобретший свой характерный цвет оттого, что его возили на рыболовецкие промыслы в выжженых изнутри бочках (после рыбы).
Владик — Порт на берегах бухты Золотой Рог. Не путать с портами Фриско и Стамбул.
воки-токи — Предшественник сотовых телефонов, работающий на морских каналах УКВ.
Восемь тонн железа — Учитывается только железо, поднятое Жаботинским на соревнованиях, под протокол.
гадство — Слово, выдуманное народным артистом Одессы Водяным. На самом деле не употребляется. Эвфемизм.
гальюн — Носовое украшение на галеонах и флейтах семнадцатого века, использовавшееся не только для украшения, но и по назначению. (ОО).
Гаша, огон — То, чего не умеют заплести турецкие моряки. Пользуются беседочным узлом.
Гиппохондрия — Так верно.
ГУРФ — В настоящее время «Укрречфлот», непроданная контора, см. Славов. Одесситы — цените. Вам, подфлажникам, один черт. А кто пацанов учить будет?
Дата Туташхия — Бандит.
Де Рибас — Адмирал гребной флотилии Де Рибаса, единственный неукраинец флотилии. См. также «Остров Сокровищ», «адмирал с лопатой».
делагил — Любимая пилюля судовых айболитов.
джиггер — Блесна на кальмара.
Джим Гопкинс — Палубный (каютный?) юнга. Увиливал от судовых работ, спрятавшись в бочке. Версия с яблоком неубедительна. Не женат.
джин — Настойка на шишечках можжевельника, в Голландии применялся как лекарство от простуды и разливался в пузырьки, пока не был распробован английскими моряками. См. также «Зубной эликсир», «гамбургер».
дистиллат — Вода, которую младшие механики тайком подливают в питьевые танки на своей вахте, см. Магеллан, тухлая вода, крысы по дукату, Антонио Пифагетта.
длинноухие — Без комментариев.
Добровольный флот — Флот, построенный на добровольные пожертвования граждан и проданный начальниками пароходств во время гражданской войны. См. Дмитрий Лухманов «Жизнь моряка», Китай, интернирование, возвращение судов во Владивосток. См. также Кудюкин.
Доки Адмиралтейства — См. «Виктория», см. «Катти Сарк», но не в этом словаре.
Донузлав — Соленое озеро в Крыму, имеющее выход в море.
Доска почета — См. план, потолок, огород, «барракуда», рыбак, Капитанский шпигат.
Дракон — Формула вежливости при обращении к боцману.
Дубай — Порт в Персидском заливе, во времена автора соблюдавший сухой закон.
Дуплетом тралить — Один трал на борту — другой за бортом. См. также капитанский шпигат.
Звездный заплыв — См. Севастополь, день Флота или фильм «Хабиасы».
Звякнуло трижды — Сигналы тревог даны еще по отечественному руководству.
ЗРБ-40 — Помню, что белая и звездная.
зубан — Рыба.
Изобаты резать — Ну, это только дальневосточники умеют. Изобата — линия равных глубин.
каботаж — Плавание, в котором обороты винта не пересчитываются на центы
кадры — См. плавсостав, бич
(Из собрания граффити на причальных стенках В. Конецкого)
Калашников — Купец, конструктор стрелкового оружия, также — экспортная продукция СССР
кандей — Не путать с кондиционером, — поваренок.
карпалить — Крымское. То же, что грачевать. Карпаль — тот, кто возит грачей. См. тралмастера, поселок Котовского.
КДП — Капитан дальнего плавания, диплом дающий право на ношение капитанского жетона и плавание дальше Босфора.
Кергелен — Остров в Антарктической части Индийского океана, французская заморская территория. См. Жан Мишель Лепетико. Цены на польский клыкач см. в журнале «Бизнес».
Китобоец «Венера» — В списке позывных отсутствует. Была «Венера-4», но это не китобой, а межпланетная космическая станция.
Клыкач — Рыба см. Фокленды, Маргарет Тетчер, война. Кергелен, кролики, муфлоны и вечный Жан Мари. Капитан Ефимов (нынче — немецкий моряк). Новый промрайон клыкача.
кнехт — Немецкий пехотинец времен ледового побоища. Также — двойная чугунная тумба для швартовки. См. «скоро наши молодцы все швартовые концы намотают на кнехты и причалят корабли». По-моему, это писал механик. Не путать кнехт с битенгом, кнехт-битенгом и причальной пушкой
Ковш порта — Могу только нарисовать, не техфлотовский. См. «черпак», Родион стр. 120
Колумб — Настоящее имя — Колон (земледелец). Плыл в Индию. Не закрыл за собой Америку. Сразу же колонизировали.
коносамент — Грузовой документ, необходимый для предъявления американским нэви в Адриатике и на Дунае по пути в Югославию.
Конрад Джозеф — Капитан. Родился под Житомиром. В море ушел из Марселя. Английский начал изучать в 23 года. Провел парусник Торресовым проливом. Новеллист, классик английской литературы, непревзойденный стилист. См. Бичкамер
коньяк — Дистиллированное вино, изготовленное по заказу Вильгельма Завоевателя для перевозки через Ла-Манш в дубовых бочках. В Англии вино предполагалось развести водой до нормального состояния, и сэкономить таким образом тоннаж флота вторжения. Английская вода, видимо, не подошла.
Копенгаген, порт — Русалочка, «Шербек», каналы, крейсера, фиш-куттера, пиво отличное.
Кореш, корешок, братва, братан, брат-2 — Флотскими больше не употребляется, чтобы не перепутать своих.
корочки — Раньше — свидетельство о профессионализме моряка. Сейчас — товарная позиция.
Кренкель — RAEM — его позывные. Папанинский/челюскинский радист (Блин, ну ты даешь, кадет! Ты и Папанина не знаешь?)
Крымская война — Последняя война парусных флотов. Впервые применены бомбические орудия, броненосные батареи, пароходо-фрегаты и якорные мины. После войны Россия лишилась права иметь военно-морской флот на Черном море.
Кубрик — Стэнли, голливудский кинорежиссер, а также — место коммунального обитания моряков. Не путать с каютой.
Кухлянка, унты — Сказалось чтение О. Куваева, автора «Территории» и «Идущих за горизонт» (фильм). Шанти (английская матросская песня, поющаяся при выхаживании шпиля) в фильм не попало. Автору захотелось восстановить справедливость в эпиграфе. См. также Н. Трублаини (сезонник-кочегар) «Лахтак», В. Конецкий (капитан-дублер) «Соленый лед», Всеволод Васнецов (гидролог) «Повести северных морей», Н. Погорлецкий «Как меня обкалывали шесть ледоколов», В. Горбенко «Как Коля-Морячок полез поперед батьки из полыньи и попал в подвижку» С. Урусов «Как мы гнали назад «чешки», которые туда перегонял еще Конецкий», «Как тонули речные «чешки», став морскими пароходами на тридцатом году жизни» неизвестного автора, и «Погибель» капитана Б. Житкова, 1929.
Лангуст — Большой морской рак. Самая вкусная часть лангуста — клешни.
легость — Бросательный конец, выброска. См. мультфильм «Балерина на корабле».
лендлиз — Куриные окорочка, за временное пользование которыми приходится расплачиваться золотом. См. также крейсер «Эдинбург».
линемет Лох — См. легость, см. выброска, см. фаус-патрон Без него ломщику плохо.
Лоц-порт — Калитка для лоцмана в фальшборте, выходить без трапа не рекомендуется.
Луи — Порт-Луи, остров Маврикий. См. Лангуст. См. также капитан Газаров (Виктор Арташесович), ныне — турецкий моряк.
Люмитер — Окно такое (с броняшкой).
Люрекс, парики, мохер, ковры (каперты), кримплен — Товарные позиции колониальной торговли.
Мапутовка — На самом деле не на Лимпопо, а миль на сорок южнее.
Маркони — Изобретатель приемника см. Попов.
Мастер — От англ. Хозяин. Должность. Кэптэйн — ученая степень для визиток.
махновцы — Собирательный образ азовских мореходов. Визуально отличаются отсутствием белых «усов» на фальшборте полубака.
медкомиссия — Когда-то приходилось проходить ее по-настоящему, а не за деньги.
Мендель и Морган — Генетики, к пирату (банкиру) Моргану отношения не имеют.
Местный флот — См. каботаж, путина, хамса, шпрот (черноморская килька), мидии, тюлька, камбала (калкан, глось), белуга (хрюшка), барабуля (султанка), СЧС.
мигалка — См. Конецкий, керченский медвытрезвитель, виза, не все мы писатели.
Мишка Японец — Не путать с современным Япончиком. Тот был действительно Японец. Бандит.
МРС — «а за бортами глубина и семь кило`метров до дна, и семь кило`метров и тридцать шесть акул. А волна до небес раскачала МРС (малый рыболовецкий сейнер) но пока еще никто не утонул.» Юлий Ким в исполнении О. Газманова. Мы пели УПС (учебно-производственное судно), и думали, что курсантская народная песня.
Мыс Киик-Атлама — Любимое место для дуэлей поэта Максимилиана Волошина.
Невский рейд — См. «Аврора», крейсер и банкетный зал, см. 70-летие Конецкого.
невязка — ДоGPSовское слово, значение забыто.
Николаев, порт — Степан Осипович Макаров, «Альбатрос», разводной мост, БМРТ, авианосцы, пиво — николаевское.
Новый Орлеан — Порт на Миссисипи, штат Луизиана. В нем все негры становятся свободными и поют блюз на Бурбон Стрит. Пиво скверное. См. лоцман Марк Твен «Приключения Гекельбери Финна».
Одиссей — Первый из наших. Морепроходимец. Читать одновременно с «Лоцией Средиземного моря».
Остойчивость, метацентр, угол заката — Принцип Ваньки-Встаньки применительно к судну. Адмирал Макаров, академик Крылов, математик Эйлер, всякий вахтенный помощник капитана, даже в отстое.
Остров Змеиный — Район промысла черноморского шпрота. Древние греки посмертно высадили на него своего героя Ахиллеса. Ныне населен героями-пограничниками прижизненно.
Отоварка — Непонятое слово. См. «Совиспан», маклаки, фри-шоп.
Очаков — Порт у входа в БДЛК. Также — крейсер ЧФ. См. Шмидт.
Пальмас — Когда-то был столицей рыбаков, а не новым курортом. Вольный город.
Патагонский шельф, Буэнос — См. остров Буян, кальмар, японцы, джиггер.
Пеленгаторный мостик — Над капитанским. Все что выше — уже мачта.
Первым президентом Херсонщины — был космонавт Жолобов.
Пиросмани — Художник. Негрузинам известен по попсовой песне про миллион алых роз.
Плавдок — См. Херсон, завод Коминтерна.
Плотики сдавать — Плот спасательный надувной. Аттестация — раз в полгода. Вместо этого можно было сдать экзамен по Есенину тому же плотовщику. Любимый вопрос билетов — послание Есенина к Вере Инбер.
Помполит — Если его нет, то все дозволено.
Попов — Изобретатель передатчика см. Маркони.
Порт-Артур — Порт в Китае, русская военная база. Место гибели броненосца «Петропавловск», адмирала Макарова, художника Верещагина и прочих корабельных служителей на мине японского производства.
Потемкин — Броненосец, князь Таврический, Грыцько Нечеса, Херсон.
Промысел под Западной Сахарой — ЦВА, Центрально-Восточная Атлантика.
ПТС — Приемо-транспортное судно.
Александр Сергеевич — 1. Пушкин. 2. Матвиенко, капитан первого ранга, начальник строевого отдела «централки», начальник водной станции «тюльки», чемпион ВМФ по гребле 1954 г.
Реверс — Механический критерий определения мастерства штурманов.
Ревизор — Комедия Н. В. Гоголя, также — второй помощник капитана.
Регистр Союза ССР — Конкурент Ллойда, не догадавший вовремя ввести моды на фуражки.
Рейд — Не путать с кавалерийским. Там где кавалерия скачет, пароходы отстаиваются.
Рейдовый катер — Например «Аскания», капитан Сузанна.
ром — Самогон из сахарного тростника, любим моряками за обилие глюкозы.
Рыбная мореходка, «тюлька» — См. «централка», танцклетка, нос по боксерскому фасону. Ладно, дело прошлое.
рында — ВОХР царей московских с топориком, давший неправильное название судовому колоколу.
С вечера солнце было хорошее — Дмитрий Лухманов, Чиф Ленинградского морского техникума:
Саковал — Злые корректоры пытались исправить на «сачковал». Между тем, этимология слова восходит еще к парусникам см. «Товарищ», «Крузентштерн», «Седов».
Сарыч — Мыс в Крыму.
Сахара — Пустыня, над которой летал на почтовом самолете Антуан де Сент-Экзюпери.
Седовка — Училище им. Г. Я. Седова, порт Ростов.
Сигнал «барракуда» — Атакован тремя пятерками (не шоколад).
Сильвер, Джон — Одноногий судовой повар, пират. Автор фразы «Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать» Женат.
Сити оф… Ялта — Серия укороченных «омских» под греческим флагом.
скоропорт — Бананы со вкусом яблок, арбузы в форме дыни. Но лучше всего — французские яблоки с голубым китом.
слип — Отличительная черта траулера-кормовика, начинается на промпалубе спускается в океан между «карманами».
смычка — В тексте — смычка якорь-цепи, 25 метров.
Сокотра, меляка, камушки — Остров, Индийский океан, Южный Йемен. См. также лишение диплома, матрос, возмещение убытков от спасательной операции, безденежье. На вопрос Горина: «Есть ли у Вас такая женщина? (барон Мюнхгаузен)» — отвечал: «Есть». Стр. 43, Чиф.
Срочная 23 пункта — Количество пунктов, видимо, соответствует количеству судов черноморского поискового флота (только разведки, не считая СЭКБП) одновременно находившихся в океане на 13/10
СРТМ — Средний рыболовецкий траулер морозильный, постройки «Ленкузни», Киев. Любимый пароход херсонцев. Все байки о том, что конструктором была баба — гнусные выдумки, гальюн на головном пароходе серии (см. «Железняков», 1966) спроектировать не забыли. Генеральный конструктор Сычов, госпремия, Волга-21. По праву. Окупались за два рейса. Работают до сих пор. До капитана Язвюка (нынче — болгарский моряк) считалось, что в сороковых СРТМы работать не могут.
Ставрида БГ — Никакого отношения к Борису Гребенщикову.
Суэцкий канал — Аналог Беломора в Египте. Минирован израильтянами. Караван судов, попавший в шестидневную войну, простоял в Горьких озерах восемь лет. Чьи тральщики разминировали канал до сих пор составляет военную тайну.
сходня — Разновидность трапа. По технике безопасности под сходней положено натягивать сетку от регистра, портнадзора, пожарника, карантинного доктора и прочих проверяющих.
СЧС — Средний черноморский сейнер, Азовская верфь.
Сэр Френсис Чичестер — Яхтсмен-одиночка, повторивший кругосветный рейс капитана Слокама не от безработицы, а от хорошей жизни.
Таблицы девиации — См. Влияние топора на магнитный компас (Жюль Верн), влияние корабельного железа на компас (канонерская лодка «Бобр»), устранение этого влияния (академик Крылов, писатель Леонид Соболев).
Тальманша — Тальманит, записывает, приносит несчастья грузовым помощникам.
там-тамы — барабаны, которые нужно греть на огне перед концертом.
Тапочки без задников — Такого не было, врут.
Тарас Шевченко — Поэт, в то время — порт приписки Одесса.
Телефонный канал киевского радиоцентра — См. Неонила Максимовна.
ТР — Транспортный рефрижератор, поставщик окорочков и ананасов. Югрыбхолодфлот, Севастополь. См. также «сквозняк».
Траверз Большого Фонтана — Уже на прямой видимости от Воронцовского маяка (фонтан — от молдавского «колодец», для знатоков одесских анекдотов).
тралмастера — Первые из нас, кому пришлось переучиваться на таксистов. См. поселок Котовского, порт Одесса. Улица тралмастеров, порт Белгород-Днестровский.
Тренажер — Видимо — радиолокационный, хотя в описываемом порту второй категории по-моему его не было. Дорогое удовольствие было — игрушками капитанов до инфаркта доводить.
Турки-тысячники работают без помощников капитана — по причине шестиклассного бесплатного школьного образования в Турции.
удебный лов — Лов тунца на удочку и дождевальную установку.
Учебный пластырь в районе сорок третьего шпангоута — Непонятные белые цифирки на зеленой палубе, по которым моряки определяют место учебной пробоины. См. Академик Крылов, пластырь, борьба за живучесть, Учебно-тренировочное судно, «Никольск», «тропик», корабли-музеи. За «Лесозаводск» нехай Скафиди пишет.
фальшборт — Чи борт, чи не борт?
Фемида — Слепая с безменом и шашкой.
Флинт — Бандит, капитан бандитов.
Формио — Алушта Италии, порт между Гаэтой и Неаполем.
Форштевень — Носовая оконечность судна, которой дельфин норовит получить по заднице.
Хемингуэй — Кубинец, написавший о старике и море. Почему-то любил Париж, а не Марсель.
Херсон — Порт на Днепре, Украина. Колыбель судоходства, кораблестроения и морского образования. По настоящее время — город красивых женщин. Также — танкер Грузинского морского пароходства. (ГМП)
Циркуляр 0010 — 4la de ujq7 … QSS/QSX уже не помню.
Цихисдзири — Непередаваемое морзянкой слово.
ченч — Любимое занятие египетских матросов швартовщиков.
Чиф — Старпом, также — начальник мореходного училища.
Шаляпин — Пассажир
Шанель № 5 — Зимняя форма курсанта мореходного училища № 5 (с шапкой-ушанкой)
Шахиня — См. «Херсон-Батуми».
Шахтеры на Шпицбергене — Сейчас им еще и денег не платят, как в Донбассе.
Шехерезада Иванна — Я готова. См. Шехреза — порт в Иране.
Шмидт — Капитан второго ранга в отставке на момент мятежа на крейсере «Очаков». Подписант радиограммы: «Командую флотом. Шмидт.» Не путать с Отто Юльевичем.
шпигат — Всякое отверстие в борту, в которое нельзя выглянуть или высунуть пушку. Из них вечно что-то льется за борт. Через капитанский шпигат лилась за борт необработанная рыба.
ШРМ ЕВЖВ — Спросите у радиста.
шурубра — Щетка такая, чтоб палубу шурубрить.
Шхеры — См. Финский залив, Гангут, галеры, Петр Первый.
Юлиус Фучик — Автор «Репортажа с петлей на шее». Лихтеровоз Дунайского пароходства.
ярус — Рыболовный порядок длиной миль сто, чтобы не соврать.
"Cobe Queen-1"
У БЕРЕГОВ ИНДИИ ЗАДЕРЖАНО УКРАИНСКОЕ ПИРАТСКОЕ СУДНО С МЕРТВЫМ КАПИТАНОМ НА БОРТУ
Как сообщили "ФАКТАМ" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в территориальных водах Индии, в 20-ти километрах от побережья штата Керала, задержано судно "Cobe Queen-1" с 25 украинскими моряками. Это судно якобы числилось пропавшим на протяжении нескольких месяцев, но, как утверждают неофициальные источники, наши моряки… захватили свой сухогруз и проплавали в качестве корсаров около шести месяцев. Их одиссея началась в Стамбуле 9 июля, откуда "Cobe Queen-1" взял курс на Ямайку. Позже его видели около берегов Южной Африки. Судно перевозило 15 тысяч тонн стали. Две тонны металла морякам удалось продать в Сенегале. После сделки судно исчезло.
На следующий после задержания день в каюте был найден труп капитана "Cobe Queen-1" Юрия Личевского.
В переплет попали также четверо украинских моряков, задержанных позавчера в итальянском порту Таранто. По сообщению "Интерфакса", полиция подозревает моряков в ограблении пятерых нелегальных пассажиров (все — африканцы) на судне и убийстве одного из них. По данным итальянской прессы, 25-летний бурундиец Жан Поль Касаме не выдержал жестокого обращения с ним, прыгнул за борт судна и погиб.
По сообщению итальянского агентства ANSA, полиция задержала пятерых из шести членов экипажа, среди которых оказались четверо украинцев и один житель Эстонии.
Газета "Факты" 29.12.1999
"Tiger"
ПРИЧАСТНЫ ЛИ УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ К ПЕРЕВОЗКЕ НАРКОТИКОВ?
Посольство Украины в США направило ноту Госдепартаменту США с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о задержании украинских моряков — членов экипажа судна "Tiger", сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИДа Игорь Грушко.
Судно торгового флота Дании "Tiger", ходящее под панамским флагом, с командой, состоящей из 10 украинцев, двух граждан Перу и одного — Венесуэлы, было задержано сотрудниками береговой охраны США в 200 милях от северного побережья Венесуэлы еще 29 июня. На его борту обнаружено почти полторы тонны кокаина, который "тянет" примерно на 100 млн. долларов. Тем не менее американская сторона до сих пор затягивает с предоставлением Украине официальной информации о задержанных украинских моряках.
Газета "Сегодня" 13.07.2000
В тексте словаря обнаружены ссылки на рассказы, не написанные автором по вине блока ФРП радиолокатора «Печора-2». Оные ссылки считать ссылками в жизнь. Дополнения и исправления к словарю принимаются по адресу [email protected]
АБИССИНСКИЙ ГРИПП
Н. Гумилев
- Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
- И руки особенно тонки, колени обняв.
- Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
- Изысканный бродит жираф.
Знаю, радость моя, всё пройдёт. И это — тоже. Не я такой первый. И последний — тоже не я. Просто мне нездоровится. И пусть поэт Гумилёв называл эту блажь своей Музой Дальних Странствий, я-то знаю, что это всего лишь даёт знать о себе мой странный вирус.
Переболею как-нибудь. Устану, угомонюсь и осяду подле тебя, как навечно ставший к причалу пароход. Мне не грозят ни музейные доки Адмиралтейства, ни вечная стоянка на Невском рейде. Пусть уж лучше буду простым отстойным "тропиком", дающим приют поиздержавшемуся на биче плавсоставу в своих холодных каютах. Парни станут жить со мной всю долгую зиму, по утрам будут ходить отмечаться в своей конторе, будут безбожно экономить на своих желудках, и, проклиная всё на свете, будут пытаться заснуть, не ужинав, натягивая на уши шапки. Один отстойный "тропик" стоит всех кораблей-музеев, и мои парни станут жалеть обо мне, когда меня потащат за ноздрю куда-нибудь в Грецию, на переплавку. И выпьют положенное за упокой моей не увековеченной сухим доком корабельной души, пусть я и был совершенно неприспособленным к длительным зимовкам.
Словом, буду, как все нормальные люди. Внимательным мужем. Любящим отцом. По вечерам сам стану забирать из сада нашу девушку, научусь терпеливо ждать, пока она приберёт на место игрушки, попрощается с воспитательницей и разберется в премудростях своих башмачков, колгот и платьиц. Детская обувь — с норовом. Правый башмак так и норовит стать левым, и наоборот. А по пути домой норовистая обувка обязательно находит подходящую по глубинам лужу, пусть даже такой сухой осени не припомнить и старожилам, помнящим коновязь для волов на месте нынешнего дворца спорта. А в дождь нам — вообще раздолье. Мы будем идти домой через стадион или окружной госпиталь, будем не бояться луж, сбивать каштаны связкой ключей, сбивать каштанами застрявшие в листьях ключи, и не потому, что нам будет жалко купленного в Джибути брелока, просто: как мы попадем в наш теплый и сухой дом, если тебя еще не будет с работы?.. Да и вообще: сбивать каштаны ключами — мальчишество, конечно, и вряд ли ты нас похвалишь, если они так и останутся висеть на этой корявой ветке.
Но ты уже будешь дома, с кухни будет соблазнительно тянуть чем-то вкусненьким, ключи мы всё-таки стряхнём с дерева, тщательно проверим наш почтовый ящик, и заявимся домой с полными карманами каштанов, невредимыми ключами и "Весёлыми картинками". И с мокрыми ногами. И нам за это, конечно, влетит, но не очень сильно. Ты сама тоже ведь любишь побродить иногда под дождём, не обращая внимания на капризы прохудившегося финского сапога. На то она и осень, чтобы шел дождь. И, кроме того, ты всегда почему-то предпочитала финские капризы добротной отечественной кирзе.
Задыхаюсь, который рейс попадая в вечное лето и зной. Не могу без осени, дождей и каштанов, градом осыпающихся на госпитальный асфальт. Они несутся к земле маленькими метеоритами, рикошетируя, скачут по лужам, теряя осколки своей колючей кожуры. Осень смывает с души любую накипь, будь она толщиной даже с расколовшуюся от удара каштанову оболочку, оставшуюся сидеть на коричневом ядрышке, как каска на голове военного. Молюсь на дожди и оттопырившие карман каштаны, как молятся туземцы своим всемогущим амулетам. Может быть и стоило бы стать ярым язычником, и брать с собой в путь заклятый страшным заклинанием каштан, едино на его полагаясь силу, спасущую от ностальгии под звёздами чужого неба. Но силы такой нет. Каштаний полированный глянец высыхает и морщится от длительного хранения в рундуке, и амулетами уже — только моль по шкафам распугивать. Поэтому я не язычник.
Не упаковать в потертый чемодан ни врачующей душу осени, ни наполняющей гулкую пустоту в груди новой радостью и смыслом бытия весны. Не забрать с собой этой поры цветения, торжества жизни, буйства красок и запахов, забытых за зиму, и трижды позабытых за рейс.
Огоньки белоснежных свечей над ладонями пятипалых листьев, сумасбродные ночи без сна, теплоту твоих рук, поцелуй на углу Бессарабки, где днём кормятся добротой киевских старушек целые воздушные флоты голубей, а по вечерам гуляют влюблённые парочки, но мы им теперь не завидуем, а просто стоим и целуемся на углу Крещатика и Бессарабки, опьянённые счастьем, никого не замечающие, будто бы в первый раз…
Этого не унести с собой, к этому можно только вернуться. Вернуться…
Считать дни до конца рейса;
подталкивать пароход в ржавую корму мыслями о том, что дома сейчас весна, и вот-вот зацветут каштаны;
справляться о погодах у телефонного канала киевского радиоцентра, радоваться затянувшимся холодам и вычислять мучительно: "Успеем?"
И, плюнув на субординацию и простое приличие, мчаться в аэропорт прямо с судна, не показавшись в отделе, не оформив отгулы и отпуск, закусив в зубах отношение на вынос личных вещей через проходную порта;
мчаться через весь город на частнике, забыв о сдаче;
как на амбразуру, бросаться на окошко кассы: "Девушка, киевский еще не улетел?";
вскакивать в самолёт последним, когда уже убран трап, забросив впереди себя чемодан и баул, подтягиваясь на руках;
и скатываться по трапу в числе первых, нарушителем вышагивать по лётному полю, не в силах ждать автобуса, толкать ногой скрипучую подпружиненную дверь под надписью "Выход в город", и, сделав шаг, вдруг обмякнуть, охмелеть, осознав наконец, что ты — дома, что марафон этот, бег от самого экватора наперегонки с неумолимым временем, завершён и выигран:
— Успел. Цветут.
И осталось — всего-ничего. Достоять очередь, плюхнуться на сидение рядом с таксистом, отвыкшими губами выговорить наш адрес. А потом — открыть своим ключом, бросить у порога баул, и устало сказать тебе:
— Здравствуй. Вернулся.
И неоформленная вечность весны впереди. И у меня опять есть ты, наша дочь и цветущий каштан под балконом. Я — вернулся… Но, вот незадача: невозможно возвращаться, не уходя.
Откуда это во мне? Кто, и за чьи грехи наделил меня этой непонятной болью? И на гены не спишешь. Не было и нет в роду моем моряков.
Казаки были: и запорожцы, и реестровые. Кашевары, куренные атаманы, крепостные казачки Энгельгардтов. Писари волостные были. Были землепашцы, почти купперовские пионеры, бороздами плуга размечавшие линии будущих улиц в степях Таврии. Батраки Фальцфейна, протоиереи, начальники станций на КВЖД, столяры-краснодеревщики, красные командиры и бандиты батьки Зелёного, разжалованные в пасечники председатели колхозов, артиллерийские полковники, сельские учителя, шофёры (позже — завгары), продавцы, медработники, токаря, дворники, статисты киевской оперы, математики, работающие на оборону, и беглые физики, работающие на себя рефами от Фастова-товарного, — много кого оказалось на поверку в моём ветвистом роду, но моряка — ни одного.
Беду эту я нашёл себе сам. Был, правда, по материнской линии один прадед-кочегар, но очень непонятного родства. Такого дальнего, как рейсы судов Добровольного флота через Суэц и Сингапур во Владивосток. Я его почти не застал. Помню только шелковицу у дома и натянутую над двором рыбацкую сеть. Прадед-кочегар уберегал чистоту своих асфальтированных променад-деков от чернильных клякс опадающей шелковицы этаким флибустьерско-корсарским макаром. Во времена парусных баталий пираты, впрочем как и моряки регулярных флотов, натягивали над палубой такие сети, сохраняя свои головы для прицеливания из карронад под шквалом рушащегося под огнем противника рангоута.
Впрочем, и этого дальнего родича не приходится винить в моей болезни, потому что о его кочегарском прошлом я узнал совершенно случайно, уже перед этим рейсом. И никто из моей большой родни уже не в состоянии ответить на простенький вопрос: "Был ли он в Джибути?" Мы больше знаем о жизни Пушкина и Миклухо-Маклая, чем о своих прямых предках.
Миклухо-Маклай в Джибути как раз не был. А Гумилёв — был. И быть может, эта вековая пыль порта ещё помнит лёгкую поступь поэта.
Он был здесь, и ходил по порту, видел бродящих по мелководью залива фламинго и ревущих буйволов, которых целыми гроздьями грузят краном на доисторическую арабскую самбуку. И помогал перетрусившим загонщикам вернуть к стаду одного из буйволов, самого задиристого, не пожелавшего быть вздернутым стропом за рога над зеленью воды между бортами. Гумилёв ведь был не чета нам с чифом, и не мог пройти мимо затевающейся буйволиной корриды.
Много, конечно, протекло воды с тех пор через горлышко Баб-эль-Мандебского пролива, но кое над чем время пока невластно. И полунагие туземцы до сих пор каждое утро собираются у ворот порта, чтобы ещё на один день наняться таскать на худых спинах по-русски огромные джутовые мешки и заработать ещё на один ужин. А на контрабандном рынке и сейчас ещё можно встретить настоящего, не бутафорского, горца в одеянии из козьих шкур, с кривым пастушьим кинжалом на сыромятном поясе и запечатлённым в осанке достоинством вершин, дающих жизнь величию Нила. Точно, как и в начале века, прогуливаются по улицам и светят бритыми затылками французские морские пехотинцы в тропической униформе. Униформа изменилась, пехотинцы — нет. И тогда точно так же рылись в отбросах в поисках съестного чернокожие женщины и дети, только горы жратвы и пойла в расположенном через дорогу супермаркете тогда ещё не были так броско и изобретательно упакованы. Так же прелестно выглядели белые француженки, но Гумилёв, наверное, смотрел вслед чернокожим красавицам с осиной талией и раздавшимися вширь бёдрами. Уже тогда в Джибути была русская колония, но не было агентства Аэрофлота, и русский посланник, подвозя соотечественника на лимузине, вряд ли хвастался поэту тем, что недавно купил у француза специально натасканную на чернокожих собаку.
Гумилёв последний раз был здесь в 1913, во время путешествия по Абиссинии. Но обязательно вернулся бы сюда ещё и ещё, если бы не мировая война, революция и смерть. Он был болен своей Африкой, грезил ею во сне и наяву. Боль рождала стихи.
На озере Чад я не был, и вряд ли уже побываю. Впрочем, как и Гумилёв. Я о другом. О том, что, читая его стихи, внезапно понимаешь, почему ты хотела уйти от меня после моих джибутийских писем.
Полно, радость моя. Не так уж я безнадёжен. По крайней мере — не штурман, на всю жизнь прикованный к штурманскому столу цепью галерного каторжника. В случае чего, мне найдётся занятие и на берегу. С восьми до семнадцати, или сутки через трое. Это вселяет надежду.
Всему свой черёд. Дай время, и я пойду на поправку. Просто я всё ещё болен.
Болен гриппом океанских рассветов, благозвучных портов и китовых игр перед рассекающим гладь Аравийского моря форштевнем. (Киты приходят в тёплое море рожать своих детёнышей).
Всё ещё болен. И в своём горячечном бреду слышу не потусторонние голоса, а многоголосье промысла у берегов Западной Сахары, всполошившегося по сигналу "барракуда", или морзяночный вопль на пятистах килогерцах, 808, подаваемый яхтой, терпящей бедствие в ста милях к югу от мыса Игольный. (Француз не имел за душой ничего, кроме своей яхты и своей жёлтенькой жены-индонезийки. Но яхту не смогли буксировать из-за шторма, а осиротевшую цветную чету высадили в запретном в иные времена Порт-Элизабете. Жаль их, так мило путешествовали по миру вдвоём, свободные от всего, кроме себя самих. Хочется верить, что они как-то выкарабкались, и француз не вернулся на родину, чтобы стать агентом по продаже недвижимости и обзавестись новой, для метрополии, подругой.)
Болен предельной ясностью и честностью человеческих отношений на этих палубах, где никто не выдаёт себя иначе, чем он записан в судовой роли, где невозможно быть самому по себе, и каждый рейс дарит друга…
Я болен, и болезнь пока сильнее меня. Я смертельно измучен хворью. Я уже не могу быть вместилищем боли. Нас прививали от жёлтой лихорадки и кормили делагилом в целях профилактики малярии. Почему не найдена ещё вакцина от красоты? Зачем мне она? Ведь как ни прекрасен шатёр южного неба, мне не донести до тебя и пригоршни звёзд. Звёзды успеют погаснуть десятки раз и уйти за горизонт, прежде, чем я доберусь до родного порога. И зачем мне тогда Крест и огромная, величиной с голубиное яйцо, Венера? Зачем пустынные пляжи Сокотры, аденский Кратер и бегущие под крылом заходящего на посадку в Мапуту самолёта жирафы?
Говорят, прошлый раз с нами летела до Адена жена одного восточного немца. Его пароход должен был с месяц простоять на изуродованном затонувшими в ночь государственного переворота судами внутреннем рейде. Но мало ли что говорят. Мы не немцы и не французы. Будем вечно болтаться, распятые между морем и домом, и ничего, выдюжим. Мы ж — атланты. И пусть уходят сломавшиеся, слабые в коленках.
Наверное, я слаб. Не могу и не хочу побеждать своих дурацких предрассудков: любви к единственной в мире женщине, с которой мне легко и покойно, как укрывшемуся от всяческих ураганов в портовом ковше сейнеришке, и любви к единственному в мире городу, в котором мне дышится полной грудью. И мне осточертела моя болезнь, непонятная даже тебе.
Наверное, близок тот день, когда я вернусь к тебе окончательно. Вернусь, чтобы не уходить от тебя никогда.
Я смертельно устану, издёргаюсь и обозлюсь. Щепетильно пересчитаю все свои приобретения и потери. Прокляну каждый день свой, лучшие свои годы, отданные на заклание этой ненасытной утробе с бесполым именем Море, плюну с набережной в набегающую волну, и возвращусь навсегда.
Я видел, как это бывает с другими. Не я такой первый. Именно так всё будет и со мной. И возможно — скоро. Я научился врать самому себе. Но есть ещё ты. И ты выводишь меня на чистую воду, стоит тебе задать простой и понятный вопрос:
— Когда?
Пусть я уже изолгался, как уличённый в курении школьник, не буду усугублять своей лжи лживым: "Завтра."
Было это уже, и не раз. Усталость, разбитость, озлобленность и единственное желание — добраться. Доползти из водных пустынь до животворного оазиса, в котором произрастают не пальмы, а каштаны. Пусть они и конские, и их нельзя употреблять в пищу вместо фиников. Были пустота и безразличие, и желание бросить шапкой оземь:
Хватит! Доколе?
Желание было — не было земли и сил на швыряние казённого подшлемника и прочие театральные действа. Я просто возвращался и устало говорил тебе:
Здравствуй. Вернулся.
Говорил и верил, что вернулся в последний раз. Чтобы не уходить.
Есть лекарство от тоски и от боли: знать, что у нас с тобой всё по-прежнему. Знать, и видеть тебя каждый день.
Есть средство от измочаленных нервов и кошмарных снов: просыпаясь, слышать твоё дыхание.
Есть снадобье от нечеловеческой усталости, пропитавшей каждую клетку бренной плоти: ощущать жар твоего тела.
Раны рубцуются от прикосновения рук твоих. Воспалённый слух, непроизвольно пытающийся вычленить телеграфный смысл даже в трели сверчка, успокоен звуками твоего голоса: беззаботным мурлыканьем модного мотивчика над кухонной плитой, тихим смехом и шёпотом.
Ты, как целебный листок подорожника, приложенный к сбитой ребячьей коленке. Как моя совсем молодая мама, целовавшая мои шишки и ссадины, чтобы унять мой безутешный рёв. Ты целуешь — и боли, как ни бывало. Ты умеешь и лечишь меня от всего.
От всего, кроме моей непонятной болезни.
Праздники тонут в буднях. Приходные авансы и расчёты за рейс уносит ветер. Я не отлынивал и не саковал. Я выжат, как лимон. И не моя вина, что пять месяцев в море не могут прокормить всего лишь одной весны. Пусть — на троих. Пусть двое из них — в декретном, и давно уже не получают даже жалких рублей пособия. А третий — совсем без способностей к негоциантству. Да и заходы были совсем не в те порты. Мапутянскими кокосами семьи не прокормить.
Пусть всё — именно так, мне этого всё равно не понять. Как не понять и того, почему вдруг так тягуче почувствуешь свою причастность к клану воспетых классиками лишних людей на третьем месяце отпуска.
Знаю ведь, прекрасно знаю, что это всего лишь дал знать о себе мой проклятый вирус. Мне найдётся место и на берегу. С восьми до семнадцати, или сутки через трое. Рубли станут короче, но исчезнут и долгие месяцы "бича", ожидания судна и рейса, этой безработицы, не названной своим именем, выметающей из мозгов весь мусор мифов о небывалых заработках рыбацких промыслов. И перестанут сыпаться оцинготевшие от дистиллата и отсутствия скоропорта зубы. И желудок отдохнёт от стряпни самозванцев-поварят. Забудутся гастриты и хлеще пива бьющая по почкам водичка, добранная со дна питьевых танков.
И каждый вечер — ты, дети… Телевизор и свежая газета, наконец. Буду возвращаться со службы, и вместе с пиджаком и галстуком стану снимать с себя груз должностных забот, становиться просто отцом и мужем. И никому не прийдёт в голову выдёргивать меня из койки среди ночи, если скиснет необходимый второму штурману, как волку нюх, эхолот.
Знаю и понимаю всё холодным своим рассудком. Но знание бессильно против хвори. Рассудок умывает руки. Так прирученный и сытый волк рвётся с привязи и сбегает, услышав нутро выворачивающий вой своих голодных диких собратьев. Оглушённый этим воем, не находящий себе места даже рядом с тобой, я приму, как должное, звонок из конторы, торопящий меня в путь на полмесяца раньше срока.
Я не стану радоваться этому звонку. Всё ясно, как божий день: лето. Какой-то там Сидоров приберёг специально на отпуск долго лелеемую в рейсах болячку, и срочно нужна замена. Но и злиться на Сидорова не стану: болячка его — настоящая. У каждого из нас хватит болячек на троих береговых Ивановых. Другое дело, о них не вспоминают, будь сейчас зима, или гарантированный заход в Пальмас в конце рейса. Но — не мне его судить. В конце концов, мне тоже иногда шли навстречу, когда нужно было во что бы то ни стало задержаться дома без всяких отгулов и отпусков. Так что мне — грех жаловаться. Мои дни "догулов" не падали с неба. Они исчезали из отпуска какого-нибудь Сидорова.
Так что хватит рассусоливать. Пора собирать мой баул.
Ну что ты, какая радость? Ты ведь — моя половинка. Я прирос к тебе намертво, и рвать по живому.
Хуже нет, чем вокзальные сцены. Провожая, стараются шутить. Но не весело — шумно. Только ты молчишь и смотришь на меня отрешённо, не принимая участия в этих напутствиях. Печально улыбаешься, берёшь на руки дочь, только недавно усвоившую, что "папа" — это не только фотография на стенке, и вдруг начинаешь отдаляться, застыв на рывком тронувшейся назад платформе. Уменьшаться, теряться за пришедшими в движение фонарными столбами, киосками и толпами провожающих. И, выкурив в тамбуре первую сигарету, я вспомню, что в спешке сборов забыл самое главное: оставил на письменном столе твою и дочкину фотографии.
И — не вернуться. Потому что когда сбегаешь от того, без чего не стоит и жить, нельзя возвращаться с полпути. Эшелон можно остановить, вырвав на себя стоп-кран. Вернуться — нельзя. Стоит только оглянуться — и останешься навсегда. Каждый раз словно веревками к мачте себя прикручиваешь, уподобляясь Гомерову Одиссею. Ведь можно было просто заложить уши воском. К чему эти самоистязания? А если б не выдержал и в самом деле сиганул за борт, на радость коварным сиренам? Я же не связан ничем, кроме предрассудков. Вернуться?
Нет, только вперед! Поезд мотается на стрелках, стучит колесами на стыках рельсов, останавливается на станциях. На перронах торгуют пирожками и пивом. Жизнь — продолжается.
Не будем оглядываться на каштаны, детские шалости и слезы жены. Потому что если все станут оглядываться, флот станет на прикол. Не я такой первый, не я — последний. Но не будем и затыкать уши воском.
Каюсь, научился перешагивать через боль наших разлук. Научился не оглядываться, думать о грядущем. О груде железа, стали переборок, бортов и палуб. Казалось бы, что об этом думать и загадывать, как безусый курсант перед первым свиданием? Железо — оно и есть железо. Да и не первый раз иду в море на судне такого типа. Знаю даже, что рядом со мной — каюта доктора и второй с третьим. Хорошая компания. Все дело — в них, с которыми предстоит полгода топтать гулкие палубы. Но, странная вещь, пусть пароходы похожи, как братья близнецы, пока они стоят у пирсов судоремонта, очнувшись от ремонтной спячки, каждый из них станет жить своей особой жизнью.
Станет демонстрировать норов, подтверждать или опровергать свою добрую ли, дурную, но — славу. Будет горбатить на промысле и отдыхать на переходах. Его станет коробить от столкновений с бортами баз и неожиданно вспыхнувшей посреди рейса войны между машиной и палубой. Стальной истукан обретет голос и слух, и вовсе не капитан, он сам станет докладывать флагману на промсовете, исправно откликаясь на свое имя или бортовой номер. Он, а не метушащиеся в его чреве людишки, будет жутко "прогорать", или под потолок "рвать пай". Он будет болтаться на якорных местах в ожидании топлива, хлебать соляр и водичку из танков подошедшего транспорта, пыхтеть с тралом и штормовать носом на волну. Все будут воспринимать его, как живое существо, единый организм, поглотивший в себя на полгода несколько десятков "я" ради начертанного на борту "мы". Писать название корабля на лентах матросских бескозырок — было правильным обычаем. Бескозырки упразднены, и буквы проступают на наших лбах. После нескольких месяцев рейса на собственное имя откликаешься с меньшей готовностью, чем на название своего судна или позывной.
И все же — железо оно и есть железо. Романтика все это. Занятие, недостойное настоящих мужчин. Правда, та штральзундская немочка, которая лет пятнадцать назад била о стальную скулу бутылку шампанского, нарекла железного истукана действительно красивым именем.
Даже удовлетворение получаешь, когда пытаешься ощупывать его буквы. Я ведь — радист, и могу ощущать звуки пальцами рук. Пусть радистов здорово обидели при пересмотре окладов, этого у них не отнять.
Прошлый рейс пароход отработал на Патагонском шельфе. Заход — Буэнос-Айрес.
И я, как молитву, твержу про себя имена города, шельфа и судна, на которых еще не пришлось побывать. Красивые имена позволяют справиться с болью. Даже вагонные колеса стучат уже совсем по-другому: отстукивают мой новый позывной.
Интересно, растут ли в Патагонии каштаны?
Будет новый день и забытая в углу прокуренного тамбура боль. И к обеду я доберусь до причала и стоящего бортом к "плавмарусе" парохода.
Представлюсь старпому. Получу ключи от каюты. Стану обживаться.
Вытряхну из рундука и ящиков стола оставшийся от прежних хозяев мусор. Заделаю влажную приборочку, отдраю для свежего дуновения люмитер, и закурю, присев на койке поверх цветастого одеяла. И каюта не будет уже такой чуждой и непривычной, и кощунственно простая мысль захватит врасплох, ткнет под ребро своим святотатством:
— Ну вот и вернулся…
Вернулся? Я отравлен своей болезнью. Я столько раз возвращался и уходил, что не знаю уже, где мой дом. Прости, родная.
Чушь! Бред! Дом мой — там, где сейчас ты.
Пароход приняла величественная океанская зыбь. Мы с ним уже немного приноровились друг к другу, и я перестал сшибать головой плафоны, выходя из радиорубки на мостик. Мы идем не в Атлантику, в обедневший "золотыми" портами Индийский. И зря я заучивал наизусть шероховатости букв Буэноса и Пальмаса. Ключ мой попискивает названиями совсем других портов:
13/10 1500 МСК ЗАХОДИМ ПОРТ АДЕН СЛЕДИМ СРОКИ СУДОВ ИНПОРТАХ УВАЖЕНИЕМ = ШРМ ЕВЖВ-
Новые сутки. Циркуляр в 0010. Срочная, 23 пункта…
Дом мой там, где ты наконец-то свалила раскапризничавшуюся нашу, девушку, и чутко засыпаешь сама, спохватываясь при малейшем похныкивании. Но нет, показалось. Нервы. Девулька наша спокойно посапывает носиком, отвернувшись к стене. Вот только раскрылась, сбросила, как всегда, одеяло.
0330 Москвы. В районе 07 опять погашен маяк в Мозамбикском проливе. В 08 — стреляют в заливе Кач и отсутствует на штатном месте светящий буй у порта с архисложным именем Вишакхапатнам. 09 — буровые платформы в Суэцком заливе и бесконечная танкерная война в Персидском: минная опасность на подходах к сказочному порту Дубай. 03 — стрельбы кораблей и авиации, учения подводных лодок и траление мин по всему Средиземноморью.
Дом мой — там, где угомонились под утро ночные автомобили за окнами, а дворники уже начинают мести своими широкозахватными ивовыми
метлами облетевшие листья тополей и каштанов на бульваре. Скоро проснутся и поведут выгуливать своих жутко породистых борзых, догов и ньюфаундлендов их самоотверженные хозяева, и побегут в облачках пара целеустремленные физкультурники. Потом тронутся троллейбусы, соберутся к открытию молочного ранние бабки и дедки-пенсионеры.
Дом мой — там, где ты досматриваешь свой последний сон, и снятся тебе почему-то белые медведи и Арктика. Вот уж где не был. Что ни рейс — тропики.
В тропиках же каштаны не растут. Климат не тот. Нет ивовых прутьев на метлы, сметающие желтый лист осенью. И самой осени тоже нет. А без осени, что за каштаны?
Да и часто ли я вижу эту экзотику берегов? И меняет ли что-нибудь эта бананово-кокосовая экзотика?
Все равно, дом мой — там, где ты готовишь манную кашу и бутерброды, завариваешь чай, зеваешь над плитой и убираешь громкость радио, чтобы слышать, когда проснется наше сокровище и потребует свой драгоценный ночной горшок.
И восходит солнце. Не из-за труб и крыш человечьего муравейника, не над путаницей проводов и телевизионных антенн — горячей каплей отрывается прямо от горизонта. И звезды заранее, как куры на насест, сами сходят с небес, предчувствуя его пробуждение.
Старпом гасит ходовые огни и освещение на верхней палубе, посылает матроса поднять флаг. А огненный шар, пульсируя от рефракции, выныривает из глубин океана и сразу начинает раскалять сталь обшивки, мгновенно обсохнув после соленой купели.
Дом мой — там, где ты набиваешь кашей рот нашей капризули, допиваешь свой давно остывший чай и спешно подводишь глаза перед зеркалом в прихожей, прежде, чем захлопнуть дверь и отправиться по неизменному маршруту дом — детский сад — работа, ведя за руку наше чудо.
Только почему я отчетливо понимаю это только тогда, когда между нами опять — три бесконечных моря, судно перевалило узкость Баб-эль-Мандебского пролива, заставляющего начинать рассказ с упоминаний о Гумилеве, и нас, как безумная мать, колышет мерная океанская зыбь?
Всему приходит конец. Настанет день, когда по приходу из рейса, мне не нужно будет торопиться домой. Я устрою все мои приходные дела, подпишу все бумажки, не передоверяя этого своим друзьям. Не спеша сойду на стенку по парадному трапу и, прежде чем окончательно уйти, брошу в грязную воду ковша монету в сто джибутийских франков.
Уходить надо со спокойным сердцем, без затаенных обид и злобы. Особенно, если уходишь навсегда. Все-таки, я немало хорошего видел в своей скитальческой жизни. Лучшие годы… А может, потому и лучшие, что прошли они в море?
Будет день, когда я почувствую себя абсолютно здоровым и способным вернуться к оседлой жизни. Я принесу к твоим ногам сокровища страны Пунт, приведу в наш дом многих людей, с которыми свело меня море, людей, неистребимо пропахших рыбой и ветром…
Только, ради бога, не спрашивай у меня, когда этот день наступит.
РС СЕМЕН ОСИПЕНКО
Декабрь, 1988
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
(повесть для черно-белого видео)
Шурке Войтову, которому остался должен.
Леше Албантову, которому должен Шура.
Олег Куваев, геолог.
- У нас нет ни имен, ни званий
- Мы быдло, мы палубный скот
- Только тот, кто моряк по призванью
- Не бросает английский флот.
- Смерть морским молитвам не внемлет
- Рвется жизнь, как манильский трос
- Но еще неизвестную землю
- Первым с мачты заметит матрос.
На причалах рыбного порта гудели маневровые тепловозы. Портальные краны выгружали какой-то транспортный рефрижератор (ТР) — серую громадину с развитой белой надстройкой и множеством грузовых стрел на порталах. Между ног кранов, по железнодорожным путям, шёл человек лет двадцати пяти. Заметно отощавший, с отсутствующим взглядом. Это Третий.
В дальнем закутке портового ковша на поросшем ковылём причале среди груд лома, списанных лебёдок, шлюпок и траловых досок скелетом кита возвышались останки какого-то пароходишки. Третий по длинной прогибающейся сходне поднимался на борт списанного «тропика», стоявшего кормой к причалу.
Низкий протяжный гудок разнёсся над водой. Гудел уходивший в рейс супертраулер. Сгрудившиеся у борта людишки махали кому-то на берегу. Метушились чайки. Третий оступился на сходне, выматерился вполголоса и спрыгнул на палубу.
У входа в надстройку, под чёрной доской с надписью «Вахтенная служба» с неразборчиво нацарапанными мелом фамилиями напротив граф «вахтенный помощник», «… механик», «… матрос», резались в шеш-беш двое в грязных ватниках и когда-то белых подшлемниках.
— Ну чё там, Шуркеш? Чего тебе обещають? — спросил Пожилой игрок и бросил кости.
Третий подкурил у молодого игрока и неопределённо махнул рукой.
— Загранкомандировку в развивающуюся страну. Представителем министерства, — съехидничал Молодой.
— До декабря — глухо, — подтвердил Третий.
Ночью в воде гавани отражалась иллюминация на палубах живых пароходов. На холме, над светящейся мозаикой окон припортовых многоэтажек, проблескивал красным маяк. Выгрузка ТРа продолжалась при свете прожекторов. Только силуэт отстойного парохода был тёмным, без единого огонька.
Где-то залаяли собаки. Раздались тихие голоса. Потом вспыхнула спичка, высветив на мгновение два лица, и над бортом появились тлеющие угольки сигарет.
— …о чём они там думають? Годов пять назад ещё за последним матросом-уборщиком кадровики по всему городу гонялись летом. Пароход на отходе, а народ в рейс итить никак не хотит. Ну, зимой — другой расклад.
Зимой, конечно, приятнее в тропиках зад погреть. А такого гадства, чтоб по два года хлопцы на биче сидели, я что-то не припомню. А я в нашей управе, слава богу, с 66-го года… — продолжил прерванный разговор Пожилой.
— Древний ты старик, Дракон. Патриарх, — вздохнул Третий.
— Да уж. Как думаешь, до пенсии на «тропикане» нашем досижу?
— Досидишь, если на иголки не порежут. Что-то в управе поговаривали насчёт Греции. Погоним?
— Можно и в Грецию. Напоследок. В Греции всё есть…
Уголёк полетел в воду.
— Ладно, спать, — сказал Третий.
— И до декабря не будить.
Раздался характерный звук: кто-то прямо с борта пошёл по малой нужде. Громко лязгнула металлическая дверь.
Двухместная каюта освещалась тусклым светом надкоечного светильника. Третий, не раздеваясь, лежал на нижней койке поверх одеяла и листал журнал «Вокруг света».
— Летом 1913 года зверобойная шхуна «Святая Анна» под командованием лейтенанта Брусилова была затёрта льдами у берегов полуострова Ямал…
Перевёрнутая страница.
Рында с потускневшими литерами «Св. Анна», причудливо обросшая сосульками. Торосящиеся льды до самого горизонта. Мёртвый лунный свет. Звёзды. Человек в меховой кухлянке и унтах берёт высоты секстаном, сняв огромные рукавицы. Торопится, хукает на примерзающие к верньеру пальцы, черкает карандашом на кусочке фанеры.
Перевёрнутая страница.
Штурманский стол. Столбики вычислений. Острый карандаш наносит обсервованую точку на карту, пишет рядом время обсервации. Пунктир точно таких же точек тянется к берегу.
Перевёрнутая страница.
Каюткомпания. Буржуйка посреди помещения. Давешние вахтенные в тех же грязных ватниках режутся в шеш-беш. В клубах морозного воздуха вваливается внутрь Человек в кухлянке. Откидывает капюшон и оказывается, что это Третий, заросший беспорядочной бородой. Борода в инее.
Дверь из кают-компании в капитанскую каюту приоткрыта. В каюте, спиной к двери, сидит за столом Капитан в форменном кителе поверх грубого свитера. Что-то пишет в свете керосиновой лампы с зелёным абажуром.
Третий подбрасывает щепу в буржуйку, греет руки у распахнутого зева печурки. Шум отодвигаемого кресла из капитанской каюты. Появляется Капитан. Он нервно комкает исписанный лист, порывисто шагает к печке и швыряет бумагу в огонь. Бумага, обугливаясь, разворачивается. Огонь пожирает слово «Рапортъ» с верхней части листа.
— Ещё три мили к Норду, — докладывает Третий.
Капитан молча скрывается в своей каюте.
Светил надкоечник. Третий спал, уронив журнал на койку. Но был почему-то с бородой и в кухлянке.
Утром на набережной волна накатывалась на парапет и фонтанировала. По солёным лужицам важно разгуливали чайки. Бежал по заливу рейдовый катерок. Третий вышагивал вдоль моря. Судя по тому, как он был одет, декабрь уже наступил.
Перед зданием конторы с якорями у входа собиралась пёстрая, галдящая толпа моряков. Моряки говорили о своём, малопонятном:
— Под Кергеленом работали. Голова-ноги все пять месяцев. Тральцы, как сволочи, горбатили. Дуплетом. Два плана дали. Думали хоть в Луи зайдём. Фиг там. Мапутовка. Вот вам, парни, и отоварка, и флаг в руку: за первое место в соцсоревновании…
— В Адене самолёт в стаю фламинго при посадке угодил. Метров с пятидесяти на полосу шмякнулись. В рубашках родились: две турбины всмятку, в хвосту — пробоины, хоть задом героически затыкай. Трое суток на пляжу провалялись, пока Аэрофлот лайнер на замену подогнал…
Третий стоял в группке коллег перед входом в управу, у доски почёта, и покуривая, слушал трёп одного из коллег.
— Помнишь, в девятой роте учился блэк, Антонио? Приходил на «Звезду Черноморья». Безработный. Государственная компания разорилась, пока он у нас в Союзе учился. Ну, покормили хоть парня от пуза…
За спиной Третьего, на доске почёта, висела фотография. Капитан был всё в той же бородке-эспаньолке, но уже в кителе другого, не старорежимного, фасона с морфлотовскими погонами. Капитан глядел вдаль. Трёп плавсостава ему был малоинтересен.
— «Шедар»? — переспросил коллега.
— Так они на ремонте в Мапутовке стоят. Первая группа только 29-го из Шереметьево вылетает…
Начинают бить тамтамы. Шереметьево. «ИЛ» выруливает на полосу. В салоне паиньки-стюардессы, запинаясь по-английски, учат пассажиров пользоваться спасжилетами.
Тамтамы убыстряют ритм. Равнина облаков под крылом. Заход на посадку. Саванна. Из иллюминатора уже можно различить бегущих под крылом жирафов.
Ещё быстрее. Международный аэропорт. Вездесущие немцы-туристы в шортах. Старички и старушки в хороших очках и с «аусвайсами», повешенными на шею. Чернокожие полуголые люди бросают кирпич по цепочке. Что-то строят возле стоянки автобусов. На флагштоке — национальный флаг Мозамбика с калашниковым на полотнище.
Ритм ускоряется. Автобус мчится по шоссе. Из окна видны хижины гетто из самых экзотичных материалов, вроде картона или гофрированного пластика. Барахтаются в грязной жиже пересыхающего канала голые ребятишки.
Центр города. Облезшие здания. Мусор на улицах. Городской икарус с выдавленными стёклами, из окон и дверей гроздьями свисают жизнерадостные белозубые пассажиры.
Порт. Пакгауз с лозунгом и обафриканенными Марксом-Лениным на побелке. Люди в хаки с кобурами на ляжках. Поросшая бурьяном узкоколейка и сошедшие с рельсов вагоны около причала. Два парохода у пирса. Один — безбожно ржавый. Второй — свежевыкрашенный. Люди с сумками, баулами поднимаются на борт по парадному трапу. По причалу, взрёвывая, едет танк Т-54. Везёт на броне штабель досок.
Дробь, обрывающаяся протяжным гудком: «супер» проходит мимо стоящего на рейде дока с русским «ТИХИЙ ХОД» аршинными буквами на борту, и направляется на выход в море.
Гудок затихает. Панорама сказочного города с пальмами и виллами на набережной и очень привлекательными с моря многоэтажками, оставшимися ещё от португальцев.
Били тамтамы. Третий шёл по бесконечному конторскому коридору к двери с табличкой «Отдел мореплавания».
— А, Альбанов! Заходи-заходи… — поприветсвовал его бодрый голос, стоило ему заглянуть в приоткрытую дверь. Хлопок двери оборвал бой тамтамов.
Толпа у входа с якорями уже рассосалась. Третий пытался подкурить беломорину, но спички чиркали и ломались.
Александр, не пора ли уже на зажигалки переходить? — посоветовал чей-то голос. Третий оглянулся на голос, и губы его сами собой расплылись
в идиотскую улыбку. На лавочке, под доской почёта, развалившись, сидел Корефуля. Огонёк зажигалки вспыхнул в протянутой руке. Вальяжный, с иголочки одетый Корефуля в этот момент был похож на героя рекламного клипа, прославляющего зажигалку «Зиппо».
— Ну? — спросил Корефуля, как только Третий подкурил.
Графинчик с коньяком официант поставил в самую середину натюрморта из тарелок с цыплятами табака, рюмками, салатиками, пиалами с водой и ёмкостями с соусом. Официант был в накрахмаленной сорочке и бабочке, и обслуживал без подобострастия, но проворненько.
— Нет, мужики. Работа, — твёрдо отказался он от предложенной Корефулей рюмки.
— Что там управа ваша, не прогнила ещё до основания?
— О, ты глянь:»Ваша!» — передразнил Корефуля.
— Быстро ты в ресторане акклиматизировался, Юрасик. Конечно, при цыплятах, это тебе не при макаронах по-флотски…
— Ладно, нужно чего будет, свистните… — собрался уходить официант.
И Корефуля тут же свистнул в два пальца.
— Музыка в твоём гнусном заведении имеется?
— Кориф, ты меня обижаешь. Ты меня уже обидел. Хоть цыган с медведем.
Через некоторое время действительно взвыло «Не сыпь мне соль на рану». Видимо, официант считал Добрынина музыкой.
— Уникальный поварёнок. Пищу профессионально ненавидит. Дед как-то минут на пятнадцать подзадержался в машине, а у Юрасика всё уже на корм рыбам пошло, и посуда с содой выдраена, — объяснил Корефуля.
— А ты как, всё бичуешь?
— В отстое, — подтвердил Третий.
— Ну, со свиданьицем. Сколько мы не виделись? Год?
Коньяк в графинчике убывал. С вытекающими последствиями. Оба приятеля уже пребывали в фазе задушевных разговоров.
— Знаешь, Ром, я уже привык. Была бы крыша над головой, наверное, вообще ничего не хотел бы. Мне уже плевать на всё с высокой колокольни. Суета эта в отделе, подсиживания вечные… Не хочу. Слава богу, ни жены, ни спиногрызов. Меня Веретенников на «Копет-Даг» планировал. Третьим. Ну, сижу себе, не рыпаюсь. Время подходит — он уже в загранкомандировку укатил. А у Медведева — своя очередь. Хоть номерок на руке записывай, мать их…
— На руке не номерки писать надо. На руке надо ворс иметь. Дай ты ему на лапу — уйдёшь в рейс мигом.
— Медведеву?
— Ему самому. Все они одним миром… Пусть не лично в руки, через Шехеризаду Иванну, но и ему отломится. Нашёл бессребреника. Кушать всем хочется.
— Ром, я пустой. На наше «пособие по безработице», сам знаешь, не прожить. Всё, что от пальмасов было, уже с характерным свистом…
— Отдолжить что-ли не у кого? У меня хотя бы.
— Ром, кончай гнилой базар. Почему мы с тобой должны платить за возможность ра-бо-тать? Мы ж не круиз в Японию по блату пробиваем, работа у нас такая: рыбу ловить.
— Не работать, а ЗА-работать. В отстое сидеть — тоже работа. Или на местном флоте — работа, и ещё та. Платят по-разному.
— Но в случае с Косолапычем я очень сомневаюсь. Он не берёт.
— Правильно. Пока не дают.
— Всё это — трёп обычнейший за углами.
— Правильно. Пока сам не убедишься, ни одному слову верить не надо. Кто там у нас на отходе? «Шедар»? Если всуну тебя туда третьим, поверишь? Спорим? Если проспоришь, будешь покрывать мои издержки.
— Знаешь, мы в прошлом рейсе рыбу в Норвегии сдавали. И рыбинспектор местный забраковал партию. Кэп ему на лапу дать пытался. Потом — даром всю партию отдать, только не фиксировать. А он жетон свой рыбинспекторский ему показывает. «Видишь? Мне его вручал лично король.»
— Слава богу, с монархией мы ещё в семнадцатом… Не в Норвегии.
Из-за соседнего столика, недавно занятого какими-то мальчиками спортивного вида, подошёл один из них, и, ни слова не говоря, взял со стола Корефулину зажигалку. Подкурив, демонстративно опустил заморское кресало в свой карман. Корефуля спокойно выдернул сигарету из зубов «спортсмена» и погасил её в пиале с водой:
— Извини, братан. Здесь не курят.
В очередной раз взвывшее «Не сыпь мне соль на рану» превратило последующую сцену в пантомиму. В результате Корефуля, Третий двое «спортсменов» направились к выходу. Оставшийся за столиком лишний «спортсмен» почему-то решил не участвовать. Пробегавший с подносом в руках официант покачал головой и побежал дальше. Работа, мужики.
В подворотне Третий и Корефуля оказались спиной к двору. «Спортсмены» — со стороны улицы. «Курец» зачем-то вертел в руках
Корефулину зажигалку. Со словами «говорят тебе, курить вредно» Корефуля неожиданно ухватил его за нос и согнул. Третий бросился наперерез второму «спортсмену». В этот момент с улицы раздался скрип тормозов, на стены упал отсвет мигалки. Третий ухватил Корефулю за шкирки и потащил за собой в глубину двора, по-регбистски расталкивая «спортсменов». Потеряв равновесие, Корефуля очень удачно задел штабель ящиков, вызвав целый обвал, цепную реакцию падающих ящиков, отгородившую на время и от «спортсменов», и от мигалок.
Третий и Корефуля понеслись вдоль стены, свернули за угол, ещё раз за угол. Юрасик стоял в распахнутой двери подсобки и невозмутимо пропустил их в свою «шхеру» и быстро повёл по тёмному коридору.
— Лохи, идиоты, дауны! Вы что, не видели, с кем связываетесь? Эти гопники на постое здесь на пару с ментами валюту с вашего брата снимают. Паспорта целы?
— Какая с меня валюта? — удивился Третий, ощупывая заплывающий глаз.
— Это твои проблемы. Виза хочешь — валюта найдешь. Корефуля уже сложился пополам, вылезая через окно для приёмки товара, но вспомнил о деньгах:
— Юрасик, чуть не забыл, сколько там с нас?
— Вай, какой деньги, дорогой? Завтра приходи. Красивый, трезвый приходи, да? — почему-то опять с кавказским акцентом отмахнулся Юрасик, и уже вдогонку, с чисто кубанским акцентом посоветовал:
— И огородами, огородами…
За ночь палуба покрылась инеем. Корефуля морщился от головной боли и протирал глаза.
— Однако…
— Да уж, — согласился Третий и стал сливать из кружки на руки Корефуле.
Корефуля фыркая, ахая и подвывая тёр пальцами глаза, изображая умывание.
— Пропала твоя медкомиссия, — сказал Третий, отдавая кружку.
— Остаётся только снова принять волевое решение, — согласился Корефуля, в свою очередь сливая ему на руки.
Умывшись, они не сговариваясь, устремились к борту, чтобы стать спинами к берегу и издать характерный звук.
— Во сколько «Гадючник» открывается? — спросил Корефуля.
В пивбаре «Гадючник» на длинной стойке бара возвышались штабеля подносов с бокалами. Упитанная Бандерша в кружевной наколке и грязном переднике трудилась на разливе. На стене, между двумя декоративными донцами бочёнков имела место огромная, как первомайский транспарант, надпись «Пиво только с закуской». Очередь помятых мужчин двигалась вдоль стойки.
— Францевна, на хрен мне ваша рыба? Ставрида, к тому же, — запротестовал было Корефуля.
— А ты думал, я тебя краснюком угощать буду? Ладно, повторять будешь, отпущу без закуски.
Корефуля с четырьмя бокалами в одной руке и двумя порциями ставриды в другой протолкался за стол к Третьему. Некоторое время они с интересом рассматривали «ставриду», выуживая её за хвост, обнюхивали и морщились.
— Месяца два назад, возможно, это ещё было ставридой БГ, — поделился результатами исследований Третий.
Корефуля уже жадно припал к бокалу. Махом отпил половину и скривился.
— Да, не Копенгаген. Моча верблюжья пополам со стиральным порошком.
— Не Николаев даже, — согласился Третий.
— Интересно, как верблюд этот выживает в такой колотун?
У стойки начался какой-то шум. Пропитый бомж в чёрном мятом плаще, покоробленной военно-морской мичманке пытался прорваться без очереди. Седые баки обрамляли его морщинистое и предельно страждущее лицо.
— Чеши отсюда, Адмирал проклятый. Сейчас милицию позову, — отгоняла бомжа Бандерша.
Третий мрачно разглядывал калоши Адмирала, натянутые на босу ногу. «По погоде».
— Самое скверное: он действительно капитан второго ранга. За их столик, кивнув Корефуле, подсел ещё один пациент.
— А, Серёга! Говорят, ваш трояк после этого рейса в отпуск намыливается? — оживился Корефуля.
— Кадры его намыливают. Чего я здесь околачиваюсь? Я бы с «Сэмэна» лет пять ещё не слазил бы. Больше двух рейсов сделать не дают. В отпуск выгнали. Ну, Марченко турнут, народ с «Сэмэна» побежит…
— Папу? За что? — удивился Корефуля.
— А ты не слышал ещё? Акустик с «Сэмэна» в Пальмасе сбежал. Не везёт папе что-то последнее время. То Чиф под Сокотрой на меляку выскочил. Заснул. Стоя. Хорошо — на песочек. Милю правее — и на камушки могли бы сесть.
Корефуля критически рассматривал собственную трёхдневную щетину в зеркале, расписанном русалками и водорослями.
— Значит, «Сэмэн» теперь без мастера? Это кого ж на Марченкино место посадят? Податься что-ли в капитаны? Шурик, третьим ко мне пойдёшь?
В зеркале над Корефулиной головой и в самом деле вдруг появилась капитанская фуражка. Но тут же из-под козырька выросли седые баки. Лицо Корефули потекло, побурело, покрылось морщинами, трасформируясь в физиономию Адмирала. Корефуля, передёрнувшись, обернулся. Адмирал косился на их нетронутую «ставриду».
— Бери-бери, отец. Мы не будем, — разрешил Третий.
— В баню что-ли сходить? — родил свежую мысль Корефуля, окончив ощупывать подбородок.
— Ладно, мужики. Побежал плотики сдавать, — попрощался Серёга с «Сэмэна».
Они вывалились из автобуса на остановке «Баня».
— Отмоемся, отскребём ракушку, а то ни к женщине подойти, ни… размечтался было Корефуля, но потух, увидев надпись «Ремонт» на дверях.
— Что за город мерзкий? Единственная баня в радиусе полста миль, и та не фунциклирует. Так собирался помыться…-
— Ну, если только помыться… — загадочно хмыкнул Третий.
— Не понял?
Коридор казался бесконечным. Двери, двери, двери. Где-то у самого горизонта светлел прямоугольник окна. Играло радио. Отдалённо доносились фаново-бачковые звуки, и совсем рядом — отчётливое ржание. Третий постучал в нужную дверь и открыл её, не дожидаясь ответа.
— Тьфу, чёрт! То-есть, я хотел сказать, пардон, мадам.
В прямоугольнике двери возникла лошадиная морда, и, недовольная вторжением в своё стойло, тут же попыталась укусить Третьего за нос.
— К-к-конюшня! — с чувством резюмировал Корефуля, когда дверь захлопнулась.
По коридору, переваливаясь, пробежал карапуз лет двух с половиной.
— Димуля! Димка! Не ребёнок, а наказание! — нёсся вслед крапузу женский голос.
Третий снова постучал в какую-то дверь. На этот раз более удачно. Они прошли в комнату, пригибаясь под бельевой верёвкой с сохнущим трусняком. Комната была стандартная. Четыре койки, стол у окна. На столе стоял трёхлитровый бутыль с окурками. Трое молодых людей играли в карты.
— Семь первых, — сказал Играющий.
— Пас, — сказал Пасующий.
— Вист, — сказал Вистующий.
— Ложимся.
— Б-без од-дной… — подытожил Вистующий и сгрёб карты со стола. Он слегка заикался.
— Сейчас, Шура. Закроемся и сходим, — тосуя карты пообещал Играющий.
— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил Третий у Корефули.
— Мизер, — сказал Играющий.
— Л-ложимся, — сказал Вистующий.
— Садимся, — скомандовал Третьему Корефуля и достал из сумки бутылёк с пивом. Пасующий так же молча достал из тумбочки рыбу.
— Клыкач? Кергеленский? — поинтересовался Корефуля.
— П-пайковый. Девки осчастливили, — объяснил Вистующий.
Бутылек был пуст, а от клыкача осталась груда костей, когда Вистующий, разгоняя дым рукой, принялся подсчитывать пулю.
— Тут вообще-то вчера завезли в стекляшку, — неуверенно сказал Играющий.
— Понял. Сколько брать, — сразу отреагировал Корефуля.
Играющий в раздумиях запустил руку в бороду:
— Ну, если с девками считать…
— С этими? — кивнул корефуля на стенку, за которой осталась давешняя лошадка.
— Не, эти брыкаются пока. Свежий завоз. Практикантки ейские. С сорок шестой. Всё равно мы им уже тридцатник должны. Кстати — Толя, — решил наконец представиться Играющий.
— Рома. Десяти хватит? — не отвлекаясь от сути дела, представился Корефуля.
— Мужики, вообще-то мы только помыться зашли… — робко напомнил Третий.
Кухня — это дома. А здесь был пищеблок. Облезшая штукатурка. Огромный бак с мусором. Облезлые мойки и вечный огонь на раздолбаной газовой плите. Третий помогал Ритуле чистить картошку. Ритуля была очень домашней блондинкой лет 24 в халатике. Килограмм-другой лишнего весу перекрывался румянцем во всю щеку и умопомрачительной хозяйственностью.
— Как жизнь? — спросила Ритуля. Третий пожал плечами.
— Ясненько, — поняла Ритуля.
— Да нет, нормально всё. В марте, кажись, уйду, — почему-то решил усложнить эту ясность Третий.
— Прошлый раз, по-моему, конец декабря был, — напомнила Ритуля. Третий пожал плечами.
— Подурели со своим морем. Два года без работы сидеть, ждать неизвестно чего… Не понимаю, — сказала Ритуля.
— Время такое. С третьими помощниками капитана случился перебор. Пересидеть надо. Актёры голливудские тоже вон годами роли ждут.
— Нет, точно чокнутые. Ну ради чего? Что в этом море такого? Счастья-то: полгода только волны видеть.
— Почему только волны? — не согласился Третий.
— Ах да, рыбцех ещё. Какой там Пальмас, Санечка? Сколько вы там стоите? Трое суток от силы? Да понажираются ещё, как свиньи. Кого ни спросишь, одни кабаки да барахолки помнит. Канары…
Ритуля поставила сковородку на огонь и продолжила обличать:
— А про заработки ваши невиданные ты кому-нибудь другому расскажи. Сколько ты уже вообще на шишах сидишь? Да сколько б ты за рейс ни зарабатывал, я по сравнению с тобой — миллионер при своих двухстах чистыми.
Третьего стала забавлять эта Ритулина горячность.
— Ну, хорошо. Чёрт с ним, с морем, с океаном. Но Ритуля, я же — штур-ман. С моим дипломом на берегу выдают тулуп и берданку вместо выходного пособия. В сторожа?
— А сейчас ты кто, не сторож? Будут на вас воду возить до самого светлого будущего. Почему шахтёры те же потребовать своё могут, а вы нет?
— Нам, вероятно, есть что терять, кроме своих цепей. На Шпицбергене шахтёры что-то не бастуют.
— Да нечего вам терять. Лично тебе — так вообще. Просто с гнильцой ваш брат, мальчики. Сами себя всю жизнь поедаете. Ты вон штаны последние третий год донашиваешь, дырки новые на ремешке пробиваешь, а Ромка твой, небось, уже на мерседес насобирал…
— А почему бы и нет? Из океана человек не вылазит. Ритуля, в море люди вкалывают. Восемь через восемь часов, как на Соловках при Сталине. Восемь часов в рыбцеху или на выгрузке отгорбатить — иной шахтёр взвоет. И ничего — так и надо. А ты копейки его считаешь. Мерседес!
— Ну и запрягись ещё в его драндулет! А уж он-то и погонять станет, не беспокойся…
— Ритка, я с ним ещё с мореходки вместе. Пуд соли в рейсах…
— Ай, отстань со своей солью. И так уже пересолила из-за тебя.
Третий закурил и забрался с ногами на подоконник.
— Вывались ещё. Пятый этаж, — посоветовала Ритуля.
И в этот же момент раздался стук в окно снаружи. Третий от неожиданности уронил горящий окурок за ворот и соскочил с подоконника, тщетно пытаясь его загасить. Окно распахнулось и в него просунулся огромный баул с бутылками.
— Да прими ты, Шурка… Грохнусь сейчас к епоной… — прохрипел Корефуля.
Загремела пожарная лестница, Корефуля тяжко перевалился через подоконник и остался сидеть на полу под батареей парового отопления, забрав у Третьего наконец-то извлечённый из-за пазухи бычок.
— Вахтерша у вас, Ритуля, — хуже Севастопольской таможни.
— Чокнутые, — подтвердила диагноз Ритуля, всё ещё держась за сердце. Потом сгоряча схватилась за вскипевший чайник, обожглась и затрясла рукой.
— За ухо, за ухо хватайся, — посоветовал Корефуля.
— Ай, да не за моё же!
В сорок шестой на столе, покрытом скатертью с наглаженными складками, дымилась на блюде выложенная холмиком картошка. Отпотевала бутылка водки. Дополняли натюрморт банка с болгарским перцем, вскрытая банка со шпротами и салатница с оливье. Рюмки-тарелки и уже известное нам общество плюс Любаша — малолетняя красотка с бандитскими замашками.
— И как он только успел? Я ж мигом, по отработанной схеме. За кончиком капроновым только забежал… — всё не мог успокоиться Играющий.
— На учебном барке «Седов» я был расписан на бом-брам-рее. Вопросы есть? — объяснил Корефуля истоки своих навыков в лазании по пожарным лестницам.
— Чокнутые, — повторила свой диагноз Ритуля.
— Толя, пора принимать решение, — напомнил Корефуля.
— Понял, — понял Играющий и потянулся за бутылкой. Любаша раскладывала картошку по тарелкам.
— Таньке оставь, сейчас прибежит, — напомнила ей Ритуля.
Танюша оказалась легка на помине. Она влетела в комнату, как мессершмитт, и ещё не разглядев всех присутствующих завопила:
— Ритка, жрать давай! Голодная, как…
— Ага… — сориентировалась она в обстановке, прервав свой вопль на взлёте. «Ага» явно предназначалось Корефуле.
— О, Татьяна. И ты здесь. Сколько лет, сколько зим, — промямлил Корефуля.
— Ага. Сидим значит. А может девушка поверила, может ждала всё это время? А он «на минутку позвонить» вышел, и два года ни слуху, ни духу. А обещал ведь.
— Если бы тебе одной, — покаянно вздохнул Корефуля.
— Нахал. Но ведь я не об этом. Ты что, ничего не помнишь?
— Как не об этом? Не понял… — даже оскорбился Корефуля. И тут же замолотил себя ладонью по лбу, что должно было означать, что он «вспомнил».
— Да-да-да-да! Было! Обещал.
— Ну вот, скажет сейчас:»Забыл», — предсказала Танюша.
— Забыл, Танька. Помню — обещал. А кому, когда — хоть убей… Любаша, ты там ближе всех, подай мой куртец…
— Так прямо и побежал! Сиди уж. Важны не какие-то там духи, а…
— Почему «какие-то»? Нормальные духи. Франция. Шанель. Мечта советской женщины.
— А целоваться не надо. Ну хватит, Танька, хватит. А то Ритка жениться на тебе заставит… — уже отбивался Корефуля.
— Ну что, ещё по одной? — спросил он так до конца и не отбившись.
— Понял, — отреагировал Играющий и взял бутылку.
— Д-да, вот за что его любили многие женщины, и даже одна женщина технолог рыбкомбината, — прокомментировал Вистующий.
— Нам с Любой больше не надо, — сказала Ритуля Играющему.
— Это ещё почему? — не согласилась Любаша.
— Детские рюмки кончились, — объяснил Корефуля.
— Ой, я ещё посмотрю, кто здесь ребёнок, — с босяцкими интонациями пообещала Любаша.
Из-под стола вдруг действительно раздался детский рёв.
— Ой, Димуля! Как ты сюда попал, счастье моё? Ну не плачь, родненький. Попросим сейчас у доброго дяди шоколадку… — принялась утешать ребёнка Любаша.
Димуля на полувсхлипе затих и посмотрел на Корефулю.
— Шурик, подай бушлатик ещё раз, — развёл руками Корефуля.
— Я балдею. Просто Дед Мороз какой-то. Всё, что ни попросишь…
— Увы, дитя. Только одно желание. Шоколадку, значит шоколадку.
— Маргарита, твоя очередь. Ну не дуйся солнышко. Тебе не идёт. Ведь когда-то была такая жизнерадостная женщина… — решил быть дедом морозом до конца Корефуля.
— Я не женщина. Я кухонный комбайн, нянька, — стала перечислять Ритуля, отобрав у Любаши рюмку, — передовик производства, а завтра в семь мне на смену…
— Ну, Ритка, прекращай, и не начинали ещё! — дружно взвыли присутствующие.
— Ритуля, до семи ещё столько времени, чтобы вспомнить, что ты самая прекрасная женщина в этой конюшне. Проси чего хочешь. Исполняю в течение 15 минут, — пообещал Корефуля.
— Ритка, проси букет цветов. Розы, — взяла инициативу в свои руки Любаша.
— Понял. 15 минут, — не смутился Корефуля и стал одеваться.
— Д-девки, совесть имейте. Какие розы зимой в 23 часа? — пытался усовестить Вистующий.
— Слово — не воробей. Правда, Ритка? — не уступала Любаша.
Третий провожал Корефулю по коридору. За их спиной уже кто-то из хвостистов делал вид, что собирался всего лишь отдолжить в сорок шестой сковородку.
— Девчёнки, Димули у вас нет? Ой, чудовище! У кого ты уже конфету выклянчил? А заелся! Любаша, не надо было давать ему, мальчикам шоколад не рекомендуется, — несся вслед им женский голос.
— Шурик, ты оставайся. Будут цветы, — пообещал Корефуля.
— Подожди, мне только звякнуть надо.
Телефон-автомат был на лестничной клетке.
— Смольный? Ну, я. Ну прости, не получилось сегодня. Понимаю, что не у тебя. Ну извинись. В следующий раз. Да не бросай ты трубку!
В сорок шестой прибавилось. Женский Голос сидел на койке рядом с Ритулей и жаловался на что-то, гладя вихры своего Димули. Какой-то хвостист уже в шутку тискал визжащую Танюшу. Игроки же, насытившись, утратили всякий интерес к окружающему. Спорили о чём-то терминологическом.
— Ч-читайте Конецкого. «Бич» вовсе не Бывший Интеллигентный Ч-человек, а происходит от английского «бичкамер» — безработный моряк. Устарешее слово, — споря, Вистующий заикался больше обычного.
— Какой научный подход! С указанием первоисточников и ссылками на корифеев. Я что, виноват, что твой Конецкий ни разу в жизни на биче не сидел? Ничего, на нас только тренируются. А вот когда вся страна на бич сядет, тогда и посмотрим, устарело ли слово — издевался Играющий.
— О биче, как явлении, я читал только у одного старпома-дальневосточника. «Белые рубки пароходов», кажется. С указанием цен на пирожки во Владивостоке. И мельком у Куваева, — развивал историю вопроса Пасующий.
— Виталий Коржиков. «Мореплавание Солнышкина». Детская книга, — называл еще один источник играющий.
Игроки были научниками-океанологами и изучали окружающий мир по монографиям.
Любаша, оставшись без присмотра, пользовалась близостью к бутылке. Голова её то и дело сваливалась с подпирающей руки, а взгляд скользил поверх голов, пытаясь хоть за что-то зацепиться и навести резкость. Зацепкой стал Корефуля.
— «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!» — с пьяной экспрессией пообещала ему Любаша.
Третий демонстративно посмотрел на часы:
— Четырнадцать-пятьдесят восемь, четырнадцать-пятьдесят девять…
Корефуля извлёк из-за спины букет роз. В наступившей тишине пробрался к столу и опрокинул стопку.
— Рома? Откуда? — не удержалась от глупых вопросов Танюша. Корефуля загрыз лимоном и только потом небрежно ответил:
— Это мои проблемы.
— Шурик, там в сумке ещё шампанского бутылка. Тащи, — скомандовал он Третьему.
Третий кивнул, понимая, и пошёл по коридору в комнату научников, удовлетворённо прислушиваясь к буре оваций из сорок шестой. Послышался орущий что-то бравурное магнитофон. Третий снова спутал дверь, и ещё с худшими последствиями, чем в первый «пардон мадам»: на этот раз лошадь стояла к нему задом и, ничтоже сумняшеся, лягнула копытом с новой блестящей подковой прямо в лоб.
Наступила темнота. Загудели маневровые тепловозы, раздались прочие звуки порта.
Было утро, порт и всё та же палуба. Два Корефули, охая, тёрли пальцами глаза. Ехидно хохотал баклан. Оба Корефули, в свою очередь, приняли по кружке и стали лить на его сложенные ковшиком ладони.
— Ой, — сказал Третий.
Корефули наконец-то сфокусировались в одного и жадно пили остаток воды из кружки. Не сговариваясь, Корефуля и Третий устремились к борту, но на пол-пути были остановлены недовольным ржанием. В дверях надстройки, дожа от холода, стояла Любаша в огромном для её детской фигурки ватнике. Из-за её спины выглядывала лошадь.
— Не поняла? А лошадку напоить? — потребовала Любаша.
Продольный коридор надстройки оканчивался дверью в рулевую рубку. Через открытую дверь был виден штурвал аварийной рулёвки и серое небо за лобовыми иллюминаторами. Налево была распахнутая дверь в радиорубку. Слышались голоса и писк морзянки. Два радиста, бывалый и помоложе, ОМ1 и ОМ2 (омик, олд мэн, маркони — как вам будет угодно), курочили аппаратуру.
— Всё, Шура. Отмучился наш «тропикано». Продают с молотка. На иголки. Вот, в отделе связи ЦУ выдали — снимать всю аппаратуру к матерям, — «порадовал» его свежей новостью ОМ1.
— За ноздрю, значит, потащат? — спросил Третий.
— Да, Трояк. И тут у нас не выгорело. Какой регистр нашу развалюху своим ходом выпустит? Не горюй. Сколько до той Греции? Суток пять от силы, часто меняя коней…
— И скоро?
— А чёрт его знает. Сказали в срочном порядке. Но я думаю, не в этом уже году. Спи пока.
Характер морзянки из приёмника изменился. Короткие, дискретные «тыр-пыр» на большой скорости сменились более медленным непрерывным текстом. ОМ2 прибавил громкости.
— Киев циркулит, — объяснил он Третьему.
Оба ОМика замолчали, вслушиваясь.
— Ну, пошла писать губерния! Какой-то ТР мурманский на судовом собрании решил сместить министра, — объяснил непосвящённому штурману ОМ1.
— В противном случае все потребуют политического убежища в магазине «Альбатрос» в порту захода… — прокомментировал ОМ2.
— Ну времена пошли! Раньше всякие «усилить, принять меры, ясность подтвердить» задолбывали, а сейчас последний сейнер ржавый, стоит ему в море выйти, циркуляры на весь флот слать начинает…
— Командую флотом. Шмидт, — процитировал ОМ2.
— Что ни срок, то что-нибудь новенькое. Хоть приемник домой уноси и вместо съезда на сон грядущий… Промрайоны дали министерству срок до первого числа. Потом обещают бастовать.
— Маленькая справочка. По английским законам всё, что в море, — бунт. Вернулся на берег — бастуй на здоровье.
— А я-то думал! Чего это я третий год никак в рейс не уйду! А оказывается, это я бастую! — понял наконец Третий.
Морзянка оборвалась. После «та-ти, та-ти, та-ти» (продолжение следует) запищало по новой.
— О, землячок какой-то проклюнулся, — оживился ОМ2, косо зыркнув на пожелтевший листок с позывными пароходов управы на панели приемника.
— «Сэмэн», — сразу перевел название парохода на человеческий язык ОМ1.
— Это кто ж там сейчас на нем папой?
— Марченко, — сказал Третий без бумажки.
— А ему бы не стоило. Жаль мужика. Ему и так по приходу в Союз ничего не светит после того, как коллега наш в политическое убежище убежал.
Третий посмотрел через иллюминатор на причал возле холодильника.
Краны прекратили выгрузку. Сиротливо болтается на гаке прямо в воздухе брошенный строп.
Морзянка, низкий нарастающий гул голосов. Грохочет якорь-цепь «супера» на рейде.
К морзянке и нарастающему ропоту присоединяются гудки пароходов на рейде. К ним подключается сводный духовой оркестр курсантов на палубе плавбазы «Советская Украина». Оркестр играет марш, столь любимый Холмсом, Ватсоном и одесскими джентельменами. Под звуки марша по Москве-реке, вдоль стен Кремля, идет китобоец «Венера». За зубцами стены пытается спрятаться человек в черном кителе с нашивками министра на обшлагах. Напрасно пытается. Плакатный гарпунер в сапогах-полубахилах и шляпе-зюйдвестке, с трубкой во рту, уже наводит орудие. С колокольни Ивана Великого в бинокль наблюдает за охотой группа лиц. С мостика китобойца, в бинокль же, видно как первое лицо, рискуя свалиться, запрещающе машет рукой.
Ропот, гудки, оркестр умолкают. В напряженной тишине, под морзянку, гарпунер, сплюнув, оставляет родного министра в покое и наводит по колокольне. Гарпунер жмет ногой на гашетку…
— Да, жаль Марченко, — совсем некстати подвел итог ОМ1: морзянка смолкла.
ОМ2 тут же нашел по приемнику ненавязчивый джаз, и оба омика снова принялись курочить аппаратуру.
— Ничего, на промыслах пошумят — дома тише будут, — резюмировал ОМ2 и карикатурно нахмурился, копируя известного всем троим чиновника по плавсоставу:
— Бунтовщик? Что, не ты? Ладно, ступай пока. Но смотри у меня! Сам знаешь, бича — немерено. Визу тебе когда подтверждать? Вот и я говорю: могут не подтвердить.
Завывала метель за каютным иллюминатором. Тускло тлел надкоечник. Третий, лежа, читал все тот же «Вокруг света».
Перевернутая страница.
На палубе «Св. Анны» идут приготовления. Лают собаки. Промысловики, Пожилой и Молодой и другие, готовят нарты и байдары, укладывают провизию, проверяют карабины. В каюткомпаниии лихорадочно пишутся письма. Дверь в капитанскую каюту приоткрыта. Капитан вслух зачитывает Третьему свой рапорт гидрографическому управлению:
— …Старшим пешей партии мною назначен штурман Альбанов, с коим намерен передать сей рапорт Вашему превосходительству. Борт шхуны «Св. Анна», 1914…
Снова каюткомпания. Среди пишущих письма и единственная женщина в экипаже. Старомодная прическа начала века, похожая на луковицу, меховая безрукавка поверх блузы с широкими, стянутыми в манжетах рукавами. Женщина отрывается от письма. Никакая она не Ерминия Жданко — Ритуля. Ритуля без своего пышущего здоровьем румянца. Черты лица заострились. Отрешенно трет замаранный чернилами палец. Третий случайно прочитывает начало ее письма: «Милый папа"! Я верю, все еще образуется…» Папа Ерминии был полный адмирал, начальник гидрографического управления.
Перевернутая страница.
Партия Альбанова уже на льду. Идти вызвалось 13 человек. Идут медленно, волочат за собой груженые байдарами и провизией нарты. Оглядываются на силуэт скованной льдами шхуны. Оглянувшись в последний раз, Третий видит на месте шхуны свой затертый льдами отстойный «тропик». По накатанной лыжне кто-то быстро нагоняет партию.
Юрасик. За спиной у него большой термос. Принес уходящим последний горячий обед.
Перевернутая страница.
Партия идет дальше. Юрасик, оставаясь на месте, снимает шапку и смотрит им вслед и ни с того, ни с сего кричит вдогонку:
— И огородами, огородами!
Все так же завывал ветер в снастях. Третий курил, прячась за надстройкой. Штормовое предупреждение. Ковш порта под завязку был забит сейнерами местного флота. Сейнера стояли борт к борту, обоймами по восемь-десять бортов. Воды под ними уже не было видно. Из камбузных печек летели гарь и копоть. Прели и слегка дымились сваленные на кормах зеленые невода. Трепетали на ветру грязные вымпела с желтой рыбацкой каймой по краю красных треугольных полотнищ. С высоты борта «тропика» было видно, что на ближайшем сейнеришке уже начали провожать старый год. Прямо на палубе, перед рубкой, наяривала (представьте себе) настоящая гармонь и хмельные рыбачки отплясывали матросский танец яблочко с криками «эх, мать!» под подначивания соседей. Из открытой двери в надстройке, светящейся голубым, слышались новогодние телеостроты Ширвиндта и Державина.
Об ногу Третьего потерлась рыжая сука по кличке Машка. Стала поскуливать и тянуть его за штанину. Просилась внутрь. Третий почесал суку за ухом. С причала раздавался лай какой-то Машкиной врагини. Машка освободилась от штанины и пару раз подала голос.
— Брось ее, Маня, — посоветовал Третий.
— Скоро и у нас конуру отнимут. Где жить и на кого лаять станем? Пошли в каюту.
Машка воспитанно села за порогом.
— Без китайских церемоний. Заходи, — разрешил Третий.
Он выдвинул из-под койки встроенный ящик и, раздумывая, смотрел на последнюю банку консервов.
— Ладно, в новом году соображать будем, — решил Третий и вспорол банку китайской стены шкерочным ножом.
Вместо ветчины в банке оказалась плотная, аккуратно уложенная пачка бумаг. Сверху — «Рапортъ». Третий моргнул, снимая наваждение. Ветчина снова стала ветчиной. Третий стал есть с куска хлеба, отдав Машке половину китайской стены вместе с банкой. Оба немилосердно чавкали. Третий бросил кипятильник в банку с водой и укутался в одеяло.
Перевернутая страница.
Палатка среди льдов. Третий просыпается от холода под тем же клетчатым казенным одеялом. Люди спят вповалку, сбившись поближе друг к другу. Третий ощупывает пустоту за спиной. Соседа нет. Выбирается из платки. Никого. Следом за ним просыпается Пожилой. Третий идет вокруг палатки и натыкается на свежую, но уже заносимую поземкой лыжню. Возвращается к палатке.
— Нарты, две пары лыж, коробка патронов, два карабина, жратва. Да, проверь еще консерву свою с почтой… — доложил Пожилой.
— Кто?
— Конрад и еще один.
Свет в каюте неожиданно погас. Машка обеспокоенно зарычала.
— Ша, Маша. Посмотрим, — успокоил ее Третий. — Опять береговое питание вырубили.
В гулком коридоре пустого парохода послышались человеческие голоса, блеснул огонек, кидая на переборки причудливые тени. Потом опять была темнота и чертыхания. Кто-то блудил по лабиринту темного судна, присвечивая себе спичками.
— Да если б не толпа, на биче и сдохнуть можно. Ты долги бичевские часто отдавал? Правильно. Сегодня ты при деньгах, завтра я. Какие тут долги. Вернешься из рейса — устроишь праздник желудка корешам отощавшим. Вот и весь твой долг… — расфилософствовался один из блуждающих голосов.
— Стой, стрелять буду, — честно предупредил Третий.
— Стою, — пообещал голос.
— Стреляю, — ответил Третий.
И тут кто-то прыгнул на него со спины, пытаясь повалить. Спичка снова вспыхнула, высветив две фигуры налетчиков.
— Машины на товсь! Вира якорь! Курс на Стамбул! — орали налетчики.
Машка, лая, бросилась на защиту Третьего.
И тут зажегся свет. Юрасик, сидя верхом на рухнувшем Корефуле, выкручивал ему руку, отбиваясь от наседавшей Машки. Философствующий же голос принадлежал ОМ1.
— А мы думали, ты дрыхнешь, как порядочный вахтенный, — сказал ОМ1.
— Понимаешь, Шура, насмотрелись новостей и решили твой «Южный Крест» на Стамбул угнать. Чем он хуже авиалайнера? — объяснил Корефуля, пока Юрасик продолжал отбиваться от Машки.
— Фу, дура. Пусть вместе с нами угоняют.
В каюте Юрасик высыпал на стол мандарины.
— Видел, да? «Задор», маленький такой карабэл знаешь, да? Поти, Батуми, Цихисдзири знаешь, да? Они не хамса ловят, они ловят, вот, — мандарин.
— Юрико, маленький такой знаешь, да? Он не макарон теперь кормит, он кормит, вот, — шашлык, — передразнил акцент общепитовского джигита ОМ1 и выставил на стол банку с мясом и электрошашлычницу.
— Да, «Задор», — мечтательно закатил глаза Корефуля.
— Где мои семнадцать лет? Белуга, камбала и канистра с домашним коньяком от генацвале Резо?
— Кстати, где? — поинтересовались Юрасик и ОМ1.
— О чем это вы, мужчины? — «не понял» Корефуля.
Жарились шашлыки. ОМ1 и Третий курили, поглядывая на часы.
— Десять минут осталось.
— Ромка, собачий выродок, совесть имей.
Бессовестный собачий выродок Ромка был скручен и принайтовлен к креслу. Юрасик насильно кормил его необесшкуренными мандаринами.
— Гавари, шени чериме, куда канистра прятал?
— Палачи! Фашисты! Все равно всех мандаринами не закормите! — стойко держался Корефуля, прожевывая очередной мандарин.
Машка робко смотрела на этот дурдом из коридора.
— Спокойно, уважаемые! — объявил о рождении идеи Третий.
Он порылся в рундуке и достал из него пустую коньячную бутылку.
— Маша, искать! След!
Машка обнюхала бутылку и резво убежала, но тут же вернулась, неся в зубах… лошадиную подкову.
— Отдай сюда, шантажистка! — не выдержал наконец Корефуля.
— Все, сдаюсь! Забери у нее, Шурик! Отдай, говорю тебе!
Четыре эмалированные кружки глухо цокнули, проиграли свою идиотскую мелодию Корефулины электронные часы.
— Будем! — пожелал ОМ1.
— С Новым годом, бичи! — поздравил Юрасик.
Через иллюминатор донеслись аналогичные возгласы с палубы загульного сейнера.
— Пошли брататься, — предложил Третий.
На палубе ОМ1 извлек из кармана ракету.
— Начальник, как насчет салюта?
— Плевать! Пали! — разрешил Третий.
Ракета ушла в ночное небо, озаряя палубы сейнеров.
— Неделю назад тралец один под Змеиным за борт сыграл. С мариупольского какого-то СЧСа. Мы под эту лавочку восемь ракет списали, — объяснил ОМ1.
— Нашли?
— Куда там. Ночь, шторм. Он так в жилете спасательном и окочурился. Через сутки жмурика выловили.
Тем временем Корефуля, перегнувшись через высокий борт, уже требовал от сейнеристов тару, спускал на шкертике наполненную из канистры бутыль.
Юрасик принимал с сейнера красное пожарное ведро камбалы.
Ракета, догорая, падала к горизонту.
Дурной пример — заразителен.
В портовой тошниловке завтракала ночная смена докеров. Корефуля и Третий толкались в очереди к раздаче с подносами в руках. Корефуля усердно искал по карманам мелочь. Механически достал и тут же запихнул обратно в карман подкову.
— Шурик, как вспомню, что этой прохиндейке нет 18, так голова еще сильнее раскалывается. Говорила мне мама, зачем? Полно почтенных замужних женщин вокруг. Теперь меня Ритуля или съест, или жениться на ребенке заставит. Но что этот ребенок вытворял, вспомнить страшно… Слушай, а деньги у нас есть?
— Талоны. Много не набирай, всего два, — успокоил Третий.
Двух талонов хватало на два кефира и два салатика. Корефуля жадно припал к бутылке.
— А кто это распинался, что после конины отходняк без вредных последствий? — напомнил Третий.
— Слушай!.. А какое сегодня число? — ужаснулся каким-то своим мыслям Корефуля.
— Третье уже. Очухался?
Корефуля допил бутылку и тут же принялся за кефир Третьего.
— Хочешь анекдот? Садится мужик в самолет. Стюардессе:» Девушка, дайте минералочки. Я с большого бодуна, пить очень хочется. Ну, приносит. Минут десять проходит, он опять стюардессу вызывает: «Еще стаканчик, если можно» На третий раз та не выдерживает и возмущается: «Что у вас, в Большом Бодуне, вообще воды нет?»
— Третье, значит?..
— А куда ты тогда пропал?
— Лег на грунт. Надо было еще в одном месте отметиться. Может, пойдем к «Лоботрясу», толкнем бонов десять? Ну и купить надо кой-чего на вечер…
— Опять?
— Не-не-не! С пьянством покончено! Есть тут одно дельце… Ты мне будешь нужен как мужчина.
— Ром, я уже заступил. Второй на праздники домой уехал, не вернулся еще.
— Ну и черт с ним. У тебя матрос есть. Что тут страшного? Ты ж его 31 — го домой отпустил? Да не сунется никто на твой сундук с мерзлыми тараканами. Посмотри на меня. Хорош? Скрягин такой же, если не хуже. Да точно тебе говорю, в одних гостях вчера были. Знаешь, бабник старый, мол, здесь зови меня просто Гена..
До открытия магазина «Альбатрос» оставалось несколько минут. Двери осаждала плотная толпа плотных женщин. Ядреных, полутораобхватных, с безразмерными сумками на колесиках. Неподалеку отирались двое в кожаных курточках, чем-то напоминающие давешних «спортсменов».
Женки, за чем стоим с утра пораньше? — весело поинтересовался у очереди Корефуля. Ближайшая морячка презрительно измерила взглядом Корефулин росток.
— Ну уж и полюбопытствовать нельзя! — обиделся Корефуля.
Одна из курточек отклеилась от стены и с равнодушным видом продефилировала к Корефуле, угадав в нем клиента.
— Мужики, валюту сдаете? — лениво осведомилась курточка.
Корефуля выразительно посмотрел в глаза курточке, потом на ее глядящего куда-то в сторону Турции напарника.
— Да нет, мужики. Мы — посмотреть.
Тем временем магазин открылся, женщины, как матросы при штурме Зимнего, ломились в открытые створки дверей.
— Это еще ничего. В Одессе на моих глазах вообще двери снесли, — сказал Корефуля.
— Дают что-то. Все к одному отделу ринулись, — констатировал Третий.
В зал они вошли последними.
— Извините, я вот за этой строгой тетенькой занимал, — вежливо обратился к какой-то из жен Корефуля.
— Это кто занимал-то, кто-занимал?.. — завозмущалась Какая-то.
— Что значит, не занимал? Товарищ женщина, подтвердите! — патетически воскликнул Корефуля.
Очередь начала роптать и гундосить, не желая признавать Корефулю.
— Значит так? — обиделся на женок Корефуля и жестом декламатора о серпастом-молоткастом достал из широких штанин паспорт моряка.
— Плавсоставу — вне очереди! — заявил он, потрясая паспортом над головой.
— Да тут все плавсостав! — соврала Какая-то.
— Документик, — потребовал Корефуля.
Строгая тетенька, стоявшая впереди, только что не сплюнув под ноги, ткнула Корефуле в лицо удостоверение.
— Моторист первого класса, — обескураженно прочел Корефуля.
— Сорри, мэм. Вы, извиняюсь, какой грудью на борьбе за живучесть пробоину закрывали?
— Ты как со старшими разговариваешь? — никак не желала выйти из боя Какая-то. Как ты женщину обозвал?
— А не плавсостав попрошу вообще… — сподличал Корефуля.
— Это что же, я должна мужа в магазин с собой волочь по каждой мелочи?
Мимо них с грохотом колес проволокла сумку первая осчастливленная женка. По габаритам на мелочь было не похоже.
— Вот именно-с. Притащите-с. Что это за муж, которого вообще невозможно никуда послать, кроме как в рейс? Да такую женщину вообще на руках носить полагается до самого магазина, — издевался Корефуля. Даже девица на кассе прыснула: в Какой-то было пудов девять весу.
Между тем, очередь, мало обеспокоенная арьергардным боем с Корефулей, двигалась. Товар закончился как раз на Корефуле.
— Слушай, кориф, ты как, успел хотя бы заметить, что давали? — спросил Корефуля у Третьего.
Кассирша, улыбаясь, что-то прошептала Корефуле на ухо. Лицо Корефули вытянулось.
— Хух. Хорошо, что не купил, — и Корефуля в свою очередь зашептал что-то девице на ухо.
— Ром, я на улице, — предупредил Третий, уходя.
На улице стоял обескураженный плавсоставовский Серега и пересчитывал пачку червонцев. Результат его явно не удовлетворял. К моменту появления Корефули он начинал пересчет по третьему разу.
— Двое в кожанках? — сразу уловил суть арифметической проблемы Корефуля.
— Да лично ж два раза пересчитывал. Чертовщина какая-то, — пожаловался Серега.
Корефуля сделал акопяновское движение рукой и подкурил от возникшей в руке зажигалки.
— Хорошую цену давали? — поинтересовался Третий.
— А чего мелочиться-то? Все равно один к одному получается, — Корефуля опять взмахнул рукой и зажигалка исчезла.
— Один к десяти, — поправил Корефулю Серега.
— Джентельмены! Не ломщик, а просто джентельмен какой-то пошел! Индекс инфляции раньше кабинета министров ввели! — восхитился Корефуля.
Серега сплюнул:
— Тьфу! Увижу — урою.
— Одному не советую. Можем подождать, если хочешь. Они сегодня еще заявятся.
— Да я по пути на тренажер забежал. Так мне, лоху, и надо.
— А вообще, Серый, лучше всего сдавать бабуле-божьему одуванчику. Знаешь, вертится тут такая в чунях и платочке? Фырма гарантирует. В любое время дня и ночи, в любом количестве. Я один раз сослепу отсчитал на червонец больше, сама на следующий день подошла и отдала. У меня даже адрес ее где-то записан. Или девицам прямо в «Лоботрясе». Пусть дешевле, но без фокусов.
Из магазина вывалилась Какая-то с сумкой.
— Гражданочка, может помочь? Хоть до остановки. Разве можно такие тяжести хрупкой женщине таскать? — и тут не отстал от нее Корефуля.
Но хрупкая женщина, хмыкнув, направилась не к остановке, а к припаркованному «доджу», напоминающему огромный чемодан на колесах.
Корефуля, как токсикоман, втянул ноздрями выхлоп тронувшегося чемодана и резюмировал:
— Нет, мужики. Есть все-таки в женах моряка какая-то изюминка. Жена моряка, это вам не что либо как, а — как либо где. Это, братишки, — профессия.
На хрустале в чешской стенке искрились блестки света. Рюмки и бокалы перемежались раковинами причудливой формы, веточками кораллов, высушенными морскими звездами и ежами.
Был интим. Был сервировочный столик на колесиках. Корефуля, замужняя женщина по имени Фаина, Третий и хозяйка оной кооперативной квартиры потягивали коктейль из высоких фужеров, устроившись на диване и в двух креслах перед видаком.
Фаина была жгучей брюнеткой с явной примесью татарской крови. По крайней мере, ее огромные глаза были раскосыми, как у Шемаханской царицы. Хозяйка была чуть постарше. Лет тридцати пяти. Холеная блондинка в профиль чем-то напоминавшая Линду Маккартни с конверта «Пресс ту плэй».
Смотрели какую-то легкую эротику с ритуальными танцами и раздеваниями перед костром при луне. Зрительницы уже немного «поплыли». Блестки света искрились в уголках увлажнившихся глаз и на сережках.
— Живут же люди. Яхты, острова, пикники. Ромка, чудовище, когда у тебя яхта будет? Хочу яхту, — расхотелась Фаина.
— А у меня уже есть. Осталось только рыбцех в пивбар переоборудовать, — неоригинально отшучивался Корефуля.
— Мальчики, объясните старухе, чем отличается порно от эротики. Мы тут с Фаиной поспорили. У нее главный критерий — если дублировать никто не взялся, значит порно. А у меня понавезено оттуда кассет, и все не дублированы. Фаина, помнишь мы эту смотрели, с Кэтлин Тернер. Разве она в порно снимается?
— В Поти, в видеозале, хозяин заведения обьяснял мне после сеанса так: если до завтра не посадят, значит сегодня была эротика, — отшучивался Корефуля.
Жена миллионера раздевалась перед гостями, пляшущими у костра очень грациозно, под ритмичную музыку, и «смутившись», убегала в ночь.
— Шура, вот вы тоже бывали, наверное, на подобных островах. Неужели там действительно такие краски. Я не верю, что вода может быть такой синей. А пальмы…
— На тех островах, на которых я высаживался, все пальмы были огорожены панцирными сетками от армейских коек. Один раз всего и было. Рыбакам, знаете ли, не до этого.
— Да уж знаю. По крайней мере — догадываюсь… — странным тоном сказала хозяйка.
За миллионершей в ночь убежал кто-то из гостей. Миллионер увел в каюту какую-то креолку. Уже было заметно, что это — не эротика. Фаина незаметно пожала лежащую на бархате дивана руку Хозяйки, но Третий в этот момент почему-то смотрел не на экран.
— Мальчики, мы покинем вас на минутку. Посплетничаем. Кофе заваривать? — засуетилась Фаина.
Хозяйка, уже встав, наклонилась над креслом Третьего из-за спинки. Руки ее вполне оправданно легли на плечи «мальчика».
— Шестой причал видно из другой комнаты. Не случится ничего с вашим пароходом. Можете проверить.
— Гляну. Штормового с вечера не было, но… — сказал Третий, подымаясь, когда за женщинами закрылась дверь.
— Я тебя за эти панцирные сетки убью сейчас, — пообещал Корефуля.
— Ты еще про урожайность фиников лекцию прочитал бы.
— А откуда она знает, где шестой причал?
Комната с видом на шестой причал оказалась спальней. Косо падал на стены лунный свет и огромную кровать. В угол, у окна, был затиснут письменный стол. Третий оперся рукой о столешницу, отдернул тюль, распахнул форточку и рванул ворот рубашки.
Порт был на ладони. У холодильника светился люстрами очередной ТР. В правом углу темнела глыбочка его «тропика».
Скрипнула дверь. Шорох шагов был тих. Руки женщины опять легли на плечи. Женщина прижалась к нему со спины.
— Хватит. Можешь ты сделать мне подарок? Представь, что за этими окнами пустыня Кара-Кум.
Хозяйка была уже только в легком пеньюаре. Тонкие дрожащие пальцы расстегивали пуговицы на его рубашке. Губы находили губы. Дико хохотала со стены африканская маска.
— Мальчишечка ты мой. Думаешь, бесится старуха. Сколько ж я тебя ждала.
В пятно света на полу падал пеньюар. Звучали поцелуи. Свет луны полз по обоям. Над письменным столом висела фотография в рамке: улыбающийся мужчина с аккуратной бородкой на фоне берегов Босфора с его крепостными стенами и мостами. Капитан.
Книжные полки — трельяж — хохочущая маска — окно — фотография. Все слилось в раскручивающийся волчок.
Третий сидел на кухне. Под распахнутой форточкой. На полу, облокотясь о батарею. Спички ломались. Запахивая пеньюар и поеживаясь от холода, появилась Хозяйка. Села на табуретку у стола.
— Тебе плохо? Господи, ну и мужик пошел: с двух коктейлей уже ни на что не способен.
Хозяйка достала из холодильника минералку. Обхватив себя руками за плечи, молча ждала, пока «мужик» попьет и покурит.
— Ну, прошло? Идем?
— Прости. Я — на пароход.
И вот только тут Хозяйка начала истерически хохотать:
— Господи, откуда вы все такие на мою голову беретесь? — хохотала над собой Хозяйка.
— Он — тоже такой?
Хозяйка вытерла слезы оставшиеся от смеха, села на табуретку. Закурила.
— Ты его знаешь?
— Так, в лицо.
— За что? Боже ты мой! За что? Провалитесь вы все с вашим Марченко! — уже не с Третьим, а с пространством заговорила Хозяйка, срываясь на рев.
— Ну почему ему больше всех надо? Герой! Гвоздь для вымпела переходящего! Марченко годами в отпуск не ходит, пароход ему бросить не на кого! Коробка железная одни руки любит! А меня? Есть на кого? А я? Железная?..
— И буфетчица с ним — сучка такая — четвертый рейс подряд одна и та же пошла, — сказала уже просто, без надрыва, успокаиваясь.
— Вообще-то, за него все люди держатся, — впервые за вечер улыбнулся Третий.
Была кухня. Были всхлипы. Капала вода из крана. Третий, сидя на табуретке, убаюкивал затихающую женщину. Женщина, пожалуй, была покрасивее той миллионерши из видика. За окном косо летел снег.
Партия Альбанова по разводьям переправляется на байдарах со льдины на льдину. Снова впрягается в нарты, погрузив на них лодки. Третий тащит нарты с больным. Больной бредит.
— Штурманец, письмо… Письмо в ящик опустил? Улица Сухарная, дом два. Женке моей.
— Отправил. Теперь жди ответа, — выдыхал Третий.
— Жаль. Не дойдет. Адресок неправильный, — неожиданно внятно говорит больной.
— Женку на вдову выправить надобно.
Третий некоторое время молча и с ожесточением тянет нарты, спотыкаясь и падая. Партия уже заметно ушла вперед. У людей уже нет сил на то, чтобы оглядываться.
— Брось меня, штурманец, — совершенно ясно и рассудочно говорит больной.
— Я — конченый. Пропадешь со мной ни за грош.
Крики «го-го-го» со стороны ушедших вперед. Ищут, вспомнили. Но как-то слишком радостно что-то кричат.
Над белизной покореженной торосами выткнулось темное пятно свободных от снега скал.
Третий растирает лицо снегом:
— Земля Франца-Иосифа. А ты говоришь. Будем жить, бродяга.
Третий шел вдоль причала местного флота. Сейнера выметали невода прямо на причал. Люди в оранжевых шторм-робах ползали по капроновой зелени, латая сети. Судовые щенки, сбившись в свору, ошалев от солнца, носились по этим эрзац-лужайкам из капрона, азартно облаивая чужаков. Вода ковша обретала прозрачность и цвет: Третий жмурился от пускаемых рябью волны зайчиков.
Кричали чайки. Третий шел по причалу холодильника, между ног кранов, в направлении, обратном первому своему появлению.
Третий шел уже по набережной. Ручьи талой воды. Важно прогуливающиеся по лужам бакланы. По заливу бежал рейдовый катерок. На парковой лавочке, закрыв глаза, нежился на солнышке Адмирал, впитывая в себя каждый квант солнечной энергии. Он по-прежнему был в калошах на босу ногу.
Третий шел по конторскому коридору к отделу мореплавания. Но дверь распахнулась раньше, и Третий нос к носу столкнулся с Фаиной. Молча кивнул ей. Фаина не заметила его. Она была в делах: в очках и с папкой для приказов в руке.
— А, Альбанов! Заходи-заходи! — пригласил бодрый голос.
Берег. Чистая вода с отдельными льдинами до самого горизонта.
Накатывается волна. Люди Альбанова стоят у холмика из камней.
Глухо щелкают два карабина. Патроны надо беречь.
Вдруг — выстрел. Эхо далекого выстрела и рев раненого зверя. Люди срываются и бегут вдоль берега.
Еще выстрелы, совсем близко. За изгибом берега бегущие натыкаются на тлеющий костер из плавника, развороченные нарты с припасами. Кровавый след ведет в скалы. Еще выстрел. В расселине люди натыкаются на тушу медведя, изуродованный зверем труп и Конрада, исступленно посылающего в тушу патрон за патроном.
Расстреляв весь магазин, Конрад оборачивается и видит выстроившихся полукругом людей, от которых он бежал несколькими неделями раньше. Третий от неожиданности вскрикивает. Перед ним стоит Корефуля.
Корефуля молча бросает к ногам преследователей карабин, бляшанку с почтой и отходит лицом к скале, сложив руки за спиной. Люди Альбанова молча уходят, оставляя Третьего один на один с беглецом. Люди хмурятся, они ждут еще одного выстрела. Третий поднимает бляшанку с почтой, сует ее за пазуху. Вешает на плечо Корефулин карабин и молча уходит вслед за своими людьми.
Третий идет, впрягшись в лямку. Качаются перед глазами следы. Качается горизонт. Кто-то молча впрягается рядом. Корефуля. Так же молча продолжают тащить нарты вдвоем. Падают, наткнувшись на тело шедшего впереди.
Еще один холмик на берегу.
Пролив, море дыбится волнами с пенными барашками. Люди, их осталось всего пятеро, спускают на воду две байдарки. Виден невысокий берег соседнего острова.
Волна с силой накатывается на берег, вынося на камни полуживых Третьего и Корефулю. Они на четвереньках ползут в потоках уходящей воды, цепляясь за камни. Изнеможденно лежат, выбравшись на сухое место. Море бьет о камни опрокинутую байдару. Второй байдары не видно, но со следующей волной приносит белоснежно-чистый подшлемник.
Корефуля приподымается на руках, что-то мычит, показывая Третьему на избу в невысоких скалах. Продуктовый склад австрийцев. Оба, не сговариваясь, бегут к избе на четвереньках. За с трудом открытой дверью оказывается хорошо знакомая Третьему каюта отстойного «тропика».
Кипела вода в банке. Кипятильник уже почти осох. Капли конденсата стекали по стеклу иллюминатора. Рядом с банкой валялся на столе разорванный суповый пакет, горбушка хлеба и две луковицы. Пепельница из пивной банки ощетинилась окурками. Тут же валялась пустая пачка с картой Беломорканала и несколько медных монет.
Третий неподвижно лежал лицом к переборке. Он не реагировал на то, что уже не один в каюте. У дверей молча стоял Корефуля. Ничего не выстояв, прошел к столу, вырубил кипятильник, выставил бутылку водки, и со вздохом сел в кресло.
— Знаешь, кто на этот раз?
— Самсоненко.
— Нет, не Самсоненко, — покачал головой Корефуля.
Он встал, и еле слышно поставил все точки над и, прежде чем уйти:
— Я.
Солнце скрылось за тучей, но Адмирал по-прежнему сидел на своей лавочке около ротонды. Третий сел рядом. По заливу, без гудков и сантиментов волокли за ноздрю на выход в море его «тропик».
— Куда его? — спросил Адмирал, знаками прося папиросу.
— В Грецию. Там все есть. Кроме папирос, — ответил Третий.
Адмирал лезет в карман своего плаща и показывает Третьему горсть окурков на заскорузлой ладони. Третий достает из-за пазухи бляшанку с почтой, вскрывает ее ножом. Они с Адмиралом скручивают по самокрутке и подкуривают. Третий в задумчивости подносит догорающую спичку к остаткам листа со словом «Рапортъ», прячет за пазуху остальные письма в обычных почтовых конвертах.
Снова пошел снег. Он валил хлопьями, в полном безветрии. Он не таял и не тонул. Он покрывал море, превращая его в снежную равнину. По равнине тянулись две цепочки следов. Третий и Адмирал уходили к горизонту, оживленно разговаривая, и размахивая руками. Наверное, травили свои морские истории.
ТИТРЫ. Для любопытствующих отметим, что Альбанова с Конрадом подобрал «Св. Фока» — судно экспедиции Седова. Седов погиб на пути к полюсу, «Фока» возвращался в Архангельск, сжигая в топке все судовое дерево. По каким-то причинам почта со «Св. Анны» была уничтожена Альбановым еще в старом австро-венгерском лагере на мысе Флора. Впрочем, на фоне последовавших событий 1914 года, приход «Св. Фоки» в порт не привлек особого внимания публики.
Т/Х СЛАВУТИЧ-13 Июнь, 1989
ЭМИГРАНТ,
или
КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
Там у меня в рундуке книга осталась, — икнул Юрик.
Ты уж, ик, как-нибудь забери, как только прилетите.
И никому не давай. Очень, ик, ценная книга.
Что-то лабухи оборзели. Третью песню уже не объявляют. Пойду разберусь.
Оркестр одумался раньше, чем ему удалось встать:
А эту песню мы исполняем для экипажа СРТМ "Простоквашино", улетающего в далекий солнечный Мозамбик.
— То-то, — торжествующе икнул Юрик и рухнул лицом в салат из крабов.
(Из стенограммы выступления Юрика в ресторане "Меридиан")
САЛАТ ИЗ КРАБОВ. Подготовленные овощи нарезать маленькими кубиками, помидоры — кружками. Перед подачей к столу нарезать зелёный салат, оставить несколько листиков для украшения, и положить горкой в салатник. Вокруг горки салата расположить овощи отдельными «букетами». В центре горки на зелёном салате расположить кусочки крабов (без сока). В момент подачи на стол овощи слегка посолить и полить заправкой, приготовленной из масла и уксуса с добавлением сока крабов. Крабов же залить соусом майонез и украсить листиками салата.
На верхней палубе никого не было.
Как и ожидалось.
Доктора-рыболова, таскавшего ставридку из пятен света, хватало обычно только до половины второго. Идиот очкастый. Ловить на удочку с борта траулера, провонявшегося чешуёй от клотика до киля. В рыбцех бы этого Айболита хоть на пару подвахт загнать. Чокнется ж скоро Пилюлькин с безделья.
Огни на берегу были близки, как локоть. Ветер доносил музыку из ночных ресторанчиков. Музыка пахла цыплятами табака, картофелем фри, бефстрогановым и черепаховым супом. Впрочем, суп мог быть и из акульих плавников.
Он подошел к слипу и оглянулся. В рулевой рубке горел свет. Второй помощник чаевничал, закусывая краденным свинным фаршем. Каннибал чертов.
В воду он ушел тихо, без всплеска.
Начинался рейс, как обычно: отходное собрание в актовом зале, пламенные речи боровоподобных начальников, автобус, аэропорт, самолет.
Толпа была пьяна еще со вчерашнего кабака, и, едва взлетели, кто-то из моряков потребовал у паиньки-стюардессы тропического довольствия. Не удовольствия ради — для поправки расшатанного отходным авансом здоровья.
Паинька предложила желающим охладиться путем высовывания головы в иллюминатор. За бортом — минус сорок. Как раз подходящая температурка.
Стали раскачивать. Не паиньку — ИЛ шестьдесят второй. Немцы-пенсионеры, путешествующие вторым классом по своей немецкой скаредности, с ужасом наблюдали, как три дюжины загадочных русских душ по счету "два-раз!" синхронно раскачиваются в креслах из стороны в сторону. Паиньке и то стало не по себе: не привыкла к качке, флот не тот. Побежала за папой.
Командиру корабля хватило одного взгляда, чтобы понять, что требования "гребцов" абсолютно законны. Черт с ним, что до тропиков еще долететь не успели. И потом — это ж рыбаки. Дай ты им уже по бутылке тропического, чтобы спали до самого Мапуту. Или хотя бы до Адена, на худой конец.
В Адене даже ночью было жарко, как в кочегарке. В Мапутовке — как в самой топке. Кровь прилила к костяшкам пальцев. Дышалось с трудом. Когда улетали из Симферополя, шел снег.
Родимый пароход поджидал их у стенки. В порту. Для любителей Сенкевича и Чуковского — на реке Лимпопо. Ремонтная команда в негроидном загаре, похудевшая от экономии валюты, с нечищеными зубами (всю имевшуюся на борту зубную пасту ченчинули на маски и кокосы) высыпала к трапу встречать прибывающих с морозной родины.
Таксисты, что ли, по ремонтам этим ездят? Ни одной знакомой морды.
ЗАКУСКА МЯСНАЯ СБОРНАЯ. В состав этого блюда могут входить различные готовые мясные продукты: ветчина, колбаса, варёный язык, жареная телятина, баранина, жареное мясо, домашняя птица, дичь и др.
Нарезанные продукты укладывают на блюдо в определённом порядке, например, на середине блюда помещают кусок курицы, вокруг — ломтики ветчины, колбасы, баранины, телятины. Блюдо гарнируется свежими огурцами, помидорами, свежими или мочёными яблоками, листиками салата или веточками зелени петрушки. Отдельно можно подать томатный соус "Острый" или соус майонез.
Вода была тёплой. Настолько, что уже не ощущалась кожей. Футболка и джинсы намокли и вздулись пузырями застрявшего в складках воздуха. Баул со шмотками он закинул на спину, как рюкзак, и, уцепившись рукой за отверстие шпигата в борту, оглянулся.
Огни исчезли. Только зарево над горбатым горизонтом говорило о том, что цель по-прежнему рядом. С палубы казалось — гораздо ближе.
Было еще не поздно отработать назад, вскарабкавшись на борт по слипу. Минут пять он не мог решиться, прилипалой прикипев к поросшему ракушкой борту. Но тут внутри парохода заурчало, и из шпигата ударила струя фекалки.
Дерьмо! Чего еще было ждать от этого сраного парохода, даже напоследок норовившего макнуть его мордой в дерьмо!
Он оттолкнулся ногами и поплыл, не оглядываясь.
К берегу! Обратной дороги не было.
Из Мапутовки в район промысла ходу было двенадцать суток.
Это торгаши считают переход работой. Рыбаки допивают протащенное через таможню спиртное. Переход для них — только перекур перед шестью месяцами в роли папы Карло, строгающего буратин на конвейере — восемь через восемь часов, без выходных и первомаев.
Но до этого было еще двенадцать спокойных океанских рассветов и двенадцать закатов, глядя на которые знаешь, что Бог есть.
— Судовое время — семь ноль-ноль. Команде — подъем! — каждое утро звучал по трансляции самодовольный голос Чифа, разгоняя остатки сна. День на третий по выходу из Мапуту, кроме завтрака и приятного аппетита, Чиф объявил общесудовое собрание.
Кэп, орел-мужчина полутора метров росту, прокартавил свое слово к низам. Орел-мужчина чувствовал в чреслах экспериментаторский зуд:
— Будем г'аботать облегченным тг'алом, — объявил он народу свою безвыборную программу.
Дело ясное. Новый человек в управе. Первый рейс капитаном. Вот и рвет жопу. На эксперименты потянуло. Плакали, мужчины, ваши заработки.
— И такого баг'дака, как вы мне в самолете устг'оили, у себя на бог'ту я не потег'плю. Г'аспустил вас Акопян…
Проверенный морской обычай: оплюй предшественника, чтобы ни у кого не осталось сомнений в твоем высоком профессионализме. Акопян, он же Фокусник, был капитаном "Простокваши" в прошлом рейсе.
Погорел Фокусник на том, что в Пальмасе дал деру его моряк. Проявил политическую неграмотность, проголосовал ногами за мир наживы и капитала. Бывает.
Мурманчане, вон, при заходе в Канаду целой шлюпкой эмигрировали. Старпом, как член партии, сопротивлялся, так они его — за борт. Вернулись, правда поближе к "бармалею" своему, чтоб Чиф доплыл до судовой партячейки наверняка. Доплыл. Ну и что? Больше он не член партии. И не старпом.
Так что бывает. Дает сбои система "русских троек", отделов по борьбе с моряками загранзаплыва, помполитов и стукачей с Ленина,8. А крайним остается все тот же капитан. Хотя он — капитан рыболовного траулера, а не каторжной галеры, и приковывать своих моряков к веслам цепями ему из ложной скромности не разрешено.
Хорошим Папой был Акопян. Рыбак от Бога. Не то что этот экспериментатор, выплававший ценз на плавбазе. С ванной в каюте и прочими излишествами в лице буфетчицы Ритки. И на СРТМ за собой дуру крашенную эту приволок. Привык к кофейку в постель. Хотя кто из них кому кофий этот подавал — еще вопрос, конечно.
Буфетчиц на СРТМах не держат за отсутствием каюткомпании. И чистые, и нечистые харчатся в одном салоне. Орел-мужчина освободил для Ритки место повара от штатного кандея за день до вылета. Юрик только у кассы узнал, что в ведомости на отходной аванец его почему-то нет. Чисто метут новые метлы.
И пусть себе метут. Никто б и слова не сказал. Не салаги, насмотрелись на подобные расклады вдоволь. Проглотили бы отбивную из друга-Юрика, не поперхнувшись, умей новоиспеченная повариха готовить. Но достаточно было увидеть этот маникюр и брезгливость, с которой Ритка не жаб препарировала — всего-то чистила картошку, чтобы понять что кулинария — всего лишь хобби новообращенной Шахини. Жрать приготовленную Риткой бурду было испытанием для йога, тренированного в поедании битых бутылок. Желудок отказывался переваривать это. Залеченный было гастрит обретал в лице Ритки верную союзницу.
Акопян, кстати, в свое время прославился на всю контору фразой:
— Наталья Борисовна, если я Вас ебу, это еще не значит, что Вам позволяется в старпома тарелками швырять.
Был такой эпизод. После серии подобных эпизодов Фокусник, похоже, решил, что себе дешевле поваром держать мужика. Когда экипажа всего тридцать душ, дрязги и склоки, всегда сопровождающие дележ баб на "атлантиках" и "суперах", на фиг никому не нужны. Люди в море идут рыбу ловить, а не компромат с аморалкой друг на друга собирать…
Орел-мужчина произносил свою тронную речь битый час. Под конец вконец разошелся:
- Не умеют у вас на Юге г'аботать. Но ничего. Я вас научу и изобаты г'езать, и дуплетом тг'алить…
Без ножа зарезал. Даже старпом, уж на что типчик подколодный, и тот в бороденку хохотнул, не сдержался.
РОСТБИФ. Мясо (филейную часть или вырезку) обмыть, срезать сухожилия, посолить, целым куском положить на разогретый маслом противень или сковороду и слегка обжарить. Затем поставить его в духовой шкаф и жарить до готовности. Через каждые 10–15 минут поливать мясо образовавшимся соком. Если сока будет мало, можно подлить немного бульона или воды. Продолжительность жаренья зависит от того, какой желательно приготовить ростбиф — прожаренный, средний, или с кровью.
Когда ростбиф готов, его снимают со сковороды, нарезают ломтиками и укладывают на блюдо. На гарнир можно дать нарезанную дольками морковь и зеленый горошек, заправленный маслом картофель (отварной, жареный, в молоке или в виде пюре) и настроганный хрен. Мясо поливают процеженным соком, образовавшимся при жаренье, и растопленным маслом.
Отдельно к ростбифу можно подать огурцы и зеленый салат.
О Юриковой книжёнке он вспомнил только после ужина, когда толпа, вдоволь накурившись и натрепавшись, стала расползаться с палубы по норам.
Он постучал в дверь.
— Да, — ответил пискляво молодящийся голосок. Он стукнул для верности еще раз.
— Ну да же, — недовольно подтвердил голосок.
И все же, похоже, его не ждали. А если ждали, то не его.
Ритка (член КПСС, 37, русская, женский, нет, не была, не участвовала, крашенная блондинка, 160-51, Скорпион, Крыса, глаза зеленые блядские) восседала на каютном диванчике в позе светской львицы в будуаре, держа тонкую дамскую сигаретку в кокетливо оттопыренных пальчиках. Ритка была в роли, и уже затянулась, собираясь игриво выпустить струйку дыма, но как-то стушевалась, закашлялась, и даже сделала рукой инстинктивное движение прикрыться.
Последнее было сложно, как ни запахивай прозрачный пеньюар. Ему бы следовало тут же, как от солнца, загородиться ладонью и зашутить возникшую неловкость, ляпнув двусмысленный комплимент этим дряблым грудям, вампирским коготкам и все еще плоскому животику, или хотя бы от неожиданности и глубины чувств потерять дар речи, а он, дурак, скривился, как от бормашины, и брякнул заранее заготовленное:
— Меня тут просили забрать кое-что из вещей. Предшественник ваш. Прошел и выцепил злополучную книгу в газетной обертке с полки. Такого преступного равнодушия не прощают. Даже к изнасилованию Ритка отнеслась бы более благосклонно. Губа ее недовольно поползла вверх, готовясь обнажить клыки, волосы свились в клубок змей, а в глазах зажглось по гиперболоиду инженера Гарина в каждом.
— Хам! — как свинцом плюнула будуарная львица уже не писклявым, а ледяным с хрипотцой тоном.
Чертов Юрик. Удружил-таки лучшему корешу.
По всему, рейс предстоял нескучный.
Перец в оладьях, гайки в пельменях и персональный чай, заваренный на "недельке" или чулочно-носочных изделиях не первой свежести. И это — по мелочам. Без привлечения патронирующих инстанций.
Он был так поглощен своими дурными предчувствиями, что чуть не сбил с ног подвернувшегося на трапе старпома.
Глаза резало от соли. Плыл брассом. Баул колотил по башке при каждом гребке. Он греб и греб без передыху, отплевываясь солью. Будто загребал не светящуюся океанскую воду, теплую, как моча сталевара у мартена, а сгребал за грудки орла-мужчину в его капитанском кителе и дергал за лацканы так, что только пуговицы сыпались, напоследок ударяя лбом ниже ллойдовского козырька. На Одессу!
Сотне на пятой сгребнутых капитанов он хлебнул воды с промиллями и закашлялся. Опять пересолено.
Оглянулся. Огней иллюминаторов уже не было видно. Только якорный огонь и свет люстр над промысловой палубой. И здорово в стороне. Он сильно забрал вправо.
Внимательней, товарищ беглец. Побег не терпит суеты. Не мурманчане. На боте к пляжу ни одна сволочь не подбросит.
Он уже отдышался и был готов к продолжению своего звездного заплыва, когда до него дошло. Он выматерился и со злостью на собственную тупость ударил по воде кулаком. Сволочи! Огни судна продолжали двигаться. Даже сейчас, пока отдыхал, их несло влево. И — якорный. Это не судно снялось, это его самого тащило в ночной океан предательски сильным отливным течением.
Старпом у них был действительно подколодным гражданином, не вопреки своей фамилии, утверждавшей, что он Поддубный. Звали его тоже подходяще: Валерием Павловичем. Среди матросов траловой команды он давно уже был перекрещен в Холеру Падлыча. О мерзости его характера по управе легенды ходили.
Протоколов никто не составлял, значит легенда, но Холеру Падлыча уже вешали однажды за вредность. Обидно, что не довели до конца своего правого дела. Но Падлыч — каков! — и из петли сказал собравшимся товарищам:
— Извиняться ни перед кем не намерен. Меня уже не исправишь. Характер у меня такой.
Согласно бунтовщицких традиций, вешать Падлыча собирались на рее, между антенной УКВ-станции и спутниковой антенной, но подоспевший на пеленгаторный мостик Акопян ракетницей разогнал бунтовщиков по шхерам и вытащил своего Чифа из удавки. Говорят, Падлыч даже не поблагодарил своего спасителя. Такой уж характер.
Более того, аж из шортов тропических выпрыгивал, когда Фокусник в Пальмасе погорел. Метил в капитанское кресло. А пуркуа бы не па? Диплом позволял.
Старания его неожиданно оказались бескорыстными. В освободившееся кресло за обеденным столом сел орел-мужчина. Разочарование по поводу собственного бескорыстия старпом постарался проглотить незаметно. Столь же стоически глотал он и варево из пауков, жаб и сороконожек, выдаваемое на гора через раздаточное окно камбуза:
— Спасибо, Маргарита Иванна. Вкусно — пальчики оближешь, — и все это с улыбочкой. С ехидной, правда, но улыбаться иначе Падлыч попросту не умел.
Дед, простая душа, привыкший величать поварих Ритками, сначала не уловил этого нюансика. Утратил чуткость, оглох около своих дизелей. То ему пересолено, то топором капуста рублена, то каша сыра, то котлеты подгоревши… Ничего, дня через четыре и он "вошел во вкус".
Правда, оба старших, и помощник, и механик, были уличены матросом-артельщиком в том, что взяли "на лавочку" энное количество тушенки, достаточное для автономного перехода до Луны и обратно при трехразовом питании, что послужило сигналом третьему помощнику и второму механику запастись колбасным фаршем из расчета на рейс до спутников Юпитера. Пока далекая от астрономии траловая команда собиралась с мыслями, смекнувший кое-что Ревизор прикрыл эту лавочку.
— Так нет уже ничего на ларьке, — заявил от старшему тралмастеру, цыкая зубом в дверях своей каюты. Из дверей шел запашок печеночного паштета.
— Спасибо, Маргарита Иванна, пальчики оближешь, — рефреном неслось из столовой.
И дернул его бес дать петуха в этой спетой капелле гурманов. При полном аншлаге в ложах и на галерке его угораздило пропеть арию о вкусной и здоровой пище в виде поучений сокоешнику Феде, молоденькому совсем пацану из вербованных.
— Борщ украинский, Федя, — сказал он, помешивая ложкой бурую жидкость в миске.
— Сварить мясной бульон и процедить. Очищенные коренья и свеклу нарезать, правильно, Федор, соломкой. Свеклу тушить 20–30 минут, добавив при этом жир, томат-пюре, уксус и бульон. Нарезанные коренья и лук слегка поджарить с маслом, смешать с поджаренной мукой, развести бульоном и довести до кипения…
Ритмичное чавканье, обозначавшее борьбу челюстей с вязнущим в зубах мясом, разом стихло. Кто-то всхлипнул, лектор продолжал в полной тишине:
— Готовый борщ, заметь себе, Федя, заправить салом, растертым чесноком, добавить помидоры, нарезанные дольками, быстро довести до кипения, после чего дать борщу настояться в течение 15–20 минут. Разливая борщ в тарелки, положить сметану и посыпать ме-е-е-лко нарезанной зеленью петрушки. Вот так вот, Федор.
При последних словах докладчика боцман, горячий южный человек, поперхнулся поглощаемой бурой жидкостью, и недолго думая, выплеснул содержимое миски в открытый по случаю тропического климата иллюминатор.
Случись в этот момент на борту иностранный наблюдатель, судно неизбежно было бы оштрафовано на астрономическую сумму за загрязнение мирового океана ядовитыми отходами.
Баул промок и тянул ко дну. Кое-как он сбросил его со спины и, расстегнув, достал запаянную в полиэтилен фотографию. Злости и сил еще хватило на то, чтобы сыграть в водное поло. Баул прочертил в воздухе дугу и плюхнулся в темноту. Только булькнуло. Светящиеся круги разошлись по поверхности.
Он проигрывал этот матч. Трудно рассчитывать хотя бы на ничью, когда команде соперников подсуживает сам Индючий океан.
КОТЛЕТЫ ФАРШИРОВАННЫЕ ИЗ МОРСКОГО ОКУНЯ. Морского окуня разделать на филе без кожи и костей, нарезать на продолговатые кусочки (по 2 на порцию) и слегка отбиить тяпкой. На середину каждого кусочка рыбы положить фарш, завернуть кусочки рыбы, придав им форму котлет.
Для приготовления фарша мелко изрубленные свежие ШАМПИНЬОНЫ (!!!) или белые грибы…
— Нет, Фёдор. Я дальше не могу. Это издевательство. Вернемся в Союз, сделаю из Юрика отбивную по всем правилам поварского искусства. "Шампиньоны или белые грибы!", — Юрикова книга полетела в дальний угол каюты.
Слушай, Леха. Давай ее вообще за борт смайнаем. Одно из двух: я либо мозгами тронусь, либо слюной захлебнусь, если ты ее еще раз на сон грядущий почитать захочешь.
Прорвемся, Федор. Скоро на промысле будем. А уж рыбу я и без шампиньонов и прочих идиотских рецептов тебе так приготовлю… Перец и соль наши хомяки по защечным мешкам еще не догадались распихать. Так что строганину и рулет гарантирую.
На промысел пришли в пятницу.
И пошло. Что ни трал, то порыв. Кому эксперименты, а кому — шиться ночь напролет. Изобаты он резать собрался, недомерок Риткин.
Что ни трал, то зацеп. Когда зацепились так, что назад пришли одни траловые доски, Маркони, уж на что флегмат и молчун, и тот взорвался. Достало, значит, когда вместе с авоськой остался на грунте его раздрагоценнейший кабель-зонд. Приходилось ему, бедняге, теперь и ночью на выборку трала вставать. А когда одни тральцы уродовались, штопаясь, посмеивался только, стукачек хренов. Мол, кто на что учился, коллеги. Счас другой зонд поцепим, а утром по свободе будем посмотреть. Оно и ночью неплохо видно, как припечет.
Что заработка в этом рейсе не видать, как свободных выборов в Гондурасе, понял наконец даже Кулон, перепутавший день с ночью, и появлявшийся из каюты с заспанной харей только к обеду. Ночи напролет горбатил, стахановец. В нарды с Доком резался. Только на втором месяце промысла спохватился: а что это его, электромеханика, до сих пор в рыбцех на подвахту не вызывали? А на кой ляд эта подвахта, если больше двух тонн за траление ни разу не взяли. Будет тебе, Кулон, пай — ноль целых хрен десятых. Получи хоть в гульденах, хоть в швейцарских франках. Когда у тральцов чайник электрический накрылся, тебе ж недосуг было. Весь в делах. Зары кантовал с Доком на пару.
Экспериментатор же все никак не мог наиграться в рыбака. Установил перед эхолотом кресло, чтобы лично контролировать поведение дурной рыбы, не желающей заходить в его облегченный трал. Хорошо хоть о работе дуплетом перестал рассусоливать. Дуплиться нечем стало. Еще пару опытов — и план на Айболитову удочку вылавливать придется.
С Акопяном как было, трал поутру, трал вечерком — и лежи в дрейфе, обрабатывай улов. В каждом трале — тонн по двадцать минимум. Но это ж в зону, за забор, лазить надо. Поймаешься — в лучшем случае диплом свой капитанский на стол на три года положишь. В худшем… Ну, это уж как у патрульного катера прицел будет выставлен. Но до забора, на свалах, и без экспериментов не шибко нарыбачишь. Четыре трала за восемь часов, и все — пустышки. Тут не только на патрульный катер, на линкор лоб в лоб полезешь.
Хотя, какие к черту патрули в их районе. Это ж не Западная Сахара, где и марокканцы, и мавры обстреливают без китайских церемоний. Главное — всеми циркулярами и приказами по министерству в экономзону лазить запрещено. Это для недомерка куда весомей крупнокалиберных пулеметов было. Или они там, на базах, и впрямь считают, что вся рыба за двухсотмильными зонами специально для русских рыбаков косяком ходит?
Наверное, природа тоже экспериментировала, путем многочисленных мутаций и селекции позволяя подобным экземплярам вскарабкаться на капитанский мостик по черепам погоревших товарищей.
Что, мол, из этого получится?
А ежели еще усложнить эксперимент? Поставить одного-единственного мутанта во главе нормальных в общем-то, проверенных мужиков и отправить в океан на полгода? Озвереют ли психически устойчивые мужики? А если их еще и не кормить? И собирать объяснительные по поводу ношения тапочек без задников и сгоревших электрочайников? Будут ли отмечены случаи каннибализма в этом замкнутом коллективе? Не удастся ли вывести из самого сильного тральца крысиного волка, чтобы запускать в дальнейшем на пароходы и уберечь атлантическую сардину и аденский каракат от хищнического лова флотом МРХ СССР? Раз уж внешние раздражители вроде крупнокалиберных пулеметов марокканских патрулей на идиотов этих не действуют, приходится старушке-природе экспериментировать на уровне генной инженерии.
К объяснительным у орла-мужчины наблюдалась действительно патологическая любовь. Сказывалась длительная работа старпомом на плавбазе. Все, написанное моряками в этом жанре, он любовно подшивал в папочку, в которой хранились рапорта с пароходов, давно отбуксированных за ноздрю в Грецию на гвозди, и уже трижды поменявших после этого хозяина, флаг и порт регистрации.
По вечерам орел-мужчина, должно быть, открывал сейф и перечитывал особо дорогие его сердцу закладные о курении в неположенных местах, аморальном поведении рыбообработчиц, затащивших в каюту и насильно продержавших в оной почти сутки случайно забредшего на их палубу системного механика, и случаях распития спиртных напитков в мукомолке.
Да, средний траулер с его тридцатью моряками был маловат для этого гения администрирования, чаще прикладывавшего руку к скоросшивателю, чем к машинному телеграфу. Мукомолки для распития спиртных напитков — и то на такой лушпайке не было предусмотрено. Если уж механики гнали у себя в машине банановку по случаю дня бульдозериста, духан стоял до капитанского мостика.
— Да, г'аспустил вас Акопян, — все чаще вздыхал орел-мужчина, как-то забывая, что Фокусник главным образом ловил рыбу. И дурная рыба косяком валила в его тралы, не взирая на низкий уровень политинформаций и ношение тапочек без задников вне траловой палубы.
Он уже не видел ни зарева на горизонте, ни огней парохода. Ночь поглотила все огни, кроме звезд и светляков на волнах.
Он был один в этой ночи.
Один, посреди соленого, как крокодилья слеза, теплого, как приветствие гладиатора цезарю, и темного, как река Стикс, океана.
От сознания этого безбрежного одиночества первобытный ужас подымался из недр больного желудка, выпячивал из орбит выжженные солью глаза, бился под черепом, вздыбливал волосы и сводил судорогой ноги.
Он уже сбросил с себя всю одежду, даже резинку от трусов, бултыхался, бился в волнах этого ужаса, и все равно шел ко дну. И все это — молча.
В Бога он все еще не верил. А кроме как к Всевышнему, вопить было не к кому.
В конце концов это даже было каким-то развлечением.
Жизнь на промысле однообразна до безобразия.
Постановка трала, выборка, рыбцех.
Завтрак, обед, вечерний чай, ужин.
Вахта Второго завтракает в четыре утра. Ночная, с нулей, смена рыбообработчиков чаевничает в полночь.
Забивка, морозка, выбивка. Глядишь — уже пора замывать рыбцех перед сдачей вахты. И — в люлю.
Через восемь часов — все по новой.
С недомерком, конечно, при четырех-то тралениях за вахту, приходилось тральцам Жаботинскими попыхтеть. Тот, говорят, за свою спортивную жизнь восемь тонн железа поднял. Но тралец — такая скотина, что и к этому привыкнет, не первый год железки по промпалубе таскает.
День за днем — одно и то же. И за бортом — только волны.
Единственное развлечение: "Что там на обед сегодня?"
Скучно, право, крыша с тоски ехать начинает.
А тут — такое разнообразие.
Когда Ритка из своей амбразуры перестала говорить ему "на здоровье" в обмен на грязную миску, он перестал говорить "спасибо". Даже старпом на вид ему поставил:
— Что ж это Вы, Алексей Максимыч, флотский этикет не блюдете.
— Да вот…
Ритка вынуждена была желать ему здоровья, но таким тоном, что лучше б он подавился.
Для тех, кому мадам благоволила, тон был еще более юморной: не заметила вроде, бедняжка, что успела не только вырасти из гольфиков, бантиков, и трусиков с Микки Маусами.
Когда Ритка обнаглела до того, что уселась за капитанским столом на место Деда и показательно щебетала со своим "Геночкой" пол-обеда, он, показательно же, поблагодарил пустое место за вкусный обед, чуть-ли не по плечи просунувшись в никем не охраняемое раздаточное окно. (Дед-бедняга уже третий раз возникал в дверях салона и откатывался на исходные позиции, истекая слюной).
На следующий день, явившись в столовую по обычной команде: "Заступающей вахте — обедать,"- он обнаружил что на его штатном стуле уже обедают Маргарита Иванна. (И как это Юрик умудрялся питаться так, что никто и не видел? На все вопросы типа: "Юрик, ты сам-то когда ешь?" — неизменный ответ: "Да вы что, я видел, как это готовится.")
Пришлось сесть на гарантированно пустующий до двенадцати капитанский стул и подождать, пока мадам Шахиня дожуют свой борщ.
Мелкая месть — досрочно вылитый за борт чай и убранное со стола масло на вечернем чае — не в счет. Впрочем, эта месть стала просто доброй традицией всякий раз, когда он замывал рыбцех, и являлся на чай позже остальной промтолпы.
Но стоит ли переживать о таких пустяках человеку, всегда имеющему возможность наложить на мягкую свежую горбушку хлеба толстый-толстый слой строганины?
Только желудок вот стал барахлить с сухомятки. И чайник, нагревателя мать, сгорел.
радио 4ла всем судам море км кмд=
последнее время участились случаи пищевых отравлений членов экипажей зпт работников береговых служб рыбой собственного приготовления тчк так на сртм моспино тьмутараканского управления океанического рыболовства км нечитайло имело место незаконное оборудование судне коптильни тчк результатом чего явилась госпитализация 27 человек работников севастопольского морского рыбного порта том числе таможни зпт погранконтроля зпт портнадзора отравившихся рыбной продукцией тчк связи вышеизложенным обязываю км кмд судов провести работу устранению подобных нарушений тчк ясность подтвердить=
Может где и просто поржали, получив подобную криптограмму, а на СРТМ "Простоквашино" работа была проведена в ту же ночь. Холера Падлыч с прикрывающим тылы Айболитом нагрянул в рыбцех и показательно конфисковал партию строганины в количестве двух трехлитровых бутылей. Особо было указано на выкипевший чайник, едва не приведший к возгоранию, и на неоднократные жалобы повара Самохиной на беспорядок на камбузе в ночное время. (Посуду, голуби мои, мыть за собой надо. У повара рабочий день — нормированный, до восьми тридцати. — Это с вахты второго в четыре утра сменяются. — Обойдемся без расследования. Просто пресечем, и все).
С виновников были взяты объяснительные по установленному образцу.
Однако, матрос 1-го класса Бобинец А. М. писать объяснительную отказался и предпринял действия, несовместимые с высоким званием советского моряка, проявившиеся в физическом воздействии на старшего помощника Поддубного В. П. и сопровождавшего его судового врача Айзенберга И. М., нанеся обоим телесные повреждения легкой степени. Заключение судового медика прилагается.
Возьмите Индийский океан. Не доводя до кипения, снимите с огня и поставьте охлаждаться на антарктических ледниках Моря Содружества. Добавьте мелкоколотых айсбергов, расположив на кубиках льда пингвинов живописными группками. Равномерно помешивайте жидкость, до возникновения приливно-отливных волн высотой 8 метров (для порта Бомбей). Добавьте оставшихся в наличии после китобойных экспедиций одесситов и японцев синих китов, достаточное количество кашалотов, касаток, дельфинов и ластоногих (морских слонов или львов — по вкусу). Запустите несметные косяки скумбрии, ледяшки, крупного частика, тунца, мерлоу, клыкача, кабана, капитана, барракуды и каменного окуня, рыб промысловых и непромысловых, рыб для голодных толп и рыб для обожравшихся избранников, и для гурманов, играющих в гусарскую рулетку с цианистой рыбкой фугу. Особо позаботьтесь об акулах-людоедах для австралийских пляжей (если любите, чтобы с кровью) и рыбах-молотах (если предпочитаете хорошо отбитое мясо). Коралловые рыбки пестрых расцветок придадут блюду нарядности, а некоторое количество Золотых рыбок поможет пенсионерам решить свои жилищные проблемы. Из головоногих обязательны спруты, кальмары и каракат. Из кишечнополостных — коралловые полипы, морские звезды и ежи. Любителям пива рекомендуем не забыть о лангустах, креветке и криле в собственном соку.
Тщательно перемешайте воду океана с водой Инда, Ганга, Замбези, Тигра и Лимпопо. Посолите из расчета две столовых ложки соли на каждый из двести восьмидесяти миллиардов шестиста миллионов литров.
А теперь попробуйте выпить все это в одиночку. Не от жадности. От беспредельного одиночества, когда между Вами и Богом уже нет никого, даже райского вохровца апостола Петра.
— Отправляйте в Союз, — сказал он недомерку.
— Я из-за вашей бляди подыхать здесь не собираюсь. Желудок у меня скрутило.
— Ты что это себе позволяешь? — хмыкнул, но всё же решил продемонстрировать лояльность к верховному главнокомандующему Чиф. Бланж под его левым глазом уже был заметен, но Падлыч вел себя, как ни в чем ни бывало. Нет, только вешать. И никакой Акопян со своей ракетницей…
— Доктор говорит, ты здоров, как бык. Значит — здоров, как бык.
— Да ваш Айболит и перееханного поездом только делагилом накормить сможет.
— Консилиум из Кащенок и Боткиных собирать прикажете? А может лучше в госпиталь в Порт-Элизабете? Поваляешься месячишку, отдохнешь за счет рабоче-крестьянского государства. Это ж только у них работяги за лечение бешенные деньги платят. А у нас страна богатая, за всех симулянтов расплатится.
— Отправляйте в Союз. На Зихе сейчас транспорт севастопольский догружается.
— Ну нет уж. Голосовать на общесудовом собрании, каким курсом идти, мы воздержимся. И кого куда отправить — тоже администрация решать будет, а не матросы траловой команды. Манной кашки с ложечки дитятку захотелось. Ошиблось дитятко, думало не на промысел, а в круиз с ресторанным питанием идет пассажиром. Уж не обессудьте, Алексей Максимыч. На траулер матросом Вы попали. Все из того же котла кормятся, и всех устраивает. Только один, вишь ты, гурман выискался. Диетический стол у нас не предусмотрен. Медкомиссию перед рейсом все проходят. И у каждого "здоров" написано. Но раз уж действительно так невмоготу, мы не звери, переведем Вас на легкий труд. В камбузники. Кстати и кулинарные таланты свои проявите. И никаких "карман шире". Это приказ. Можете рассматривать как дисциплинарное взыскание. За рукоприкладство. Вам все ясно?
— На этом пароходе и так уже — сплошные камбузники. Рыбу ловить некому.
— Да, г'аспустил вас Акопян, — нашел наконец возможность вставить свое веское слово супер-капитан.
— Да усохни, прыщ. Акопян — Рыбак, а не спец по колготкам. Да и те, наверное, с бляди своей без порыва снять не сможешь, — сплюнул, и вышел вон.
Ни на какой камбуз он не пошел, а пошел он в каюту, собрал баул, отодрал плексиглас с переборки и вытащил фото. Покурил на дорожку, и тихо, чтобы не разбудить сокоешника Федю, прикрыл за собой дверь.
На верхней палубе никого не было. Как и ожидалось.
Доктора-рыболова, таскавшего ставридку на самодур, хватало обычно только до половины второго…
В пятьдесят шестом году, когда уходил в первый рейс от Калининграда, думал: "Вернусь — корову куплю". Тридцать лет уже плаваю, а коровы так и не купил. Бросай ты это дело пока молодой, Леха. Слушай, что тебе старшие говорят. В море денег нет. Деньги все — на берегу. Ты только стал на этот путь разочарований и потерь, а я больше половины жизни веревки по палубе тягаю, — сказал старший тралмастер.
— И книгу, ик, ЭТОЙ не оставляй, — добавил Юрец.
— Рыбу — стране, деньги — жене, а сам — носом на волну и штормуй. Два градуса право еще возьми. Страшно? Правильно. Я скажу, когда нужно будет бояться. Пока, слава богу, не обмерзаем, — "подбодрил" Акопян и постучал по дереву штурвала.
— Леший, издергалась я уже вся. Надоело. Откуда ты взялся тогда на мою голову? — сказала жена.
— Да я русским языком тебе говорю, котрафорь, а не стопори! Сбрось один шлаг с битенга! Откуда вас поприсылали таких? — орал боцман.
— Траловая доска есть элемент оснастки промыслового трала, обеспечивающий его горизонтальное раскрытие, — монотонно бубнил преп по кличке Кутец.
— Через десять минут сдавайте тетради. Бобинец, ты хоть ошибки у Макеевой не списывай, — посоветовала русская литература.
— Леша! Домой! — звала мать из окна.
— Да не беспокойтесь, мамаша. Все уже. Мальчик. Ну, богатырь, покажись мамочке, — засюсюкала какая-то тетка в белом.
Он ощутил грубый шлепок по заднице, обиделся и заорал.
— Папочка, не уезжай!!! — уже в двери повисла на нем мелкая, рыдая горючими слезами.
Слезы на вкус были горькими.
Катька вцепилась так крепко, будто душила.
Звезды. Он видел звезды.
Миллионы и миллионы булавочных иголок, воткнутых в опрокинутую чашку неба.
Кололо пальцы ног. Болела ссадина на колене. Он жил.
Жил и орал благим матом, вспомнив давнюю обиду на фельдшерицу в роддоме и забыв о том, что кроме Бога слышать его некому.
Должно быть, от этого крика прикемаривший на своей небесной вахте Святой Николай проснулся, и срочно сотворил еще одно чудо. На то он и Мирликийский чудотворец.
Его крик услышали местные рыбаки, засветло выходившие в море на своих фелюгах.
Он был неприлично гол, бел, и не в составе тройки. Из документов — только дочкина фотография. Ему долго пришлось объяснять властям, в какое консульство он плыл. Но русское "жрать" даже местная полиция поняла без перевода.
Уже потом, в Керчи, он узнал, что выгребал против четырехузлового течения, и шансов у него практически не было.
РС ВИМБА
Ноябрь, 95.
ДЕНЬ СУРКА В ОДЕССЕ,
или
САГА О КЕДАХ
Для кого Одесса — мама, а для парохода херсонской приписки — похлеще последней жены почившего в бозе отчима. Но фрахтователь наш, делец с подозрительным отчеством Альбертович, чьим загодя наворованным стальным уголком грузились мы в Белгород-Днестровском порту, знать об этом отказывался.
Аккерман приближен к Пирею ровно настолько, насколько удален от областного прокурора. Но Бизнесмен Альбертович непреклонно требовал, чтобы отход на Пирей состоялся непременно с благословения Дюка Ришелье. От морвокзала. От известного всему колонизованному одесситами миру эскалатора, сооружение которого приписывается самому Потемкину. И чтобы оркестр филармонии лабал при отходе "Прощание славянки" на мотив 7.40, а друзья, родственники и соседи рыдали в синие платочки, бросали в воздух чепчики и говорили:
— Надо же, а я порол этого сорванца в пятьдесят четвертом, когда он стянул из нашего буфета банку варенья. Вы же знаете, как моя Симочка варит абрикосовое варенье?
Две группы армянских челноков уже благополучно приземлились на палубу нашего микроавианосца и самостоятельно (чем пассажир и отличается от стального уголка в лучшую сторону) загрузились по ангарам со всеми своими простынями, электродрелями, телевизорами, женами, двоюродными тетками и видами горы Арарат в лунную полночь (холст, масло, 60 на 80, кисти неизвестного таможне художника). Путь от Одессы до Белгорода челноки благополучно преодолели по шпалам. Возвращаться к старту по морю желанием они не горели.
Старпом же наш, Серега Витальевич, был в трансе от одной мысли о неизбежном заходе в Одессу-мать. В заверения Альбертовича о том, что в городе-герое у него схвачено все, вплоть до пограничников, Серега верил слабо. А нам с боцманюрой было фиолетово: все имевшиеся в распоряжении советские дензнаки мы уже перевели в жидкую валюту с закрутками, и сокрыли от таможенного контроля в надежном месте.
— Я, например, давно в Одессу именно первого апреля хотел попасть, — нагло заявил боцманюра, цыкая зубом.
— Будет вам еще юморина, — мрачно пообещал старпом. Шаман. Как в воду накаркал.
Привязались мы действительно у морвокзала. Но связи Альбертыча были здесь ни при чем: наш родной капитан постарался. Хотелось ему предстать перед одесскими корешами в новом качестве кооперативного моряка. Это сейчас все плюются, а в описываемый астрономический год, это звучало гордо, как победный рапорт в ЦК о вырубленном под корень винограднике. Кореша были заблаговременно извещены на шестнадцатом канале УКВ, а представительскую картошку капитанская буфетчица Светка начала жарить еще на траверзе Большого Фонтана.
Серега помрачнел еще больше. Похоже было на то, что вся тяжесть битвы с одесским портнадзором падет на неокрепшие старпомские плечи.
А нам с боцманюрой что? Лишь бы швартовка с ужином не совпала. Юриковой автономности только-только от вечернего чая до ужина и хватало. Ростом два ноль пять между перпендикулярами и соответствующего водоизмещения был юноша.
Швартуемся, значит. По корме — пассажир «Шаляпин». По носу — учебный парусник "Дружба".
Орел наш Зюзькин на мосту при всем параде красуется, как Д'Артаньян на своем сивом мерине при въезде в Париж через триумфальную арку. При всех делах: погоны, жетон капитанский, фуражечка по последней ллойдовской моде — вертолет посадить можно.
Эффектно так, между двумя затяжками мальборины:
— Подать носовой!
Гаркнет и пепел стряхивает на публику. А мы на палубе под чутким старпомовым руководством кувыркаемся.
Точно — юморина в Одессе. Юмористов ряженых на нашу швартовку поглазеть изрядно набежало. Одних маскарадных моряков в тельняшках человек пять было. А конец наш принять и некому. Наконец Юрец все-таки высмотрел одного внушающего доверие дедулю в маскарадной же мичманке с плоским козырьком. Такой фасон как раз на смену треуголке Де Рибаса пришел.
— Дедуля, прими конец, если не шутишь! — крикнул и грушей легости прямо под козырек ему и засветил. Снайпер. Хорошо — не молотом, как привык. Он у нас в детстве метанием молота в сборной Союза баловался. Цирк!
А Зюзькин наш, как увидел подбитого старичка, запереживал-забегал по крылу мостика. Сигарету не тем концом в рот сунул даже.
— Вот и юморина начинается, — пояснил старпом.
Откуда ж Спортсмен мог знать, что подбитый им старичок окажется старейшим одесским портнадзирателем с колокольной фамилией Герцен?
Да, вот тебе и треуголка! Хорошо еще портнадзиратель совсем не мстительным старичком оказался. Всего три раза заставил пожарную тревогу сыграть и учебный пластырь в районе сорок третьего шпангоута завести. Первый раз я олимпийца нашего в таком загнанном состоянии видел. Это тебе не молотки на трибуну швырять на Играх Доброй Воли.
— Если этот Добролюбов еще хоть одну тревогу сыграть задумает, это будет "человек за бортом", — мрачно констатировал боцманюра. И я ему почему-то сразу поверил.
Но Герцен вам не Глеб Успенский. Прочувствовал он этот момент. И переключился на более безобидные проверки. Радисту от него еще и послабление вышло:
— Начальник радиостанции погиб, — первым делом проинформировал он, поднявшись в рулевую рубку. Так что педали шлюпочной радиостанции штурмана сами крутили, как умели.
Нет, приятный все же дедуля оказался, начитанный. О летающих тарелках со старпомом побеседовал, об экстрасенсах. Только как на экзамене: всё на листочке промахи старпомовы отмечал:
— Вот тут, молодой человек, позвольте с Вами не согласиться. Алхимия вовсе не лженаука, возможно предкам нашим действительно был известен холодный термоядерный синтез. А свинец, между прочим, в периодической таблице Менделеева соседствует с золотом. Всего-то одного протона в ядре ему недостает, чтобы золотом быть. Так что отбрасывать идею философского камня было бы преждевременным…
— Так, ЗРБ-40 у Вас, молодой человек, просрочены. Интересно отметить, что древние китайцы изобрели порох именно для целей пиротехники. Великая нация. Фарфор, банковское дело, бумажные купюры, газета, компас — все от них. Кстати, на таблицы девиации Ваши взглянуть хотелось бы.
Вежливый, эрудированный старичок. И с чего это старпом его нам в таких вампирских тонах обрисовал накануне?
— Ну, я думаю, пока достаточно, — подвел итог старичок исписав до корки свой листик, оказавшийся актом инспекторского осмотра судна. Нет, он мог бы продолжать еще, но уже на манжетах. На листе потребительского формата замечаний уместилось не так уж и много: всего 19. Причем четыре из них требовали постановки в док.
— Молодой человек, я еще с пятьдесят седьмого года не моряк, а государственный чиновник, — отвечал Герцен на все призывы к морской солидарности и проявил твердость даже при виде гречки и майонеза, по ошибке засунутых старпомом не в свой портфель.
— Мое дело — чтоб Вы тонули по правилам. Я понимаю, что река-море. Да, вызывайте Регистра. Если он утвердит, я отзову свой акт в официальном порядке. Кстати, сегодня ведь не моя вахта. Я на огород ехать собирался. Но капитан порта позвонил мне домой и попросил лично проверить, что там за херсонцы пришли.
— А Нострадамуса Вы, молодой человек, читали невнимательно. Он предсказывает падение восточной деспотии именно на 73 год существования. Ну, до конца года не так уж и много осталось. Доживем — увидим. Напомните мне при следующей встрече.
Видимо, Герцен считал, что заданный им объем работ, мы осилим никак не раньше Нового года.
Ужин запаздывал. Все камбузно-буфетные силы были брошены на обслугу двух идущих параллельными курсами банкетов "на посошок". В Зюзькинской каюте звучали тосты за семь футов под килем: Зюзькина провожали на Пирей квалифицированные моряки. В апартаментах Бизнесмена Альбертовича пили больше за шоб море было гладким, и шоб не качало. Ни наш фрахтователь, ни наш судоводитель, похоже, не придавали особого значения факту потопления нашего стотрубного линкора метким огнем комендора Герцена. Оба юбиляра всем своим видом выражали презрение к каким-бы то ни было перепалкам с портнадзором. Так генерал Милорадович завтракали на батарее Раевского в разгар французской атаки. Или на Багратионовых флешах?
Один лишь старпом страдал «меланхолией и гиппохондрией», достойной Барклая де Толли.
— Никуда мы отсюда не уйдем, — мрачно сообщил он нам с боцманом. Голос его звучал убежденно, как у героя Шукшина, сражавшегося за Родину.
— Спортсмен, я знаю, что у вас есть. Сгоняй. В счет будущих доходов.
Мы с боцманюрой переглянулись и решили отказать. Но потом глянули на старпома и решили уважить. Черт с ней, с бутылкой, спишем на накладные расходы. Зато сковороду картошки Спортсмен, пользуясь случаем и географической близостью к камбузу, очень удачно зацепил.
— Всё из-за кед этих, — сказал Серега.
— Обычных, с резиновой подошвой, — пояснил он, зажевав.
— В Александрии на причале в футбол я в них с херсонцами играл на последней плавпрактике.
Старпомами не рождаются. И наш в свое время был курсантом, носил штаны без гульфика, и врубался в науку, утверждающую, что кратчайшее расстояние между двумя точками — вовсе не прямая. Это необразованные железнодорожники могут себе позволить двигаться по прямым, как курс партии, рельсам. Уважающий себя моряк пойдет по дуге большого круга.
Серегина дуга большого круга начиналась в одном престижном районе города-Киева и шла через Одессу на Тикси, Остров Свободы и Александрию. Он уже был курсантом выпускного курса, когда футбольной команде учебного судна "Профессор Миняев" подвернулся под бутцу тот херсонский "сормовский".
Херсонцы не оказали достойного сопротивления, однако в послематчевом пивном туре полностью реабилитировали себя и Херсон. Вот тут Серега и узнал о наличии в природе такой организации, как ГУРФ, со штаб-квартирой в Киеве, на Подоле. От Серегиной штаб-квартиры получалось чуть больше пяти трамвайных остановок, без пересадки. ГУРФ, оказывается, во всю бороздил просторы солнечной Средиземки, не размениваясь на всякие Кубы, Анголы и Мозамбики. Италия у херсонцев уже в печенках сидела.
— Ничего, уж мне-то не надоест Венеция, — решил Серега.
Он понял, что не остановится даже перед тем, чтобы пойти на поклон к своему номенклатурному отчиму, только бы распределиться в вожделенный ГУРФ по блату. Хотелось испытать на себе надоедливость Греции и Франции, черт возьми.
Уже в Босфоре, под мостом, когда бросали за борт монеты (чтобы визу не закрыли), Серега еще раз загадал распределиться в ГУРФ и для солидности присовокупил к горсти мелочи свои старые кеды, лопнувшие в историческом матче в Александрии.
— Сергей, ты делаешь ошибку, — предупредил номенклатурный отчим двумя месяцами позже.
— Ну, есть у меня друзья в твоем ГУРФе, но по-моему, это — речники. За рубеж они не плавают.
— Папа, первый и последний раз в жизни я обратился к тебе за помощью, а ты и тут не можешь обойтись без нравоучений. Я лично пил пиво на ГУРФовском пароходе в Египте, — отмахнулся Серега.
Дуга большого круга замкнулась.
О том, что папа был прав, Серега стал догадываться в первый же день работы в ГУРФе.
— Инна, опять они нам "морское судовождение" прислали! Что с ним теперь делать? — радостно встретила его инспектор по кадрам.
Курсантская смекалка подсказывала Сереге, что незнающая женщина имела в виду не морское судовождение в целом, а одного конкретного его представителя.
Смекалка не подвела. Первую зиму Серега провел за сбором металлолома и охраной отстойных барж от забредших по льду рыбаков. Давняя неприязнь ко всяческим рыбакам помогала ему в нелегком труде. (Когда-то, при заходе "Профессора Миняева" в Херсон, Серега был пойман на танцплощадке превосходящими силами рыбной мореходки, и никакие заверения в непричастности к херсонской "централке" действия не возымели).
Оказалось, ГУРФ был многоглав, как змий на калиновом мосту. И киевская его голова предпочитала круизы с престарелыми канадцами по Днепру перевозкам стального проката на Геную.
Что же до приписки к Херсонскому порту, то к Херсону приписаны все днепровские суда, выходящие в море. И Запорожье, и Днепропетровск, и Киев. Такие дела.
Серега уже пришел увольняться, когда все та же незнающая кадровичка все так же всплеснула руками и, минуя собственно морское судовождение, обратилась к начальнице:
— Инна, смотри, кто пришел! А ты в Херсоне третьего помощника на морпроводку выпрашиваешь.
Серегина судьба была решена. Он ехал на приемку нового пассажира в Германию. Приемка в Германии и гарантийный ремонт в Югославии были событием в жизни каждого речника. Об этом Серега уже был наслышан. Только ленивый моторист возвращался из рейса без автомобиля. И потом, Германия тоже еще не успела Сереге надоесть. Окрыленный, вылетел он из кадров, расталкивая наглых бортпроводниц в коридоре. Фигушки, его уже было не купить на "а у вас ширинка расстегнута" (после шести лет в клешах, он действительно иногда забывал ее застегивать).
Кстати, вы не забыли о кедах?
Вылет окрыленного Сереги из кадров пришелся на 10.30 по Москве, рейсом за 15 марта. Не знаю, кто был диспетчером в тот злополучный день, но именно в 10.30 же, на ту же посадочную полосу заходила огромная мартовская сосулька, рейсом от козырька крыши. Серега отделался сотрясением мозга с двухнедельной госпитализацией. В Германию он не долетел.
Пароход он "принимал" уже в Питере, и не помощником капитана, а рулевым. Речной капитан Непыйпыво с церковно-приходским дипломом решил укомплектовать все вахты рулевыми с высшим морским образованием. Для коллекции. Помощником у Непыйпыва, кстати, тогда был наш родной Зюзькин, разжалованный из капитанов морпроводки во вторые у первого же речного буя.
— Ничего, Серега! — ободрил он своего высокообразованного рулевого.
— Я тут задвинул идею, наука ленинградская на волновые испытания должна приехать. Откроют нам Стамбул — будут они со своими калюжными дипломами причалы мести.
В ожидании обещанных волновых испытаний Серега успел закончить экстерном курсы красных речников, вырасти из рулевых до четвертого, третьего, а потом и второго помощника, жениться на бортпроводнице, родить двух детей, окончательно разругаться с номенклатурным своим папой и переехать к теще в пригород. Когда же наконец свершилось, и питерская наука в очках и с аппаратурой месяц гоняла их пароход по Черному морю в поисках четырехметровой волны, открыли им почему-то не Стамбул, а Крым до Ялты и Севастополя.
Об участии в своей судьбе затопленных в Босфоре кед Серега узнал уже на сухогрузе днепровско-дунайской линии. Речники вообще его многому пытались научить: наводить фломастером единственный курс от Очакова к Усть-Дунайску, определяться методом передвижения ластика по карте, и разворачивать карту вверх ногами, когда идешь на юг. Но самое главное, один сердобольный сменный капитан объяснил ему, что если оставляешь где-нибудь ношеную обувь, никогда в это место уже не вернешься. Проверенная примета.
Так что Босфор для парохода нашего был закрыт. По крайней мере, пока старпомом у нас Серега Витальевич. Такие вот дела, хлопцы. Может еще на одну раскрутитесь?
При попытке вернуть зачищенную сковороду на родину, сработал аларм.
— Пункт 14. Не работает аварийная сирена, — процитировал старпом из Герцена.
Сирена визжала, не реагируя на кнопку "Отключение звукового сигнала", решив компенсировать таким образом свое позорное бездействие в присутствии портнадзирателя.
Позже к переходящему в ультразвук визгу добавились звуки, напоминающие шлепки мокрой тряпкой по наглой хитрой морде.
— А я еще удивился: картошка жарится! — чавкая, оправдывался Спортсмен.
— Да на каких пятерых, девушка? Там и одному делать нечего было.
Сирена убежала жаловаться Зюзькину.
Оркестр устал, как караул под командой матроса Железняка.
Отходили мы по полной программе: пограничник у трапа, прибытие комиссии. Прапорщик тщательно проверяет соответствие анфасов с утвержденными печатью паспортного стола образцами, сомневается в том что, румяный пухлощекий красавец в паспорте и Бизнесмен Альбертович после N-дневных проводов в Грецию — одно и то же лицо.
Таможенный досмотр:
— Валюта, оружие, наркотики, запрещенные к вывозу предметы? Предприимчивые армяне вступают в длительные переговоры со старшим смены. Предварительные переговоры с нашим старшим уже привели к тому, что в каюткомпании все четыре переборки украшены видами горы Арарат в разных ракурсах, в том числе явно с турецкой территории, простынями из нашей бельевой кладовой можно выстелить дорожку от Одессы до Босфора, а телевизорами оборудованы не только салон и каждая каюта, но также малярка, душевая и капитанский гальюн. Так что верещагину дерибасовкого разлива осталось только сверить цифры и скрепить окончательное соглашение крепким рукопожатием. Этот Кэмп-Дэвид армянским парламентом ратифицирован еще до подписания.
Представительный Зюзькин в салоне:
— Света, кохвэ!
Представительские сервилат, сыр, нарзан и коньяк на столе…
Извиняюсь, что-то помощник мой из портнадзора запаздывает… После этой капитанской реплики режиссеру всего этого фарса самое время было кричать:
— Стоп! Стоп! Не верю! — и выпускать свою девочку со стреляющей доской.
"Отход на Пирей. Дубль восемь".
Но не верили уже мы со Спортсменом. Знали уже, чем кончается эта сцена: вернувшийся из портнадзора Серега швыряет в угол портфель с документами, комиссия убирается восвояси, кореша и соседи, пытавшиеся помахать синими платочками с причала, пошатываясь, возвращаются к своим посошкам, а армянские женщины поднимают вой, как над усопшим американским президентом с купюры соответствующего достоинства. Потом Серега говорит нам со Спортсменом: "Я знаю, что у вас есть", — и юморина продолжается.
Мы застряли в первом апреля, как герои в дне сурка. Сагу о кедах мы прослушали столько раз, что по ночам на вахте у трапа нам снилась спортивная обувь. Если бы не регулярно уменьшающиеся запасы в очередной раз сокрытого от таможенного контроля спиртного, мы утратили бы счет времени.
Вариации были незначительны. Число замечаний по судну время от времени менялось. Рекордной стала цифра двадцать два, когда Герцен писал особенно мелким почерком. Но в целом наблюдалась тенденция к их уменьшению. Серега пошел с протянутой рукой по окрестным пароходам и постепенно укомплектовал пароход пиротехникой, свистками и отпугивающей акул краской для спасжилетов. И еще: Спортсмену иногда удавалось вместо картошки стащить сервилат из-под носа у таможни.
Не помню, на каком дубле Зюзькин заметил, что что-то подобное с ним давеча уже было, потому что Бизнесмен Альбертович в иные дни успевал заказывать комиссию на отход дважды. Открытие поразило его, как выпавший из календаря спутников Магеллана день поразил умы ученых мужей того времени.
— Ничего без меня сделать не можете, — как Америго Веспуччи Колумбу, заявил Зюзькин Сереге, и, разогнав со своей ллойдовской мицы вертолеты, убыл на берег.
Зюзькин не был бы капитаном повышенной проходимости, если бы его ставили в тупик всяческие нестыковки между морским и речным Регистрами Союза ССР. Если высокие договаривающиеся стороны за семьдесят лет советской власти не нашли времени обсудить, сколько спасательных плотов с каждого борта должны автоматически раскрыться на глубине четырнадцати метров над затонувшим вследствие непреодолимого воздействия стихии судном, и следует ли моряку представать перед Николаем Чудотворцем в спасательном хомуте отечественного производства, или во франтовском польском спасжилете, а регулярное судоходство, тем не менее, поддерживалось все семьдесят лет за исключением военного времени и эпидемий холеры в Одессе, значит существовали секретные фарватеры для выхода из Одесского порта в открытое море, в обход капитана порта и Герцена.
Нет, не даром "проходимец" звучало похвалой в устах Зюзькина.
В 14.00 он убыл с борта.
В 14.40 мы, растянувшись цепочкой по причалу, перегружали с парусника "Дружба" мешки с канадскими гидрокостюмами.
В 15.30 Регистр уже был на борту, и еще с причала убедился, что количество спасательных плотов на нашем левом борту удвоилось и соответствует более жестким требованиям к классу МСП (200 % с каждого борта). В том, что количество плотов спасательных надувных по правому борту уменьшилось до 0 %, капитан Зюзькин убедиться ему не дал, грамотно проложив курс на шлюпочную палубу через капитанскую каюту, и вовремя отдав команду: "Света, кохвэ!"
Кофепитие затянулось до того, что наш со Спортсменом мировой рекорд в скоростном перетягивании четырех плотов с борта на борт так и не был засвидетельствован судейской коллегией.
В 15.50 дистанционно управляемый по переносной радиостанции механик дистанционно включил и дистанционно выключил насос, услышав в динамике щелчок прикрепленного накануне на верхней палубе макета переключателя выдачи топлива.
Потом последовал тщательный подсчет количества гидрокостюмов и калькуляция в столбик суммы из членов экипажа по штатному расписанию и армянского многочлена.
С 15.55 до 16.37 Регистр Союза ССР продолжил кофепитие, и нахлестался кофию до того, что забыл свой портфель с гречкой и майонезом в капитанской каюте, и едва был пойман вахтенным у трапа при попытке покинуть судно в лоцпорт противоположного к берегу борта.
16.50–17.01 — Стоим в прежнем положении. Возобновлены работы по погрузке гидрокостюмов. Всего отгружено на учебный фрегат ОВИМУ "Дружба"- 30 (тридцать) комплектов.
16.59 Неожиданное повторное прибытие на борт Регистра Союза ССР за забытым в капитанской каюте портфелем.
17.00 Регистр отзывает ранее составленный акт освидетельствования судна. Капитан Зюзькин уведомляет Регистра, что в данный момент Акт с нарочным вахтенным помощником отправлен капитану Одесского морского порта и предлагает выделить матроса из палубной команды в сопровождающие для облегчения ориентации Регистра в пространстве и сокращения сроков перехода либо до портнадзора, либо до стоянки такси на усмотрение Регистра. Регистр ставит капитана Зюзькина в известность о том, что Акт все равно будет отозван в официальном порядке не позднее, чем в 0800. Капитан Зюзькин отзывает гречку и майонез.
17.14 Капитан Зюзькин убыл для оформления отхода в портнадзоре.
17.15 Комиссия в составе боцмана Юрика, второго механика Дяди Федора и старшего помощника Сереги начала самодосмотр судна для выявления посторонних лиц и предметов, запрещенных к вывозу. Обнаружены трое лиц женского пола и пять лиц мужского пола, три ящика водки и ящик черной икры в каюте N 13.*Запись ошибочна. Одно из лиц мужского пола является фрахтователем судна Б. Альбертовичем. Икра и водка входят в судовые запасы для питания армянского населения на переходе Одесса-Пирей.
17.30 Комиссия закончила работу. Посторонних лиц, и предметов, запрещенных к вывозу не обнаружено.
Вернулся Зюзькин. Учись, Серега, пока батька жив, говорит.
Рассказывает.
Мол, капитан порта даже обрадовался, когда Зюзькина увидел. Чего не заходишь, капитан, спрашивает. Что, устранил уже всё? Молодец! За четыре дня всего-то справился. Тут ваш "Днепровец четвертый", мол, две недели на внешнем рейде из-за ерунды какой-то проторчал.
И Регистру уже успел предъявиться? Отход уже оформляешь? Ну, совсем молодец, не чета бюрократам вашим ГУРФовским. Две недели всё доказать нам пытались, что судно укомплектовано пиротехникой согласно норм вашего регистра карманного. Да купили б на Привозе уже эти три ракеты несчастных, простой судна — куда дороже обходится.
А ты, капитан, молодец. Сразу видно — кооперативный моряк. Быстро отстрелялся. Да не спеши, теперь уж чего. Утром уже отойдешь. В пятницу, вон, даже по приметам в море нехорошо выходить.
А Зюзькин-то прикинул уже, что Регистра ему опасаться вроде как и нечего, раньше двенадцати часов понедельника официальный порядок его никак не сработает, но в субботу снова Герцен на вахте, как бы еще чего не накопал экстрасенс пришельческий. И отвечает капитану порта. Спасибо, мол, я не суеверен. Тот рассмеялся и дал портнадзору добро.
— Ну что ты, Серега, как Станиславский? Заладил: не верю, не верю. Вахту у трапа пойди проверь. Сейчас таможня прибудет.
Торчу я с этих пророков. Иной такого накаркает, что ему же самому лучше сразу в петлю залезть, если хоть десятая часть из предсказанного сбудется. А он, бедолага, еще и расстроен бывает, если греки не сожгут родную Трою точно в предсказанный им день.
Вот и старпом повеселел даже, когда увидел, кто в этот раз старшим смены таможенников приехал. Напевать даже стал. Свою любимую. "Нет, мой милый, никуда я не уеду… "
Имел он счастие познакомиться с мадам Тамарой задолго до дня сурка.
— Я тогда еще третьим помощником был на пассажире. Шли на Дунай, границу в Одессе закрывали. Однокашник ко мне в гости зашел, посидели… Короче, не успел судовую кассу в трансфлот сдать, а таможня уже на борту. Сейчас-сейчас, быстрее лани лечу сдавать — обещаю. А она мне говорит, да зачем, мол. Ты сейф просто опечатай и сумму задекларируй. Я и не знал, что так можно. В общем, как только я ее же совету последовал, так и был пойман с поличным на месте преступления. Сама же и поймала контрабандиста. А я еще как раз зарплату не выдавал народу, сумма на кассе изрядная была. Такие дела.
— Так что, мой милый, никуда мы не уедем.
Аж расцвёл человек. Никакой «меланхолии и гиппохондрии». А мы со Спортсменом переглянулись:
— Да нет, — сразу понял Юрец, — там в шкиперской столько добра сверху навалено, никакая Тамара за день не перекидает. Но заволновался, смотрю, боцманюра. Раскраснелся. Ещё немного, и сам эту мадам Склодовскую-Кюри с рентгенами во взгляде в шкиперскую повел бы. Она ни здрасте, ни пожалуйста, только на борт ступила, сразу: "Куда?" — спрашивает. В смысле, как в каюткомпанию для начала попасть. А боцманюра понял так, что сразу — на место преступления. Хорошо, старший из армян со своим американским президентом перехватил ее у дверей. Смерила мадам его взглядом, как кролика — от ушей до хвоста:
— Доллары в декларацию занесены? — спрашивает.
Да, старпом мог быть удовлетворен. Первое апреля продолжалось по полной программе.
Собственно, то что уже никто никуда не едет, стало ясно минуте на двадцатой работы комиссии. Армяне, подвергнутые досмотру с пристрастием, позиция за позицией теряли вкус к путешествию по историческим местам Греции. Разве сунешься в Акрополь, не имея за душой ни одной электродрели? Или в храм Посейдона на мысе Сунион без сотни махровых полотенец? На Агоре засмеют. Когда же мадам инспектор проявила себя еще и как ценитель живописи, ни о каком шоп-туре в Грецию уже и речи не было. Видимо это паломничество к горе Олимп было задумано с тайной целью посрамить обитель языческих богов видом библейско-армянской святыни.
Но мадам Верещагина не собиралась останавливаться на достигнутом. Напрасно армянские женщины обзывали её нехорошими словами, когда она перешла к нательному досмотру мужей. Ни грамма секса в раздевании до трусов не было. Просто за державу Тамаре было обидно. В особенности за братскую Армению.
Наша со Спортсменом каюта также подверглась особенно тщательному досмотру сразу двумя Тамариными подчиненными.
— Ну чего там? Не замаялась еще? — время от времени спрашивал один из них.
— Иду на разведку. Заодно и колбаски еще подрежу, — отвечал Спортсмен и исчезал за дверью. Он очень грамотно пользовался запретом на передвижение Светок по судну.
— Не, еще бодро роет. В унитазе рукой шарит. По локоть, — докладывал Спортсмен, вернувшись с разведки.
— Еще боржомчику?
Досталось от Тамары и Бизнесмену Альбертовичу, у которого в Одессе было схвачено все. Никакие уверения в том, что икра будет скормлена армянам, а водка выпита лично им еще до подхода к внешнему рейду Пирея, не произвели впечатления на эту рентгеноокую леди. Только технические причины помешали ей пустить конфискованные деликатесы через буфет морвокзала в тот же день.
— Ничего, пацаны, — утешали нас таможенные постояльцы.
— До конца смены всего двадцать минут осталось. Не успеет она вас закончить. А со сменщиками уж как-нибудь договаривайтесь.
А Тамара, чувствуя цейтнот, неистовствовала, подгоняя не успевших спрятаться в нашей каюте подчиненных:
— Ищите, я чувствую, еще что-то есть!
И стоило ей так нервничать? Спросила бы у нас со Спортсменом, мы бы ей честно признались, что кроме нашей водки и пятисот тонн стального уголка с липовыми документами на Бейрут, ни грамма контрабанды на судне уже не осталось.
Конечно, Зюзькин, задним числом может бахвалиться своей славой первопроходимца таможен, бить себя в капитанский жетон, объяснять, что это обычный таможенный прием: злой таможенник все находит, добрый все возвращает и принимает благодарности, которыми позже поделится со злым; и что Зюзькин сразу все понял, обо всем договорился, и Бизнесмен Альбертович зря подкупал того рядового пограничника, которому доверили охранять гору экспрориированного добра на причале. Пусть они хоть передерутся за сомнительные лавры лучшего контрабандиста недели. Мы то с Юриком знаем, что и по сей день стояли бы у морвокзала, если бы в наши светлые головы не пришла одна спасительная идея.
Когда мы в очередной раз прослушали старпомову сагу о кедах и вычеркнули еще восемь долларов чистой прибыли из бюджета нашего с ним предприятия, мы поняли, что наш трест близок к банкротству, и вылетит в трубу, если мы не уйдем на Пирей сегодня же, сейчас же. И тут мы с Юрцом опять переглянулись. Вернее, он перехватил мой задумчивый взгляд, брошенный на его кроссовки "Адидас", и неспокойно заерзал, сразу уловив суть моего предложения.
— Нет, — сразу же стал отпираться Юрец.
— Они дороги мне, как память о сборной Союза. Давай лучше твою "Пуму".
— Юрец, ты что, мало слушал? Обувь должна быть ношеной. А я ее и одевал-то всего раз. И то, можно сказать, не носил, а мерял.
— А вдруг не подействует? — все еще сопротивлялся Юрец.
— Тогда, так уж и быть, отдаю тебе свои тапки. Нулевая "Пума", Спортсмен.
На том и порешили.
Когда на подходе к Босфору, старпом все еще продолжал не верить, и разволновался до того, что потерял дар английской речи, Зюзькин, чтобы привести его в чувство, стал всячески издеваться над всяческими суевериями. Сам Зюзькин не обладал англоговорением никогда, и в приметы тоже старался не верить.
Мы со Спортсменом переглянулись, и не стали ни переубеждать его по поводу проверенных примет, ни поправлять, когда он по ошибке отрекомендовал нас лоцманской станции дирижаблем.
Т/Х ПЕРСЕЙ 1992
ЗАЙЦЫ ГОРОДА ЯЛТА
Весь тот год прошёл под знаком шоколада. Порой казалось, шоколадными перевозками занято все, что способно держаться на плаву в Черном море, включая тазы и надувные матрасы.
Шоколад из Стамбула возили:
известная благодаря Розенбауму «Эстония» (порт приписки — Санкт-Петербург) и неизвестный благодаря Юлию Киму номерной МРС, приписанный почему-то к порту Корсаков, Сахалин;
измаильский живописец "Айвазовский" и одесский поэт "Тарас Шевченко";
неприспособленный для грузовых перевозок скоростной катамаран "Голубая стрела", на котором пассажиры спали в проходах между креслами в обнимку с паками "Хилала", и абсолютно неприспособленный к пассажирским перевозкам морской буксир "Антей", сжигающий в своей мощной машине тонну топлива на каждую перевезенную шоколадную торговку (Это еще что, на водолазном судне "Эпрон" пассажиры вообще спали в барокамерах. Вместо декомпрессии).
Рыбачки, порвавшие свои тралы;
морские трамвайчики, сошедшие со своих морских рельсов;
буровые суда, вместо нефти изыскивающие "Персек" и "Яйлу";
рыбинспекция, вместо браконьеров гоняющаяся за шоколадными фрахтами;
даже яхты: шхуны, иолы, шлюпы и тендера, — вместо гонок на Кубок Черного моря гонялись на Шоколадную ленту.
Если все еще никак не поделенный Черноморский флот не принимал в этом активного участия, то лишь потому, что был занят перевозкой мандарин из Грузии. Шоколад — что? Очередной бум. А цитрусы — вечная тема.
Какао-бобы в Европе не растут.
Но, черт возьми, растут ли они в Малой Азии?
— Так, дорогой. Упаковал вещички? Зайди ко мне в каюту, — сказал мне капитан Дормидонтов напоследок.
Вот этого я не люблю. Списал с судна — и списал. Нечего нравоучениями моряка добивать.
Вчера моряк продинамил выгрузку шоколада и был оштрафован на 15 долларов. Грибы на Ай-Петри собирал. Очень даже хорошо грибочки пошли. Не шоколадом единым… К грибочкам на ужине все приложились, а штраф так и не сняли. Вот это в обиду было.
А сегодня-то… Видишь, даже не возмущается моряк? Какой же капитан потерпит, чтобы простые моряки при всем честном экипаже посылали его, капитана божьей милостью, по строго определенному курсу? При этом, даже не имея на то судоводительского образования. Лоцманом указанного мной прохода я действительно не был.
Дормидонтыч был строг. Но он же был справедлив. И демократ, к тому же. На выгрузку шоколада в Ялте выходил наравне со всеми. Лучше б он капитанским иммунитетом своим пользовался. Тогда б не заехал мне в ухо паком "Команчей", и не выслушивал бы нелицеприятной критики в свой адрес на суровом языке палубной команды, а я не паковал бы вещички перед дальней дорожкой. "Кассиопея" наша к херсонскому порту была приписана. В Ялте — так, на линии на Синоп третий месяц бегали.
Дормидонтыч сидел за столом в каюте при всем параде: при погонах, при капитанском жетоне. Был бы ему по званию кортик положен, и его нацепил бы.
Вырядился, как на швартовку. Любил он это дело: барышень на ялтинской набережной блеском эполет с капитанского мостика слепить. Но тут было совсем другое: Дормидонтыч был при исполнении: из линемета не прошибешь, на кривой козе не объедешь.
— Садись, дорогой, — вежливо указал мне на стул Дормидонтыч и потянулся к сейфу. Подумав, он достал из сейфа мои документы и извлек начатую бутылку коньяка, две рюмки и шоколадку.
— Ты сам-то хоть понимаешь…
Понимал ли я? Что за вопрос?
Поваренок Витька заглянул за ключами от шоколадного трюма совершенно "случайно". Не иначе как потаенное слово за меня замолвить явился. Дормидонтыч питал слабость к его рыбным котлетам еще с Нигерии. Они там вместе на сейнере каком-то от малярии доходили и рыбу ловить пытались. Так что пару-тройку потаенных слов Витька для Дормидонтыча всегда в запасе держал, это уж точно.
— Дормидонтыч, так может грибочков? Просолились уже, — с неожиданного курсового угла зашел Витька.
Витьку уже мутило от одного вида шоколада. Впрочем, как и Дормидонтыча. Кроме того, Витька знал еще с Африки, что Дормидонтыч в мундире и Дормидонтыч без галстука — абсолютно разные люди. Договариваться нужно с тем, что без френча. Лучше всего — когда в одном исподнем ныряет в очередь с боцманом, намотанный на винт швартов кухонным ножом пилит.
Дормидонтыч с сомнением посмотрел на остатки коньяка в бутылке и достал третью рюмку. Но китель пока не снял.
— Понял, — тут же отреагировал на сомнения капитана Витька.
— Вже побиг.
"Бигты" недалеко было. Ялта. В трех метрах от трапа уже наливали и кормили сосисками.
Дормидонтыч с облегчением засунул шоколадку назад в сейф.
Грибочки действительно уже просолились. Растроганный их соленостью шоколадофоб Дормидонтыч после первого же груздя ослабил узел своего галстука.
После второго масленка он расстегнул пуговицы своего кителя, а я клятвенно пообещал никогда не посылать его непромерянными лично фарватерами. Особенно — в присутствии посторонних.
— Ты что, не видел, что ко мне женщина пришла? Какое у нее представление о пароходе сложиться может? Бросайте свои замашки рыбацкие, хлопцы. На пассажире работаем.
Вряд ли наши с Витькой рыбацкие замашки могли покоробить слух нежных дам, волокущих на русский базар в Синопе по три баула с утюгами в каждой руке за ходку. Но не в том я был положении, чтобы спорить с Дормидонтычем. Хочет бороться за чистоту русской речи, пусть борется.
После третьего подосиновика Дормидонтыч снял мундир и повесил весь свой официоз на плечики в рундуке. Об инциденте на палубе никто не помнил. Дормидонтыч уже препарировал под капитанским биноклем рыбаков, как класс земноводных. С целью воспитания из нас с Витькой бравых моряков пассажирского флота, так сказать.
— Я вот двадцать лет рыбу ловил. И с эстонцами на Балтике, и в Индийском океане с керчанами, а только с Витькиными земляками понял, какой суеверный народ рыбачки. Ну, бутылку водки в первом трале протащить — это и у нас водилось, но чтоб…
— Дормидонтыч, да зачем Вы? — заерзал Витька.
— Вот — видишь? Александрович (покойный, — добавил Витька) чуть меня не зашиб, когда я за "Динамо" поболеть по телевизору хотел.
— Дормидонтыч, да не надо об этом, — уже не на шутку растревожился повар.
— Вот поработай с такими. Только я в сердцах Зайца (ну фамилия у футболиста такая!) мазилой обозвал, эта геническая публика чуть за борт меня не выбросила. А что мне, Длинноухим его обзывать было?
— Ну вот, так я и знал! Теперь жди беды какой-то!
Витька в сердцах бросил вилку и хлопнул дверью. Весь воспитательный момент по обезрыбачиванию палубной команды готов был пойти насмарку.
— Не пора ль тебе на вахту? — строго спросил у меня Дормидонтович.
— Пора, — согласился я, хотя до вахты моей было еще три часа. Потому что лично для меня вопрос этот означал амнистию.
— Буфетчица новая должна прийти. Сразу же — ко мне в каюту, — предупредил напоследок Дормидонтыч, рассекречивая инкогнито незнакомки, чей тонкий слух он решил беречь вплоть до списания моряков с судна.
Эх, Ялта!
Ошвартоваться бы навсегда (с отдачей якоря) кормой к твоей набережной.
К пальмам, фотографам с мартышками и питонами, к визгу баб на каруселях, кабацким песням и запахам.
К холодному пиву и шашлыкам твоих кафешантанов. К твоим канатным дорогам, матрешечникам, художникам-передвижникам, букинистам, и полуночному саксофонисту, заклинающему свой раскрытый футляр, как факир корзину со змеями.
К твоим отражающимся в воде фонарям, картавому шелесту волн о гальку, прогуливающимся парочкам и шумным хохочущим компаниям, палящим в звезды пробками от шампанского.
И чтобы по пятницам и субботам от судовой сети запитывали свои электрогитары бродячие евангелисты. Пусть спорить о библейских сюжетах с ними бесполезно, но блюз есть блюз, даже если тебя пытаются уверить, что поют псалм. И так по кайфу сидеть в шезлонге у трапа, погружаясь в ночную прохладу и насыщенный звук бас-гитары, попивать массандровский портвейн, и поражаться глазам молоденьких девочек на подпевках. Пусть их местный гуру — еще тот прохиндей, но может эти излучающие восторг глаза и в самом деле искупят его прохиндейство на обещанном страшном суде?
Что-то в этом есть, если даже такой просмоленный Фома неверующий, как Дядя Федя, стал на выгрузках шоколада напевать: "Скоро, очень скоро ты увидишь Господа…"
Впрочем, была среда. До конца света оставались еще какие-то считанные дни. И до нуля часов, до конца моей вахты, оставалось еще часа два.
Витька еще раз сгонял к киоску. Не за сосисками, конечно. Чем-то чрезвычайно озабоченный механик Дядя Федор целеустремленно сошел с борта в направлении на братский пароход "Андромеда", только что ошвартовавшийся к набережной. И дважды справлялся о буфетчице раздобревший Дормидонтыч.
В двадцать два ноль-ноль капитан покинул борт судна. На нем были ковбойские сапоги, джинсы и джинсовая куртка со звездой шерифа на нагрудном кармане. Проснувшийся в Дормидонтыче шериф, видимо, направлялся патрулировать салуны и казино сити оф Ялта.
С долгожданной буфетчицей он разминулся буквально на пять минут. То-ли капитанский "Ориент" не был сверен с ее часиками в виде сердечка, то ли коварные зайцы, об опасности которых тщетно предупреждал его суеверный Витька, уже начали свое вредительство.
Второй механик Дядя Федор действительно был в трансе. Старый контрабандист, он так надежно упрятал от таможенного досмотра излишек своих долларов, что уже третий день по окончанию этого самого досмотра не мог их найти сам.
Стресс такой силы Дядя Федор умел лечить только одним средством, и днем и ночью курсируя между ближайшей "реанимацией" и "Кассиопеей". В бадеге его посещала очередная свежая мысль о возможном местонахождении денег, он с субсветовой скоростью мчался в наше растаможенное созвездие, чтобы тут же проверить догадку, и снова, расстроенный донельзя, ложился в дрейф в межпланетном пространстве.
Всех кассиопейцев он уже успел классифицировать ворюгами, шакалами, ишаками и прочими обитателями полупустынь и саванн, и выразил сожаление, что попал на "Кассиопею", а не на "Андромеду". Звал же его тамошний капитан, звал.
К нему-то и направился поплакаться, стоило "Андромеде" подать швартовы и трап на ялтинскую набережную. Но в каюте андромедического капитана его ждал новый удар.
Мало неприятностей с долларами, мало того, что жена на этот приход в Ялту отказалась переть из Херсона очередную партию металлических кошелок, ссылаясь на не тот возраст, не то здоровье и не те нервы, так еще и это!
— Нет, старик. Лучшие жены — узбечки. Нагрузится баулами и прет, как ломовая лошадь. И — никаких нервов! — начал было он жаловаться капитану "Андромеды", но тут до него дошел смысл спора между старшим и электромеханиками братского судна, протекавшего параллельно с его жалобами.
Дед и Кулон спорили о том, брать ли на выручку от шоколада жигули девятой модели, или отдать предпочтение какой-либо иномарке.
Два предыдущих месяца Дядя Федор был занят в основном войной с Дормидонтычем, накладывающим ограничения на коммерческий размах второго механика. В целях несоздания напряженности с ялтинской таможней, Дормидонтыч запрещал экипажу возить более пятисот паков шоколада за один рейс.
Мысль о том, что, вовремя не эмигрировав на "Андромеду", он прогадал куда больше, чем казалось ему самому еще этим утром, окончательно выбила Дядю Федора из колеи. Со скоростью летающего блюдца он покинул дружественное созведие, и направился к трапу нашей "Кассиопеи". Капитана Дормидонтова он настиг как раз в момент схождения из лунного модуля на поверхность Ялты.
Остается только поразиться хладнокровию астронавта Дормидонтыча. Он спокойно отодвинул со своего пути зеленого гуманоида, пытающегося выйти с ним на контакт в самых нелестных для него выражениях, и пошатываясь от избыточного тяготения Ялты, продолжил маршрут.
— ………!..........! — орал ему вслед гуманоид Федор.
— Люди уже машины покупают, а с тобой никак вторую тысячу не добьешь!
Спровоцировавшие этот контакт андромедики втихаря следили за развитием событий с палубы своего лайнера. При последних словах Дяди Федора у старшего механика отвисла челюсть, а электромеханик просто едва не вывалился за борт. О сумме, названной гуманоидом, никто из них не смел и мечтать.
Но тем явственнее проступил весь ужас положения нашего второго механика. Единственным выходом для него было напиться до того же состояния, в котором он прятал от таможни своих неполных две тысячи долларов. Но при стрессах со столькими нулями алкоголь Дядю Федора уже не брал. Это был замкнутый круг.
Дядя Федор был последовательным борцом за свободу контрабанды. В отличие от многих переметнувшихся, борьбу эту он начал еще во времена, когда лишний десяток привезенных из рейса люрексовых косынок тянул на статью, а за вовремя не споротый с портков флаг вероятного противника можно было лишиться визы.
Дядя Федор работал в Новороссийском пароходстве, любил заходы в Амстердам, всеми неправдами старался списаться с судна, идущего на Кубу, а за ремонт в Сингапуре готов был платить кадровичке любой бонус.
Неприятности начались еще на побывке в Херсоне. Дядя Федор потерял свой серпастый-молоткастый паспорт моряка. Отпуск кончился, кадры уже направляли его на судно.
Утеря паспорта в Новороссийске была бы не столь трагична: Дядя Федор знал, по какой улице нужно пройтись из конца в конец буквально дважды, чтобы к тебе подошли и вежливо поинтересовались, не терял ли ты случайно чего-либо. Ударяли по рукам обычно при десяти чеках ВТБ в качестве контрибуции нашедшему документ. Но человек, возможно нашедший утерянное удостоверение личности, наверняка ходил по улице Суворовской. А она, к сожалению, осталась в Херсоне, не последовав за Дядей Федором к Малоземелью.
Кадры нажимали, уже пора было или ехать на судно, или признаться в том, что враги слямзили знамя его части, и Дядя Федор как заграничный моряк, должен быть расформирован и, вместо дисбата, списан на каторжные галеры. То-бишь в каботаж. Пожизненно.
Для человека, целью своей жизни поставившего снабжение Родины люрексовыми косынками, коврами и париками, для человека, безвозмездно помогавшего трусоватым товарищам сбывать колониальные товары на толчке (с риском для визы!), такой противолодочный зигзаг судьбы означал крах.
Но никакое чудо уже не могло поправить случившегося, Дядя Федор собрался с духом и уже, как перед дантистом, открыл было рот перед строгим начальником кадров…
— Бакланов, Вас вызывают на Ленина, 8 — опередил его кадровик на долю секунды. И строго посмотрел поверх очков.
Это могло значить только самое худшее. Особой скромного контрабандиста заинтересовалась могущественная организация, даже название которой не принято было произносить всуе. Впрочем, каждый советский человек как правило знал адрес ближайшего к нему филиала и пользовался им в разговорной речи. Этим исключались ошибки, могущие возникнуть от частой смены трехбуквенных позывных организации, а также снимались сомнения в правильности адресования корреспонденции граждан.
И где ж это он "засыпался"? Опять комиссионку проверяли? Тогда это последних десять париков всего. А если?..
Терзаемый сомнениями, Дядя Федор даже забыл о потере своего пропуска в затоваренную мохером и коврами Забугряндию. Тут уже не каботажом, а лесоповалом пахло. Тут и Фурманов закурил бы.
В указанном повесткой кабинете его встретил вовсе не человек в плаще болонья, берете, черных очках и накладных усах, а розовощекий толстячок с залысинами в засаленном пиджачишке и нечищенных ботинках. "Маскируется под инженера,"- смекнул Дядя Федор.
Замаскировавшийся суперагент тем не менее представился майором.
— Успенский? Федор Эдуардович? — радостно переспросил бодрячок.
— Вы паспорт моряка случайно не теряли?
Да, такой вот получился стол находок. Просто тебе бюро добрых услуг. Впрочем, отделаться десятью бонами контрибуции представлялось маловероятным.
Находчивый майор возжелал куда большего: душу за паспорт! Честную незапятнанную душу контрабандиста за краснокожую паспортину с записями об особых приметах и цвете глаз.
Может кто б и сомневался, а Дядя Федор согласился на все условия мефистофеля в погонах сразу же. Плювал он на доктора Фауста с его вечным вопросом: "Быть, или не быть". Докторишка всю жизнь гонялся за одним-единственным мгновением, а у Штирлица только про запас было целых семнадцать.
Вербовка завершилась в ресторане, куда новоиспеченный агент поневоле повел расторопного вербовщика из чувства глубокой благодарности. Воспользовавшись тем, что майор видимо забыл опорожнить в свой бокал ампулу с противоядием к "Столичной", Дядя Федор стал выпытывать у контрразведчика подробности перестрелок со шпионами, инструкции по пользованию портативными фотоаппаратами вмонтированными в пуговицу брюк, и прочие тонкости конспиративной работы.
Оказалось, все гораздо проще. Самым страшным шпионом (майор воспользовался неизвестным словом "диссидент") которого майор брал лично (с шестью подчиненными на подхвате), был один чокнутый ветеран, угрожавший самосожжением, если его опять забудут при распределении квартир в горисполкоме. А чтобы узнать, что творилось в рейсе на таком-то пароходе, достаточно день посидеть в рюмочной напротив кадров пароходства. Без всяких вмонтированных в рюмки подслушивающих устройств. Чем майор, видимо, и занимался с превеликим удовольствием. Ведь его организацию интересовало абсолютно все: от того, спал ли капитан с буфетчицей, до фактов незаконного использования на приобретение каждому члену экипажа по отрезу кримплена культфондовых денег, предназначенных исключительно для экскурсии в развалины местной достопримечательности порта захода. Была упомянута и контрабанда наркотиков, оружия и подрывной и порнографической литературы. Как честный мохеровый контрабандист, Дядя Федор возмутился до глубины души. И поклялся сразу же докладывать о попытках провезти героин, автоматы узи, Плэйбой и Солженицына через таможенные кордоны Родины. Главное, о мохере и коврах не было сказано ни слова.
Под конец лейтенант разошелся до того, что обещал посадить Дядю Федора на любой пароход по его выбору.
— Ну, старик, это ты загнул! — не поверил Дядя Федор.
— Любой, даже самый блатной! — не сдавался лейтенант.
Дядя Федор почесал нарождающуюся лысину и, решив продаваться, так не задаром, назвал пароход, устроиться на который моряку без метрового ворса на ладонях было немыслимо.
— Я вас, волосатиков, выведу на чистую воду! — злорадно предвкушал он, не веря однако, что слова лейтенанта не пустая похвальба.
— Плэйбои они возить вздумали!
Каково же было его удивление, когда на следующий день в кадрах переиграли с его отправкой на танкер, шедший к черту на кулички бункеровать рыболовную флотилию посреди Атлантики, и действительно направили на пароход, не вылезавший из рейсов на Нью-Орлеан.
— Неужели сработало? — думал Дядя Федор.
— Да майор и протрезветь еще после вчерашней вербовки не успел, а уже сработало!
Подозревать кое-что он начал еще на рейдовом катере, везущем сменный экипаж на борт вожделенного блатовоза.
Когда он увидел у парадного трапа гору чемоданов и шеренгу колумбов, в который раз открывших Америку по блату, подозрения его усилились. Что ж они все меняются, шакалы?
Когда окончательно стало ясно, что и в этом рейсе ему остается претендовать в лучшем случае на лавры Барколоме Диаса, не доплывшего, как известно, даже до Индии, сбежать с судна можно было уже только вплавь: задула проклятая новороссийская бора, и сообщение с берегом было прервано.
Да, блатной пароход шел в Мапуту, где кроме кокосов и масок и ченчинуть-то было нечего. Удружил майор, удружил!
Дядя Федор настолько обозлился на себя за дешевизну проданной души, что, решив отыграться в Суэцком канале, так увлекся продажей баббита и бронзы, что утратил бдительность, и был пойман на месте преступления лично помполитом.
Засыпаться на каких-то китайских фонариках, зажигалках и авторучках с обнажающимися по мере расходования чернил гейшами! С них и навару-то никакого никогда не было!
По возвращению в Новороссийск таможня досматривала пароход с пристрастием.
Было найдено огромное количество бесхозной контрабанды, в том числе даже подрывной литературы (Да нет, не Солженицын. Если, конечно, он для Плэйбоя никогда не позировал). И хотя было ясно, как божий день, что порнография у и так голых африканцев не в ходу, и ни одной, даже подпольной, швейной фабрики, шьющей штаны системы "Монтана", в окрестностях Мапуту не зарегистрировано, повесить все решили на засыпавшегося на фонариках Дядю Федора.
Напрасно он пытался доказать, что для закупки такого количества идеологически чуждых штанов, ему пришлось бы продать ченчевщикам в Суэце как минимум семь с половиной тонн баббита. Пароходская машина репрессий была нереверсивной, без заднего хода.
Когда следователь предложил оставить автограф на подписке о невыезде, Дядя Федор запаниковал всерьез. Дело шло к образцово-показательному суду. Подрастающему поколению контрабандистов в пример.
Майор-контрразведчик, на заступничество которого наивно еще надеялся Дядя Федор, как в воду канул, и не выходил на связь ни по одному из доступных агенту Федору каналов.
И все ж Дядя Федор остался ему благодарен. Не случись той "вербовки", он, как любой воспитанный на "Следствие ведут знатоки" комсомолец, тупо дожидался бы, пока следователь Знаменский, подключив майора Томина и эксперта Кибрит, настряпают достаточно протоколов, чтобы упрятать контрабандиста Федю в Сибирь на возможно более длительный срок. А так…
Дядя Федор просто собрал чемодан и, ни чуть не опасаясь того, что будут перекрыты все аэро-, авто-, железнодорожные и морские вокзалы города Новороссийск, улетел в Магадан добровольно. Совсем как в популярной тогда песне: просто так, не по этапу.
Шаровики! Халявщики! Привыкли, чтобы кролики им сами в пасть скакали! Выкусите!
По месту жительства, в Херсоне, им поинтересовались только однажды. И то, не органы, а кадры. Не знали, куда засунуть его трудовую книжку. Дядя Федор им конечно подсказал бы, но узнал об этом только через год, когда вернулся домой с сайровой путины с чемоданом хрустящих дензнаков, которые, как известно, рыбой не пахнут.
О мечте своей авантюрной юности (наводнять барахолки Родины дефицитным зарубежным товаром) он не вспоминал до самого развала Союза, когда первый президент Херсонщины стал бить в литавры, призывая рассеянных по пространствам единой и неделимой Сибири земляков к возвращению и труду на благо молодой херсонской государственности.
Поверил ему Дядя Федор. Вернулся. А теперь вот и трудился во благо, утоляя веками копившийся шоколадный голод нации.
Только вот Дормидонтыч ему в этом сильно препятствовал. Что такое пятьсот паков для нации? Тьфу и растереть! Как слону — груша.
Даже коллега Дормидонтыча, тоже капитан (из уголовного розыска), подключившийся к делу на завершающем этапе, не смог установить, в каком именно притоне сити оф Ялта шериф Дормидонтов арестовал этих изрядно потрепанных представительниц древнейшей профессии. Впрочем, обе жрицы скорее всего сдались носителю шерифской звезды добровольно, поскольку прибыли на пароход без наручников.
И сразу же были препроваждены давать показания в участок шерифа Дормидонтова, вопреки всем вестернам не разделенный пополам стальной клеткой. В качестве понятого Дормидонтыч пригласил представителя поварской общественности Витьку.
До сих пор не ясно, собирался ли капитан Дормидонтов применить к более молодой леди недозволенные методы допроса, потому что вторая задержанная вскоре была отконвоирована Витькой в каюту Дяди Федора.
Витька считал, что вряд ли. Потому что уже на момент его ухода, Дормидонтыч заметно перебрал неразбавленного содовой виски, и даже раздавил собственные очки путем посадки на них второй задержанной, весьма солидной дамы с профилем Роксаны Бабаян и габаритами Нонны Мордюковой.
Почему Витькой была выбрана именно каюта все еще дрейфующего в районе круглосуточной бадеги Дяди Федора, а не одна из пустующих пассажирских кают, догадаться нетрудно. Оба "созвездия" в свое время были госпитальными судами. При переоборудовании же в пассажиров, второго механика поселили в бывшем изоляторе, с отдельной душевой и гальюном. Подобной роскоши на "Кассиопее" был лишен даже капитан, каюта которого выходила прямо на одноименный мостик.
Недостатком каюты второго механика следовало считать то, что единственный ход в нее вел через вышеупомянутый санузел, где общавшиеся с изолированным бациллоносителем медики должны были проходить санобработку, прежде чем выйти в люди. Но жизнь и ялтинская таможня вскоре показали, что этот недостаток был и главным достоинством каюты. При первом досмотре молоденький таможенник Андрюша, укачивающийся уже на причале, открыл дверь санузла:
— А здесь у вас что? Душевая? — и поспешил дальше, так и не посетив трепетно ожидающего встречи с давно забытыми таможенными каверзами отставного контрабандиста.
Однажды ознакомившись с устройством судна, таможенники раз за разом добросовестно досматривали душевую, не терзая себя вопросом, куда ведет вторая дверь из санузла. От такого безобразия Дядя Федор просто терял дар речи.
— Понабирали сопляков в таможню! В мое время…
Дядя Федор испытывал разочарование, сравнимое с чувствами гроссмейстера, вынужденного играть белыми против перворазрядника. Хоть бери и две ладьи форы недотепам этим давай! Даже турнирные очки за победу в такой партии не грели душу старого гроссмейстера контрабанды.
Осталось неясным, собирался ли Витька утаить от вернувшихся с берега матросов факт своего общения с Роксаной Мордюковой или просто хотел провести первичную санобработку пациентки, но то, что в нашу с ним двухместку я его ни под каким соусом не пустил бы, Витьке было ясно даже в состоянии легкого опьянения.
Последнее, что я знаю точно, это то, что Дормидонтыч лично проводил до трапа свою гостью и, как истинный джентельмен, собственноручно накинул на открытые плечи озябшей леди свою джинсовую куртку со звездой шерифа на нагрудном кармане.
— Я только позвоню, и сразу же вернусь, — пообещала леди.
Видимо, задержанная отпрашивалась, чтобы связаться со своим адвокатом.
После нуля я сменился и ушел спать. И о дальнейшем ходе событий могу только догадываться, исходя из показаний других свидетелей у трапа, зачастую туманных и противоречивых.
Первым человеком, встретившимся мне на пассажирской палубе, был капитан Дормидонтов собственной персоной. Дормидонтыч снова был облачен в мундир с капитанским жетоном заместо звезды шерифа и официален. В шесть утра это было дурным признаком.
— Так, дорогой. Поднимись ко мне в каюту.
Опять? Переборщил Витька. Похоже, Дормидонтыч напрочь забыл о вчерашней амнистии.
— Садись, дорогой, — все так же вежливо указал мне на стул Дормидонтович. Однако, по сравнению со вчерашним, были и изменения: на диванчике около сейфа всхлипывала в платочек Нонна Бабаян. Эта-то при чем?
— Так, дорогой. На тебя поступило официальное заявление. Ты изнасиловал женщину, — прояснил ситуацию Дормидонтыч.
— Эту? — переспросил я, чтобы не возникло недоразумений. Дормидонтыч кивнул.
— Много я тебе не обещаю, но три года гарантирую, — " утешил" меня капитан.
— Ты что, не знал, что это моя гостья? Как ты посмел?..
Сложность моей ситуации заключалась в том, что только вчера, на этом же месте, я клялся Дормидонтычу не посылать его в присутствии посторонних, тем более — прекрасных дам. Некоторое время я пытался решить для себя вопрос, можно ли отнести сидящую на капитанском диванчике помятую, в потеках туши с ресниц, даму, к разряду прекрасных, но потом решил не рисковать и попытаться подобрать печатные синонимы к тем словам, которые так и рвались на защиту честного вахтенного у трапа.
— Дормидонтыч… э-э… глупости все это, — промямлил я наконец, краснея от стыда за свой стиль. Где ясность мысли, где экспрессия?
К тому же, первичный испуг от гарантированных трех лет уже прошел, и дело представилось мне уже с другой, щекотливой стороны. Я с трудом сглатывал смех.
Дормидонтыч вопросительно взглянул на потерпевшую.
— Не этот, — покачала головой жертва насилия.
— Кто там из механиков на вахте? Дядю Федора ко мне, — приказал мне Дормидонтыч, всем своим тоном показывая решимость довести свое расследование до конца.
Очная ставка с Дядей Федором прошла по тому же сценарию, только срок гарантированно возрос до восьми лет с конфискацией имущества. Чувство юмора все еще не вернулось к Дяде Федору, так как утерянные доллары по-прежнему не были им найдены. Грядущую конфискацию своего имущества он воспринял всерьез.
— Что за чушь? — жаловался он старпому.
— Прихожу в свою каюту — на столе недопитая бутылка водки, на койке — вот такая задница, — Дядя Федор по-рыбацки развел руками для наглядности.
— Но я то на нее внимания не обращаю, мне ж под койку надо заглянуть… А ну подвинься, разлеглась тут, говорю…
Дядя Федор на мгновение умолк, сраженный какой-то мыслью.
" Неужели вспомнил?" — подумал я.
Но нет, мысль была еще более неожиданной:
— А если бы жена приехала? — то-ли у себя, то-ли у старпома спросил Дядя Федор.
Не знаю, сколько гарантированных лет лесоповала было бы обещано капитаном Дормидонтовым на экипаж в целом, если бы на одной из последующих очных ставок им не было сказано:
— Так, дорогой. Времени на чистосердечное признание у тебя осталось… — привычным движением Дормидонтыч поднес к глазам запястье левой руки с купленным еще в Нигерии хронометром "Ориент" (с автоподзаводом), и убедился в его отсутствии. Не автоподзавода, а "Ориента", как такового.
Недобрые сомнения закрались в душу капитана Дормидонтова. Он поспешно встал и открыл рундук. Помеченная звездой шерифа куртка также отсутствовала. Дормидонтыч по-новому взглянул на свою прижатую столом к диванчику гостью.
— Вахтенный! Головой за нее отвечаешь! В гальюн — под конвоем… — скомандовал Дормидонтыч, прежде, чем стремительно покинуть каюту.
— Есть, — ошарашенно согласился очередной подозреваемый, обалдевший от столь быстрой перемены.
— Ты кто?
— Сахарский лесоруб.
— Так в Сахаре же леса нет.
— Теперь нет, — уже рассказывал анекдот в тему кто-то из условно осужденных моряков, когда капитан Дормидонтов выскочил из надстройки и устремился к вахтенному у трапа.
— Все здесь? Ржете, жеребцы? На чьей вахте…
Бог ты мой, ну почему все дурки происходят именно на моей вахте? Но капитан Дормидонтов был справедлив. Услышав мои показания о том, что озябшая гостья была проведена им до трапа лично…
— Через час вернуться обещала? — переспросил Дормидонтыч, и автоматически вскинул к носу левое запястье.
— А ч-черт! — было самым мягким выражением из последовавшей за этим как минимум трехминутной тирады с употреблением не только могучих русских, но и шаблонных английских, вычурных испанских и гулких турецких ругательств.
— Доброе утро, капитан, — раздалось с причала.
Я приходила вчера вечером, но Вас не застала…
Это была она. Та самая прекрасная буфетчица, чей мягкий слух капитан Дормидонтов решил беречь вплоть до списания моряков с судна.
Да ..... ... . ..., - сказала незнакомка, чтобы утешить Дормидонтыча.
Я во Владике, .. .... ...., долго на рыбаках работала, иногда шикотанская красавица какая-нибудь так моряка обчистит… Они ж там, ..... ......, со всего Союза на сайровую путину собирались. ...... .....!
Мы с Витькой переглянулись.
— Наш человек, — сказал Витька.
Дормидонтыч еще некоторое время удерживал в заложницах оставшуюся в его распоряжении гостью, под конвоем из двух матросов водя ее по злачным местам города-сказки.
Убедившись, что ожидаемого результата подобные экскурсы не дают, он подключил к делу знакомого капитана из уголовного розыска, который в течении получаса нашел для друга-Дормидонтыча то, что он искал. Вернее, ту, которую искал. Потому что ни куртки, ни звезды шерифа, ни самозаводящегося "Ориента" при ней уже не обнаружилось. Дама успела обтяпать бартерную сделку с торговцем спиртным еще прошедшей ночью.
— А я вам говорил, не трогайте длинноухих, беда будет, — при случае напомнил Дормидонтычу Витька.
Дормидонтыч только махнул рукой. Кампания по обезрыбачиванию палубной команды была им проиграна бесповоротно, как Крымская война Николаем Первым.
Однако больше всех нас возлюбил новенькую Дядя Федор. Потому что в первый же день работы Люда без всяких предисловий выложила перед ним перетянутый изолентой конверт и сказала:
— Федор Эдуардович, я слышала, Вы что-то ищете. Я приборку в буфете делала. Вот, нашла…
Достаточно было посмотреть в этот момент на нашего второго механика, чтобы понять, что не смотря на то, что Люда отнюдь не узбечка, Дядя Федя не оставит всяким любителям пускать погонами золотых зай… (тьфу-тьфу-тьфу! три раза)…чиков в глаза прекрасных дам практически никаких шансов на Людмилину благосклонность.
Т/Х СУРСК
Июль, 1996.
ХЕРСОН — БАТУМИ,
или
ПОМПОЛИТСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Бывает такое. Обычно у помполитов. Мания преследования наоборот. Сойдёт моряк пройтись посуху вдоль родимого борта, осмотреть извне своим выпуклым морским глазом подтёки ржавчины под шпигатами и заваленный при швартовке фальшборт, выйдет размяться, стряхнуть с себя накопленное статическое электричество, ощутить под ногой не зыбь, но твердь и ненароком заглянуть с причала в иллюминатор буфетчицы Светки, и… — цап моряка за руку.
— Кравченко, вы намеревались сбежать в инпорту!
Это Помпа. Крыша у него от бдительности едет. Где-где, а в этом вот Дубае, Кравченке сбегать никакого резона нет. Потому как у здешних объединённых эмиров — сухой закон.
Бывает такое.
Помполитов вот отменили, а у меня началось. Неужто заразное?
Ходовую вахту стоял я с Мастером. С капитаном, по-вашему. Мастер, иначе — Папа. Но наш на "Папу" возрастом ещё не вышел.
Молодой. Непьющий. Не зануда и не уставник. Успел поработать и в пароходстве, и на рыбачках, и в портофлоте. К нам сбежал с Чукотки. Три года по контракту. Капитаном лоцманского бота, что-ли?
Ранняя седина. Сдержанность. Глаза глубоко упрятаны в морщинах: не чукча, приходилось жмуриться. Пожалуй, из всей галереи капитанов, под которыми я имел честь ходить по восьми морям двух океанов, он один вызывал доверие с первой же встречи, с первого разговора. Было у него такое свойство. Люди верили ему сразу же. Причём все, без исключений. От портнадзирателя до брошенной женщины.
Не Мастер, а рубль за подкладкой за день до получки. Только вот… слишком вежливый.
— Коленька, отдай правый якорь, пожалуйста.
Это он боцману-то. Дракону. "Шкуре", как правильно говорят мурманчане. И сволочи, надо сказать, — тоже порядочной. Право — кулак да рот чёрный. А ему: "Коленька…, пожалуйте." Нельзя так с нашим братом. На втором "пожалуйте" на голову сядет. Нас куда ни целуй — везде задница. А капитану голова дадена для ношения форменного головного убора и ещё кой для чего, но никак не для того, чтобы боцман на ней сидел и сморкался. А Вы мне: "Вежливость… "
Этого в Мастере нашем было, пожалуй, через край. Извиняться начинал за пять шагов до того, как наступит на ногу. Никогда я с таким феноменом среди их судоводительской братии не сталкивался. А перевидал я их… без бития в грудь, действительно насмотрелся. Всё ж — рулевой.
А бегали мы в то лето из Херсона, да на Батуми. "Мы" — это 93-ий. Номерной пароходишко. Не больше таза для бритья. Вместо помазка — швабра за бортом болтается.
Два трюма, кубрик, камбуз, восемь желудков за столом в салоне да сейф в капитанской каюте — всего того парохода.
Машина — изношена. Механики — из запойных. Так что насчёт "бегали" — это я малость загнул. Чапали по семь узлов. Тринадцать километров в час, то-есть. Без тридцати шести метров.
От траверза Сочей — вообще крались на цыпочках. Подгадывали проскочить войну ночью. С погашенными огнями. Портнадзор наставлял проходить Сухуми на значительном удалении от берега. Не менее полуста миль. Но нет-нет, а раз в месяц кто-нибудь из грузинских судов попадал под раздачу. Раздавали, в основном, с вертолётов. Панические слухи о быстроходных катерах, к счастью, оставались всего лишь слухами.
Маяки не горели. Но при желании можно было определяться по вспышкам артобстрела на горизонте. Бои шли под Очамчирой и Гудаутой. Сухуми отстреливался обречённо, как Порт-Артур, но ещё не был сдан. Дело было ещё до русского десанта и конфискации тяжёлых вооружений, которыми только Сухуми и держался.
Встречные пароходы, тоже тёмные, как до изобретения Эдисоном лампочки, шарахались друг от друга, как ночные пешеходы в Одессе времён Мишки (Японца). Капитан Олег не отходил от радара всю ночь. Кофе глушил лошадиными дозами, а выкуренных за ночь сигарет хватило бы на убийство среднего табуна. После дезертирства старпома, вспомнившего о язве и неклеенных обоях на кухне после первого такого рейса, капитан Палыч остался последним судоводителем на судне. Если бы и он вздумал клеить обои на чьей-либо кухне, курс прокладывать пришлось бы повару. К счастью, Олег Палыч как раз ушёл от жены и был абсолютно бездомен.
Батуми открывался поутру этаким амфитеатром зелёных холмов, смахивающих на муравейники. В Херсоне холмы эти первый называл бы горами, но на заднике каким-то исполинским Пиросмани был намалёван Малый Кавказ в шапках снега и облаках. Перед этим "малым" до ранга гор огромные муравьиные кучи не дотягивали.
Софитами полыхали на солнце оцинкованные крыши домов на холмах.
Оркестровой ямой, стиснутой молами и волноломами, лежал между морем и городом порт. И нефтяные танки на Защитном молу представлялись суфлёрскими будками.
Буфет в этом театре работал уже с перебоями. Яйца на базаре продавались уже поштучно. Очередь за хлебом занимать нужно было вчера.
Мы возили в Батум сахар, масло, муку, сыр и вообще — пожрать. И не в порядке гуманитарной помощи. Голод в Грузии почему-то не пугал гуманитариев из Бонна и Вашингтона. Мягкий субтропический климат и отсутствие реальных возможностей превратить дождливо-мандаринную зиму в зиму ядерную, видимо, сбивали заморских благодетелей с пантылыку. Предприимчивые сыны гор выкручивались сами.
Война сулила предприимчивым постоянный аншлаг в театральном буфете и тройную ресторанную наценку. Это, а также гробовые накрутки, вздорожили ставки фрахта настолько, что за ту сумму, которую грузин" чайник" готов был платить наличными прямо на причале, он мог бы в иные годы допереть свою тонну чаю до Юго-Восточной Азии. До Бомбея или даже до Коломбо. Но грузины предпочитали почему-то Геленджик и Керчь с Бердянском.
Само собой, хамсу и шпрот на Чёрном море продолжали ловить только самые отъявленные из рыбаков. Весь "тюлькин флот" был занят перевозками лаврового листа, цитрусовых и кавказских беженцев.
Известно, что обе мировые войны благоприятно сказывались на количестве рыбы в мировом океане. Для восстановления запасов черноморской хамсы воевать нужно не реже, чем раз в три года. Такой уж у неё, хамсы, период воспроизводства.
Капитан Олег водки не пил. Не подшивался и не кодировался. Просто не любил. Предпочитал ликёры и сладкие вина. Обычно в протокольные моменты выручал его старпом. Этот был — наш человек, с похмела способный взять истинный пеленг на ближайший кабак в десяти милях в густом тумане.
Момент наступил, но кухня, на которой старпом клеил свои обои, была удалена от Батуми на пятьсот шестьдесят пять миль. Портнадзиратель же требовал соблюдения протокола, и пить водиночку отказывался. Не хочу, чтобы думали, что второе место по определениям в тумане принадлежало мне, но в тот вечер именно я оказался заместителем старпома по протокольной части.
Портнадзиратель был русским, но по-русски говорил уже с грузинским акцентом. Зато пил по-русски: мрачно, взапой.
Портнадзор сказал:
— Капитан, ты ночью у причала лучше не стой. Уходи на рейд. От греха.
Капитан отвечал:
— Ты извини, что интересуюсь. Ты — женат? И как? Трое? А у меня вот всё из-за бабы кувырком пошло…
Портнадзор говорил:
— Олег Павлович, орудует здесь одна шайка-лейка. С автоматами, в чёрных масках…
Капитан продолжал:
— Ты извини, если нагружаю тебя. Нет? Я ведь на Чукотку всего на год завербовался, по контракту. Жену там же, в порту, тальманшей пристроил. Ну и натальманила она мне. Контейнер коньяка прошляпила, дура. Начальник порта — добрый дядя оказался. Говорит мне, мол, не хочешь, чтобы посадил её, продлевай свой контракт на те же три года. Ну что мне было делать? Не подлец же я…
Портнадзор стращал:
— Палыч, в прошлом месяце новороссийцев, "Камелию", вот у этого самого причала ограбили. Перед этим на нефтяном молу, с батумского же танкера, с "Херсона", среди бела дня тридцать восемь штук зеленью из капитанского сейфа взяли…
Капитан извинялся:
— Ты извини, что из кружек приходится. Сам понимаешь, не на танкере. Вобщем, вкалываю я, как папа Карло, по десятку швартовок за день, в накат, в пургу, второй год без отпуска, вроде на самом деле срок за неё тяну, и узнаю наконец-то. Посёлок не без добрых людей. Оказывается, пока я на своём боте по внешнему рейду рассекаю, эта дура, тоже по графику, сутки через трое, живёт с добрым дядей начальником…
Портнадзор возмущался:
— Олег, ты пойми, эти ж сволочи уже и рыбачков местных грабить не гнушаются. Бичико, с колхозного сейнера капитан, возникнул было: работяг обирать по каким хочешь законам — беспредел. Прострелили парню руку, кость задело. Я — скорую вызывать. А они, падлы, ехать ночью боятся…
Капитан сожалел:
— Ты извини, что водка тёплая. Питание с берега вырубили. Не гонять же движок ради одного холодильника. Что на Чукотке хорошо было — холодильник не нужен. Я когда в отпуск вырвался, первое время от жары доходил просто. Начальник, добрый дядя, отпускать не хотел. Понравилось, наверное. Диплом ему в залог своего возвращения в сейфе оставил. Наверное, до сих пор ждёт, гад. Бумага недавно пришла: с такого-то числа числюсь в прогулах. А я уже год, считай, здесь на Югах работаю. Хорошо, корочку свою трёхсоттонника после училища и штурманского диплома не выкинул (я до армии два года в портофлоте отработал). Так по корочке этой и плаваю. Слава богу, тоннаж позволяет. И паспорт моряка новый мне кореш, Горбатов, всего за неделю сделал. Не дали пропасть, короче. Нет, друзья — это свято. Я ж из дому в чём был ушёл: в джинсиках и в этой вот футболочке. Прошлый год на Болгарию побегали, хоть приоделся слегка. А жена? Назад на Чукотку улетела. Тоже, наверное, понравилось.
И тут портнадзор сказал:
— Ну и плюнь, Олежка. Мало что-ли баб в европейской части осталось? А диплом… Какой у тебя был? Штурмана дальнего плавания? С этим сложнее. В торговом порту могу поспрашивать. А малого могу выписать тебе хоть завтра. А на ночь у причала лучше не оставайся. Хотя, пока я у вас на борту, вряд ли какая-нибудь падла сунется, но всё же…
Последнюю фразу портнадзирателя лично я понял как приказ откупоривать вторую бутылку.
И где в тот вечер была моя помполитская болезнь? Многого попросту не было бы.
Сразу признаюсь: перетрусил я изрядно. При чём — загодя.
Бывает такое. Вроде всё как обычно. Разве что вахту стоишь не свою, а за того боцмана. (Скользкий ушли на берег с высочайшего капитанского позволения и возвратиться к своей вахте покамест не соизволили). Тёмный пароход ошвартован под пустым причалом рыбкомбината. Волна под сваями плещется. Погода — так и шепчет. Тишина такая, что слышен лай собак и автоматные очереди на другом конце города. Всё спокойно.
А тебе неймётся.
Волна какого-то пещерного ужаса вдруг накатит, и барахтаешься в ней, изображая из себя стойкого оловянного солдатика. Хотя ночь, народ дрыхнет и изображать особо не перед кем. Разве что перед Куклой — полуводолазной полудворянской судовой сучкой.
Когда эти четверо появились-таки в конце причала, Кукла залаяла, а я задышал глубже. С облегчением!
И уже не до ужасов. Вертелась только в голове дурацкая фраза из Бабеля. Спокойно, мол, — это налёт. И ещё про то, что если стрелять не в воздух, можно опасть в человека.
К чести грузинских абрагов, даже самый обкуренный из них, спрыгнувший на нашу палубу для пробы, первым, стрелял только в воздух. Уже потом, над ухом того, кого он считал капитаном.
Незадолго до него я пытался будить иначе, но без пистолета у меня это не получилось. В капитанской каюте вместо родного капитана я нащупал тело давешнего портнадзирателя.
Добраться до кубрика и сыграть полундру более заинтересованным лицам уже не выгорело: столкнулся нос к носу с передовым туташхией прямо у капитанской двери.
Врал всё портнадзор: никакие не чёрные маски, — так, шарфиками носы обмотали.
А потом меня смех пробрал. И, главное, честно пытаюсь объяснить местному Бенциону Крику, что тот, кого они собираются бить по голове рукояткой пистолета, вовсе не капитан, и ничем помочь им не может. Ну не знает он, где ключ от сейфа. Не местный он. Вот разбужу механиков, генератор запустим — при свете может и найдём.
К тому же знал я, что деньги наши судовые никакой дурак в сейфе не держит. Поэтому и смеялся, умник.
Досмеялся, смайнали меня в кубрик по трапу. Только дверь за мной лязгнула. И задрайки заклацали. Подпёрли чем-то снаружи.
Хорошо — не у стоматолога. Это там ни выматериться, ни зубы стиснуть. Минуты две я остановиться не мог. А Вы сами посчитайте как нибудь на досуге. Двенадцать балясин (ступенек т. е.) и все — кобчиком.
Из механического угла сразу же на чём свет стоит крыть меня начали. Десять лет, мол, на флоте человек, не вербованный вроде, а по трапу спускаться никак не научится, и общество ото сна пробуждает. Когда узнали что к чему, приумолкли как-то, засопели. И капитан Олег тут же нашёлся. В моей койке спал, оказывается.
— Сколько их? — спрашивает.
— Четверо, — докладываю.
А он ноги с койки свесил и… так и сидел молча аж до тех пор, пока над головой загромыхало, и матрос наш, Кела, заорал:
— Давай наверх все! Пашку заложником увели!
С чего ему в ту ночь в рулевой рубке лечь спать вздумалось, Кела и сам потом объяснить не мог. А выстрелов, говорит, не слышал. Проснулся уже тогда, когда портнадзиратель, галстуком связанный, из капитанской каюты ногами в переборку молотить начал.
Портнадзиратель же первым делом поднял волну, что Пашку забрали. А Пашка этот — это ж я и есть. И такое зло меня взяло: говорил же человек чёрным по белому: "На рейд снимайтесь." Так нет же. Ещё и Скользкого на берег отпустил. Чтоб, значит, уже наверняка чего доброго не снялись? Так что-ли?
Очень я злой на Олега Палыча был. Ещё больше, чем на Скользкого. С Драконом — знакомая песня. Кореша приблатнённые и выпивка дармовая через пять минут после того, как концы на причал поданы. В любом порту. Я на Скользкого всегда злой, а тут ещё как подумаю, что это вместо него кобчиком по трапу…
И перед портнадзирателем стыдно было. Я за него не очень и горло рвал. Не с нашего ж парохода. А он вон как, первым делом обо мне вспомнил. И получил — за того парня. Гостеприимный какой!
Когда налётчики всё же поняли, что ключа им от него не видать, они просто унесли сейф с собой. Тяжело, конечно. Но что поделаешь?
Денег в сейфе не было. Да, но именно в нём были все наши корочки.
И просил же их, не бейте по правой стороне! — смеялся портнадзиратель, пока ему бинтовали голову.
— Вечно мне по правой половине черепка достаётся…
Портнадзиратель был русским. И смеялся по-русски, задним числом.
А мне — хоть сквозь палубу проваливайся. Тоже мне, английский юморист выискался.
А на родного своего капитана был я зол, как Черчиль на коммунистов. Но это ещё не было началом моей помполитской болезни.
Полиция приехала когда рассвело. Тоже по ночам боялась ездить. Осмотрела место происшествия. Но на борт не подымалась. Гильзы и патроны рассыпавшиеся я им на причал выносил. Так что зря Олег Палыч суетился, просил Келу свайкой дырок в переборке наделать. Якобы (неприкрученный) сейф с мясом вырвали.
Хотя нет, спустился один. Эксперт, наверное. Хромированный пистолет за пояс просто, без кобуры, заткнут. Была у них тогда такая мода. Чтоб все видели — облечённый властью человек идёт. Если же с калашниковым — значит не меньше, чем прокурор. Это потом уже они все с радиотелефоном наперевес ходить по городу стали. Спустился один всё-таки, значит, и сразу стал камбуз досматривать.
— Это у вас что? Масло? Заверните.
Составили протокол. Взяли с капитана подписку, что документы он потерял…
— Ты пойми, генацвале. Я твой дело расследовать не могу. Одесский следователь на самолёт лететь должен. Судно твой — территория иностранной страны. Да. Напиши бумага, что документы у тебя на берегу пропал. Ну, в ресторан забыл. Я все силы приложу, чтобы этот подлец найти.
— Подумать только, какой подлец, — вторил полицейскому Папа Гоги — капитан порта, в профиль похожий на вождя ирокезов.
… и больше мы никого из них, кроме Папы Гоги, не видели до самого нашего отхода из Батуми.
Дело было ясное. Отделались. Все живы. Судовые документы и деньги целы. А на дипломы и прочее — протокол есть. Идёшь к капитану Одесского порта и дубликаты выписываешь. Ну, на объявление в газете потратиться прийдётся. Так что ждём Скользкого, запускаемся, и к…
— На рейд, — скомандовал Мастер.
— Ничего, на катере доберётся. На водку деньги есть, и на катер найдёт.
И ко мне:
— Ругаешь меня, наверное? Ну, прости подлеца. Поверил пьянице этому, что пока он "приход оформляет", ни одна собака нас не тронет. Да и Дед тоже: "Топливо кто экономить будет? Лейтенант Шмидт?"
— Очень зашибся? Потерпи, полечим тебя немного, когда на якорь станем. Очень прошу тебя, хоть на руле постой. Кела на палубе сам справится.
Уговаривает он меня, что ли? Или я уже не матрос-рулевой, а девка цельная? И вся злость на него прошла даже. Снялись мы, мили полторы от порта отбежали и железяку, якорёк то-бишь, за борт бухнули.
Мастер с крыла на крыло через рубку бегает, две смычки за борт вытравить командует. И опять со своим "пожалуйте". Уже не злюсь, посмеиваюсь в усы над вежливостью его палубной, а он видимо решил меня совсем огорошить:
— А что, Пашенька, — говорит, — если мы тебя старпомом сделаем?
— Да ты не дрейфь. Не боги горшки обжигают. Я натаскаю. Ничего в судоводительской науке сверхъестественного нет. А корочки — купим. Раз уж всё равно все недипломированными стали.
И дальше продолжает. Мол, парень я неглупый. По-английски, опять же, сносно натаскался на большом флоте… На турции-греции побежим, совсем это не лишним будет. Да и собутыльники и деловые партнёры по всяческой контрабанде меня, небось, в Турции ждут не дождутся.
И кто ему про меня набрехал такого? Главное — всё правда. Даже про контрабас.
Когда подвалил рейдовый катер, и Скользкий начал зудеть, что это его на берегу бросили, я посмотрел на его наглую харю с крыла мостика и про себя подумал:
— Ну подожди малёк, братишка. Покувыркаемся ещё.
И на обеде, когда вся толпа расшумелась, первым сказал: "Стоять. Нас без документов и в Одессе-маме не очень-то ждут. Замахаешься объяснительные сочинять."
Кела, коллега мой, первым меня поддержал. Хотя, казалось бы. Какие у матросов дипломы?
Да, пожалуй, тогда и началась моя болезнь. Но пока ещё не помполитская. Эта дрянь, что из меня полезла, иначе совсем называется.
Вот тут и начались у нас швартовки, перешвартовки, постановки на якорь и снятия с якоря. Регулярные. По нескольку раз на дню. Но механики уже почему-то не бухтели, что это ж им всю ночь "малыша" гонять, а топливо и моторесурс надо экономить (и спать им, маслопупым, хочется), а
Скользкому уже не надо было на берег (ни к корешам, ни к любимым женщинам).
Совсем не зудеть Скользкий не мог:
— Ну что он орёт на меня с мостика? Не держи якорь-цепь. Не обжимай стопора! Я что, держу, или первый год замужем? Да отработай ты назад машиной и две смычки выйдут пулей! Или у нас тут кукольная комедия?
Вежливости палубной у нашего мастера действительно поубавилось, орать стал на Скользкого. Это всегда полезно, но тут уж — зря. На 16 метрах под килём полста метров цепи сами не высыпятся, это вам любой скажет. И швартоваться с бросательным концом на лушпайке нашей — дурной тон. Гоги Ирокезович, или его единственный швартовщик-инвалид конец этот примут? Ох уж эти замашки пароходские!
Да носом ткнись в причал, собственный матрос выскочит, и сам гаши на кнехты понабрасывает. Нечего тут за десять метров целиться, машину стоповать, а потом орать в матюгальник всякое. Не на балкере.
Но бухтеть в тряпочку — это наше право. Бухтишь, но выполняешь, и с советами своими к капитану ж не лезешь. С мостика виднее. Да и на нормального, без всяких "извини-подвинься", судоводителя стал наш Палыч больше похож.
Оно и понятно: мы загораем себе третью неделю, Кукла лягушек в окрестных болотцах гоняет, а Мастер каждый световой день по ОМОНам, афганцам, ворам в законе и прочим властям мотается.
В контрразведке ему гранату подарили, на будущее.
ОМОН был тбилисский, батумские власти его не жаловали.
Воры от дел отошли. Какой закон? Беспредел настал в Батуми.
Собрал нас Мастер, мол так и так, будем документы новые всем покупать. Деньги целы пока. Ну, прийдётся ещё месячишку без зарплаты, народ, перекантоваться. А иначе из Батуми этого нам не уйти.
— Без денег, так без денег, — согласились мы. А что делать?
Я вообще на ПТСе нашем — человек свежий был.
Не команда — а мясное ассорти в тазу для бритья.
Родион (он же — Радик) — этот из техфлота. Мели от Усть-Дунайска до Туапсе он не просто знал, он их создавал. Говорят, именно его шаланда присыпала ту подводную лодку на грунте. При чём тут кефаль? Шаланда — это баржа такая. Песок от землечерпалок в районы свалок грунта отвозит. А Вы что подумали?
Кубанская фракция (боцман, кандей и второй матрос) попала на 93-ий с "Востока". Променяли двухсотметровое шило на наш обмылочек. "Восток" — дело тонкое. Одних баб в экипаже — под шесть сотен. Боты разъездные — как раз с наш "таз для бритья". По одиннадцать месяцев в рейсе, и денег не платят. Тут не только на тазик, на "тузик" (на душегубку, по-вашему) сбежишь.
Кубанцы вообще — народ интересный, кавказских кровей. Сегодня морды в кровь друг другу побьют, завтра — опять кунаки. Шашкой махать им по Менделю и Моргану положено.
— А шо, есаул, можить зря мы вчерась студентов в капусту порубали?
— Може й марно. А в тим — нехай не плошають.
Особенно в Скользком Мендель не просчитался. Он мне сразу заявил, что будь он на т о й вахте… Хотя, когда документы нам назад принесли, за шашкой фамильной чтой-то не шибко тянулся.
Меня только по первому рейсу троица эта кубанская напрягала. Свежий человек я был на "девяносто третьем". Дед Витька — этот уже с душком. Сразу мне сказал:
— Паша, выпивайте и закусывайте. Пусть вас не волнует этих кубанских глупостев.
Дед Витька был из коренных. С Молдаванки. Детство во дворе с усохшим фонтаном, юность на танцклетке возле бурсы техфлотовской. И нос ему по боксёрскому фасону подрихтовали там же. В рыбачки-колхозники он угодил уже с верхним образованием. К несчастью, штатный причал морского буксира "Титан", без отрыва от которого Дед образовывался, располагался в опасной близости от причала винбазы…
Житьё колхозное приучило его не сотворять из судоводителя кумира. Так, на "девяносто третьем", машина отрабатывала назад не сразу же по команде с мостика, а после Дедова контрольного стука ногой об палубу в районе тридцать седьмого шпангоута. Дизеля свои Дед любил больше бортов. За борта нехай старпом думает.
Третьим механиком у Деда Витьки был мичман Панин. Однокашник Деда по техфлоту, молчун и интернационалист. О его отношении к происходящему на палубе "девяносто третьего" догадываться приходилось по интонации, с которой он произносил три точки после своего обычного: "Ну, вот…" А интернационалистом он был потому, что в любой стране Черноморья его с готовностью признавали аборигеном: болгарином, румыном, турком, грузином. И пытались говорить с ним на родном языке.
Обо мне распространяться долго незачем. Мореходка. Вылетел с третьего курса. Восьмая Тихоокеанская эскадра. Югрыбразведка керченская. Рудовозы река-море (река-горе) херсонские. И пассажирчик маленький. Ялта-Синоп. Каждую неделю дважды.
Все вроде. Хотя нет, Куклу забыл. Водолазку дворянских кровей нашу. Единственную барышню на борту. Не собака, а звоночек. Попробуй только чужой на трап сунься. Своих же определяла Кукла за обеденным столом. И надолго. Я года через полтора, на другом пароходе, у Горбатова, встретил её. Узнала, сучка. Тявкнула спросонья, а потом хвостом завиляла и лизаться полезла. Мы ж с ней после того налёта вроде как родственники получились. И ей досталось, когда меня защищать бросилась.
Щенки от Куклы в порту нашем пользовались постоянным спросом. Правда, и предложение не заставляло себя особо ждать: гулящая была псина.
Олег Палыч говорил, что в Бургасе ему пришлось возвращаться за Куклой от самого приёмного буя. Загуляла барышня. Агент по радио уже вызывал. И знала ж, сучка, к кому кинуться со своими женскими бедами. Посмеялся болгарин, но даже по "воки-токи" на тридцать третьем канале полаять дал ей возможность. Как тут не вернуться? Горбатов, как старпом, ворчал, правда, что Кукла вообще — предмет контрабанды, завезена в братскую Болгарию без санитарных документов, и пахнет всё это международным скандалом и штрафом. И в следующий же приход в Ильичёвск Палыч Кукле оформил санпаспорт и прививки… Но это уже из преданий "девяносто третьего". Где тот Горбатов? И кто хранит эти преданья старины глубокой сейчас, когда я пишу эти строки?
Получается, кроме меня некому. Поэтому и уродуюсь, борюсь со скудоумием и косноязычием. А что делать?
Чёртов Батуми! И ведь и скучать вроде бы не по чему, видали мы в гробу все эти колониальные прелести.
И пальмы в Мапуту — ещё более пыльные.
И коровы в Бомбее — ещё более неприкосновенный скот. Так же бредут по проезжей части вразрез движению.
И женщины в Дубае — вообще в намордниках, а не только во всём чёрном, в непременных косынках после замужества.
И контрабандный рынок в Джибути — столь же бойкое и гиблое место, где тебя обжулят и обворуют, смеясь, не считая должным даже убегать: шаг отступил и потерялся в толпе.
И французская морская пехота сверкает бритыми затылками ничуть не хуже костромских дембелей в камуфляже и тельниках, отоваривающихся колониальным товаром по случаю отправки на родину. (Эвакуация, дядя. Завтра на транспорт грузимся).
И цитрусы в Пирее растут просто вдоль дорог, а не за заборами…
А пиво "Эфес Пилзен" дешевле и вкуснее пить в Турции, а не под пальмами у морвокзала. Хотя, шашлыки и хинкали, пожалуй…
Впрочем, что это я? В том году в Батуми не до шашлыков было. Хлеб брать приходилось через корешей Скользкого, через дыру в заборе.
Единственное, чем ещё торговали свободно, было спиртное и автопокрышки. Впрочем, спиртное батумской возгонки отдавало той же резиной.
Недаром и из Феодосии мы привезли груз автомобильных скатов.
Война войной, но скакунов своих подковывай регулярно. Кавказ.
Даже беженцы кавказские бегут от войны на жигулях и волгах.
Каждое утро причалы рыбкомбината оживлялись криками "майна-вира", дельными советами, многозначительным цоканьем языков и спорами зевак.
Порт давно забыл, как пахнет хамса и шпрот. Хотя дороги по привычке вместо гравия посыпались раковинами рапанов. В Ялте на таких зарабатывают, как на сувенирах.
Рыбу в Батуми продолжали ловить только двое: "Бешуми" и "Цискара". К их приходу собиралась на причале толпа с вёдрами, счастливцы-ялики норовили взять их на абордаж ещё на подходе, раньше голопузых боевых пловцов из местной пацанвы, атакующих палубу с воды. Остальные рыбачки давно уже продали свои невода туркам, и занялись более прибыльным.
СЧС, средний сейнер только по названию, брал на палубу до девяти легковушек. Это моряком нужно быть, но вы всё ж, на веру, поразитесь: "И куда они (легковушки) там вмещались. Сейнера того — двадцать семь метров по палубе." Две последних машины уже за корму колёсами свисали. И, опять же на веру, "И как они (сейнера) не опрокидывались от перегруза?"
Опрокидывались. Но больше зимой. От обледенения.
Машинами по всей палубе сейнера и дальневосточника не удивишь. Они там натаскались возить из Японии. Но тут с каждой машиной ехали жёны, дети, двоюродные дядья и троюродные сёстры водителя. Со скарбом, пожитками и едой на переход. Всю дорогу — в машине или на палубе. Позеленевшие, как Гринпис. Голодные. На узлах и тюках. Ни дать, ни взять — последний пароход на Стамбул.
Всё вернулось на круг. Эмигранты, бои на околицах, мишки японцы.
"С лошадью нельзя на корабль?" Ерунда. Сто пятьдесят гринов — и конь твой уже припнут к кнехту. Так что зря Высоцкий стрелялся. Не только с лошадью, с орудием прямо взяли бы.
Вру, Владимир Семёнович проходил бы по другому ведомству. По его душу пришёл бы в Батум транспорт "Баскунчак". И не только по душу. Я на этот "Баскунчак" насмотрелся ещё в Персидском заливе. В голову тогда не приходило, что на вертолётной площадке и в ангарах прекрасно становятся камазы с мандаринами. Эвакуация.
Цены они нам сбивали… Пока транспорт стоял у морвокзала, нам надеяться оставалось разве что на чокнутого грузина: вдруг нули на купюрах считать не умеет. Встречались конечно и среди их грузинского племени чудики. Один вон, целый день просидел с сачком под сваями причала, развлекая нас пением песен Пахмутовского репертуара.
— Как рачки? Ловятся? — не выдержал к обеду Скользкий.
— Нет, вон там, за молом, — лучше, — отвечал чудик, продолжая черпать воду своим решетом. И по третьему разу затянул: "Мнэ прыснылся шюм даждя…"
Встречали мы и таких. Но такого, чтоб сотню с тысячей путал…
Наш клиент в кепке со своим вечным вопросом: "Гдэ капытан?" — и после отхода штрейхбрехеров от ВМФ продолжал обминать наш ПТС-93 по дуге большого круга. Весь Батуми знал уже, что именно этот пароход никуда не идёт, и его пора ставить на пляже рядом с близнецом-братом, переоборудованным в кабачок. На Мелком море.
Дед Витька расшифровывал ПТС как Пусть Так Стоит.
Вот мы и оправдывали.
Может где при отходе играют "Прощание славянки", а на "девяносто третьем" оркестр заменялся капитанским магнитофоном с единственной кассетой. Леонтьев. "Куда уехал цирк".
По швартовому расписанию стоял я на руле. Скользкий с Келой сами, без погоняев, сразу же после отхода крепили всё по штормовому. "Первый раз замужем, что ли? Или у нас тут кукольная комедия?"
Машина сама, без команд с мостика, накручивала обороты до полного хода. "Выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостев. Взрослые вроде мужчины, а такой ерундой занимаетесь. Вот… "
Даже пароходишко наш, как старый конь, сам ложился на нужный курс. Без всяких "извини-будь добр".
Пока аккуратист Палыч считал склонение и поправку компаса в столбик, "Пусть Так Стоит" наш, по памяти, ложился на Геленджик. Я к штурвалу не прикасался даже, честное скаутское.
Горбатов никогда над прокладкой не корпел. Генеральный курс прикинет, глаз прищурит, и:
— Ложись на триста пять, — скажет. На морской выпуклый глаз.
В столбик получалось триста четырнадцать и две десятых. Смешила меня эта вера Палыча в то, что нежелезный рулевой по магнитному компасу сможет эти две десятки выдержать. Но виду я не подавал:
— На румбе 314,2!
— Я когда из пароходства на рыбачки попал, никак привыкнуть не мог. Как в школе учили: определения, точечку на карте каждые полчаса… Капитан с похмелья на мостик поднимется, и: "Ты что это онанизьмой занимаешься? Ехай прямо, мимо Дырки не промажем."- "Что за дырка?" — спрашиваю."Тю. Керченский пролив. Чему вас в Седовке учат?" — отозвался от локатора Палыч. Телепепат он, что-ли?
— Ложись пока на триста пять. Вправо несёт. Поти радар ещё берёт. То-то. На Горбатовский выпуклый оно, выходит, точнее. Море, оно тоже — горбатое.
Меня в Поти этом диплома лишили на год на первой же путине. Столько рыбы на палубу принял, что сейнер уже как подводная лодка шёл…
А Скользкий менять меня всё не шёл. Ни как подводная лодка, ни как иначе. Решил воспользоваться авральным расписанием и дождаться обеда, прохиндей.
— Так что Седовку я два раза оканчивал. Быстрее оказалось вместе с заочниками, второй раз, экзамены сдать и новый диплом сделать, чем год ждать. А ты говоришь: "Восстановить, дубликат выпишут… "
…Точно, уже в зубах ковыряется Скользкий! Отобедал. И на мостик всё равно не спешит. Ходит вокруг волги армяниновой, ногой по колёсам стучит. Раскреплять собрался? А там, глядишь, и Келина вахта. Плезиозавр кубанский!
Кукла выбежала к борту и стала в антидельфинью стойку. Грузины — за ней. Ну, Куклу хлебом не корми, дай дельфина облаять, а эти-то? Взрослые, лохматые мужики, а как дети. Пальцами тычут, смеются. Тараторят на "сакартвеле" своей что-то. Даже завидно. Я дельфинов тоже всегда жду, но не до индейских плясок у борта же.
Большое стадо, голов сто. С десяток уже пристроились прыгать наперегонки с пароходом. Бестии! Перед самым носом вертятся! А штевнем по заднице?
Скользкий вступил в рулевую без вступлений:
— Палыч, так как же так? Машин что — не было больше?
Ну наконец-то! Даже на дельфинов смотреть не стал, так спешил.
— Ко мне ж подходили люди, спрашивали…
— Коленька.... - вежливо начал Палыч.
— Курс? — спросил у меня Скользкий, принимая штурвал. Арифмометр под его черепком щёлкал безостановочно. (Сто пятьдесят, да пятьдесят за прицеп, да…)
— 980 рублей за доллар, — пытался подколоть я.
— 980 принял, — согласно установленного ещё Ноем ритуала доложил рулевой Скользкий бессменному вахтенному штурману Палычу. Арифмометр зашкаливало. Не до подвохов ему было.
— Палыч, так как же? — попросил о починке счётного устройства Скользкий.
— Не было больше машин? (Сто пятьдесят, да пятьдесят за прицеп, да на восемь…)
— Коленька! Да мы и так с перегрузом! — вежливо взмолился Палыч.
— Я от кренометра дальше двух шагов отойти боюсь.
— 305 сдал, — не спешил я покидать арену цирка.
— А как же грузины возят? У них что, арифметика другая? (Сто пятьдесят, да на девять (умножить, а не делить!), да…) А тут одну волгу несчастную на палубу кинули, и уже перегруз.
Я думал, что Палыч потянулся за увесистым томом "Информации об остойчивости" только для того, чтобы в Скользкого им запустить. Но нет, листать принялся. А чего там листать, если закладок из баксов не сделал. Углы заката и метацентры всякие Скользкому и задаром не нужны. К тому ж, посчитано судостроителем для загрузки рыбой, а не чаем с волгами.
— Как бочками с тюлькой на промысле, так не нарушается остойчивость. А жигули всего шестьсот килограмм весят. (Шестьсот, да на сорок — пятнадцать бочек всего-то).
— Ничего, это пройдёт, — пообещал я Скользкому вместо "спокойной вахты".
— Палыч, но мне непонятно… — продолжал Скользкий. Просто так с боевого курса его было не сбить.
Такие же несгибаемые люди, только итальянцы, — боевые пловцы, — волокли вручную свои отказавшие торпеды, перетаскивали их через сетевые заграждения, мучились, глотали солёную воду и мазут, преодолевали отливное течение, но взрывали-таки стоявший на рейде Бриндизи английский крейсер. Правда, потом оказывалось, что Италия капитулировала за день до их подвига, и именно поэтому крейсер был неприлично для военного времени иллюминирован огнями расцвечивания…
Мы же капитулировали в день ловца рачков, когда на пароход явился-не запылился наш любимый вождь ирокезов и сказал Палычу:
— Послушай, капитан. Ты сегодня на рейд не ходи. У меня такое предчувствие, что ночью тебе принесут документы.
Не стоит ехать в Индокитай, как в последний очаг пиратства. Мадам Вонг живёт в Батуми. И зовут её Гоги.
— Палыч, так как же с машинами? — никак не унимался Скользкий. Плевать ему было сейчас на капитуляцию Италии, на остойчивость, на то, что после отхода Леонтьев поёт об уехавшем цирке уже по третьему разу.
Если бы за бортом проплывали не отроги Кавказа, а Жигули, капитан Палыч уже бросился бы дробить утёсы без динамита и грузить на нашу палубу.
— Коленька, — простонал он, хотя требовалось всего лишь послать Скользкого в верном направлении, либо, чёрт возьми, посчитать остойчивость.
Не знаю, куда уехал этот чёртов цирк, но клоунов от труппы отстало изрядно.
Грузины делились на "сливачей" и "чайников". Армянин из волги не делился ничем. Он вообще обозвал грузинов дикарями с гор, едва мы отдали швартовы, которыми к пароходу была привязана Грузия. Армянин бежал от войны в Краснодар на своей забитой коврами, шубами и сервизами волге с прицепом. На третьей волге бежал. Там продавал, покупал в Батуми новую, и опять бежал.
— Ну сам подумай! Всю жизнь он в Батуми прожил, дом трёхэтажный на мандаринах построил, добро нажил! А теперь мы для него — дикари!
До выбрасывания шуб за борт дело не дошло, но всю дорогу армянину пришлось провести в своей волге. А ходу до Геленджика было — две ночи и день.
— Сливы не сгорят? — переживали сливачи.
— Выпивайте и закусывайте, — успокоил Дед, вылезая из трюма в фуфайке и ватных штанах.
— Я наоборот — боюсь, как бы не поморозить.
— Говорил же этому, не надо было сниматься! До нуля хотя бы на рейде постоять, — выругался Дед, как только удовлетворённые сливачи последовали его совету пить чачу и закусывать сулугуни.
Успешно сданые истмат с диаматом почему-то лишь укрепили Деда в мыслях о том, что в пятницу, да ещё тринадцатого числа, в море выходят только салаги, ищущие приключений на свой не обросший ракушкой зад. За упоминание же зайца на борту Дед вообще мог зашибить ключом на сорок пять. В случае крайней необходимости говорить полагалось "длинноухий". Но лучше даже не вспоминать. Рыбаки-с! Тёмный, суеверный народ-с!
— Что-что! Ушёл фреон из системы! Компот из слив мы до Геленджика довезём! Вот тебе и суеверия!
Нет, не зря славянка не прощалась с нами! Это ж надо так сыграть, чтобы грузин поверил, что это не пот из-под положенной по роли ушанки катит, а слёзы умиления! Цирк!
Под Сухуми по-прежнему полыхало и шарил в море какой-то прожектор. Но ничего, проскочили.
С моря Геленджикская бухта прикрыта мысами Толстый и Тонкий. На одном из мысов бдил российский страж границ. И в бухту нас без портнадзоровского "добра" не пущал. Портнадзор добра дать не мог, так как позорно храпел на вызывном канале. На тангету придавил. Глубины там у самого берега — под семьдесят, на якорь не станешь, и болтались мы до самого утра, как определённое вещество в полынье.
В Геленджике заканчивался этот великий мандариновый путь из грузин в кубанцы. Новороссийск с его лютым иммиграционным контролем грузины не очень жаловали. Предпочитали проникать в него с чёрного хода.
Да и сама бухта, в плане повторяющая страусиное яйцо в профиль, была поспокойнее Цемесской с её вечными сквозняками под двадцать пять метров в секунду.
Северный берег бухты горбат ещё по-кубански. Южный — по-кавказски горист.
Санатории, кафешки на набережной, куриные окорочка лендлизовские на каждом шагу.
Кандей наш (коком повара только береговая публика да наш Мастер дразнит, а получается не совсем прилично, если по-английски) умудрялся, правда и ножки буша довести до кондиции протухшего ещё в том яйце страуса. С кулинарией он был знаком плотно, но не с той стороны: через "Востоковскую" шахиню, шеф-повара по-вашему. На критику же со стороны собравшихся за столом товарищей отвечал из своей камбузной амбразуры, как проклятый фашист Александру Матросову. И крыть, кроме как пузом собственным, было нам нечем.
Самое обидное, числился за нашим пароходом природный поварёнок Андрюха. Но судовладелец наш, Борис, списал его. Какие-то счёты с таможней, как объяснил Палыч.
Вообще-то это старпомово дело, поваров гонять. И я в своё время, не подумав, ляпнул, что турки вообще без помощников капитана как-то работают. А он Палыч, гляди как за эту идею ухватился. Даже Родиона, которого на подмену Горбатову с буксира портофлотовского дёрнули, в машину зачем-то загнал. Тому то — какая разница? Хочешь Родионом зови, хочешь — Радиком. Совмещёнка у него, оба диплома в наличии. А Палычу — не до камбузных баталий естественно. Да и не сидел он на своём законном стуле во главе стола никогда, подсиживай кому не лень. Святым духом и кофе, наверное, жил…
Короче, когда Палыч поинтересовался, как я отношусь к м-а-а-ленькому цыплёнку табака вон в той кафешке, неподалёку от портнадзора, я сказал:
— Ну почему же к такому маленькому?
Нет, не только святым духом жил Палыч. Над цыплёнком расчувствовался:
— Менять надо повара. Как бы его так снять… Погранцов попросить что-ли?
— Да как ты не понимаешь. Толик — человек Бориса. Так просто я его не могу списать.
Вот так вот. Андрюха — человек таможни. Толик — человек Бориса. А я ж тогда — чей? Палыча, наверное. Не зря цыплятами меня кормят, пока народ там с Толиком перестреливается. Но промолчал. Есть у меня такое вредное свойство. Молчу. А люди решают, что либо дурак, либо согласен.
По заливу бодро бегали яхты. По набережной томно вышагивали женщины. От мангала шёл жизнеутверждающий дух шашлыков. Шелестела листва над головой. Галдели птицы на деревьях. И жизнь была прекрасна, как после полугодового рейса куда-нибудь под Кергелен.
— Посмотри, ах какая! Да не за столиком, официантка. Вон, ревёт в уголке. Кто ж такие ноги обидел? Негодяй, негодяй…
— Вот за что мне жизнь моряка нравится. Пришёл с моря — словно всё заново. И от продолжительности рейса, должен сказать тебе, это отнюдь не зависит, — снова решил продемонстрировать свои возможности телепата Палыч. Он даже решил развязать свой антиалкогольный узел.
— Я в Жданове на агловозе, матросом ещё, работал. Рейсы, как у трамвая. Расписание по минутам. Жданов-Керчь. Жданов-Керчь. И всё равно, чуть ли не каждый рейс Дядя команду из "Горняка" силой вытаскивал. Люди на агловозах, конечно, отборные собираются. Штрафная линия Азовского пароходства. За визу никто уже не дрожит…
А я и не знал раньше, что "махновцы" своих Пап Дядями дразнят.
— И попался мне Дядей пердун старый, герой соцтруда. На подмену на наш пароход пришёл. Поймал меня с бабой на трапе."Жаров, Вы на флоте — случайный человек,"- говорит.
— Да ты что, Дядя! У меня и братан, и прочая вся родня, кто в портофлоте, кто в пароходстве. С третьего класса все каникулы — на братовом буксире…
— Представь себе, тесть мне попался — тоже капитан. Даже свадьбу дочки в Японии прогулял. Встретит ПТС наш в море, без дрожи в коленках, наверное, переедет лесовозом своим. Да. Я тебя не очень нагружаю, нет?
— Ну вот, возвращается тесть из рейса, мы месяцев восемь уже живём. И угадай, кто. Да, тот самый пердун соцтруда. Да нет, вру. Но капитаны не матросы, незнакомцев между ними нет. Мне после этого в пароходстве делать нечего стало. Уехали на Чукотку…
— А в Одессе, когда на самолёт её сажал, знал уже, что не вернусь. А ей — да, зайчик, как договорились. Через неделю на Чукотку возвращаемся. Билеты не сдавай. А сам знаю уже, что у Горбатова остаюсь. Думаю про себя: "Ну и подлец…" Ха. И ручкой, нежненько так к выходу её подталкиваю. Потом, когда уже улетела, тёще позвонил, скандал ей закатил. Как же так, мы же с ней договаривались. Её же сделал кругом виноватой…
— Слушай, не сделаешь мне по дружбе дело одно? Позвони, наври ей чего-нибудь. Ну, меня зачем-то ищешь. Чем она там дышит. Она с месяц назад вернуться должна была. Вон будка через дорогу. Я пока закажу ещё чего нибудь. Не возражаешь?
Очередь у будки была длиной мили полторы. Когда я, отпотев, вышел из кабинки, уже было заказано по шашлыку, шампанское и…"ах какая" официантка уже не ревела в уголке: сидела бочком за нашим столиком.
— Так что давайте. Ждём в гости. Да и сыну, наверное, интересно по пароходу полазить будет. Ну, значит не в этот раз. Мы в Геленджик теперь часто заходить будем, чует моё сердце. И не надо плакать. Красивым женщинам нельзя плакать.
Официантка упорхнула при моём приближении и принялась курсировать от стойки к нашему столику, заставляя его до состояния перегруженного автомобилями грузинского сейнера: последние тарелки уже свисали за края стола.
— Хороший у вас друг, — шепнула мне в один из рейсов, с грузом бутербродов с красной икрой.
— По какому случаю кутим? — спросил я, глядя на негабаритные тарелки. Всё казалось, что сейчас качнёт, и…
— Есть случай. Сегодня ровно год.
И всё. Результатами моего потения в будке Палыч за весь вечер так и не поинтересовался.
— Знаешь, почему плакала? Не хотела говорить, всё равно, мол, никто помочь горю её не сможет. А горя то… Сын разбил лобовое стекло на иномарке хозяина. Двести баксов горя всего-то. Посмотри, как сияет! Так что кутим — за счёт заведения. Ты не надкусывай лишнего. Как бы её хозяин после такого стола не рассчитал совсем. Лучше завтра зайдём ещё раз.
И тут я не выдержал и стал переставлять излишек тарелок на палубу.
— Вы не волнуйтесь. Это моряцкое, — объяснил Палыч ошарашенным ах-каким ногам.
На пароход возвращались пешком.
— Деньги? Ну, спишем на накладные расходы. Таможенников зажравшихся поить можно, а бескорыстно помочь женщине — нет?
— Чёрт, платок носовой на столе оставил. Ну ничего, если не дура, постирает и погладит.
Выгружались вечером. Дошли сливы.
— Да зачем лебёдка? Вручную выкидаем всё. Быстрее будет, — решил собственным примером подкрепить свою правоту Палыч. Он успел кинуть на борт машины ящиков пять, прежде чем вспомнил, что ему ещё надо к таможеннику. К тому самому. Чтобы оправдать "накладные расходы"?
Вручную получалось действительно быстрее.
— Эй, бородатый! Прими конец, чёрт побери! — оклинули меня с воды. Грубо окликнули, но драться я не полез. Наоборот. Обниматься.
Эх, жизнь кораблядская! Столько лет не виделись, чтобы встретиться… в Геленджике каком-то! Полный пароход родных рож, и на мостике — Юрьевич собственной персоной. Вот уж Папа так Папа был у меня на "Железяке", среднем рыболовецком траулере "Железняков" то-бишь. Это я ещё в Керчи, в Индийском океане вернее, ловлей лангустов на банке Сайде-Майя баловался под его началом.
Вот это — Мастер! С двух реверсов первым бортом к причалу влез.
— Давно загораете? — спрашивает.
Они тарелками грузиться на Батуми должны были, а нам попутного груза на Херсон ещё ждать нужно было.
Вот уж кого не ожидал… И каким ветром его на лушпайку, вроде нашей, с его-то дипломом КДП занесло?
— Перестроечным, мать его, ветром Пашка. Ты в каком году из Керчи сбежал? Очень даже вовремя. Пошло псу под хвост всё наше рыболовство. Есть в верхах мнение, что рыба Украине ни к чему. Сало давай. Пол-флота по Пальмасам да Конакри гниёт. Мы из Нигерии едва вырвались. Пароходы на разграбление бросили. Двое наших от малярии дошли…Вобщем, больше я в такие игры не играю. Хорошо, подумали тут с хлопцами, сбросились и ПТС купили. Ты ж помнишь, я бюрократом в рыбакколхозсоюзе один год сидел? Бюрократы — они не то что моряки, пропасть друг другу не дают.
Это он уже потом, в каюткомпании своей поплакался.
— Эй, Витька! Сообрази чего-нибудь, хватит колбасу мороженную трескать, — сказал он в камбузное окошко.
— Опять на обеде меня подсиживал? — шутя, распекал он поварёнка, пока тот нарезал колбасу и сыр со скоростью тасующего колоду карт шулера. Профессионал.
— Юрьевич, ты извини, что интересуюсь, — начал капитан Олег.
— Женат? И как? Двое? А у меня всё кувырком из-за бабы пошло…
— А насчёт перегруза, Олег Палыч, зря волнуешься. Я у себя всё рефоборудование и изоляцию в ремонте выкинул — тонны три балласта долой. И водяной танк на две тонны на самом спардеке сварил. И считал остойчивость — до критической ещё далеко… — сказал напоследок Юрьевич.
— Завидую Славке, — сказал Палыч, когда Юрьевич прервал потчевание гостей до лучших времён: погрузка начиналась.
— Диплом капитана дальнего плавания. Свой пароход…
Когда в Формио, в Италии, рыбмастер пытался зажать презент от фирмы, для которой мы шейку лангуста сдавали, Юрьевич в приказном порядке разделил всё вино и сигареты между командой, а рыбмастера оставил вообще с носом. В педагогических целях. Сам не знаю, почему вдруг вспомнилось.
Наверное, у всякой болезни, даже у помполитской, есть инкубационный период. И период этот рано или поздно оканчивается.
По большому счёту, виноваты во всём бабы. Нет, не жена, и не та ильичёвская дамочка, которая пригрела нашего бездомного Мастера в промежутке от Мариуполя до Херсона, и которую мне пришлось выпроваживать с парохода в Херсоне, когда она приехала из Одессы, и не… Нет, их тоже, конечно, жалко. (Такая вот несуразица. Тех девок, которых Скользкий с Паниным притащили на пароход в Феодосии, представившись звукооператорами Игоря Николаева, почему-то не жалко. Скользкий заранее отдал билеты бабушке на контроле и договорился, что скажет просто: "Это со мной… "Поверить же, что Игорь Николаев с Наташей Королёвой, или хотя бы их аппаратура, путешествуют по Чёрному морю на номерном ПТСе, можно было только при большом желании. И сколько нужно было рассказов о потоплении пароходов прямым попаданием метеоритов, чтобы не поколебать эту веру самим зрелищем нашего три месяца некрашенного борта.) Но виновата во всём Кукла, которая по своему обыкновению загуляла отход.
Я все шхеры в порту обследовал, пока Скользкий ваньку перед погранцами ломал, прежде чем нашёл её. Она, правда, уже и сама возвращалась. Посмотрела ещё так на меня: идёшь, мол, или как. Вроде это её за мной посылали. Я от такого сам залаял. Иду, облаиваю её, Бургас припоминаю, и что нет на её бесстыжую морду Горбатова. А тут и Скользкий со своим ванькой поломанным подвернулся.
— Кто это тебе про Бургас рассказывал? — я ж на "девяносто третий" позже пришёл.
— Палыч? Ну, этот расскажет. Горбатов за Куклой и возвращался. И санпаспорт ей — тоже он оформлял. Он же её двухмесячной на пароход притащил. Никакими Палычами и не пахло ещё. Взял, на свою голову, старпомом. Мало того, что подсидел, так ещё и байки теперь рассказывает.
— Да какие кореша? Олег со своим церковно-приходским дипломом в морское агентство какое-то сунулся, под греческий флаг уйти. Там над ним посмеялись, конечно, а Горбатов уже год без старпома работал, надоело ему, а в агентстве у него однокурсник какой-то штаны протирает и взятки с плавсостава берёт. За Куклой он возвращался! Как же! Если б я прапорщику баки не забил, и сейчас бы на берегу её куковать оставил без выходного пособия. Кто там за ним гонится? Прибежал: "Поехали". Витька ему: "Подожди, заведусь."-" Поехали, потом заведёшься".
— И про Андрюху пусть не трындит, — добавил Кела.
— Борису до поваров дела нет. А кум Андрюхин — действительно на таможне, инспектором. И в прошлом году раскопал у Палыча контрабас какой-то. Год, получается, случая ждал.
— Главное, слышишь, Андрюха ж его тогда и отмазал, — подтвердил Скользкий.
Я посмотрел на Куклу. Подтверждения от неё ждал, что ли?
Собственно, зачинщиком бунта я не был. Витька говорил, что Скользкий подымал эту бузу ещё раньше. На арифметической почве. Всего-ничего, на девятьсот зелёных зубчики его "феликса" заклинило. В Херсоне дело было, я на берегу как раз был. К тому ж считали они меня… Да, за всю жизнь такого о себе не слышал. Так что какой-там зачинщик из меня был бы? На Сильвера я ногой не вышел.
И как он тогда отмазался? На Бориса сослался да накладные расходы всякие. Оскорбился ещё на толпу. Очень даже натурально. А и нужно то было просто не вопросы, а ответы сразу ставить. И на театральные штучки не вестись, как ни тянет. Говорит "нет", читай — "да". Самый верный рецепт против него.
Потом уж налёт всё списал.
Никакого заговора и не было. Ни бочек пустых, ни Джима с яблоком. Просто сидели в салоне после ужина, все, кроме Палыча и Скользкого. Я всё бургасскую кукольную комедию переваривал, а потом возьми да и выложи всё, что переварил.
— Мужики, — говорю. — Он ведь со всеми людьми, только как с бабами-дурами обращаться может. Подарком дорогим огорошить, лапши о трудной судьбе на уши навешать, платочек сопливый оставить, и — выебать. А мы все — велись на это?
Ну и рассказал им про цыплят этих да про двести долларов. Подлецом себя чувствую, а всё равно рассказываю.
А Кела на меня не уже не глазами, а воздушными шарами братьев Монгольфье просто вылупился.
— Подожди, — говорит.
— Поножовщины с мужем-алкоголиком у Палыча твоего не было?
— Каким мужем? — не понимаю я.
Тут и Витька всё понял.
— Можешь успокоиться, — говорит. — Не подлец ты, даже если б хотел. Дюма-внук наш просто пересказал тебе, как Кела с женой своей познакомился.
А Людка Келина действительно в баре в Черноморке работает, это и я знаю. Кела ей иногда на разливе пива помогал. Разорение, а не помощь. Пол-" Востока" корешей, и третья часть — в долг.
— Небольшая разничка, — Витька продолжает.
— Кела половину лично заработанного за рейс выложил. И — просто так. Без всяких платочков. Маловат наш ПТС, чтобы всех баб Д'Артаньяна нашего одарить. У самих семьи по его милости на бую третий месяц сидят. Сходи-ка на мост, вызови его, как Сильвер Флинта. А мы тут пока чёрную метку из Библии вырежем.
Салон на ПТСе — курам на смех. Если в дверях стать, весь экипаж запросто удержать можно. Стол да диваны всем сразу вылезть мешают. Строго по одному только. Но сидим спокойно. В море мы. И шлюпки даже на тазике нашем нет, чтобы всех нас в трюме запереть, и на остров Сокровищ сбежать. Даже гранату перепрятывать не стали, хотя Панин о ней, как отставной военный, и вспомнил. Зачем?
Как миленький выложил Флинт наш все свои сокровища, так не ожидал ничего подобного. Сдали мы кассу Родиону. Как по уставу положено: младшему помощнику. Мы уж его, согласно судовых ролей, в старшие помощники произвели, взяли такой грех на душу. А старший на нашей лушпайке — младший и есть. И второй, и третий — в одном лице. И нечего в геройство играть сутками на мостике. А если уж играть, так по Конраду — верёвками к поручням мостика привязываться, а не в шезлонге дрыхнуть на крыле.
— Действительно, Палыч, нехорошо получается. В машине — трое, на мосту — один. Я понимаю, что за три месяца курсов сделать из механика капитана дальнего плавания невозможно, но нам дальнего и не надо. Вполне могу я вторую вахту стоять, оно и надёжнее. Море всё-таки. Море — оно разное.
— А цены на топливо такие — только в Югославии. Так их ООН в блокаде держит. А в Геленджике шестьдесят долларов за тонну — красная цена, со всеми бумагами, — сказал Дед Витька.
— И тонну недобрали, однако — сказал мичман Панин.
— И денег на жратву дал — с гулькин нос. На колбасу представительскую, которую ты под подушкой трескаешь, — и то больше. Меня за эти макароны самого съедят скоро, — ввернул То лик.
И за Скользкого добавил:
— Колюня звонил тут кой-кому из Геленджика. Так Борис говорит, что аренды он с нас в прошлом месяце не получал, и не собирался. Пусть, мол, раскрутятся сначала хлопцы.
А Кела меня просто второй раз за вечер огорошил: заговорил вежливо.
— Так что не обессудьте, Палыч, — говорит.
— Большое спасибо, конечно, за лестное предложение, — говорит.
— Но только старпомом, пожалуй, у вас я не буду. Рожей не вышел.
Мы с ним потом долго друг друга подкалывали при сдаче вахты. По-свойски, как старпом старпома. Скользкий так и не признался, но и он наживку эту слопал, чтоб мне больше никогда лангустом не закусывать.
Имел я ввиду Гамлета, принца датского. "Выкуси, — говорит. — Не поиграешь на мне, чай не флейта." Какая там флейта — свистка хватает. И ведь все подряд на это соло на свистке покупались, даже Юрьич. Сбивает, если едва знакомы, и не знает ещё толком охмуритель, чем ты ему в дальнейшем пригодиться сможешь, а уже — душа нараспашку, сочувствия ищет, доверяет.
А павлин этот перед каждым хвост свой распускает, как перед очередной своей курицей. Трудно ему что-ли? Хвост-то — готовый уже. Я может и туго соображаю, но вот понял. Кукле спасибо. Хотя и не спаниель она, чтобы фазанов с павлинами гонять. Больше по части лягушек.
Такая вот Кукольная комедия, как говорит Скользкий.
И без чёрной метки обошлось.
Скользкий, тот наверняка таким исходом доволен был бы. А моя помполитская болезнь только пуще прежнего от такой быстрой капитуляции разыгралась. Бывает же такое.
С вечера солнце было хорошее.
От Кавказского берега оторвались к нулю часов. Скользкий на десять минут позже меня менял. И без всяких сигналов точного времени знали уже все трое, что часы в рубке на десять минут этих врут.
Тоже вот — мелочь. А Родион, механик вроде-бы, первым делом часы выставил. Я теперь с ним вахту стоял. Не хотел капитан Смоллет с Сильвером на одном мосту находиться. При смене вахт приходилось, правда, терпеть моё одноногое присутствие.
— Как считаешь, Радичек, не заштормит? — по-деловому так спрашивает.
— А прогноз же есть, — Родион ему.
— Есть у нас один, хоть и недоученный, но всё ж — радист. Грех не пользоваться.
Я чуть второй раз на кобчик свой злосчастный не сел. Получалось, как Горбатов ушёл, прогнозов моих никто и не читал даже. Причём, дважды в сутки.
Я всю вахту самоедством продолжал заниматься. Вот открылся передо мной подлец по-дружески. Дескать такой вот я подлец, а подлости мои такие-то и такие-то. И пошёл себе подличать дальше. А я возьми и плюнь против ветра в душу. Подло? Но тут случилась со мной профессиональная гордость, хоть и недоученная.
— Палыч, я вот забыл только, где 666-ой район с 555-ым граничит. Простите уж неграмотному совмещёнщику. По шестому дают порывчики до 14 метров в секунду после полуночи.
Замялся с ответом обжигатель горшков наш. Ему бы просто сказать: "А чёрт его знает, "- но это ж во-первых — невежливо, а во-вторых… это ж надо знать, чего тебе позволительно и не знать напамять, и в какую шпаргалку заглянуть. Перед мордой же прямо, на переборке шпаргалка висит, как на настоящем пароходе.
— По нашему району — бунация, — говорю. С умыслом уже.
— Чего-чего? — даже о том, что не разговаривает со мной забыл "Мастер", так не расслышал. Родион — тоже не понял.
А "бунация", по-азовски, — штиль. Только на азовских рыбачках слово это и осталось. Раньше, говорят, повсеместно на Чёрном море итало-греческой терминологией пользовались, а петровскую неметчину называли "хлотской" и дико над ней издевались. В самом деле, бабафигу топселем каким-то дразнят. Обхохочешься.
Да вот тебе и азовский рыбак, думаю. Сдаю Скользкому курс двести семьдесят шесть и ухожу на корму курить в гордом одиночестве.
— Стой, давай по порядку, — думаю.
А пароход стоять не желает. Знай — бежит, гоголь-моголь из воды забортной винтом взбить пытается.
И море гладкое, как стол бильярдный. Вроде из Чёрного в Красное угодили. Ни себе чего невязочки!
Катимся, значит, как тот шар, к Сарычу, чтобы от борта в среднюю лузу, в БДЛК попасть (Бугско-Днепровский лиманский канал, для приезжих). А тут и Дед Витька из машины подымить выполз. Правильно всё: полнолуние. Время вампиров и вахтенных механиков.
— Витька, — говорю, — что такое "шурубра" знаешь?
— Значит на днепровских пароходах не работал.
— Ну, ты прямо как Василий Иваныч и логика! Фурманов, удочки нет у тебя? Значит педераст.
— Давай по порядку, — говорю. И выкладываю ему одно за другим.
— Точно, не рыбак! — согласился Дед.
— В пятницу, тринадцатого — и хоть бы чертыхнулся, что в море выходить приходится.
— И не капитан лоцбота, — по порядку же продолжаю.
— Видел ты хоть на одном лоцботе швартовки такие? Уж у кого рука набита… Это рыбаку с "супера" какого-то простительно. Они в год раза четыре швартуются. Но он же не рыбак?
— Вычёркиваем, — согласился Дед.
— Не третий помощник. Точно не Трояк. На машинке одним пальцем буквы ищет. И Толика даже в судовой роли "коком" записать пытался. Смешно даже.
— Не второй. Какой Ревизор остойчивость элементарно посчитать не может? Какому-нибудь капитану лоцбота это может и простительно, но портофлот мы уже вычеркнули.
— Не старпом. Что с покраской, что с продуктами… Так что не Чиф. Хотя почему? Год на "девяносто третьем". Капитана даже подсидеть умудрился.
— Не вояка. Этих за версту слышно."Двадцать четвёртый, доложите первому на полста втором: четырнадцать больших мой маленький работу у буки двадцать седьмого исполнил, работу — исполнил. Выдайте квитанцию." А этот даже с пацаном-пограничником по УКВ так говорит, будто переспать его по телефону уговаривает, а не на якорную стоянку запустить. Тоже мне — лейтенант запаса.
— Не речник. Поверь мне на слово.
— А кто ж остался? Не яхтсмен же он? Год ведь откатался с нами. Или мы своего от вербованного не отличим? — усомнился Дед.
— Матросом на агловозах был когда-то. Это точно. Не знал я, что они своих кэпов Дядями дразнят. И "Горняк" — есть в Камыш-Буруне кабак такой. Хотя я не удивлюсь, если он и агловозы, как штаны, — от старшего брата донашивает. Ему не на мосту, ему ж на подмостках лицедейсвовать надо. Гибнет талантище.
— Да, сплошная драмкомедия, — Дед замечает.
— Да и сам чувствую, что помполитский маразм какой-то всё. "Меня терзают смутные сомнения. У Шпака — магнитофон. У посла — медальон." Ничего ж руками не пощупать. А в дипломе отметок "за сало" не делают.
— Слушай, так он к тебе тоже с дипломом подбивал клинья? — перебил Дед Витька.
— Я ему, проходимцу, сделал ксерокопию диплома высшей мореходки, — признался Дед.
— За сорок долларов, — признался Дед ещё больше.
— Только воспользоваться он им не сможет, — окончательно саморазоблачился Дед.
— Там номер — механической специальности. Ты уж его лучше не расстраивай пока.
Шоб ты жила, Одесса! И пусть забьют шампанским все усохшие фонтаны на Молдаванке.
— Слушай, значит ни одного судоводителя на борту, а мы прём, как тот паровоз вперёд летит? А я давно говорил, что "рогатые" на фиг не нужны. Только машину реверсами гробить на швартовках.
— И ты желудкам нашим пока ничего не говори. У самого в голове ещё не улеглось. Хлопцы все не вербованные, сразу по приходу в Херсон в дурку сдадут. Решат, что пару шиферных гвоздей в крышу мне никак не помешает. С деньгами — куда проще. Их пощупать можно. Особенно, если за руку в своём кармане поймал.
— Мюллер, и Вы, зная что Штирлиц — русский шпион, до сих пор его не арестовали?
— Всё равно выкрутится, — только и оставалось ответить мне, когда до Деда дошло по-настоящему.
— Какой Херсон? У нас же тонны топлива как не хватало, так и нет её. Я ж думал, этот соображает чего-нибудь. На буровых, или у буксиров очаковских…
— Вот, теперь и ты догнал. Соображать теперь — наша обязанность. И пошли в каюту к нему. Напрямую. Да не спал он. Вы бы спали?
Да, погибал талантище! Актёр Больших и Малых Императорских театров. Мне секунд двадцать даже жалко его было. Готовился, видно, хорошо текст зубрил.
— Я долго думал, — говорит.
— Пишу письмо Борису. Всё как есть. Бес с деньгами этими попутал. Всё на прибыль надеялся. Тряпьё своё собираю, и ухожу в Херсоне. Пусть Борис другого капитана вам присылает. Того же Горбатова, пьянь вашу любимую, — не впервой ему в одних джинсиках и в футболочке, мол.
И знаю уже, что всё сказанное в обратный курс, на 180 градусов, перевернуть надо, и такого он Борису напишет, и такого потом наплетёт, куда там Штрилицу, знаю ведь, а уши развесил, так благородно и сдержанно реплики все он из себя выдавил.
Но двадцать секунд прошло.
Тут я буром на него и попёр. А что, расшаркиваться прикажете?
С деньгами пока ясно. То-есть, ничего не ясно. Но это — к Скользкому. Этот объяснит. Мы тут о другом посовещались, и всё про тебя как "судно'водителя" нам, действительно, понятнее стало. В сейфе чукотском дипломчик штурмана дальнего плавания оставил? А может — в холодильнике? Сало в холодильнике обычно держат.
Что с топливом делать, капитан ты наш пятнадцатилетний, собираешься? Мы только в Феодосии взять и могли. А идём почему-то к Сарычу. И не надо хоть сейчас волну гнать. Деньги у тебя, банкир ты наш швейцарский, уже в море конфисковали. Ты в прошлом рейсе шестьдесят долларов на нефтебазу, наверное, тоже так же в "накладные расходы" списал? Дед на ночь договорился с буксиром насчёт левого соляра, а мы опять отходили, будто за нами взвод автоматчиков гонится.
Смотрю — нет больше благородного и раскаявшегося героя-любовника передо мной. Текст забыл. Или не было такого в роли?
Физиономию — аж судорогой свело. Перекосило — клыки видать. Зверь зверем. Из под бровей меня буравит, дырку во лбу прожечь хочет. Да, от ночных прогулок по верхней палубе лучше было мне воздержаться. Лучше было мне не проверять, чтит ли он шестую заповедь столь же набожно, как все последующие. А то скажут потом: за борт Пашку смыло. Или даже — сам сдуру прыгнул. Бывает.
— Да, недооценивал я тебя, — рычит.
Хорошо, не тет на тет на рандеву это я явился. С секундантом. Хоть он Деда и не замечал уже:
— И всё ж — дурак ты. Подошёл бы тихо-мирно, поговорили бы, забрал бы свои деньги, с процентами даже, и сошёл в Херсоне. А так ведь даже вложенного в ремонт не вернул. А может ещё и сработались бы? Чего не бывает? Ты, я вижу, не только по-английски натаскался. И радист великий, и капитану через плечо в карту заглядываешь. Замполитом при Советах не был?
— Помполитом, — про себя отмечаю. Не поправлять же.
И точно. Дурак я. Филологией страдаю. Сдаётся, и нормальному рулевому на прокладку эту взглянуть интересно будет. Поправку он в столбик считает на листиках. Аккуратист какой!
— По поводу Херсона, — решил напомнить о себе Дед Витька.
— С парохода, если не пассажир конечно, принято не сходить, а сдавать пароход. Это тебе на будущее.
— И на настоящее: по сезону, должна уже приёмка мариупольская в Феодосийском заливе на шпроте работать. Это я тебе как рыбак одесский "рыбаку" ждановскому напоминаю. А письмо — пиши. Люблю Дюма!
Вот Дед точно дураком не был. Всегда я ему в шахматы дул.
— Будет завтра письмо у меня в руках, — говорит, — глядишь, кубанцы наши подробностей до самого Херсона и не узнают. Ты ж их знаешь. Казаки.
А приёмку мы таки нашли. Не в Феодосийском заливе, но рядом. За мысом Киик-Атлама.
"Рыбак" наш и здесь чуть всё не испортил. Дед же просил: тупо подвалить к кранцам, чтоб он мог перепрыгнуть и с механиками с глазу на глаз переговорить. А этот за сто метров в мегафон "топлива не дадите?" орать стал. А народ мариупольский весь, как водится, к борту вывалил. Совсем с глазу на глаз. И что значит "дадите"? Шляются тут одесситы всякие, топливо клянчат.
Отбежали мы с пол-мили и тоже на якорь стали. Приехали. Теперь уж и до Очакова не дотянем.
Хорошо, Скользкий, хозяйское дитя, мешки с чаем, которые на палубе, брезентом перечехлять нас с Келой выгнал. Мариупольцы в бинокль понаблюдали, и сами нас по радио к борту подозвали.
Но наш собственный мариуполец и тут уже удружил. Договаривались уже, естественно, на капитанском уровне. Выдал ему Родион сотку, механикам бы и меньшего хватило, выдумали бы с нашим Дедом ремонт какой-нибудь до ночной вахты… А азовчанин наш возьми ещё и проавансируй сделку. Тут уж вообще "махновцы" распоясались. Тонны не будет, говорят. Килограммов семьсот — максимум. Это второй механик уже. Ему после капитанского уровня вообще ничего не перепадало, видимо. Наш Витька аж плеваться после этого принялся. Замерили, сколько у нас в левом танке, "махновец" ни на шаг от мерной линейки нашей не отходит, плюнули они нам девятьсот. Но Дед одесситом бы не был, если б так просто сопли утёр. Мелом уровень отметил на глазах у мариупольца, вытер насухо, а потом просто вверх ногами линейку взял, тычет ему:
— Ты что, совсем меня под монастырь подводишь? Шестьсот всего. Ты ж моряк, знаешь, что такое посреди моря потухнуть. А попадём в погоду?..
Легко сказать — плюнуть ещё сто. Пока включишь, пока замеряют, да крикнут сверху… Плюнули ещё раз. Дед меряет подольше, чтобы и то, что в шлангах, к нам, а не назад в Мариуполь стекало.
Но расквитались — и разбежались. Дед клянёт всех без разбору. Панин под горячую руку подвернулся:
— Иди, — орёт на него Дед. — Перемеряй, что я там с них вымутил. А Панин ему:
— До Херсона хватит, — и спать пошёл. Вахта уже не его.
— Ну ты глянь! Я высчитываю. Расход — до граммов, температурный режим, обороты. А этот: "Хватит, "- и в койку! С-с-сундук с клопами!
Только на ужине Дед занедоумевал. Но так, чтоб мичман тоже слышал:
— Знаешь, а ведь прав сундук наш. Хватает до Херсона. Что-то топливо медленно расходуется. Не сходится с расчётами. Трижды пересчитывал.
А мичман чай свой допил сначала, и:
— Клапан перепускной закрой, — говорит. И в машину ушёл.
Втроём мы макаронину застрявшую из дедова пищепровода выколачивали. Выходит, как только Дед с мариупольцем клапана проверили, и, как белые люди, по трапу на палубу поднялись, мичманюга, как тарзан, в машину через световой люк спустился, и топливо мы принимали в оба танка сразу.
— Вот тебе и высшая математика.
Да, господа мариупольцы, и прочие шведы. Не пытайтесь вы объегорить егоров одесских. Я вот давно уже не пытаюсь. Слаб мозговой мышцой. Той, что от кепи мичманского образуется.
Только отсмеялся, оказалось, что снова я вахту стою с Мастером.
Но мне то что? До Херсона двое суток ходу всего оставалось.
А вот Эйнштейн был неглупым дядькой. Двое суток.
Это еще как поглядеть, много или мало. Дело даже не в том, что за Херсонесом стало нам давать по зубам от северо-запада и скорость фотонного звездолета нашего еще больше от скорости света отличаться стала.
Ни один моряк не скажет: "Будем в Херсоне тридцатого".
— Полагаем быть, — скажет.
Но мне два дня этих уже полярными казаться начали.
Всю вахту Леонтьев надрывается.
Всю вахту сопит вампир-заплечник за спиной.
Молчит. Команды на руль чуть-ли не через механика передает.
И дырку в затылке взглядом прожечь мне норовит.
Судоводитель говоришь? Так и гляди в свой бинокль. Или в радар. Под Ялтой вон, ночью, в дымке, чуть под самый штевень танкеру какому-то не заехали. А я еще смотрю — мили за две открылся красный огонь и пеленг все никак не меняется… А он танкерный круговой за левый бортовой принял, и доволен.
И главное, все команды его теперь фильтрую. Фильтра уже засоряться стали. Тяжкое это занятие — соображать, оказывается.
С чего это он влево все время подворачивает? Кто ж в тумане влево ворочает?
Да и зона разделения здесь.
Проедьтесь-ка по трассе по встречной полосе. Ночью, когда дальнобойщики один за одним прут.
А теперь то же самое, но с водителем, который и рулить то вчера первый раз пробовал, и где газ, где тормоза еще путает.
То-то же. А Вы мне: нервы…
Хотя, подлечиться мне тогда уже стоило. Поймал себя на том, что постоянно шепчу что-то. Тихо сам с собою, так сказать.
Да какое мне в конце концов дело до того, сколько винтов у лоцбота, как влияет удельный вес чая на остойчивость ПТСа, рисуют ли штурмана на карте течения стрелочками, как в букварях, и считают ли поправку компаса на калькуляторе?
Учился он в Седовке, или на курсах красных командиров в Керчи, или вообще — в медучилище, мне то что?
Что с того, что ни один штурман вам не признается, что навигация — дело нехитрое, и шесть лет штаны без гульфика за партой он зря протирал? Не потому что туману напускает. Туману они как раз все как один не любят, хоть и радары на любой лушпайке уже стоят. Потому что — хитрое. Это матросу, который только заточку карандашей наблюдать может, судовождение детскими игрушками кажется.
Какое мне дело до того, что нормальный неволокущий в чем-либо капитан просто садится на шею грамотному старпому под видом поощрения инициативы? Подло, но по-флотски. А этот?
Славке, говорит, завидую! КДП у него! За четверть часа Юрьевич для него Славкой стал. Ровня ж. Капитан с капитаном сошлись.
А ты, трубка клистирная, не завидуй, а покачайся в морях со "Славкино". Глаза на ночных вахтах так выгляди, что газеты уже только с другого конца комнаты читать сможешь. Зубы на дистиллате железные наживи. И полный букет профболячек (глядишь, и на баб не потянет). Погоняй по портнадзорам с портфелем в зубах третьим штурманом; поругайся с докерами-ворюгами на десяти языках грузовым помощником; побудь чопом во всех дырках: от пробоин ниже ватерлинии до пробоин ниже пупа забеременевших буфетчиц, — старпомом; а потом обнаружь в один прекрасный момент, что дочка-дуреха так торопилась, что даже батьку из рейса к свадьбе решила не ждать, и выскочила, дура, за такого прохиндея, которого с судна списали за натуральное блядство… На трапе поймал, дело молодое. А то, что девчонка эта визжала, как резанная, и упиралась, с этим что делать прикажете? Она, дуреха, не думала, что ромео нынешние не меньше как втроем на один балкон влезть норовят…
Стою, кручу штурвал, а губы все никак не стопуются. Мичман Панин даже заметил:
— Не бери тяжелого в голову. Он тебе сейчас спецом на психику давит. А ты столбом фонарным прикинься. Помогает в таких случаях. И в случае чего — стучи ногой в палубу. В районе тридцать седьмого. Прямо над головой. Услышу.
Это была самая длинная фраза, которую я слышал от Панина за рейс.
"Такая вот кукольная комедия.
Зашли в Пальмас, почту получили — думал, что до прихода домой умом тронусь. А еще четыре месяца трубить оставалось.
Ты ж у меня был: дом на отшибе, и баба — одна с двумя детьми. И повадился один шоферюга ходить. Да знал я его прекрасно, постоянно в Черноморке на пиве встречались.
Так вот, ходит и ходит. Вроде как мой знакомый, выгнать ей его неудобно. А он, сволочь, пользуется тем, что муж далеко и в морду дать ему некому. До того дошло, что приставать стал, повалил ее в летней кухне, платье порвал. Моя и крикнуть не может, дети ж в доме. А этот еще советует: кричи, мол. Соседи прибегут, завтра вся Черноморка только о тебе и говорить станет.
И четыре месяца еще. Сходил к помполиту, показал письмо: в случае чего я вас предупреждал, говорю.
Ну, приходим в Ильичевск. Я в тот же вечер иду в пивняк. Жду. Не появляется. На следующий день — тоже. Только на четвертый день Кела мне признался, что он козла этого предупредил. Четыре месяца ж за мной наблюдал, в одной каюте жили.
Ну, предупредил и предупредил. Ладно. Я-то знаю номер его камаза. И где они в карьере песком грузятся — тоже знаю. Приехал вечером, фары потушил, стою в сторонке. Точно — во второй смене козел этот. Часов в девять приперся на своем 17–32.
Только он под экскаватор подрулил, я вылезаю и иду к нему. Спокойно, медленно так иду: фары слепят. Вылезай, потолковать надо, показываю. Как рванул он с места, еле я отскочить успел, экскаваторщик ковш уже над пустотой опорожнил. Я — к тачке своей, и по газам.
У переправы догнал. Хочу обогнать и к бровке притереть — куда там. Вертится он, как уж на сковородке, виляет. Я чуть под автобус на встречной полосе не въехал. Спокойно, думаю. Никуда он от меня не оторвется, пусть хоть до румынской границы шпарит. Бензина у меня — полный бак. До первого шлагбаума погоня эта.
Выскочили к Бурлачьей Балке. Смотрю, он не к Черноморке, к Таирова завернул. Я не отстаю, как приклеился. Впереди, на переезде, уже мигает, не успевает он. Я уже за ножом потянулся в бардачок, а он, падла, на встречную выскочил и перед самым составом сквозанул. Я, не тормозя, — налево по проселку вдоль путей, чтобы на следующем переезде выскочить наперерез. И забуксовал, пузом на рельсах застрял, ни туда, ни сюда. Ушел, гад. Ищи-свищи его камаз в Одессе.
Но камазы, они ведь не дикие. На следующий день узнаю, где гараж его. Приезжаю, спрашиваю: где такой-то. Да вон, на яме, ремонтируется. Точно — стоит самосвал на яме. Движок раскидан, инструмент разложен, куртка валяется. Даже бычок только что выброшенный, жирный такой, дымится. А шоферюги и след простыл. Жду его час, жду второй — нету. Иду в диспетчерскую, беру микрофон и на всю автобазу обещаю ему: "Все равно, гад, достану тебя. Не только из ямы, из шахты тебя вытащу. Дыши пока. Но — бойся."
Решил я прямо в общаге, тепленьким, его брать.
— Где муж твой? — у жены его спрашиваю.
— А Вам по какому делу он нужен? Нет его.
— По правому делу, — отвечаю и вежливо так в сторону ее отодвигаю и в комнату вхожу. Точно — нет. Выводок его сопливый, отец-инвалид — все на месте. А его — точно нет.
Баба его вой подняла, будто я в солдаты его брить пришел, дети — туда же. Отец-доходяга в ноги бухается, не тронь сыночка дорогого, мил человек.
— Что сделал-то он тебе, дьявол рыжий? — жена воет.
— А вот сама у ангела своего и выпытай, добрая женщина, — советую.
Зря я пришел. Никакого разговора при бабе его да при бате не получится.
Решил я дать ему месячишку, чтоб расслабился и бдительность утратил. Никуда он от меня не денется. Четыре месяца я дня этого ждал, еще и пятый потерплю, терпелки хватит.
Ровно через месяц, уже и снег выпал, с ночи еще становлюсь под общагой, глушу мотор и сижу-курю до утра. И все по полочкам месть свою раскладываю. Что я скажу, и что он ответит, а я ему: "На колени, мразь!"
Чуть опять не прозевал. Как-то быстро он с бабой своей выскочил и на трамвай побежал. Едва успел я жигулем своим поперек колеи стать и в дверь вскочить.
— Ну, слезай-приехали, мил человек. Баба его опять вой подняла:
— Люди добрые! Спасите! Среди белого дня убивают!
А народу в трамвае — битком, все на смену спешат, брось дурить, орут мне.
— Тихо, граждане! Дело правое. Никто гада этого пока еще не убивает. Просто выйти потолковать человеку нужно.
Народ видит, трезвый я вроде. Значит дело серьезное. Молчит уже народ, не заступается.
Три трамвая уже нам в корму звенят, а я все типа этого никак на свет божий вытащить не могу. Уже полтрамвая мне помогает, на смену ж, а все никак от перил дылду этого с бабой его припадочной оторвать не можем. Веришь-нет, вместе с перилами я его из трамвая вырвал. И с бабой.
— Не убивает пока никто твоего ангела, — говорю.
— Полезай с ним вместе в жигуль. Мне от людей скрывать нечего. Шоферюга аж посерел весь. Жены своей, наверное, еще больше, чем меня, боялся. А эта уцепилась в него, едем.
Привез я святое семейство это к себе домой, завожу в летнюю кухню, и свою из дому зову. Она как охальника этого увидела — в истерику.
— Успокойся говорю, Галюня. Сможешь повторить вслух то, что в письме мне писала?
— Нет, — говорит, — Колечка, не могу. Тогда обращаюсь я к дылде потному:
— А ты, Василий Тимофеич, расскажи-ка при жене своей, что в кухне летней вот этой самой полгода назад меж тобой и женой моей Галюней приключилось.
Только мычит что-то дылда и головой мотает. Баба его уже поняла все, в глаза ему заглядывает, правда ли.
— Хорошо, — говорю, — Есть у меня на такой случай письменный документ. Ты, Галюня, выдь, постой на дворе, если хочешь. Позже позову.
Достаю из кармана письмо то злосчастное и спокойно его перед присутствующими супругами зачитываю. Баба шоферова уже и сама готова в патлы ему вцепиться. Но не при мне ж, не при рыжем дьяволе.
— Подтверждаете, значит, Василий Тимофеич? Зайди, Галюня! Вот, Василий. На колени, и ноги целуй этой женщине. Простит она тебя, за то что снасильничать морячку беззащитную пытался, будешь ты жить. А нет, ничто тебя не спасет, не уйдешь ты из этой летней кухни живым. И ни хрена мне за тебя не будет. Я их еще в Пальмасе предупреждал. На колени, мразь.
Замялся дылда, а баба его завыла и сама Галюне в ноги валится:
— Прости ты нас, Галочка! — причитает.
— Двое детей и папаша-инвалид на иждивении!
Замолчи, добрая женщина. И поднимись. Тебя ей прощать не за что. Молчи. Пусть муж твой покается.
— Да ладно, Колечка, отпусти его, хватит, — Галюня моя говорит.
— Нет. Пять месяцев я этого дня ждал. Не отпущу живым, пока на колени перед тобой не бухнется и прощения вымаливать не станет, — и нож достаю.
Увидал дылда нож, бухнулся, подол платья целует ей, жизни просит. Столько я момента этого ждал и во сне видел, полгода ни о чем другом думать не мог, заговариваться начал, на Галку орать ни за что, а сбылось — никакого удовлетворения. Противно. Но попустило.
— Ладно. Валяй, пока добрый. И Келе, другу моему любезному, по гроб благодарен будь, — говорю.
— В первый день попался бы мне, не быть тебе живому.
Вру все: не хотел я его и в первый день мочить. Хотел штаны на нем ножом исполосовать, или еще как перед толпой опозорить.
Мужики говорят, две недели шоферюга всю Черноморку бланжем освещал. Это не от меня. От собственной супруги ему досталось. И пиво в бар не ходил он больше пить.
Такая вот кукольная комедия."
Вот тебе и Скользкий!
Это он на целый час раньше из койки катапультировался, только чтоб язык раздвоенный о зубы почесать, меня среди вахты развлечь?
И Кандей наш — тоже ни с того ни с сего внимательным больно стал. Вторую пайку чуть не насильно в меня запихнуть пытался. И опять про дурное в голову, и про то, что все бабы…
Упал в койку — не спится мне. Вот откуда ветерок-то. Быстро чижик оклемался. Талантище. Выходит, все мои контры с ним — из-за бабы. А раз так, то словам моим поверить — себя надувать. Не в себе я. Напраслину возвожу. Крыша у меня едет. Не заметно разве?
Бред помполитский все. И все деньги он налетчикам за документы выложил, ни по каким кабакам в Геленджике невест не снимал, не за что было. А если еще какую чушь Пашка нести станет, про суеверия всякие и словечки, связать его надо, чтоб до Херсона за борт не ушел человек. Нельзя такой грех на душу брать.
Может действительно уже поздно гвозди в крышу мою бить?
Скосил-таки помполитский маразм. Смутные сомнения терзают и покойнички с косами вдоль дорог мерещатся.
Может действительно — в кладезь добродетелей ходячих я плюнул?
Вежливый. Сдержанный. С благородной сединой. Всякую женщину в горе утешит. Последнюю рубашку с себя снимет. Копейки чужой не прикарманит. Друг для него — святое. И одну только правду глаголет, горькую правду.
О судоводятельских талантах молчу уже.
Но как ни иронизируй, все мои" смутные сомнения" оставались все тем же помполитским маразмом. В карман не положишь, в стакан не нальешь.
Я вот на ужине сразу и послал Кандея на хутор его кубанский. Сто лет мне невесты геленджикские не нужны были. А может, он о чем другом хотел сказать?
Да нет, чушь! Моя-то и видела злыдня Палыча этого всего два раза. В Феодосии, когда мы шинами грузились.
Сказала потом, правда. Учись, мол, у капитана своего. Сразу видно — культурный, вежливый мужчина. А ты даже подойти к женщине не умеешь: вечно то на ногу наступишь, то плечом заденешь…
Да нет, чушь! Даже по времени не стыковалось.
И все ж хорошо, что историю свою Скользкий не на траверзе Феодосии мне рассказывал.
Под Донузлавом вельбот за нами увязался. Как в кино: ракеты осветительные, "приказываю застопорить ход!", досмотровую группу к захвату мирного ПТСа изготовить! Поймал нарушителя границы.
До захвата не дошло: штивало изрядно.
— Откуда и куда следуете? Почему не отвечаете на вызывном канале? — мегафоном погранец ограничился.
Как ему объяснишь, что у нас всю вахту то цирк куда-то уезжает, то белые вороны по рубке летают?
— 93-ий, следуем из Батуми на Херсон, — отвечает Родион как положено.
— А рыбки не дадите? — решил отработать учебную задачу до конца погранец.
— Только чаю.
— Индийского?
— Индийский возить нам район плавания не позволяет, — Родион ему отвечает. И Панину:
— Как у вас в ВМФ? По глобусу Грузии зачеты сдают?
— Да что с него взять? Лейтеха… — махнул рукой Панин.
Уж мичманюга наш после встречи с рыбаками, хоть и с мандариновыми, не поплелся бы границу охранять натощак. Взял бы все, что дают, не морща аристократический нос.
А Дед Витька:
— Ты видел, как он забегал? До сих пор в каюте бумагами шуршит. Ты б сказал ему, что погранцы — не таможня. До грузовых документов им дела нет, если не настучат особо. И что отвалили они уже полчаса назад, тоже не мешало бы предупредить человека. А то он все бланки коносаментов бельевым штампом перепортит. Нет, ну ты видел?
Вышки на Родионовой вахте проходили.
Понатыкано их уже в море под Тарханкутом, как в Персидском заливе. Только что никакие иракцы по ним ракетами не шмаляют. И нефти нет. Все никак не добурятся. А так — один к одному.
— Знаешь, Пашка. Похоже, он уже шмотки пакует. Брал я у него справочник капитана, вернуть попросил, — Родион говорит.
— Это что, — говорю.
— Панин гранату на месте не нашел. Кто ее запаковал?
— Всех я уже поспрошал. Ты последний. Мы думали…
Зло меня взяло. Взрослые ж мужики. Еще чего думали? Мнется Родион.
Тогда я ему и выкладываю, чего еще.
— Так ты знаешь? Я ж просил и кубанцов, и механиков…
— А никто и не говорил. Вас только посылать с печальной миссией о смерти мужа помягче сообщить: "Здесь живет вдова Иванова?" Раз он именно так и сказал, значит точно ничего не было. К его словам капитанскую поправку, 180 градусов, прибавлять надо.
И тут меня наконец прошибло. Поправка!
Я — к столу штурманскому. Вот она — аккуратность в столбик. Восточное склонение. Истинный курс минус склонение плюс девиация… А на листке все по ученому — дельты да сигмы всякие.
Но не обязательно греческий изучать, чтоб плюс от минуса отличить.
Не может быть, чтоб так легко. Я рассмеялся даже. У меня извилина за извилину заворачивается, в Холмса и Ватсона друг с другом играют, филологические теории строят. А вот он — мой письменный документ на такой случай. Справка моя от психиатра: здоров! Реакция на помполитский вирус — отрицательная!
В справочник капитанский он, наконец, заглянуть решил! Так нет же там этого! Это ж даже не молодого матроса справочник ему нужен! Это ж — первый класс, вторая четверть!
— Слушай, Родион, — говорю.
— Заспорим?
— А на то, что под Очаковом гросс-адмирал наш судовождению тебя обучать захочет. Доверит командование судном в узкостях. В лоцмана произведет. Ты уж представительских ста грамм с него потребуй.
— Так у моторной лодки нашей — забровочное плавание, до четырех кабельтовых.
— Кое-кто может об этом не знать, — говорю.
— Ладно, заметано. На шашлыки и пиво по приходу.
О том, что мы мимо маяка Тендровского промажем, как всегда вправо снесет, я пока не стал спорить. Но шашлыки Родионовы — плакали.
Желудочный сок у меня начал вырабатываться, едва Кинбурская коса открылась.
И как Суворов гонял по ней турецкий десант? Коса эта — одно название, что берег. Узкая, как шампур.
— Судно, входящее с моря в лиман, ответьте Лагерному-94! — ожил погранец с Первомайского острова.
До революции назывался он островом Морской батареи.
Во время революции на нем ожидал суда лейтенант Шмидт, который на самом деле был в чине капитана второго ранга. Судили его зачем-то в Очакове. Городе, одноименном с его мятежным крейсером.
— Вобщем, заступай, Родион. Попрактикуйся. Действительно, зачем нам человека со стороны на старпомское место брать? Не боги горшки обжигают. Я на крыле буду. В случае чего подстрахую.
Как тут английским юмористом не будешь? Знал я, что ничего нового тенор наш придумать не в силах, но не так же дословно.
Бог ты мой! Как раз и я, и Кела на мостике, меняемся. А он — слово в слово. Вот что значит хорошо текст отрепетировать.
— До шестого колена канала, я, пожалуй, с закрытыми глазами еще только не практиковался. Мой буксир к Черноморскому заводу пять лет прикомандирован был…
— Извини Радичек, забыл совсем. У тебя ж и жена николаевская? И как? А у меня вот…
Если б он в "Евгении Онегине" вдруг запел арию варяжского гостя, партнеры по сцене упали бы на задницы более мягко, чем мы с Келой.
На Станиславо-Аджигольских створах Родион вытребовал меня на руль.
— Я по Херсонскому каналу давненько не ходил, в 86 последний раз, когда землечерпалку на Чернобыль буксировал.
Палыч, как и обещал, "подстраховывал" Родиона на крыле: разглядывал в бинокль баб на прогулочной палубе встречного пассажира. Один раз только действия лоцмана-Родиона серьезно обеспокоили наставника: когда Радик собрался в гальюн по малой нужде.
На Больших Касперовских створах Радик, не отрываясь от бинокля, запросил у своего капитана-наставника технической помощи: глянуть по карте, какой там компасный курс на колене получается.
— Восемьдесят и пять десятых — вычислил в столбик наставник.
— На румбе, семьдесят — доложил я, исправив сразу на десять градусов. Чтоб не цацкаться.
— На створе! — подтвердил Радик. А как же иначе?
Радик посмотрел на меня абсолютно неазиатским взглядом: глаза на лоб что у татар, что у хохлов — одинаково лезут. Соображал Радик быстро, не в пример своему наставнику.
— Не люблю я по речкам ходить. Створы, буи слева-справа. Как по проспекту. Думать не надо, — сказал капитан Олег.
— 93-ий! Вошли вы уже в Рвач? Пошевеливайтесь. Там "Юлиус Фучик" на Широком Плесе навстречу вам идет, — сразу же откликнулось Кизомыс-радио 18. Оперативно, как Бог, который, как известно, не фраер.
Откуда он все же взялся на нашу голову, этот Палыч? Вот что за дурища "Юлиус Фучик", он определенно догадывается. Смотри, посерел как. За папиросу, как утопающий, схватился. Забыл даже, что только "мальборо" курит, Дик Сенд наш сорокалетний.
Дачный сезон на Потемкинских островах был в разгаре. Рыбаки удили с мостков, дети плескались у берега, нескромно, топлесс, загорали на мостках раскрепощенные херсонские женщины. На каждый проходящий по каналу ПТС обращать внимание — много чести. Да хоть в телескоп пусть глазеет, нахал.
Родион так же мастерски, как с "Фучиком", расходился с водными велосипедами у гидропарка. Занервничал, правда. Черт его знает, что у этих велосипедистов вместо мозгов! Любимую присказку про взрослых мужчин, занимающихся ерундой, к пацанве этой не применишь.
Из-за Карантинного острова уже открывался нижний рейд. И плыли по течению белые хлопья. Какой-то турок-тысячник грузился в порту удобрениями.
Херсон надвигался на нас неотвратимо, как расплата за грехи.
— Так я не понял, — сказал Скользкий.
— Не мог же он сбежать без диплома. И шмотки все на месте. Магнитофона только нет.
— Витька, по-моему я догадываюсь, куда ушли четыреста из девятисот долларов, — сказал я.
— По-моему, грузинам фиолетово, что номер там был механический.
Капитан Палыч сошел на берег, едва мы подали на причал концы.
Капитан дальнего плавания Жаров отсутствовал на судне уже третьи сутки.
Теперь я всегда узнаю фамилию капитана, прежде чем наниматься на судно. Впрочем, суда одесской, мариупольской и батумской приписки в этом отношении безопасны.
Все не так плохо: за время моей борьбы со скудоумием и косноязычием, стали палычебезопасными еще, как минимум, три порта.
Не то, чтобы мне было тесно на одном море с капитаном Олегом, но я вздохну поспокойнее, когда он переберется на Балтику.
Октябрь 93 — Июнь 96
АБАНДОН
Управа получила свои смешные деньги. Инфляция только усилила комический эффект.
Начальник получил свои карманные деньги. Пришлось даже менять фасон пиджака: в карманах жал.
Московский фирмач из нерасставшихся с комсомолом получил свои дурные деньги. На счёт в зарубежном банке.
И пароход загнали к чёрту на кулички. В Африку. В бербоут чартер. Официальная версия — рыбу ловить.
Была тогда такая тема — загнать пароход, а там — хоть трава в саванне не расти. Это потом поумнели, когда пароходы на Чёрном море кончаться стали.
Единственными, не получившими своих денег от сей сделки века, оказались мы.
Но мы-то на пароходе оставались. Собирались всё-таки основательно: кондиционер, гирокомпас, спутник, эхолот-цветник установили, холодилку в трюм тиснули. Ни на одном малыше черноморском сроду такой аппаратуры не видывали. На местном лову как привыкли: пять суток на промысле — и додому. Для них и магнитный компас — излишество. Выпей весь спирт из него, не заметит никто, пока сам похмеляться не полезет. Но океан — не Белгород-Днестровская банка. И даже не остров Змеиный. Да и народ весь подобрался — из бывших.
Кэп наш доплавался до старпома на "атлантике." Вы не смотрите, что из старпомов — в капитаны. Если, скажем, второго пилота "боинга" посадить командиром корабля системы "кукурузник", вряд ли он это повышением назовёт. Но что делать, если "боинги" на якорях ржавеют, а "кукурузники", хоть и как фанера над Парижем, но летают ещё? Руки-то по штурвалу — ой как тоскуют. Особенно, если денег уже нет, чтоб на берегу сидеть.
Со старпомом, Никитичем, — та же самая история. Но в точности наоборот. Жизнь повыситься до старпома заставила.
Он у нас из пожизненных вторых помощников. На рыбаках вторые харчами заведуют. И, случается, так приживаются на заведовании, что никакие посулы высоких старпомских зарплат, новых карьерных горизонтов, никакие истерики кадровиков, уже не могут продвинуть их вверх по служебной лестнице. За перила этой самой лестницы цепляются, ногами в ступеньки упираются, хоть в колючие кусты, только не в старпомы.
Никитич был из убеждённых Вторых. Из рейсов, правда, не вылазил, спарку за спаркой молотил то в Индийском, то в Атлантике, то в Тихом. А "спарка" — это минимум восемь месяцев без подмены, и берег за всё время дважды видишь: когда на судно в порту садишься, и когда с него слазишь.
Тут соврал. При спарке — четыре раза. Не все ж такие проверенные моряки, как Никитич. У верботы какой-нибудь из промтолпы и крыша от таких больших доз Океана ехать начинает. Но суть верна: если уж пароход до района промысла дочапал, ни к чему его посреди рейса срывать и через весь океан гнать в Буэнос-Айрес или Лас-Пальмас, чтобы тралмастер Петров устроил пьяный дебош в ресторане с побиванием подвернувшихся под тралмастерскую длань тщедушных филиппинцев с либерийского танкера.
Вода в танках вышла — бункеруйся с плавбазы. А то и дистиллатом запей — не до зубов, в фиксах походишь.
Топливо на исходе — уже танкер батумский на горизонте коптит.
Без ананасов и куриных окорочков ноги протягиваешь — организовывай связь с выходящим из ремонта судном, они и на твою долю, так уж и быть, прикупят в Пальмасе.
Тропическое вино в двухсотлитровых бочках возили и брали с запасом. Кончалось, конечно, ещё до Гибралтара (если шли на промысел своим ходом с Чёрного моря, а не меняли экипаж самолётами в инпорту). Но тут уж — терпи верблюд, готовь горб к приходу в порт. Никто ещё от трезвости не умер.
Рыбу девать некуда — на муку её пускай. До подхода транспорта…
Короче, система работала, как Аденская копия Биг Бена до ухода англичан из Йемена. Всё для тебя, рыбак. Даже в небе — и то "горит, горит, гори-и-ит звезда рыбака."
Только рыбу стране давай взамен.
Песцы на зверофермах чахнут. Куры без рыбной муки нестись отказываются. Торгсины план без твоих бонов бумажных не вытягивают, не знают, куда мохеровые кофты и люрексовые косынки складировать. Лови рыбу-фиш, рви пай под жвак, до установленного министром рыбного хозяйства потолка. Это сейчас — черта бедности, а тогда о черте богатства больше беспокоились. Нехорошо, если матрос-уборщик на пай получит больше, чем министр. С секретаршей и замами впридачу.
Привыкаешь к такой жизни, втягиваешься. Да и скучно не было. Промысел — это ж не один среди волн, как Чичестер. Ночью выйдешь на палубу — сплошные огни кругом. Ялта так по ночам не светилась, даже когда ещё перебоев с электричеством не знали. На прямой видимости, на пятаке двадцать на двадцать миль, до ста двадцати пароходов вертится, рыбу ловит.
Не только наши. И мурманчане, и западники, и дальневосточник, глядишь, забредёт с другой стороны шарика. Поляки, кубинцы, испанцы с марокканцами тут же тралят поперёк курса, на свал так и норовят тебя спихнуть. Япошки — эти с тралом не утюжили. Всё прибамбасы какие-то. Не джигер, так ярус. Кошелёк на худой конец. Им сардина и на наживку не надь. Тунец давай. Кальмар — карасо.
Две вахты отстоял, в рыбцеху четыре часа подвахты шкерочным ножом помахал, с народом заодно пообщался, кино про поющую женщину десятый раз посмотрел — и на боковую.
Сон после рыбцеха — младенческий.
Воздух — морской, целебный.
Жратва — от пуза. Деликатесы рыбные — в любое время суток. От кальмара с каракатом — несварение в членах наступает.
Трал переработали, второй пошёл, третий в уме, — глядишь и полный груз мороженной продукции — уже в трюмах, при минус двадцати зябнет.
Груз на рефрижератор транспортный, "сквозняк" какой-нибудь севастопольский, сдали, второй — а там и до конца рейса две бани всего осталось.
Дети, и не чужие, а свои собственные, при такой системе работы, правда, очень уж быстро растут. По дочке Никитич заметно скучал. В отношении её мамаши такого за ним замечено не было, а в мелкой — души не чаял. Накупит ей всякой мануфактуры в Пальмасе, нас всё достаёт, вы, мол, помоложе, чё счас девки носят, а чё нет. А мы последнюю девку полгода назад видели, как они при купании голяком выглядят, уже забывать стали, не то что, чего они там с себя перед этим снимают.
Мы, было дело, и издевались втихаря:
— Вот энти вот очёчки, под робота, с лампочками во лбу, очень твоей прынцессе пошли бы. Прикинь, Никитич, ни у одной девки на танцульках таких — гарантийно нет. Все женихи опадают, как кленовые листья под тропическим ураганом, а подруги — желтеют от зависти, как чернобыльские ёлки.
А он возьмёт, и в самом деле у индуса этого очки купит. Тот два квартала за нами бежит, благодарит с поклонами: продать до двадцать первого века не надеялся, а Никитич — доволен, как кашалот после случки в Аравийском море. А ведь точно, таких очков — ни у одной не предвидится.
Мы тогда уже с другой стороны клинья подбивать начинаем. Это ж какой тесть выгодный простаивает. Лет десять уже Вторым. Колбасы, замороженной как мамонтёнок Дима, и вина тропического — на три свадьбы наэкономил уже. Девка — прынцесса, вся в шелках и панбархате. Тратиться на шмотьё не прийдётся. Машина, гараж…
А Никитич нам:
— Вы, мужики, с тёщей будущей сначала познакомьтесь, как я её, змею очковую, знаю. Может, и жениться перехочется.
Непонятный и двусмысленный ответ, прямо скажем. То-ли он нам кобру свою вместо дочки сватает, то-ли от крупных жизненных ошибок, как змеелов со стажем, предостерегает. То-ли очки эти куплены совсем не для дочки, и — с намёком.
Такие дела.
На отходе Никитич больше харчами по-привычке занимался. Уж он-то эту кухню… Тушёнки на базе нет? А если…
Что "если" — это уж его, Никитича, профессиональная тайна. Напиши, что именно, все капитаны назад во вторые побегут. При харчах по нынешним временам — куда надёжнее.
Короче, не только провизионка с артелкой, и трюм харчами на отходе забит был. Рефмеханик бухтел конечно: это ж ему ещё и трюм весь переход до Африки охлаждать. Кэп даже засомневался, стоило ли. Действительно. Только на переход взять, а там выскочил, порыбалил — и снова в порту. Прибрежный лов всё-таки. Он и в Африке — прибрежный.
— Не знаю, Фёдорыч, какой там лов предстоит. Лов — ваше капитанское дело и головная боль. А вот стол — моё. Охлаждать — не яйца высиживать. Я и старпомом-то, может, пойти согласился только потому, что на вашем "супере" второго помощника в штатном расписании не предусмотрено.
А оно и правда, из рядового состава — один поварёнок Витька. Все — комсостав. Радист, рефмеханик, механик электрический — на руле стоят, а боцмана тоже к рядовому составу не отнесёшь. Сократили экипаж — дальше некуда. Но это на переходе тяжеловато при двусменной вахте, а в прибрежном лову — вроде как и ничего. Если, конечно, все — рыбаки, и бобинцы от кухтылей отличают. С Маркони, правда, сомнения были. Но тралмастер у нас был опытный, не одного оболтуса, только из-за парты, дырку с дыркой связывать обучил. Чем радист от оболтуса в этом смысле отличается?
Короче, дошли мы до этой самой Африки в лучшем виде. Даже краску на бортах ржавчина побить не успела. Погода на всём переходе — как в Останкинском пруду на заставке центрального телевидения.
Хлебом-солью не встречали, но быстренько в порт завели, фирмач московский, на лбу штамп "оплачено ВЛКСМ" ставить некуда, с местным своим компаньоном на джипе на причал прикатили, два ящика гуляющих джонов с барского плеча на экипаж выставили, а кэпа со старшим механиком — с собой увезли. То-ли комсомолец этот пожизненный решил сделку с сафари совместить, то-ли деньги предпочитал хранить не в банке, а в кейсе. Наличными.
Мы бы лично, и в банке не отказались бы. Мороки с ней, конечно. Объясняй на всех границах, что эта зелень — никакие не огурцы, и карантинному контролю не подлежит.
Никитича кэп тоже хотел с собой в джип впихнуть, но тот отказался.
Во-первых, быстрой езды между пальмами не любил с того момента, когда врезался в неожиданно выросшую перед его "жигулём" ёлку.
Во-вторых, плавок с собой не брал в рейс, а их на буржуинской вилле черти черномазые обязательно заставят в бассейн сигать, как при проходе экватора.
И в-третьих, должен на пароходе хоть один вахтенный штурман даже в порту про запас быть. Приливы здесь — вон какие.
Короче, решил с народом и гуляющими джонами оставаться до конца.
Девятью месяцами позже даже эта его солидарность о-о-оченно нам пригодилась. Но всё по-порядку. Не мериканцы, чтоб сначала закусывать, а потом, значицца, пить.
Всё объяснилось в тот же вечер. Или на следующее утро, если по московскому времени.
Не просто так фирмач прикатил, а по культурному обмену. С кордебалетом из варьете какого-то вологодского. Или ансамблем песни и пляски? Чёрт их не различит, если и тех, и других до ниток от бикиней раздеть и в бассейне перемешать.
Был бассейн, не зря Никитич опасался. Однако у буржуинов такие конфузы предусмотрены. Иди в раздевалку, выбирай себе плавки. Какой хочешь размер и фасон. В упаковке, чтоб не сомневался.
А вот, экскьюз ми, ссать в бассейн не рекомендуется. Вода от этого сразу цвет меняет. Чего-то в неё подсыпано. Какая-то наша то-ли стриптизёрша, то-ли девушка-берёзка перед этим, не знаючи, опростоволосилась. Покраснела, как при первом показе стриптиза. Но буржуин не возникал, может, оно и на берёзовый сок цвет меняет, откуда нам знать. Воду быстренько сменили — и всё.
Это нам стармех, Валёк, потом рассказывал. Он ещё моложе кэпа был, даром что Дед.
Кэп всё плевался потом — не культурный обмен, а форменная гребля с пляской получается. Арапы — ясно, они ещё с Петра Великого до наших баб охочи. Но плясуньи наши…
А Никитич ему:
— А ты почём знаешь? Может, как мужики, мы им в подмётки не годимся? Ты вон в семьдесят девятом, в Лагосе, как негритосок нахваливал. Опять же, — глядишь, не обеднеет на Пушкиных земля российская.
Позволялось Никитичу даже кэпа подкалывать. Потому как этот самый Юрий Фёдорыч, только ещё не капитан, а третий помощник, плавал с Никитичем ещё при царе Малыя и Целинныя земель, Ильиче Втором Целовальнике. А Никитич, вестимо, уже тогда — тоже Вторым был.
— Я вот в толк до сих пор не возьму, то-ли лангуст у них такой дорогой, то-ли женщины такие дешёвые. Подъедет мулатка какая-нибудь под трап: на собственной тойоте, одета по-европейски, ноги — от золотых серёг в ушах растут, что за пазухой, что под юбкой — туго, хоть вместо кранцев её между бортами подкладывай, талия — осиная, одними пальцами обхвачу кажется. А цену сама ж себе назначает — брикет шейки лангуста. Забрала, увезла на пляж за городом, всю ночь над тобой произгалялась, и невредимым, но сильно потрёпанным, под борт доставила. И цена всему — десять кило шейки. Был бы в те времена батюшка на СРТМах — повесился б, бедняга. Хрен команду при таком безобразии соберёшь на отход, не то что каждого исповедовать.
— Стареем просто, кэптэн. Ты плясуньям нашим не как европеец, а просто как старый хрен неитересен. Стармех вон что-то не жалуется. Ты думаешь, чего я отказывался ехать-то?
— Да уж, глядишь, до Мотопана теперь парень спать не будет, — кэп ему строго так отвечает.
А Мотопан, это такой специальный карантинный мыс в Греции. Если до него из черноморского порта дошёл, и без водотечности обошлось, значит пронесло. Образно это кэп сказал, до Мотопана нам теперь — слонёнка родить можно, а не только намотанные на винт водоросли антибиотиками соскрести.
— Скверно другое. Фирмачу нашему вчера ещё не до нас было. Сегодня — уже не до нас. Ансамбль пляски с греблей уже на Конакри пуанты салом смазывает. Когда ж о делах, о рыбалке он договариваться собирается? Обещал к десяти подъехать, а уже и обед на столе.
Приехал фирмач под вечер, шары навыкате, штамп на лбу — багровый, и почему-то не к кэпу а к стармеху в каюту сразу:
— Ты с Ленкой Селезневой. вчера был?
— Это с такой белобрысенькой, в бирюзовом таком купальнике? Нет, не я. А что случилось-то? Потерялась что-ли?
Да, тогда ещё невозможным считалось девку нашу с концами в бардак какой-нибудь голландский сплавить, и по шапке за это не получить. Культурные обмены выдумывать приходилось, и даже на обратные билеты для девок тратиться. Не погладил бы фирмача по-головке культпросвет, или там — филармония. Где он там девок в аренду брал? Но билеты на самолёт куплены, в консульство фирмач сообщил, и на Дакар улетел. По поводу рыбалки только и успел кэпу сказать, что Джон, не гуляющий, а вчерашний компаньон, — полностью судном теперь, и нами, стало быть, командует. Зарплата, харчи, вода пресная, топливо, сборы портовые — всё на его счёт по договору отнесено. Сам договор — в отеле забыл. Копию с Джоном передаст, не до того, к консулу ещё ехать докладываться, сами понимаете…
— Да, Фёдорыч, как бы нам самим теперь не пришлось попробовать, какие они мужчины, — философски заметил Никитич.
— Да мне тоже всё это не нравится, запрошу управу, как только из порта в море выйдем, — Фёдорыч отвечает и на Маркони смотрит. Дескать, управу на провод мне — незамедлительно. В первый же день промысла.
Но, пока не на промысле, народ наш времени не теряет: ченчует потихоньку кто конец пропиленовый, кто бронзу с баббитом, кто чего припас. Быстро как-то джонни волкер весь вышел, сами не заметили, как. А на трезвую голову не очень-то и с филиппинцами подерёшься, понимать надо.
Возвращаются как-то боцманюра с рефмехаником с берега, навеселе, ржут и Деда подкалывают. Ни один филиппинец, дескать, так и не подвернулся, аж противно, семь баров и даже один дорогой ресторан прочесали, а они — как в воду канули. Но на что-то другое, очень интересное набрели. В кабаке том самом. В промежутке между двумя джинами удалось акробатический-хореографический номер один посмотреть."Оленёнок Бэмби" называется. И как они джин этот пьют? Ёлка ёлкой.
Но тут Фёдорыч к разговору этому прислушался, и сразу филиппинобойцев наших — на короткий бакштов:
— А откуда, голуби мои, местная валюта на кармане завелась? Что уже толкнули?
Мялся-мялся боцман, бухта каната, говорит. Ненужного, списанного. Собрал тогда кэп нас всех в салоне, и говорит:
— Ченч прекращаем. Нет у нас на судне больше ничего "ненужного". Будет рыба — будем смотреть, можно ли её налево "списать". А со снабжением — баста. Никакой транспорт из Союза бухту эту тебе не доставит. Кончились времена. Моменты начались. Понимать надо. Кто не понял, в один секунд в филиппинца лично вот этой рукой превращать буду.
А рефик ещё:
— Ты, дракон, лучше расскажи, как по лапотной простоте тампаксы за сигару принял, и подкурить прямо в магазине пытался…
Так мы и забыли про "Оленёнка Бэмби". А зря.
Нет, пока рыбалка у нас шла, жаловаться на невнимание Джона ихнего нам, пожалуй, не приходилось.
Каждый приход в порт на причале встречал. Во все тонкости вникнуть норовит, лично в трюм, в машину спускается, везде нос свой любопытный суёт. Сына своего нам стажёром посадил. Он года два назад "тюльку" херсонскую за бананы закончил, и, видимо, в самых дипломированных рыбаках страны и окрестностей ходил.
Петушистый такой Джонёнок, даром что мелкий. Всё норовил кэпа с Никитичем научить рыбу правильно ловить. А Никитич возьми и дай ему однажды за ручки подержаться: лови, Джончик, чего ссориться?
Как тралмастер потом Джончика за борт не смайнал, до сих пор удивляемся. Нижняя пласть, от подборы до кутца, — в клочья. Джончик на мост заскочил, за спину Никитича спрятался:
— Мне капитана сам приказывал! — сперепугу даже в должности Никитича повысил.
Ну что ж, Джончик. Порвались. С кем ни бывает. Вместе рвались, вместе и шиться будем. А то мы — тралы в ошмётки рвать, а тралмастеру с народом — чиниться теперь всю ночь? Не по-рыбацки получается, не по-товарищески. И даже не по-джентельменски и не по-мистерски.
Скис Джончик, но делать нечего. Идёт вместе с Никитичем на промпалубу, иглицу ему в руки суют, восьмого номера бобину, а он, бедняга, и намотать нить на иглицу не умеет. Ладно, подержи вот здесь лучше. Вот здесь подрежем. То принеси, это подай, а теперь отойди, не мешай.
Совсем специалист дипломированный скис. В порт пришли:
— Плохой пароход ты мне купил, — папаше своему жалуется.
— Почему плохой? Вон сколько рыбы поймали.
— На нём только белые люди ловить смогут.
А оно действительно, мы к ихним сейнеркам местным присмотрелись поближе, неплохие судёнышки. Втроём на них работать можно. Дуплетом. Всё автоматизировано, аж противно. Один трал тянешь, другой под борт подобрал, не подымая, и рыбу из него вытряхиваешь. И трал — не трал, а драга скорее. Волоки по дну, всё что на нём живого и неживого есть греби. Отчего так не ловить? Когда на всю страну — пять сейнеров, можно и так, конечно. А у нас вон даже донными тралами ловить давно уже запрещено. Мы один трал ставим сорок минут вче… да, четверо на палубе, как минимум. А у них: кнопку нажал, — и пошёл трал. Никакого тебе таскания железа и тросов врукопашную, как у белых людей.
Но зато уж на двадцати пяти метрах под килём, когда раскрытие трала — тридцать, нашей-то авоськой всю рыбу за бортом, включая бакланов и пингвинов, за одно траление обловишь. Не рыбалка, а лафа. Лови себе в экономзоне, ночи не жди, огни не туши, за забор под крупнокалиберные пулемёты не лазай.
Как же тут не ловить?
Джон и на Джончика уже не очень смотрит.
Пива вам? Сколько ящиков? Хейнекен, или жигулёвского, может? Воду питьевую — и ту чуть ли не из самого Боржома заказывал. Это Никитич настоял. Можно конечно и делагил жрать, у кого печень запасная есть. Но из минералки готовить — надёжнее.
За первый месяц выходили мы на рыбалку трижды. И так нам Джон со своим вниманием надоел на приходах: это ж ни ящика рыбы налево не спишешь.
Зарплату бы так исправно платил, как по трюмам лазил.
Но от сердца отлегло. Да и из управы успокоили. Была тогда ещё связь. Да, есть в договоре пунктик об аренде с последующим выкупом. Но это если фирмач московский за год стоимость судна управе выплатит. А до этого пока далеко, как до всемирной победы социализма с людским лицом. Как-то это они интересно ещё обозвали по-учёному. Лизинг, что ли? Радист трижды на радиоцентре переспрашивал. Всё ему непонятно было, кто, кому и чего лизинг. Мы когда уходили, ещё только "консенсус" все изучали.
Во втором месяце на рыбалку вышли только раз. Он же последним оказался.
На этот раз ночью спецом вернулись. Всю креветку из прилова ченчёвщику одному пихнули, договорено уже всё было заранее. Вот и зарплата, толпа, сама собой заработалась. А то Джон наш что-то не очень шевелится купюрами шуршать да отслинивать.
Ждём его всё же.
Я ещё на вахте как раз был. Подкатывает к трапу тойота какая-то. То-ли Джон на нас и впрямь до японских машин разорился, то-ли… Честно говоря, мне почему-то рассказы Никитича о мулатках лагосских уже вспоминаться начали.
И точно, женщина из машины выходит. Но — европейка. С этой за пак даже не столкуешься. Француженка. Или немка, скорее. Блондинка потому как. И — вся в чёрном. Свитерок облегающий чёрный. Юбка до пят, сапоги ковбойские — кирза кирзой. И шаль — чёрная, и очки. А солнце уже взошло и жечь начинает. Не знал я ещё тогда, что с таким кондиционером, как в тойоте, и в аду северный полюс устроить можно. Так что носи хоть унты вместо сандалей. Не взопреешь. Хочешь быть женщиной в чёрном — будь ей.
Только вместо пояска — золотая цепочка с самородками наискось на бёдрах побрякивает. Нечего там было подтягивать пояском. Даже жаль, что не мулатка, а скандинавка какая-то.
Идёт англичанка эта к трапу и:
— Варежку захлопнул бы, — мне советует.
— Валика вызови, — русским языком мне говорит.
А я и по-русски понимать уже перестал от неожиданности. "Вот тебе и Оленёнок Бэмби,"- думаю.
— Стой, — говорит, — вы что, не знаете ничего, хлопцы?
Переворот в Москве. Танки на улицах. Горбатый — в Крыму дачу перестраивает, Бориска — в Белом Доме окопался. Си-Эн-Эн весь день вчера показывало.
А мы, значит, всё рыбу ловим!
Путч в Москве. В мозгах не укладывается. Даже само слово — арабским, или там — латиноамериканским, на слух кажется.
Рефик наш в Адене как раз во время переворота ихнего стоял. И — дизеля раскиданы. Так механики за одну ночь всё собрали, только б с внешнего рейда дёру дать. Снаряды ж просто над головой через залив летели. Грек один под горячий залп попал, прямо на якорном месте килем кверху опрокинулся и булькнул. Странный переворот был, как соколиная охота на медведей. Бронетанковые силы на одной стороне, авиация — на другой. Кто за большевиков, кто за коммунистов — не поймёшь.
Говорят, планировали первым арабским космонавтом не сирийца, а йеменца сделать. Но во время этого переворота командующий ВВС приказал четвертовать и его, и дублёра.
А Никитич, тот в Сомали однажды рыбку ловил, когда случилось охлаждение взаимности, и всех наших специалистов попёрли оттуда метлой из пальмовых ветвей. Он даже на сомалийском "атлантике" каком-то, у нас же купленном, в загранкомандировке был. Весь рядовой состав — ихние.
Ну, пришла шифровка из управы. Сомалийцев всех — на берег. Судно гнать в Аден. Легко сказать. Промтолпы на "атлантике" — втрое больше комсостава. Но и тут выкрутились. "Остров Сокровищ" почаще читать надо. Вывезли большую часть на боте на берег, в увольнение якобы. А с остальными — как в задачке про козлов, волков и капусту. Больше чем по двое в бот не сажали, наших — только третьего механика с Никитичем на перевозку капусты выделить смогли. Сомалийцы матерятся (этому они в первую очередь от наших специалистов обучились): отсюда до Могадишо им недели две, часто меняя верблюдов, добираться. Толпа с дрынами уже по берегу бегает, бот с Никитичем поджидает. Но сомалиец, он сомалиец и есть. Там бухточка была. Никитич то на один мыс очередную партию высадит, то на другой. А чёрные братья, вместо чтобы разделиться, вокруг бухты с дрынами каждый раз гоняют всей толпой.
Оно и хорошо, что далеко от столицы братию высадили. Только на Аден оглобли завернули — уже из Москвы криптограмма. Что они там, договориться между собой никак не могут? Приказано следовать в Могадишо, забрать береговых специалистов наших с семьями и представительство министерства эвакуировать. Перекрасили трубы, название замазали, — и пошли. А что делать?
А вот что делать, действительно, если дурдом этот уже не на внешнем рейде Адена, и не в Могадише, а в порту пяти морей заваривается?
Куда бежать? Не паниковать? Приветствовать восстановление порядка в стране? Как-то не тянет нас назад в этот порядок. Политического убежища просить под пальмами и кактусами? Семьи у всех, однако.
Стали с ближайшим промыслом нашим, под Западной Сахарой, связываться. Там тоже — никто ничего толком. Даже флагмана.
Джон приехал попозже. Бэмби уже новостями из своей личной жизни напоследок поделилась, борщецу навернула и укатила.
Устроилась ничего. Хозяин кабака — богатей местный, но — жмот. Не для того она от комсомола сбежала, чтобы на тех же любительских началах, на шарика, греблей заниматься. А за хореографию жмот платит — страусам на смех.
Но ничего. Вроде, повёлся один бойфрэнд пощедрее. Цепочку вот презентовал. Нет, машину — ещё нет. Отдолжила, чтоб к нам съездить. Ничего, схавает. А не схавает — скатертью дорожка. Они все половые маньяки какие-то, на белых бабах помешаны просто, так что промысловых объектов хватает. Не пропадёт наш оленёнок в джунглях африканских, держи карман шире. Нужно будет — танец живота разучит. Молодость одна дана, а пенсия у кордебалерин — ранняя.
Только вот, борщу иногда до спазмов в желудке хочется. И речь родную, желательно с матерком, слышать охота. Витька наш, поварёнок, борщу вчерашнего ей налил миску, обматерил, как в столовке портовой, и стал невзначай выяснять, все ли желания гостьи этим исчерпываются. А она ему:
— Витька, вот представь, вырвался ты с камбуза своего в бордель, а там — борщи, борщи, борщи…
Но приехал Джон, кэпа с собой в офис забрал. Тоже переживает, каким концом московский междусобойчик по нему, Джону, и бизнесу его ударить может. Это ж может так случиться, что месяц всего отработали на него — и бай-бай Джонни. А то ещё, чего доброго, линкор "Парижская коммуна" вызволять нас из Джоновой кабалы пошлют. А издержек уже понесено — порядочно.
Такие дела.
О том, что мы снова самостийны, узнали с промысла, от одесситов.
— Это ж под каким флагом нам теперь? — первый вопрос.
— Да понимаю, что жовто-блакытный, каким полотнищем вверх его поднимать?
Этого даже одесситы не знали.
— А ты, Юрко Фэдоровычу, нэ поспишай, — Никитич сразу на родную речь перешёл.
— Свидетельство на право плавания под флагом СССР у нас? Другого не выписали пока — значит нечего и занавески переводить.
Стали разбираться, кто есть ху, как первый и последний общий наш президент говаривал.
Второй механик — бульбаш.
Валёк — херсонский. Старший механик в третьем поколении.
Рефик — одессит с французской фамилией. Не ха-ха, действительно Ле Тамбур. Барабан по-ихнему. Дедушка от интервентов отстал.
Кэптэн — крымчанин. Болгарин, если копнуть. Георгий Тодорович.
Тралмастер — кубанец. Только шашка — укороченная, рыбацкого фасона.
Радист — Гоголь фамилия. И даже внешне похож, не без того. Витька — ростовский босяк.
Боцман — вообще татарин. Рахматулла зовут, а не Толик совсем, оказывается. Рахматуллу ни один кадровик на всём Крымском полуострове на работу не взял бы.
Какой нам флаг поднимать с таким раскладом прикажете? Мы ж даже, как они там Крым поделили, не ведаем.
— Никитич, а ты кто будешь?
— А по усам не заметно? — спрашивает.
Ну, усы как усы. У Рахматуллы нашего — более шевченковские, пожалуй. И по-украински татарин наш не хуже Никитича бельмечет. Он ведь на хохлушке женат, а не на кобре, как старпом.
— Работал я с одним рефиком, Трифонов фамилия. Он в Лиепае, в ремонте, женился, — издалека начал Никитич.
— Так вот, жена у него была по фамилии Трифоновите, дочка — Трифоновите, сын — Трифонаускас. А сам Трифонов через год совместной жизни таким ярым националистом заделался, как в лесные братья не подался, не пойму. Предлагаю по жёнам определять. Бабы — они всей мировой политикой вертят, как та ленинская кухарка.
Прикинули мы с такой точки зрения — все мы херсонцами получаемся. Не порт, а бермудский треугольник какой-то. А основан — Ганнибалом. Тем самым арапом Петра Великого, дедушкой поэта Евтушенко.
— А из флагов нам лучше всего сейчас весёлый роджер подошёл бы, — добавил Никитич. В точку, как всегда.
Проблемы у Джона нашего, похоже, в самом деле начались. Месяц уже у причала стоим, никак он топливом нас не забункерует. Всё на тяжёлые времена нам жалуется, цены на топливо-де резко выросли. Ещё бы, тяжело, имея три цистерны топлива на всю страну, хуссейнов бойкотировать.
— Ладно, есть один вариант, — мы ж сердобольные, подсказываем. До ближайшего района промысла топать нам — двое с половиной суток. Полный бункер топлива — на десять суток работы.
— Улавливаешь мысль, Джончик? Наличка нужна. Берёмся мы, так уж и быть, на личных связях забункероваться по абсолютно демпинговым ценам. Так что бери у папы чемодан денег, готовься. На трое суток ходу наши механики, так уж и быть, в закромах машинного отделения топлива поищут.
Уловил Джончик мысль.
А может, вы и в водяные цистерны топливо возьмёте? Чего, мол, порожняком гонять в такую даль.
Папа ещё лучше уловил. А может, вы и рыбу на промысле "на личных связях и по демпинговым ценам" организуете?
Цистерны поганить Фёдорыч не дал. Зря мы их не по бумажкам, а на самом деле пищевой краской перед рейсом красили? Только кормовую, может. Мы ей не пользуемся.
Сразу и проблемы у Джона нашего кончились, и денег чемодан нашёлся, и бочек порожних под масло целый грузовик подвёз.
Договорился капитан с братским судном одним о точке рандеву, чтоб и нам поближе, и ему не у флотинспекции под носом. Ну и гуляющих джонов некоторое количество на эту морскую прогулку пригласили: пятый месяц в рейсе мужчины, горбы верблюжьи, поди, совсем набок завалились.
По уму, следовало нам тогда не останавливаться до самого Гибралтара с тем чемоданом, и с Джончиком даже впридачу. Не стоило даже за борт его майнать, чтоб к берегу на надувном матрасе плыл. Посидел бы в Херсоне где-нибудь на биче, как мы в дыре его африканской на бобах сидели, глядишь поумнел бы.
Время подхода так рассчитали, чтоб к промыслу ночью подойти.
— Врёт наш спутник навигационный, наверное, — Никитич кэпу говорит.
— Промысел ночью миль за сто в океане видно по зареву. А тут — темно, как в Албании. Ни одного огня.
Но нет, мигает прожектором нам одессит. Точно вышли.
Зыбь от юго-запада шла, штивало нас изрядно, но одессит вывалил за борт пару кранцев оренбуржских, от волны нас прикрыл — "болото сделал", присосались мы к его борту — можно работать.
Ну, как обычно: толпа к борту вывалила, даром что ночь. Как у вас? А у вас что?
Жалуются одесситы. Пароходов десять всего работают, все остальные под арестом в Пальмасе да в Луанде, кого где угораздило. И ещё: перед рейсом управа со всего экипажа расписки выдерла, что валюту в случае финансовых затруднений требовать не будут. А не хочешь подписывать, в рейс не иди, замена есть. Так что цены получились самые что ни на есть демпинговые, в половину пальмасовских ченчёвщиков даже не вышло.
Но что тут думать? Трясти надо. Грузиться то-есть. Кэп с Джончиком у одессита на борту, бухгалтерией занимаются. А мы тем временем трюм да танки топливные запрессовываем. До рассвета управились, побратались с одесситами маленько, и разбежались.
Были б мы более тёртыми калачами на тот момент, можно было бы и с Джоном работать. Это ж игра такая увлекательная: кто кого в дураках оставит. Ты хозяина, или наоборот. Без нервов, улыбаясь, как они это могут:
— А можно стулья утром, а деньги вечером?
— Можно, но деньги вперёд.
Он за каждые десять долларов трясётся, если десятку эту тебе отдать нужно. Так же и разориться недолго, это ж не в кабаке штуку за вечер оставить. А ты топливо сэкономленное в Югославии, или там, в Грузии, сдай, вернёшь с лихвой.
Он с зарплатой тянет восьмой месяц, всё денег у него именно на тебя не хватает. А ты сядь рядком на крышке трюма: выгрузки не будет, пока не будет стульев.
С "Советской Украины" народ вон полмесяца в Александрии на причале в палатках жил, ни на какие обещания выплатить всё в Одессе не вёлся, но своего добился. Одиннадцать месяцев рейса — и на дядю-начальника вкалывать, чтоб ему было чем за черепицу турецкую для дачи расплатиться, и с чем в санаторий-профилакторий, за деньги управы на Канарах отгроханный, после кабинетно-трудового подвига смотаться? Ищите негров помоложе, чем дядюшка Том.
И без психов, с улыбочкой. Телевидение можешь пригласить местное, прессу. Если в цивильном порту — то и профсоюзного бога. Они там — не чета боровам нашим зажравшимся. Докеры первыми выгружать судно откажутся, если узнают, что братья-пролетарии в дураках остаются. Если от хозяина твоего добро на выгрузку получено, значит деньги за фрахт уже в кармане.
Они "Двенадцать стульев", должно быть, как прежде "Капитал" Маркса изучают, закон стульев исполняют неукоснительно. А нет, даже судно с молотка пущено будет, и расплатятся с тобой совсем не по смешным окладам, по которым тебя нанимали, а по полной программе, как с филиппинцем каким-нибудь. Или даже — как с греком.
Но чаще не доходит до этого, расплачиваются. На понятном языке с ними экипаж заговорил. А до этого — то слышимость по радио отвратительная была, то капитан с забалковским акцентом по-английски говорил, не поймёшь его.
Но это — в цивильном порту. И — от кэптэна многое зависит. Хотя, если хлопцы все свои, проверенные, будь ты трижды грек, или свой, но у хозяина на откупе, — ничего ты с толпой не сделаешь. Запрись в каюте и пускай пузыри капитанской трубкой, как Гена крокодил. Хозяин — он далеко, и в офисе. А ты — на борту. Могут и зашибить.
Долго нас, дураков, учить надо, чтобы такая ясность мысли возникла. Так что за науку Джону — спасибо. Как от битого под Нарвой Петра — Карле Двенадцатому. По полному курсу всего за девять месяцев обучил.
В общем, задним умом — все мы грамотны. А вот средним, хотя бы…
Одним словом, выгрузились мы, провернули свой русский бизнес: рыбу подешёвке пихнули, чтоб на эти деньги мясо втридорога потом купить.
С топливом — та же история. На тонну надули механики Джона, когда он нашим топливом два своих сейнерка бункеровал.
Все собой довольны. Джон полста штук заработал, мы по пятьдесят долларов в карман положили.
Ещё и скандал получился. Рефик с Драконом, как самые хитронарезанные — впотай, три мешка зубана совсем уж налево, мимо нас, которые с обычной резьбой, из порта выносили, да не вынесли. Повязали их на проходной.
Джон и об улыбочке своей резиновой забыл: подрывают его монополию. Он-де всё сомневался, откуда у конкурента всё время рыба — на треть его рыбы дешевле. А теперь всё ему ясно.
А тут ещё пошла нас малярия косить одного за другим. Мерзкая болезнь, доложу вам. Даже ради больничного листа не пробуйте. А нам не до больничных: ни слова в контракте о медицине нет, оказывается. В случае полной потери кормильцев обещано семьям выплатить в рублях. Но до полной потери доводить дело нам что-то не очень хотелось. К тому ж, путешественник этот, ВЛКСМом оплаченный, зарплату нам платить — тоже клялся, прежде чем дыру эту на карте Африки нами заткнуть.
Другой путешественник, МИДом оплаченный, как от чумных от нас шарахается, всё с Москвой консультируется. Консул же.
А Москва к нам уже никакого отношения не имеет. Да и делов в МИДе — невпроворот: русскоязычное население Прибалтики от ущемления в правах спасают. Не до малярии. Это — в Минздрав.
Загнулись бы мы с Вальком, наверное, пока Москва его консультировала, да управа от нас по радио отмахивалась: первыми нас прихватило. Хорошо, что у них доктора — высокооплачиваемые, и на дорогой кабак с варьете им хватает.
Это пусть остальным нашим, как убеждённым атеистам, стыдно будет: их какой-то христианский госпиталь пользовал, католический к тому ж. А я гордо заявляю: тем, что живу ещё на этом свете, и баланду с вами сейчас травлю, обязан я проститутке Ленке, трижды вами, блядями, охаянной: за то что Родине нашей припадочной, Союзу вашему нерушимому, изменила; за то, что честной шлюхой, а не подстилкой проходимца комсомольского стать решила; и за то, что "чурок черномазых", а не вас, арийцев ёбанных, обслуживать ей пришлось, СПИДу ворота в Третий Рим ваш между ног своих открывать.
Что-то опять сорвался я, похоже. Вы то тут при чём?
Очухался я. То ли уже в раю, то ли ещё в аду — не пойму. Ударная доза квиноформа. Перпендикулярное пространство изучаю. Двоится все в глазах. И чтобы рукой до носа достать, четыре часа, — полную вахту, — тянуться приходится.
Вроде как чёрт чумазый надо мной склонился. Но — в белой хламиде, у топок шуровать не практично. Улыбается, чертяка, зубы белые.
Госпиталь все-го лишь, оказывается.
Прибежала сестричка, тоже чумазенькая, стала меня в курс дела вводить. Эту кнопку нажать — спинка кровати поднимется. Эту — дежурную сестру вызовешь. Это — телевизор. Это — свет приглушить. Это — кондиционер настроить.
Тяжкое это дело, оказывается. В кнопках запутаться можно. Особенно с кондишкой: вечно то стужа лютая, то пекло в палате.
Что предпочитаете на обед? Меню под нос суют. Да неси уже, чего есть. Приносят. Чего только нет! А я возьми и ляпни: а бургундское? Не до жрачки мне. А она смутилась, сейчас, не беспокойтесь, с лечащим врачом проконсультируюсь, можно ли вам. И убежала.
А что они, черти чумазые, делают, если бургундского на складе не оказывается? Представил я, как они самолёт из-за меня в Бургундию снаряжают, и стало мне дико неудобно. Только вернулась сестричка, я ей, с порога прямо:
— Да пошутил я, мисс. Верните самолёт назад.
Когда смотрю, а это и не сестричка никакая. Ленка.
— Ну, раз шутишь, значит на поправку пошёл.
А я зубоскалить и на собственных похоронах не прочь. Никакой это не показатель.
— Ну, как тебе хахаль мой? — спрашивает. Иначе немного, правда, выразилась.
— Так вот этот вот чёрт чумазый?.. Где ты геракела такого подцепила? А, извиняюсь, под халатом у него как? Поболее, чем у белых мужиков?
Но Ленку смутишь разве?
Тут же простыню откидывает, а я в одной сорочке лежал, смотрит серьёзно:
— Так не годится. Нужно в возбуждённом состоянии сравнивать.
И уже готова под сорочку мне рукой залезть. А у меня сил нет даже на то, чтобы щелбаном её отогнать, а не то чтоб…
— Да, — говорит Ленка.
— Пациент скорее мёртв, чем жив. Какое тут бургундское?
— Ладно, мне ещё к Вальку надо.
— Так и он здесь? Почему тогда в разных камерах?
— Представляешь, ни одной двухместной палаты на весь госпиталь.
— Врёшь, наверное. Ты ещё скажи — в коридоре ни одной койки не стоит на проходе в мертвецкую.
Тут и сестричка вернулась. А я на неё уже и смотрю по-новому, даром что в дренаже весь. Вернула мне Ленка вкус к жизни, оказывается. Вы ж мои кучеряшки в кружевной наколочке! Подожди, думаю, шоколадочка.
Но только я настолько поправился, что стал при процедурах её за попку пощипывать, так меня и выписали. Раз к персоналу уже приставать начал, значит точно — жив.
Вот когда мы Никитича с его запасливостью оценили: хоть каша, да наша. Пока тушёнка ещё была — так вообще терпимо.
— Ну что, Барабан, стоило фреон по трубам гонять? — у рефика спрашиваем.
А он — первый любитель пожрать был, десять пудов живого весу в нём, даже спать на нижней койке под ним мне страшно поначалу было. Чуть шторм — скрипит койка, гнётся под барабанщиком, как удилище бамбуковое.
Любитель, и — гурман. Шашлычки на мангале изобразить, рыбки в коптильне закоптить, строганины заделать — фреоном дышать ему не давай, а от камбуза не отлучай.
— Покури-ка, Витёк, сегодня праздник живота намечен, сам всё приготовлю.
А тут — никаких праздников, сплошные будни, тягучие, как манка на воде дизентерийной.
Это только говорится так, что пока толстый похудеет, худой ноги протянет. На самом деле — очень они от присутствия аппетита страдают, когда праздники кончаются.
Но тут Ленка что-то к нам зачастила:
— Витька, жрать хочу, как три голодных эфиопа. Харчи мои, кулинария твоя.
Как её Барабан наш залюбил сразу. Как Хемингуэй — Париж. Праздник, который всегда с тобой. Ждёт Ленку, как второго пришествия марсиан. Пылинки на пути от машины к трапу сдувает, плевать ему что пустыня Сахара под боком, а он — совсем не пылесос фирмы "Филиппс".
А Никитич:
— Опять ты, Ленця? Смотри, даст тебе твой докторишка отставку. Он уже частного детектива, поди, нанял, чтоб выследил, куда это ты каждое утро от него смыться норовишь. И не налягай на макароны: растолстеешь, из кабаре вытурят.
— А я сама от него сбегу. Надоел. Ну продала я дарёную цепочку, деньги нужны были. Тоже мне, Людовик с подвесками нашёлся, скандал закатил. Вот только замену найду…
— Вот это по-флотски. Без замены судно нельзя покидать, — одобряет тралмастер.
— Да ты не понял, Андреич, — Витька ржёт.
— Она ж не себе замену ищет, а ему.
Вот ведь. Противно на душе, мерзопакостно, как той старой кляче.
— Когда я уже сдохну, — думаешь.
А Ленка пришла — плевать на всё. Праздник так праздник.
Слюной избрыжжешься, дядюшка Джо, прежде чем мы к тебе на коленях приползём и голову пеплом посыпать станем. Ждёт ведь, наверное, что животы у нас к спинам поприлипают, а они всё не липнут. Есть ещё пороху малёхо в пороховницах.
А может это мания величия у нас начинается? Не ждёт он ничего, просто крест на нас поставил. И думать забыл. Вон сколько уже носа на судно не кажет.
Но нет, появляется всё-таки Джончик.
Давай, мол, повторим всё по демпинговым ценам. Если согласны, зарплату плачу прямо сейчас, не отходя от кассы.
А мы перед этим последний раз с одесситом братским на связь выходили. Отработал уже одессит и домой шёл. И что там на промысле — глухо. То-ли частоту промсоветов сменили они, то-ли вообще всё заглохло. Был бы наш кэп попроходимистее, ушли бы мы ещё тогда. Казалось бы, чего там: соглашайся, бери чемодан с деньгами — и ходом. Мы тогда все в шибко умных ходили, не знали ещё, что если уж кэп повышенной проходимости попался, чемодан он конечно возьмёт, но тебе от этого легче не станет. Тут ведь либо так, либо этак. Третьего не дано. Проходимость, она, как красно солнышко, во все стороны равномерно светит: и неграм, и чукчам.
Особенно одессит наш, Барабан французский, задним числом разорялся.
Только и сказал кэп Джончику:
— А к чему это вчерашнюю зарплату с завтрашней прибылью в узел увязывать? Плати, что должен. Потом говорить будем.
Мнётся Джончик. А как разговор всё равно не получится? Но парень, видать, рисковый: учился ж у нас. За четыре месяца рассчитался со всеми. Даже продуктовые какие-то кэп с него вытребовал.
А тут кэп возьми всё и выложи. Не будет демпинга, Джончик. Кончилось, всё наше активное океаническое рыболовство. И надолго, видимо, до конца контракта не перестоять. Так что либо давай, как договаривались, прибрежным ловом заниматься, либо разрывайте контракт с управой нашей, бункеруйте полностью и восвояси отпускайте.
Кэп перед тем, как одесситу сниматься, с управой полчаса через Хельсинки-радио ругался. Наши все радиоцентры — как вымерли. Перестреляли они уже все там друг друга? Вроде как нет.
Потом уже узнали, всемирный год смены радиочастот, вроде нам прочих напастей мало, ещё нам на голову свалился. Потом ещё — позывные делиться-меняться все стали. Книжку радистову — можно просто на гальюн-таймс пускать. Как предок над "Мёртвыми душами", ночами сидел, радиоперехватом всё определить пытался, что за станция под таким-то позывным работает, и на каких частотах следит она.
Дальше — ещё хлеще. Вроде вычислил: Киев, резервная наша станция, а они связывать не хотят. Сплошные неплатежи, мол, четвёртый месяц зарплаты не видим. Вы там в Африке задницу греете, а тут, нежравши, и околеть на морозе можно, пока до радиоцентра доберёшься. Тоже мне Кренкели нашлись. Ну раз приняли радиограмму, второй. А управа наша разве может решить что-то, тонну бумажных корабликов на радиоволны не спустив? Хорошо хоть финны доверчивые всё по старой памяти суда наши с Родиной связывали. Потом и они сообразили, что русской любовью, на шару, занимаются, и радисты советские только из вежливости у них о швейцарских франках и сантимах за минуту разговора спрашивают. Короче, последней инструкцией с берега было ценное указание: требовать разрыва контракта и бункеровки на обратный переход.
Кэп им: да вы хоть нас, пассажирами, на одессите этом вытащите отсюда, капитан одесский согласен (однокашник и кум кэпов, попробовал бы не согласиться).
А они ему: не паникуйте. Вы там одичали совсем среди людоедов что-ли? Тут у нас "супертраулеры" под арестом по инпортам стоят, экипажи сменить нет возможности. На "Новоукраинке" ("Хохлушке", по-нашему) уже на костерке из палубного настила воду пустую кипятят, и ничего, голоса на начальство не подымают. Требуйте соблюдения условий контракта…
Короче, грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы.
Кэп и контракта-то между ВЛКСМом и Джоном в глаза не видел. Завёз договор он на следующий день из отеля погибшего альпиниста, как же. А ВЛКСМа и сама управа найти не может: распался на атомы вслед за своей всесоюзной организацией. То-ли ещё в бегах, то-ли вообще уже пристрелили.
Но про это ж только кэп да радист знают. А Гоголь наш — не в предка пошёл. Молчун, дуговой сваркой из него ничего не вытянешь. Что положено, мол, кэп сам скажет.
Только когда любовь с финнами у него кончилась, сорвалось у него: всё мол, отговорились. Порвалась, мол, связь времён. И куда ты, сука, мчишься, птица-Русь?
Так что нам в низах куда легче было советы кэпу давать. Как ему с Джоном говорить, и что делать. Прямо — одни Чернышевские по палубе бродят.
Одно дело языком молоть, другое — решения принимать. И ответственность. Одинокое дело — капитаном быть, наверное.
Фёдорыч всё в каюте больше стал отсиживаться. Первый рейс капитаном — и такие страсти. Ни одной инструкции за семьдесят три года для подобных случаев состряпать не удосужились.
От капитанского решения и на тихой воде вон сколько зависит, не ту команду на руль дал — и три месяца все водолазы черноморского бассейна по дну Цемесской бухты покойников ловят.
Кэп наш — помоложе Никитича, но в передрягах бывал, не дай бог каждому.
Конечно, каждый старпом уже френч капитанский на себя мысленно примеряет, и уверен, что уж он то в такой простенькой ситуации… Всё ж по нотам, и не нами расписано.
Команде что? Действительно: звякнуло трижды, хватай спас-жилет и беги к месту сбора. Судовой номер такой-то, производит герметизацию кают левого борта, при пожаре — производит разведку очага возгорания. Действуй, производи. Думать — не твоя обязанность. Пока сомневаться будешь, быть иль не быть, достойно ль — сгоришь с потрохами. Бойся, медленно поспешай, но знай: за тебя этот чёртов очаг никто по кирпичам в разны стороны не разбросает.
И не спасётся никто, вон сколько воды кругом: всем штатным расписанием к аллаху направитесь.
Один у тебя выход: должностные обязанности свои выполнять. Если вам легче в огонь лезть, когда всё красиво упаковано, значит — Долг.
Было, короче у Фёдорыча: машинное отделение полыхнуло, механик вахтенный с перепугу из центрального поста к мастерской выскочил и через люмитер даже за борт сигануть умудрился, хотя ему-то вниз нужно было, два человека вахты у него в машине работали, может быть успел бы их через аварийный лаз вывести, пока огнём не отрезало. Он с перепугу ни пожарный извещатель разбить не сообразил, ни что подачу топлива, это и с верхней палубы можно, перекрыть нужно.
Идёт себе пароход посреди Индийского океана, ночь, все спят, ни слухом, ни духом. Обесточились вдруг, заглохли, но — бывает. По внутрисудовой связи машина не ответила. Тоже бывает. Послал вахтенный помощник моряка пешим порядком глянуть, что там в подземелье творится.
Пока тревогу сыграли, пока аварийный движок на обороты вышел, машину загерметизировали, уже так разгорелось, что дверь в машину и снаружи открыть невозможно: подпором воздуха прижало. Может они и изнутри пытались, кто знает. Только углекислотой тушить и остаётся, воздух газом вытеснять. Может смогут моторист с электриком до кислородных аппаратов в посту добраться и пересидеть? Сомнительно. Но что будет, если на топливные танки пожар перекинется — это и к бабке не ходи. Каждая минута дорога. А кэп вот, не Фёдорыч, другой, стоит у системы и всё не может решиться, стармеха на душегубство подталкивает. Решай, мол ты. Твоё машинное отделение, и люди в нём — тоже твои.
Фёдорыч докладывает, что переборка, смежная с машиной, уже докрасна раскаляется, хотя её из пожарника поливают, а кэп с дедом всё торгуются. И тот, и другой в праве кнопку газовой камеры нажать.
Взял Фёдорыч и молча, отстранив обоих, без приказа систему в действие привёл. И грех — тоже на себя взял. Что толку, что оправдали? Никакой прокурор перед вдовами и собственной совестью не оправдает. Они оба в центральном посту задохлись. Не дошёл огонь ещё до ЦПУ. Хотя и вытащить их оттуда никакой возможности уже не было. Может им минуты от испугу отойти и про КИПы вспомнить и не хватило.
Простенькое такое вот, томами инструкций предписанное действие.
Капитану и следовало-то всего лишь слово сказать: приказываю. А уж кто там чеку выдёргивал бы… Слово капитанское всё на себя берёт, и грехи, и ответственность, и укоры совести. И цена ему поэтому — немалая. И — доверие. Раз уж сказал капитан, значит другого выхода не было.
— Ты, кандей, думаешь, почему Фёдорыч в старпомах застрял? "Своевременно принял единственно верное решение." Это они в бумажках так ему определили, а ведь кто-то и трусом его за глаза считает, и даже — выскочкой. Не его это дело было, хлопцев в рай снаряжать.
— Что? Что с тем третьим механиком? Выловили. Такое — не тонет.
— И до чего ж мы, хлопцы, докатимся, если даже этим по дешёвке торговать начнём, как рыбой, а ВЛКСМ наш — девками и пароходами? Может слово капитанское — последнее, что у нас от шестой части света непроданным ещё осталось? — тралмастер нас образумливает. Он нам эту байку рассказывал, в том рейсе был с Фёдорычем.
— Ты вот, Витёк, считаешь, что слову цена — чемодан денег. А я считаю — мало. Давай с Джоном торговаться? Джончика за борт смайнать? Кто грех на душу брать будет? Майнать — ясно кто: вон те два крикуна, если не сдрейфят, конечно. Плыви, мол Джончик. И руки утрут. А ведь если выплывет, в первом же порту, куда на бункеровку зайдём, могут под ясны рученьки… Это ж не зайцев безбилетных с лодки деда Мазая стряхнуть.
— Завтра Джон героином или неграми на плантации загрузить нас захочет. И даже за пол-чемодана денег авансом. Тоже орать будете, что согласны? — это уже Никитич образумливать нас подключился.
— Вы, салажня, слушайте, что старые моряки говорят. Вы только стали на этот путь разочарований и потерь, а я на нём — уже тридцать три года. С первого рейса, думал, вернусь — корову куплю. Больше, чем полжизни уже верёвки да железяки по траловой палубе тягаю, а коровы всё нет. Не прогорали вы в рейсах никогда, что ли? Ну не пошла рыбалка. Бывает же такое. Проезжих купцов из-за этого грабить?
Не знаю, может кого и не образумили. Но нас с Витьком — точно.
И всё ж — одинокое это дело, капитанское. Нашему вон последним официальным представителем Советской власти на планете быть пришлось. Даже в высшем мореходном училище такому не учат. И ни одного циркуляра за семьдесят три года для таких случаев не состряпали, и вниз не спустили.
Такие дела.
Самое главное в подобной ситуации — правильно разделиться на ныряльщиков, браконьеров, обходчиков, ремонтников и огородников.
До того, что деликатесы у нас под ногами просто, то-есть, я говорю, — под причалом, на сваях произрастают, мы с самого начала додумались. Дело-то для крымчан знакомое. В детстве надерёшь, бывало, мидий и прямо на пляже, на железном листе, жаришь их. Раскрылась, деликатная, — можно приступать. Ни соли, ни специй не требуется.
Так что поначалу ныряли все. Это просто комедия была, когда Тамбурин наш за борт плюхался: цунами на акватории порта подымалось. Надерём деликатесов на завтрак-обед-ужин, глядишь, веселей спится, чем натощак.
Потом додумались краболовки смастерить. Не камчатский конечно, три метра в клешнях, но появился и краб ко столу.
Обходчики — это понятно. Только советское, то-есть, я говорю, — хоть панамец, хоть мальтиец, с русским-ли, с эстонским экипажем — какая разница? — судно в порт заходит, пора обходчиков в бой вводить. Они у нас уже лучше капитана порта, наверное, знали, что за судно, и на каком причале. Конечно, молчуна-Гоголя на такое дело посылать не годится. А вот рефика с боцманюрой — в самый раз. На моряков посмотришь — вроде и не делились там на суверенитеты.
— Да, влипли Вы, парни. Ладно, чем богаты…
— Да нам хоть воды забортной ведро — и то хлеб.
Смотрел-смотрел второй механик на их обходы ежедневные, притащил со свалки два велосипеда, приложил к ним техническую грамотность — стали наши обходчики самокатчиками.
Рефик идею задвинул: порт огромный, пока до ближайшего бара с дальнего причала дотопаешь… Стали мы велики в аренду сдавать полякам да китайцам всяким. Пошло дело, двух велосипедов недостаточно явно. По всему городу народ наш бесхозных железных коней искать стал. Рефик, как босс, уже на мотороллере японском рассекает.
Тут и следующая мысль созрела: а не поставить ли на поток это дело? На свалке, вон, всяких железяк полно. Что я за электромеханик, если сгоревший движок стиралки перемотать не смогу? Времени-то — немеряно.
Гоголь — по своей части. Приёмники паяет, эхолоты рыбачкам местным настраивает.
Тралмастер с боцманом — мочалки из пропилена плетут.
— Ну что, дракона мать? За сколько сейчас бухту "ненужную" продал бы?
Приходит как-то агент один:
— Лебёдчики есть у Вас?
— Обижаешь, дорогой!
Никитич засомневался, может он штрейхбрехеров из наших рядов нанять хочет? Нет, оказывается. Какие тут профсоюзы? По четырнадцать часов на босса докеры местные горбатят, на ходу засыпают. И в основном в щель какую-то на пароходе забиться норовят, чтоб хозяин не видел и посачковать: ни перекуров, ни кофи-таймов босс не признаёт.
За проходной, в городе, тоже иногда работёнка кой-какая перепадёт. Глядишь, и на пиво уже выгорает. Можно после тяжёлого трудового дня в кабачке посидеть, от коробки железной отойти немного. Нашли мы даже рыбный ресторан один, где со своей рыбой можно приходить, для рыбаков специально. Можно даже и готовить её самому, если хочешь. Вот тут Тамбурин наш со своими праздниками воспрял.
Даже в миссию христианскую перестали мы на богослужение ходить за похлёбку. Они там после проповедей кормили всегда желающих. Если и посещали ещё, то больше из-за культурной программы: к органу привыкли. Не всё ж на гитаре спьяну наяривать.
Так что приспособились, выжили и без Джона с Джончиком. И кто кого кормит, мужик генералов или наоборот, и дискутировать забыли. Одно неудобство, раньше кэп хоть раз в неделю с управой из офиса связывался, ценные указания очередные получить: правую или левую ногу вперёд с голодухи протягивать.
Можно было бы, конечно, из города с ними связываться, когда деньги на кассе есть. Но не всегда есть, во-первых. А во-вторых, мало что за дачи под красномедными крышами, ещё и за служебные минуты ихние платить из своего дырявого кармана? Вобщем, сообщил кэп, что радист циркуляры для судов в инпорту продолжает следить, как положено, и если деньги у управы на то, чтобы хоть самолётом, хоть как, вытащить нас отсюда найдутся, пусть уж найдут и на то, чтобы киевлянам за одну РДО заплатить. Конец связи. Амен.
Как, да что в управе деется мы и раньше-то — больше из других источников узнавали. Позвонишь жене Никитичевой, бывало: как там дела у Никитича? Вроде и не из Африки, просто по морде его хитрой соскучился.
— Да какие дела? Я вчера в управлении была, так эти негодяи говорят… — и на полчаса тексту. Но зато и информация — исчерпывающая, с полными характеристиками начальства, Никитича и ЮНЕСКО.
Возвращается как-то рефик с переговоров таких, а у нас уже заведено было: два человека в неделю домой звонить могут, дорого у них там это удовольствие, и заодно — жене Никитичевой, новости узнать, — возвращаются они с боцманюрой, ржут:
— Никитич, две новости у нас. Тебе хорошую или плохую сначала?
— Плохую? Борова нашего, начальника, то-ли на повышение, то-ли под следствие в Киев забирают. Вобщем, он задним числом "продал" нас фирмачу московскому. По остаточной стоимости. Закрыл тему. А мы, оказывается, как только контракты с ВЛКСМом подписали, автоматически из управы уволились. Не их это головная боль теперь, как нас отсюда вытащить.
— Говорил я тебе Никитич, что до новых веников это, — тралмастер вздыхает.
— Вобщем, ты как хочешь, а я завтра огород сажать начинаю. Я место на пустыре давно присмотрел. Земля не кубанская, конечно, но с поливом если… Эй, боцманюра! Картошку сажать берёшься? До трёх урожаев в год снимать можно.
— А хорошая ж какая? — вспомнил Никитич.
— Дочка твоя послезавтра замуж выходит.
Вот что значит — засиделись в гостях. Так и жёны скоро замуж повыходят, не то что дочки.
А тут ещё и Ленка опять явилась. С бланжом под глазом, к тому же.
— Да, понимаю теперь, — говорит, — почему Отелло именно мавром был.
— Вы уж меня спрячьте на пару дней. Как бы Дездемоной мне не стать. Да какой там платочек кружевной? Прямо на месте преступления, в гримуборной… И чего ему за столиком не сиделось? Он что думал, что меня хозяин за хореографические таланты только в варьете держит?
А тут и тойота, нам уже известная, подкатила. С мавром.
Вобщем, слово за слово, загремели мы с Вальком, опять на пару, как в госпиталь малярийный, в участок полицейский. Правильно тралмастер говорил: как филиппинцев в кабаке бить, так всегда желающих полно, а как белую наложницу из сарацинской неволи вызволить…
Сижу за решёткой, в темнице сырой…
Сидим, вернее. Тридцать нас в камере. Экономно сидим. Харчи всем — родственники носят. Только нам — сослуживцы. Валёк только вошёл, осмотрелся:
— Ну, это не керченский медвытрезвитель, — говорит.
— Жить можно.
Основательную тюрягу португалы им отгрохали. Стены — из мортиры не прошибёшь. По всему видать — форт бывший. Просто как графьям МонтеКристо почёт нам оказан. Хорошо хоть не на острове. Потом оказалось, действительно как графьям. В подземелье — там вода по нарам во время прилива гуляет и крабы ползают.
— Не жалеешь, что из-за девки уличной ещё и в тюрягу попали? — Валёк спрашивает.
— Ну, это как суд решит. Если не пожизненно, то не пожалею, пожалуй, — говорю.
— Я вот тоже сначала думал, зачем я во всё это вляпался? А потом… Я ведь её тогда ещё, на вилле Джоновой, от Джончика отбил. Даже вмазать ему пришлось. Настырный. Видишь, что не хочет с тобой девка идти, чего насиловать?
— Вобщем, я её в тот вечер на пароход забрал. Ты особо не треплись, я её у Никитича в каюте прятал, когда ВЛКСМ шастал.
— Она, дура, испугалась, когда узнала, что уже и консульство на уши поставлено. Последняя гастроль значит? Столько визу эту зарабатывать пришлось, а теперь — закроют, зарубеж ни ногой, и с работы вытурят? Что мы за занавеской железной забыли все? Нигде и слова такого-то нет: Заграница. У албанцев, может ещё.
— Я теперь думаю, да пусть закрывали бы ей визу, чёрт с ней. А тогда… Я ж тогда и не знал её совсем. Думаю, пускай сама решает. Вспомнил просто, как сам чуть в петлю не лез, когда паспорт моряка по запарке вместе с сумкой в багажнике частного карпаля одного оставил. Всех таксистов местных на уши ставил, а этот ещё и залётным каким-то, не крымским вообще, оказался. Так мне весь остаток жизни в каботаже гнить тогда не хотелось… А со стороны посмотреть: ну не к расстрелу же приговаривают. Бумажка, хоть она серпастая-молоткастая, хоть какая ещё, бумажкой и есть… Сейчас — особенно смешной трагедия эта кажется.
— Ты думаешь, эскулап этот нас с тобой пользовал за красивые глаза Ленкины? Не принято это у них. За всё — счёт выписывай. Могу себе позволить на разгул столько-то, на благотворительность столько-то, на подарок любовнице столько-то: сумма, подпись бухгалтера. Госпиталь-то хороший, не чумные бараки какие-то…
— Ленка что ли?
— Цепочка золотая.
— Ну, теперь и пожизненно пусть дают, с ежедневным выеданием печени, — говорю.
— Всё равно я — уже пять месяцев, как остыл. Зомби. Такие дела.
Долго ли, коротко ли, везут нас к Фемиде на случку.
До чего всё похоже, архитектура даже. Специально, чтоб на мозги давить всё рассчитано: колонны, потолки, коридоры бесконечные пыльные, людишки суетятся какие-то, всяк во свою дверь очереди ждёт. Букли да мантии — это уже мишура. Показуха. Как и у нас, за невзрачной дверью решается всё:
— Может адвоката желаете?
— Какой там адвокат, милай. Валяй на всю катушку.
И в переводчиках — Джончик. Один он русский язык знает во всей их молодой государственности, что ли?
— Очень не хорошо, — говорит, — что вы местный уважаемый гражданин так больно били. Господин куртмэн с пережитками колониализма очень сейчас борется. И полицейских бить и из пистолета пугать — тоже нехорошо.
А что мне, смотреть было, когда он на Валька волыну направил? Или выстрелить ему дать возможность, чтоб догадаться, что пистолетик-то — газовый? Так и объясняю. Чего там Джончик переводит, не ясно. Но машина правосудия пущена, строчит на машинке чего-то.
Открывает куртмэн свой талмуд уголовный, статью находит.
Хорошие законы, нечего сказать. По первому пункту — восемь лет крабов, по последнему — денежный штраф небольшой. От тяжести содеянного всё зависит.
Но тут дверь открывается, ещё один машинист фемиды входит, и… да Ленка, конечно. Кэп с Никитичем в коридоре ждут.
— Нашла я вам лойера, — Ленка нам подмигивает. Но грустно как-то.
Тот перед судьёй извинился за опоздание, судья к нему — с улыбочкой, свои, видать люди. И переводчицу, лойер говорит, тоже свою имею, адью, Джончик. Спасибо за помощь правосудию.
Мы-то не понимаем ничего, но оживился куртуазный мэн наш, о чём-то таком лойер-пинчера допрашивает, что Ленка аж покраснела. Это после Витькиного-то столовского обслуживания даже и лекций на тему анатомических и сексуальных различий между самцами различных рас.
— Не надо может, Ленка? — Валёк спрашивает.
— Может через консульство как-то?
Отвернулась. Не слышит. По-новой всё куртмэну переводит. Занятая какая!
— Так значит, на палубе всё происходило? На территории иностранного государства, значит? Ну, нет уже государства, а территория вот — осталась. Бывает такое в юридической практике.
А я, скотина, тогда и внимания никакого на это не обратил. Всё о крабах в подвале думаю, ревматизм невзначай подцепить переживаю. Восемь лет… Это сколько ж мне будет?
Вышли мы из кабинета, сидим в сторонке, с полицейскими калякаем. Повышение, мол, дадут теперь вам, парни, как пить дать. Вы ж, бедолаги, героически газу надышались ни за что, ни про что. А огород наш чем вам мешал?
Смотрим, кэпа с Никитичем тоже уже, как свидетелей, вызвали.
— Может и обойдётся всё, Валёк? — спрашиваю.
А Валёк мне пальцем на Джона показывает. Как Джончика отстранили из кабинета-то, так он, видать, и примчался. Ему то чего надо? Отказался ж от нас давно.
Пока в зал заседаний, пред ясны очи другого, опереточного уже, с буклями и в мантии, судьи не отвели нас и в клетку не посадили, всё мне крабы покоя не давали. А потом, пока полицейских, которые нас с Вальком скрутили, допрашивали по новой, да кэпа с Никитичем, всё мне казалось, что не со мной это. Оперетта, "Летучья мышь" а не суд. Хоть про жену и портвейн подпевай.
Допросили всех уже. Джон с настоящим куртмэном вошли, сели тоже. Смотрит на них тенор-судья, как на суфлёрскую будку, понять из знаков пытается, прерывать ему заседание, или как.
Слышу, кэп Ленке говорит:
— Как угодно. Хоть под залог. Мы завтра снимемся — и поминай как звали. Есть деньги. Теперь — есть.
Переводит Ленка лойеру, а сама на клетку нашу, на Валька оглядывается. И плачет, похоже.
Лойер судье что-то говорит.
Судья встал — бац по столу колотушкой.
Всё думаю. Восемь лет крабов.
Нет, заседание откладывается на два дня по просьбе защиты.
Привезли нас на причал: ничего не понимаем. Суета на палубе, шкрябают все, суричат, марафет наводят. Главный, слышим, только что, с третьего "чых-пых", но запустил второй механик.
— Снимаемся, Валёк! Ведь точно снимаемся!
А оно что получилось. Джон всё ждал, что мы пароход наконец-то бросим, чтоб прибрать его к рукам окончательно, как бесхозный. Был у него вариант нашего использования: буровые платформы, не здесь — в соседней молодой государственности снабжать. Но то ли толстокожесть управы нашей, то ли терпелку нашу рыбацкую не рассчитал. Только когда тралмастер с боцманюрой огородничать принялись, запереживал, но поздно уже: мэнэджер нефтяной уже смотреть судно приехал.
Он нами с Вальком, как заложниками, кэпа стал шантажировать. И сразу из участка поэтому, видимо, выкупить нас не удалось.
А кэп возьми и пойди ва-банк: встретился с покупателем сам, он америкосом оказался, объяснил что к чему. Тот смотрит: действительно, а кто есть в этой сделке Джон? Это они с молоком матери впитывают.
— Юридические свои проблемы, кэптэн, сами решайте, — а на текущий ремонт, да за портовые сборы денег выделил. И число, когда пароход в порту нужном быть должен назначил: у него проблемы какие-то, сгорел снабженец один, что-ли? И через океан подмену гнать… А у нас — холодилка, тяговое усилие на винт и моща — подходящие. Да и стоили мы, пожалуй, подешевле любых америкосов да норвегов, всё ж.
— А не боитесь, что зря деньги в меня вкладываете? — кэп даже опешил от такого блицкрига.
— Нет, — говорит. — Информация в бизнесе — первое дело. В данном случае банковские гарантии мне не нужны. Пароход должен быть в работе к указанной в контракте дате.
Такие дела.
Через полгода, когда мы все рекорды по потреблению Океана большими дозами уже настолько перевыполнили, что даже проверенный моряк Никитич стал в дверь собственной каюты стучаться, и запросились мы домой, америкос даже предлагал ещё оставаться. Но на нет и каверз никаких выдумывать не стал, забункеровал, как по контракту договорено было (контракт уже не молодёжный турист и не кабинетный адмирал, а кэп с Никитичем к тому ж — только что после курсов дяди Джо, составляли, предусмотрено было всё), рассчитался до цента, только что платочком с буровой своей не махал вслед. Некогда было ему махать. Время — деньги.
Вернулись мы к родным берегам, значит.
Работаем теперь на Грузии-Турции потихоньку. То мандаринами загрузимся, то шоколадками какими-нибудь. Фирмач, хозяин наш по всем документам, так ни разу собственностью своей и не поинтересовался. А мы напоминать о себе не спешим.
Хватает и на Чёрном море заморочек всяких. Когда и прогорим, бывает.
Дочка Никитича, пока папаша домой добрался, и развестись успела.
Боцманюру из дому выгнали. Гоголь, молчун, не сообразил, разболтал на весь эфир, что боцман и на новом месте лучше всех устроился: и не видим его на пароходе. Немка какая-то по приходу на машине забирает и к отходу привозит. Как это до боцмановой жены дошло — неясно, но без справочно-очковой кобры, явно, не обошлось.
Да, у Валька недавно дочка родилась. Назвал…
Да нет, "Ленкой", "Еленой", то-есть, мы пароход назвали, когда регистрировать под панамой пришлось. Когда кто спрашивает, честно сообщаем:
— В честь одной падшей женщины.
Не верит никто. И — правильно.
А дочку Валёк Мариной назвал. Что ему, путаться в Ленках своих, что-ли?
Дело в том, что в тот же вечер, как отсрочку мы с ним получили, выкрал Валек её из той богадельни прямо со сцены. И мотороллер рефиков пригодился.
Да, про Никитича и его солидарность с джонами волкерами чуть не забыл. Последней бутылкой того забулдыги-Джона он нормально споил вдрабадан обоих охранников, которых к нашему борту выставили, чтобы мы, не дождавшись решения суда, концы отдавать не вздумали. Вот ведь, запасливость какая! Будто чувствовал, что пригодится ещё! А пил, между прочим, наравне с арапчатами. Да куда им против нас: кишка тонка. Пусть спасибо скажут, что тралмастер вспомнил и автоматы казённые им под голову положил в последний момент. Может, обойдётся без крабов?
M/V SURSK/3FZW5
Сентябрь, 1996.
30 ГРАДУСОВ ПО МЕРКАТОРУ,
или
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ КОНЦА СВЕТА
Когда я с тобой, мне не нужен бог.
Кто-то из братьев Стругацких.
Homo homini Deus est.
Людвиг Фейербах.
Paul: Did I ever open off my heart. Let You look inside?
Linda: You never did it. I'm only waiting.
Both of Mc'Cartnies
Знаю, радость моя, всё пройдёт.
Если верить надписи на перстне царя Соломона, пройдёт и это.
Но всё так же всходит на небеса Луна. И, значит, за отливом неумолимо последует прилив. И это так же верно, как то, что обещанный Белым Братством конец света пока откладывается.
Впрочем, даже настоящий Апокалипсис уже был на нашей с тобой памяти. Так уж нам повезло: наш мир начался, когда кончился свет.
Помнится, ты приехала из Киева на все праздники и в первый день откармливала колбасой четверых вечно голодных курсантов в скверике напротив училищного КПП.
Потом были солнце, Река и срывающиеся с лопастей вёсел осколки радуги. Тогда я ещё знал протоки, рукава и ерики Реки лучше, чем египетские лоцмана знают Суэцкий канал, и найти необитаемый остров для двоих было не особенно сложной задачей.
Я грёб против течения Реки, вспять, с каждым гребком всё больше отдаляясь от шумного города, толп гуляющих сограждан, автомобильных выхлопов, дымков заводских труб и прочих прелестей двадцатого века.
Так же, с каждым километром вспять, спадали с нас покровы цивилизованности.
Вот я снял через голову свой курсантский фрак с выгоревшим до голубого воротником заместо бабочки и комсомольским значком вместо ордена Почётного Легиона. Ты избавилась от туфель-лодочек и свесила ноги за борт. Платье на тебе было белое, воздушное, с сильно открытыми плечами, заставляющее вспомнить моды салонов века девятнадцатого. Мне ещё хотелось поправить его на твоих плечах, хоть немного прикрыв их от подвыпивших работяг, когда мы ехали в битком набитом троллейбусе: денег на пароконный экипаж у кадетов обычно не водится.
Мы оставили позади внешний рейд порта с его стоящими на якорях океанскими ковчегами, свернули в рукав, сторонясь речных трамвайчиков и моторок. Прочапал навстречу шлицами гребных колёс старый, как ломовая лошадь на издыхании, речной буксир, лоцманом на котором в своё время вполне мог быть сам Марк Твен.
Ты аккуратно сложила своё роскошное платье на кормовой банке. В следующей протоке нам встречались уже лишь спортивные академические лодки и байдарки, бензин и пар были прочно забыты. И когда из более мелкого ерика выгребла на плёс долблёнка с древними, как мир, стариком и старухой, плавающими вдвоём по этим плавням, должно быть ещё со времён набегов диких славян на цивилизованный Царьград, я подумал:
— Так и должно быть. Ведь мы плывём вверх по течению.
Гребла старуха. Старик правил коротким веслом. Ты улыбнулась: всё наоборот, если сравнивать с нами.
Когда мы забрались так далеко от двадцатого века, что навстречу нам могла попасться уже разве что солнечная барка бога Амон Ра, ты уже разоблачилась до одеяния девушек с египетских папирусов. Тогда ты ещё носила длинные свободно спадающие на плечи волосы и коротко подстригала чёлку, словно и вправду попала на мой ялик с барки фараона Нехо, на которой гребли похожими на лист осоки вёслами-гребками тридцать прекрасных девушек. Их набедренные повязки скрывали от глаз фараона значительно больше, чем оставшаяся на тебе часть бикини.
Царь Соломон сравнивал грудь своей возлюбленной с виноградной гроздью. У египтян были иные понятия о женской красоте. В Лувре, кажется, хранится ложечка из сандалового дерева, выполненная в виде нагой купальщицы, держащей на вытянутых вперёд руках огромный лист лилии. Тугая грудка, точёная, мальчишеская фигурка, стройные ножки. Мне, счастливцу, в тот день не нужно было в Лувр.
И какой фараон приказывал мне через месяц отрываться от тебя и плыть на край света, за сокровищами страны Пунт?
Лилии, осока и заменитель папируса — камыш, росли на Реке в изобилии. Наш собственный фараон, Никита Сергеевич, одно время даже собирался косить его для производства бумаги. (Видишь заброшенный причал в плавнях? Его рук дело). Поражающей своей огромностью и бесполезностью пирамидой, остался от его царствования крупнейший в Европе хлопчатобумажный комбинат, который построили раньше, чем убедились, что хлопок отказывается расти в наших краях, даже по указанию фараона.
С крокодилами дело обстояло ещё хуже. Даже он не додумался разводить их в Реке, хотя б для выделки кожи. Но стоило ли об этом сожалеть? Вон, за причалом, уже виден наш Эдем, наш рай земной, и мы — первые люди на Земле.
Хочу тебя.
Тебя, ещё не знающую, что такое стыд, и что его нужно прикрывать фиговым листом. Посреди поляны, на пологе так и не установленного брезентового шалаша, в котором тебе со мной должен быть — рай.
Хочу сразу же после забот о хлебе насущном: мне удалось поймать трёх хищных окуней. Где хищники? Да вон, в консервной банке плавают.
Хочу после приступа болезней: упал с дерева в попытке срубить сухой сук, на котором сидел, и лежу, стонущий, жду, пока ты испугаешься и неосторожно склонишься над раненным добытчиком.
До старости ещё далеко.
До смерти — ещё дальше.
Всё вокруг пронизано солнечным светом, запахом травы, молодостью, красотой и бессмертием.
В выписанном нам с тобой Господом штрафе за непослушание отдельной графой проходят муки родов. Тебе страшно? Мне никогда не дано знать, что это такое, и согласилась бы ты пойти на это из одной лишь любви ко мне, или основным было желание получить утешительный приз за храбрость в виде куклы Барби. Мужчинам многое не дано знать никогда. Я и Барби-то нашу впервые увидел, вернувшись из рейса в Персидский Залив, четырехмесячной уже. (Опять ты споришь: пяти- месячной? Мне что, вахтенный журнал подымать?)
Я уже не помню, кто был тот Змий, у которого ты купила яблоки перед этим пикником. Пращур Адам, наверное, не помнил даже вкуса этих невзрачных яблочек: ведь в тот день, по логике вещей, он вкусил от более сладкого плода.
Жена моя перед Богом! Потерянный рай, вечные заботы о хлебе насущном, болезни, старость, смерть — не слишком высокая цена, за счастье познать тебя. Когда я с тобой — мне не нужен рай. (Интересно, были ли в раю земном комары?)
Хочу погружаться в тебя, растворяться в тебе целиком, как во времена, когда свет ещё не был отделён от тьмы, а женщины от мужчин. Даже времени ещё не было: его отсчёт только рождается, задаваемый биениями наших сплетённых в китайский иероглиф тел.
Я помню то слово, которое было вначале, когда заржавевший маятник времени наконец был запущен нашими совместными усилиями. Ты сказала:
— Я думала, будет хуже.
Это был первый наш день, когда мы принадлежали только друг другу, а не командирам рот, неожиданно возвращающимся из рейса мамам и последним поездам метро.
Наш день Начала Времён. На сотворение нашего Мира у нас было ещё больше времени, чем у Господа: ты взяла на работе отгулы.
Но боги завистливы и жестоки: любящий детей своих не за дела их, но по вере ихней, карающий чад своих, не по грехам их, но за грех первородный, ветхозаветный Бог иудеев и израильтян именно на этот день приберёг обещанный Апокалипсис.
Уже отдали ему души неисповеданные грешники-пожарные, тушившие геену огненну на крыше четвёртого энергоблока в чём мать-родина послала: в кирзе и противогазах.
Падала звезда Полынь, и водители автобусов тридцать восьмого маршрута полдня загорали в её лучах и играли в волейбол на травке у колонны своих икарусов под Припятью.
Первомай шагал по планете, и скакал по земле Конь Гнедый.
Конец света уже состоялся, просто радио забыло нам об этом сообщить.
Через десять лет по окончании света нас уже не удивить никаким локальным апокалипсисом.
Тонули пароходы. Все водолазы черноморского бассейна искали покойников на дне Цемесской бухты.
Началась первая война между союзными республиками.
Первые штурмы танковыми и воздушно-десантными частями собственных городов.
Даже землетрясение, воспринятое многими, как предупреждение свыше, никого не остановило.
Бойни и беспорядки почти во всех пятнадцати столицах свободных республик нерушимого союза.
А потом и нерушимый порушился точно в срок, предсказанный Нострадамусом для падения одной восточной деспотии.
Из не столь разрушительных развлечений телеаудитории были предложены первый и последний съезд народных депутатов, всенародная война с пивными ларьками и виноградниками и первая мыльная опера о рабынях и фазендах, первое всесоюзное ограбление сберкасс и игра в есть такая буква. Буква вскоре оказалась тройным М.
Ты первой додумалсь просто выключать телевизор.
Не жить что-ли, раз у вас конец света?
Один летописец Чернобыля отметил, что при всем сюрреализме происходящего, люди живут так, как привыкли, даже зная, что этот день — последний день мироздания. Никто не переносит из-за этого назначенного у фонтанов Рулетки свидания.
О свадьбах он даже не заикался.
Когда ты перед свадьбой сменила причёску, я впервые подумал, что женюсь уже не на той женщине, которой делал предложение.
Думал ли я, что мне предстоит открывать тебя каждый раз по-новому, все десять лет?
В то время мне более важным казалось открытие страны Пунт, из которой ещё во времена фараонов везли в Египет слоновую кость, чёрное дерево и прочие сокровища.
По стране Пунт бродили дикие ослы и ползали змеи. Ослы объедали листья зонтичных акаций, чахлых, как карликовые берёзы заполярья. Чем питались змеи, до сих пор не знаю. Не ослами же?
Вход в лагуну был узким и извилистым, как раковина каури. С обоих бортов обрывисто поднимались не очень высокие коралловые берега. В лагуне привычно отстаивались большой десантный корабль и плавмастерская.
Склады, казармы и сторожевые вышки на коралловом острове не были военной базой Верхнего Царства в стране Пунт, ибо, как известно борцам за мир во всём мире, военных баз за рубежом у нас не было.
Во времена, когда европейцы делили Африку под линейку, проводя границы через неведомые им отроги гор, неоткрытые реки, пустыни и джунгли, местный негус, единственный на всём континенте, сумел отстоять свою независимость, и даже захватить мусульманские области на севере: по какому-то выверту истории, его подданные были единственным православным народом во всей Африке, к тому ж — через дорогу от Мекки с Мединой.
Ещё до танковых сражений англичан с Роммелем в Сахаре, вооружённая копьями и кремневыми ружьями армия негуса умудрилась наголову разбить экспедиционный корпус макаронника Дуче.
Угораздило ж теперешнего преемника негуса втянуться в строительство социализма, вместо того, чтобы основать новую династию.
Двадцатилетний мятеж мусульманских сепаратистов на севере. В Массауа "законная" власть держится, пока в порту стоит с дружественным визитом военный корабль братьев по вере и дружественно шмаляет по всем окрестным горам из орудий главного калибра. Когда корабль завершает программу визита и идёт пополнять полностью израсходованный боезапас в лагуну несуществующей базы, в городе происходит очередной "переворот".
Засуха, разруха, эпидемии и голод.
Толпы беженцев на пыльных дорогах. Отрешённые глаза детей с рахитично вздувшимися животами.
С коммунистическим приветом народу, строящему социализм.
Только что завершилась "победоносная" война с южным соседом, пытавшимся перерезать ветку единственной в стране железной дороги. К морю. К французской заморской территории Афаров и Исса, для успокоения борцов за независимость Африки получившей свои деньги, своего президента, свой флаг и другое название.
Южный сосед тоже воевал оружием далёкого северного брата. Совсем недавно эскадрой произведена эвакуация наших специалистов и их семей из Могадишо, напоминавшая исход евреев из Египта.
Морская пехота со стоящего в лагуне БДК, — пацаны с обгоревшими под тропическими пилотками ушами, — гоняет мяч на каменистом футбольном поле при сорокаградусной прохладе, отбрасывая ногами заползающих на поле змей.
— А что за змея?
— Эфа. Да не бойтесь, в это время года они не ядовитые.
Привыкли. Посмуглели до цвета какао, высохли до эфиопских кондиций.
Офицерские жёны купаются на офицерском пляже на другом берегу лагуны. Чтобы не смущать умы молодых жеребцов. Офицеры ездят на рыбалку на мотоботе. С контрабандистами, чья наибольшая перевалочная база на пути из Аравии в Африку, тоже не существующая, находится на соседнем острове, у наших договор о ненападении. Но автомат на рыбалку всегда берут.
Что делаем мы, мирный рыболовецкий траулер, в несуществующей лагуне?
Заботимся о хлебе насущном для офицеров-рыболовов и рядовых-футболистов. Мёрзнут в трюмах мамонтовы туши, заложенные в морозильники ещё во времена последнего ледникового периода.
В шеренгу выстраиваются к нашему заходу в независимо-французский порт все поставщики овощей и фруктов. Знают уже, что именно на этом пароходе аппетит у команды — отличный.
Бродят по мелководью залива фламинго. Грузят наши трюма полуголые грузчики. Краном грузят буйволов на доисторическую арабскую самбуку. Всё понятно. Нужно будет наведаться на контрабандный рынок.
Неужели фараоны посылали свои корабли в Пунт для того, чтобы покопаться в горах гонконговского тряпья на блошином рынке?
Хочу тебя. Хочу сидеть над тобой, распластавшейся ниц в полудрёме. Гладить кончиками пальцев твою спину, запоминая твои родинки наощупь.
Как жемчужные чётки, перебирать позвонки, приближаясь к тому месту, где (в сторону пряди волос, руки прочь: пальцы слишком грубы) можно будет кончиком языка щекотать беззащитную ложбинку на твоём затылке. И за ушком, покусывая легонько мочку, как слегка покалывает студёная вода лесного родника.
Нимфа моя. У каждого ручья, у каждой рощи есть своё божество, наяда или дриада. Просто люди успели утратить древнюю мудрость, и больше не видят их.
Хочу предательски опрокинуть тебя навзничь, и не обращая внимания на возгласы и шлепки зазевавшейся нимфы, припасть к твоему источнику, упрятанному в мыске травы-муравы, достигнуть своего внезапностью, напором и упорством, достойным козлоного Пана, любимого божка сельских греков, пребывающего в непрестанной охоте на дриад и наяд.
Хочу ласкать тебя, мой Родничок, пока ты не смиришься с тем, что попалась в силки коварного охотника, не раскроешься навстречу бесстыжему Пану, наливаясь соками матери-Геи, распускаясь, как бутон цветка.
Ты с кислинкой на вкус, моя нимфа.
И руки твои уже ищут в траве мой стебелёк, ощупывают его от корешков до шляпки, и стебель растёт и твердеет под твоими прохладными пальцами, как гриб под струями дождя.
Хочу ощутить, как влажнеет стебель под лёгкими прикосновениями твоих губ, языка, от которых по телу, как от брошенного камушка, кругами расходятся дрожь и слабость. Руки разжимаются сами собой, когда гриб упирается шляпкой во влажный и горячий полог твоего нёба. Пан попался в свой же силок. Рывок, и ты уже сверху.
Хочу ощущать тебя всю до конца, одетую на мой бронзовеющий гриб мягким твоим лукошком.
Хочу возлежать, как лентяй из Сибара, наблюдая как ты трудишься надо мной, упираясь руками в волосатую грудь, как воительница-амазонка цепляется в гриву коня. Ты злишься на моё отлынивание, погоняешь меня недовольными шлепками по крупу.
В шенкеля, лежебока!
Великие боги! Сколько теряют жеребцы оттого, что во время скачек вынуждены смотреть не в ту сторону!
Гораздо приятней быть кентавром. Я могу, потянувшись руками, наполнить свои ладони грудями своей всадницы с заострившимися, как рога скифского лука, розовыми сосками, могу дотянуться до талии и придерживать её над выступающими, как ручки краснофигурной амфоры, косточками таза. Могу даже… о эти половинки кокоса!
Двойные кокосы, в точности воспроизводящие формы женского таза, растут только на одном из Сейшельских островов. В Индийском океане.
В океан этот греческие моряки впервые попали, находясь на службе у царя персов Дария: описывали для него пределы завоёванной Киром империи. Океан они назвали Красным морем, ибо двигались к Инду вдоль берегов и не ведали безграничия этого "моря". Так что вряд ли добирались они до Сейшел, и моё сравнение твоей попки с двойным кокосом — анахронично.
В шенкеля, лежебока!
Не знаю, прядут ли кентавры ушами. Знаю, что они впадают в неистовство от одного запаха вина. Как пахнет тобой, царица! Как бесстыдно хлюпает и проливается густое вино из узкого опрокинутого горлышка твоей амфоры. Моя нижняя, конская, половина сходит с ума, переходит с лёгкой трусцы на рысь…
Ещё!
Срывается на галоп, вынуждая тебя ещё сильнее стиснуть коленями мои бока и вжаться грудью в холку, придерживаясь за мои плечи…
Ещё!
Я уже на дыбах, ты ложишься на меня всем телом, хватаясь руками за круп, чтобы не упасть, кусаешь за шею, уже не женщина — дикая кобылица, до боли вжимается во взмыленное тело твердым лобком…
Ещё!
Ещё глубже, до самого дна нанизываешься своей амфорой на мой готовый разорваться от распирающих стрел колчан.
Глуп же был мой папаша-Посейдон, от привычки которого сходиться со смертными женщинами в образе белогривого жеребца и пошли все кентавры. Как много теряют все жеребцы оттого что даже после такой дикой скачки не могут руками придержать распластавшуюся в изнеможении на их спине нагую наездницу за упругие нежные ягодицы.
И зачем мне нужно опять покидать тебя? То-ли плыть разведывать для царя персов, чем же он владеет по милости предтечи завоевателя, то-ли уже подвозить провизию устремившемуся к Инду войску царя Александра.
Персы — на своём месте.
Залив назван их именем.
Но что забыли в этом огромном безветренном болоте мы?
Стоят в Ормузском проливе на якорях корабли.
Всё как в базе флота: побудка, на флаг и гюйс — смирно, проворачивание механизмов и судовые работы. Только вот отобранная годком тропическая пилотка может стоить бритому наголо салаге жизни. Солнечный удар.
Восьмой год идёт тягучая, как крик муллы с минарета, с перекурами на время молитвы, война.
Война городов, с объявлением следующей жертвы ракетного удара через газеты.
Нефтяная война. Горят по ночам, подсвечивают нам горизонт, буровые платформы в заливе.
Танкерная война, где каждая из сторон норовит топить танкера, независимо от их флага. Важно лишь, чью нефть он везёт в своих танках. Танкера горят интенсивно. В самую варфоломеевскую ночь я принял за вахту девятнадцать сигналов 808.
Днём — спокойствие. Кишмя рыбачков на рыбных банках. Только нет уверенности в том, что один из них не достанет из-под пайол ракету стингер, чтобы влепить в твой борт. Хотя, нам-то чего переживать? Мы — не танкер, чтоб на нас стингер тратить.
В пробоину, образовавшуюся после подрыва танкера "Маршал Будённый" на мине советского производства, мы могли бы въехать на полном ходу, как в ворота рая. Только мачты б погнули. Хороши наши мины.
Эскадра вынуждена проводить конвои в Кувейт совместно с америкосами. Втайне потешаюсь над надутостью наших чёрных полковников. Взаимодействие с вероятным противником! Это всё равно как грека было заставить грести вместе с извечным врагом-финикийцем — неподсилу и Александру.
Америкосы — попроще. Не кодируют даже картинку с "аваксов", чтобы наши её принимали. С самолёта — весь залив на ладони.
— В Ормузском проливе вызывает фрегат. Мы идём без конвоя… — решил посмешить нас коллега с "Олекмы" танкер — под "джинсовым" флагом, то-бишь — ВМФ, вспомогательный флот).
— На Дубай? Патрулирую в этом районе. Становитесь в кильватер.
Наши в панике, делать-то что? Связь с эскадрой немедленно! Он! Нас! Законвоировал!
— Я им: ну не в Сибирь-же, в Дубай…
Мы смеёмся и пьём принесённую гостем водку. "Хошеминовка", пьётся отлично: саке даже нужно пить тёплой.
Кэп вернулся из штаба и чешет в затылке:
— Съёмка с якоря в восемь. Головным идём мы. За нами — два танкера и очень большой и противолодочный кора…бль! Вводная — мины. Тральщики заняты делом похлеще: караван на Ирак.
Мы смеёмся. Опять продолжение войны городов. После каждого нашего каравана исчезает с Земли чей-то город. Ракеты везут на верблюдах?
После каждой нашей делегации в Тегеран, у Онассиса будет одним танкером меньше. Мины везут делегаты?
Мы смеёмся: ночью пойдём, и минам не увидать наших флагов, чтоб не трогать своих.
Мы ж — заговорены. Мы — везучие. С кем угодно, только не с нами.
"Олекма" орёт благим матом?
Текст — открытый? Почему не на той частоте? Я случайно включил её, по старой памяти, — уже месяц, как эскадра следит на другой.
Начальник рации — мёртв? Убит первым снарядом? В радиорубке — пожар? Катера продолжают обстрел? Координаты…
Тёплая водка саке.
Только в молодости можно решить, что — лучше уж так. В рай — на полном ходу. Без окопов и вшей. И не думать об этом. (Мысль в скобках: со мной такого просто не может случиться).
Только в молодости можно решить для себя, что тебе всё равно, с кем спит молодая жена, если выпадет случай. Права на ревность — нет, раз уж стал моряком. (Мысль в скобках: случая просто не будет).
Мечети в Дубае строят в духе двадцать третьего века.
Феодализм — самый передовой общественный строй на Земле.
Шариат. Многожёнство. Женщины ходят хоть и не в парандже, но в намордниках. Пусть даже — инкрустированных серебром.
Секса — нет. Даже на рекламах все неблагопристойные места замазаны чёрной краской. Как хорошо, должно быть, быть цензором, вырезающим не сумбур и крамолу Бродского, а грудь и пупок Мадонны.
Пива — нет. Контрабандные его партии давят на свалке бульдозером.
Трамваев — нет. Детей из школ развозят на школьных автобусах, а больше никому общественный транспорт не нужен. И угнетённый индус ездит работать на феодала на собственном автомобиле. Угнетён он тем, что у него — тойота, а не мерседес.
И тем, что никто не положит ему круглую сумму на его счёт в банке, стоит ему родиться не индусом, а местным арабом.
Какая ошибка — не там родиться и не тому поверить пророку. Не Магомету, а Гаутаме. И ходи в угнетённых всю жизнь. Дели бассейн на двоих с соседом. Может, в следующей повезёт?
Всё имущество того англичанина, который решил почему-то бурить скважины в этом песке, уже было заложено, и ушло бы с молотка завтра, не забей сегодня фонтан. Может, он их пророк? И бензоколонки с ракушкой "Шелл" — его храмы?
Наш третий помощник берёт пеленга и рисует план порта Дубай. Для вояк. Нету карт. Спутники засекречены даже от них. И в порты не пускают. Мы же — мирный рыбак. Мы — первое судно милетян и эфесцев, зашедшее в этот порт.
Мы описываем берега завоёванных Киром и Камбисом царств. За нами придут александры.
Каждый раз встречала меня уже не та женщина, которая провожала в рейс.
Новая походка, неизвестное мне почему-то платье, новый, нерассмотренный мною жест. А причёски…
Ты специально меняла их к моему возвращению?
Даже объёмы твоей талии менялись порой поразительно.
Знакомьтесь, Олька с пузом. КенгурОлька.
Какая ты огромная стала вдруг, роднулька. Объелась, наверное. Нет, я здесь ни при чём. Всё — бобовые зёрнышки. Или ветром надуло.
Ну вот, сразу обиды. Откуда мне было знать, что все беременные женщины юмора не понимают? Ты — первая КенгурОлька, в которую я влюблён.
Тебе плохо? Бедненький ты мой кенгурёнок. Никогда мне тебя не понять, я ведь даже морской болезни не подвержен. Прости.
Единственная польза от меня была — когда я забирал тебя после занятий и что-то переписывал для твоего диплома в библиотеке. Убей бог, не вспомню ни слова. Не разбираюсь я в обработке металлов резанием.
Ноги отекают? Голова кружится? Тебе — страшно?
Тебе раньше меня пришлось расплачиваться по выписанному гневным боженькой счёту. Сорвала бы ты опять то яблоко? Не сейчас, когда Барби уже — девять, и нам страшно даже представить, что её не было бы в нашей жизни, а — тогда.
Слушай, а он уже толкается. Мы его не придавим? До скольких месяцев можно? Да? И что говорит эта твоя подруга?
Уже слышит? Как ты думаешь, ему нравится, то, чем сейчас занимаются его родители?
Хочу тебя.
Хочу стянуть с тебя через голову твою обтягивающую живот ночную рубашку, и губами ощутить, как бьётся в тебе ещё одно сердце. Может это пророк Иона прячется в твоём чреве от гневного Бога и до поры не желает появляться в наш мерзопакостный мир? Тогда ты — Рыба-Кит.
Теперь я с нежностью буду провожать взглядом кашалотих в Аравийском море. Они приходят в тёплое море рожать своих детёнышей и откармливать их густым, как йогурты, молоком.
Говорят, от большой любви рождаются красивые кашалотики.
Какая тёмная ночь. Ни звезды. Знаешь, что наша Галактика образовалась, когда младенца-Зевса оторвали от груди его матери?
Может внутри тебя — младенец Зевс, и грудь твою сейчас распирает от Млечного пути?
Все судоводители с их секстанами, хронометрами и астрономическими таблицами должны сейчас молиться на твою набухающую звёздами грудь.
Слушай, а не судовым ли плотником был Иосиф?
У них с Девой Марией потом были дети помимо Христа.
Значит ли это, что Мария с ним изменила Святому Духу?
Или — что Иосиф отбил её у Святого Духа?
И смеялся над всеми подсчётами своей родни, плотник из рода царей, над всеми этими "Авраам родил Исаака", "в апреле наш Йося был в рейсе", ибо знал, что Авраамы не рожают, и даже если бы он действительно был в апреле штатным плотником Ноева ковчега в рейсе к горе Арарат, с него достаточно и того, что эта Женщина предпочла в конце концов его, будь его предшественником даже сам Господь Бог.
Почему ни одно из четырех евангелий не пишет о том, кто был матерью самой Девы Марии?
"Авраам родил Исаака". Все пророки и святые девы этого грешного мира, все грешники и блудницы, проникли в него через одни и те же ворота: между ног женщины.
Кто шевелится сейчас в твоём вмещающем иные миры животе, жена моя? Благоговейно и осторожно, чтобы не испортить деления тысячелетий на те, что были до того, как ты родила, и те, что последуют после, погружаюсь в тебя, как во вселенную.
Пожалуй, если бы Иосиф всё же был судовым плотником, и вернулся домой всего на полтора месяца между двумя рейсами его галеры в страну Офир, даже Дева Мария не сохранила бы своей непорочности для предъявления акушерам-волхвам при родах.
И спасаться бегством от Ирода, и рожать на скотном дворе в Вифлееме ей тоже пришлось бы одной. Иосиф, бродяга, уже плотничал бы на какой-нибудь римской либурне, везущей шейку лангуста попутным грузом на Формио.
Знаешь что интересно? Ни грозный Отец, ни возлюбивший ближнего Сын в Италии не прижились. Итальянцы, как когда-то к Изиде, и с бедами, и с радостями своими идут только к Деве Марии.
Ты успела на обе свадьбы: роды почти что совпали с защитой диплома. Моя мэм суетилась и бегала, возила тебя, полумёртвую, на такси из роддома: как же — Защита!
Её очень смутил твой ответ на проверенный самохвалебный вопрос:
— Видишь, как хорошо? А через год защищаться? Пелёнки, кормления…
Ты ответила:
— Кто б его защищал уже, — чем лишила её дара речи.
Интересно, смогла бы она затащить твоих преподавателей прямо в родильный покой, если б совпало до часа?
Нет? Ты недооцениваешь мою маму. Как вы уживались на кухне вдвоём?
Как я, сопливый сократ, мудрец по найденной в парте шпаргалке истин, мог считать, что тебе лучше жить с моими родными?
Проходимец с Итаки:
— Ты — жена, и за мною последуешь.
Знаешь, а в те времена, царства были приданым царевен. Женихи состязались в метании диска и в беге, чтобы царство и царская дочь доставались сильнейшему.
Но — последовала. Что получила взамен?
Двадцать лет где-то носит его. Ребёнок растёт, свёкр уж немочен. Всё одна. А свекровь…
Боги, как по-разному даже ждут в разных фазах Селены.
Знаешь, а ведь заносило меня и к Итаке. Остров как остров. Гористый, с красивой долиной, удобной бухтой. Но нет в нём ничего, из-за чего стоило бы бросать берег любвеобильной Каллипсо и отдаваться во власть стихий на плоту.
Разве что эта православная церковь на уступе скалы, над морем. Православные церкви растут на фундаментах древних храмов.
Я знаю теперь, где стояла и смотрела на водную гладь Пенелопа.
Кто-то сказал мне, что это не церковь, а монастырь для вдов моряков, навсегда ушедших в море.
Греки уже знали о том, что люди делятся на живых, на мёртвых, и на тех, что в море.
И я только сейчас понял, что если и есть этот монастырь для вдов погибших, то он должен бы быть только здесь.
Монастыря же для жён тех, кто в море временно, просто нет. И не нужен.
Что болтали досужие греки об этой Мессине? Сцилла с Харибдой! Что бы они тогда сочинили, увидав Ненасытец и Чорторый? Пролив как пролив.
Спартак вполне мог бы переправиться через него на плотах, а не ждать кораблей киликийских пиратов. Или даже использовать как канатную дорогу линию электропередачи, будь среди его рабов хоть один электромеханик.
Но электромеханики, должно быть, были тогда на вес золота. Единственным инженером, имевшим дело с электричеством, и то — атмосферным, был одряхлевший Зевс. По-римски — Юпитер. Он был уже на издыхании. Боги быстро стареют и мрут, когда их не боятся уже даже дети. Недавно, на моей вахте, мы слышали грустные возгласы на берегу:
— Великий Пан умер!
Бедный мой козлоногий божок. Нелегко оставаться в живых, когда вместо наяд повсюду уже — акведуки, и живут в древнеримских хрущобах, никак не уйти огородами от ревнивых мужей.
Любовь к акведукам, похоже, осталась у итальянцев поныне. Там где наши дороги вгрызались бы в скалы, итальянцы мостят эстакады. А сами дороги!.. Русские любят езду? Все наши дороги — сплошной Кэмэл Трофи. Вслед за Гоголем пристраиваюсь к великороссам, и никак не могу глядеть на них не со стороны. Особенно, как и любил "сумасшедший хохол" — с итальянского берега.
Мы стояли под выгрузкой целых пять суток: профсоюзы. Здесь — низко. Грузчику нужно будет нагнуться! Здесь — высоко. Нужен помост. А сейчас — кофи тайм.
Угнетённые пролетарии Запада? Да наш гегемон эти триста тонн шейки лангуста выгружает на промысле восемь часов всего. Правда, вместе с интеллигентской прослойкой. Штурмана и механики не освобождены от зарядки и бодибилдинга сибиряков: в трюмах — минус двадцать.
Пять вечеров итальянские старики в типично грузинских кепках и застёгнутых под ворот рубашках под потрёпанными пиджаками чинно сидели на тротуарах, всяк на своём табурете, и обсуждали, должно быть, до боли знакомое: "Вот при Цезаре…"
Пять вечеров влюблённые парочки не находили более подходящего места для поцелуев, чем напротив нашего трапа. Страстно, по-итальянски. Романтично, наверное: у корабля. Ржавого, как после тысячи месяцев рейса генуэзского галеаса в Святые Земли. На виду у вахтенного, который совета не даст только потому, что латыни матросов не учат.
Пять вечеров я смотрел, как по порту, — и никакой проходной, во зажрались! — идут на ночную рыбалку к волнолому у маяка. Семействами строго: матрона, отец с ребятнёй. С рюкзаками, удилищами, термосами. Будто в джунгли на месяц. Мамаша через час уже спит: тут же, на надувном матрасе, под пледом. Отец удит рыбу. Дети с фонариками ищут крабов.
И что им до того, что распалась и завоёвана варварами империя Цезаря и Октавиана? Даже завидно было. Хотя…
Вряд ли стоит менять место жительства для того, чтобы всей семьёй пойти на ночную рыбалку. Достаточно удочки взять.
Да, загнивают они, как при Каллигуле.
Бабы на пляжах — топлесс. Оно и понятно: знаешь, во что обошёлся твой купальник?
В парламенте — порнодивы. В местных "Мурзилках" — всё больше в коже с шипами, с плетью и кандалами. По Мессалине или по рабству тоска? Свобода — не возбуждает?
Рекомендация сексопатолога: в рейс, на полгода хотя бы. Можно даже — Мапуту, а не Кергелен.
Хочу тебя.
Хочу тебя на ночной рыбалке. На волноломе, на надувном матрасе.
И посреди переходящего в оргию пиршества в термах, где благопристойные матроны отдаются нумидийским рабам на глазах у тучных мужей, ублажаемых красавицами из дикой Гилеи.
Какая рыбалка? Мы успеем пока дети высмотрят крабов. Они ничего не заметят, даже лёжа уже под одним одеялом с нами. Дай лишь мне незаметно приспустить твой спортивный костюм и пристроиться сзади. Продолжай им рассказывать сказку, скользнув рукой под одеяло:
— Вот бестолковый. И попасть без меня не сумеешь…
— Кто, мама? Мальчик-с-пальчик?
— Пожалуй, действительно не великан.
Ничего, издевайся. Мой Али-баба уже проник в твою заколдованную пещеру, пробирается вглубь, осторожно, тычась в горячие влажные своды.
Рука трёт тебя ниже пупка, моя лампа волшебная. Или это из сказки про Алладина? Говори, говори, моя Шехерезада.
Ты сбиваешься, умолкаешь всё чаще, невзначай повторяя слова.
— Мама — дальше! — требует слушатель, ты согласна:
— Да! Дальше! Дальше! — прижимая своей рукой бестолковые алладиновы пальцы к тому месту лампы, где нужно тереть.
Да не так же! Я — лампа, а не сковородка! Что, уже? Выпущен джинн?
— Единоличник, а я! Мне же — мало! — чуть не плачешь ты.
— Кому, мамочка? Принцессе, или свинопасу?
— Нет, просто жирной ленивой свинье!
Какие рабы? Не настолько я толст, чтобы не выполнить эту работу. Можно и попотеть. На то и термы. (Сауна, если по-нашему, по-чухонски).
— Ты с ума сошёл? Здесь же жарко!
— Ничего, я люблю потных женщин.
— Ты с ума сошла, в бассейне вода — ледяная.
— Ой, какая висюлька! А где же?..
— Поработай хоть так, потри спинку. Нет, спинка — это значительно выше.
— Да отстань, мы же в мыле!
— Лучше сделай массаж.
— Да, вот здесь. И чуть выше. Почеши под лопаткой.
— И — ноги.
— Ноги — ниже.
— Что? Толстая стала?
— Ты готов? Или мне звать нумидийца? Нет, лежи. Я тебе покажу, как засматриваться на рабынь из Гилеи.
Десять лет можно отсчитывать по-разному.
Можно так: "Между тридцать первой и сорок второй серией очередной "Изауры".
Можно эдак: "Семён Осипенко", Поти, путина черноморской хамсы." То-есть: "Когда ты работал на Чёрном море, чаще бывал дома, и привозил мандарины."
Короче: "Когда мы жили ещё вместе с бабушкой, и у нас ещё не было папы."
Помню, как я родился. И не был я дома всего лишь два месяца, но Барби как-то очень быстро взрослела. Может потому, что ты первый раз подстригала ей чёлку по-взрослому, и, как взрослую, одевала на ночь в пижаму, а может, просто возраст такой — между годом-шестью и двумя годами.
Она ходила за мной хвостиком, но не на шутку пугалась и визжала взаправду, когда я брал её на руки. Так темнокожая малышня на Сокотре с визгом разлеталась в разные стороны от невиданного прежде зверя — собаки. Но стоило судовому псу Матросу устать от игр в догонялки, максимки тут же собирались опять, крались к нему со спины, и только самый старший и самый отважный осмелился гладить его.
Наша Барби оказалась достаточно смелой. Не прошло и двух дней, как я был признан папой, поглажен, но, как оказалось позже, определён в самые младшие члены семейства.
На третий день, мне уже нужно было возвращаться к хамсе с мандаринами.
Или уже был совместный с болгарами экипаж? Шпрот под Змеиным?
Основное занятие болгар во все времена — нелюбовь к городу Константина.
Во времена базилевсов какой-то из них приказал ослепить побеждённое войско болгар, оставив по глазу на десятерых. Так и вернулись они по домам: одноглазый вёл вовсе слепых.
Где теперь Византия?
А ты знаешь, если верить рыбмастеру Грудову, под Доростолом, на Дунае, Святослав воевал против войска императора Цимисхия вовсе не за болгар, как учили нас в школе.
Царь болгар, призывавший в союзники князя, уже сам был не рад. Союзник оказался поразорительнее, чем агрессор.
Во времена, когда на Босфоре обосновались султаны…
Хорошо, что в Болгарии не осталось этнических византийцев. Туркам — тем просто в одну ночь поменяли фамилии и имена на болгарские.
На какие б меняли Кирилла с Мефодием?
Ночью в Бургасе, на эстакаде ведущей от пляжа в море, нас обыскивали и обнюхивали доберман-пинчером, не турки ли? Турки взорвали здесь бомбу, неужели не слышали? Как же, слышали, пьяный какой-то швед ради хохмы взорвал петарду.
— Они все — террористы! — доказывает Николай, наш рыбмастер. И попутно учит меня пить мастику:
— На здравие.
— Я работал с одним десять лет. А у него дома нашли передатчик.
— Коля, а как он передавал? Вы ж рыбу ловили под Африкой.
— Коля, да разница в чём? Ты — хороший моряк. Харизан, твой матрос, — тоже вроде бы неплохой. Какая мне разница, кто из вас турок?
— Он сам так сказал? Что он — турок? Один звонок — и он больше не будет работать матросом.
Но — вот интересные закономерности. Болгары — вот они. Здесь, будто и тысячи лет не прошло. Будто и не ослеплялись победителями и жён их в гаремы не гнали.
А где — победители-византийцы?
Где — сельджуки, османы?
Опасное это дело — быть болгар победителем, зажравшимся и почившим на лаврах. Крестоносцы, заблудившись, возьмут на щит вместо Иерусалима.
Опасное это дело, гнать в полон этих гордых славянок. Торговать ими в стенах Галаты для гаремов пашей и мурз. Там глядишь, и в султанском гареме объявится Роксолана. И все головы победителей будут брошены в прах у любимых Селимом ног.
Может дело не в пушках, а в женщинах? На каком языке они молятся, и поют над над плачущей дочерью, и за шалости выговаривают, и шепчут слова любви? И какими словами скажут:
— Бог мои молитвы услышал. Ты вернулся живым. Одноглазым? Да даже слепым, как те девять. Ну не увидел бы этих морщинок, и я была б всё ещё молодой.
Хочу тебя.
Хочу, едва встретив идущей навстречу, избавив меня тем самым от утомительных поисков, когда каждый указывает в другую сторону и кивает головой, говоря "нет".
Сын сослуживца не верит:
— Как же так? На курорте. Шла по улице — встретила мужа.
Умный малый. Когда он вырастет, он не поверит вдвойне.
Не будем его расстраивать. Признаемся, что мы просто любовники. Ты сбежала к морю от толстого лысого мужа, а я — беглый матрос с "Потёмкина". А Барби? Она с нами в сговоре, как Катаевский мальчик Петя.
Портье понимающе хмыкнет. Швейцар сложит руку лодочкой. Накладное это дело — курортным любовником быть. Дверь я оставлю незапертой, чтобы когда уснут дети и сбежит на танцы соседка по комнате, ты смогла бы ко мне улизнуть.
Хочу тебя.
Хочу тебя краденой у толстого нудного мужа, захмелевшую от свободы и отпустившую тормоза. Как он мог отпустить тебя к морю? Он настолько самоуверен? Приставил следить охранку? Или настолько тебя проглядел, что считает: в прошлом то время, когда за тобой увивались толпы плэйбоев-пляжников под видом игры в волейбол?
Как давно он не ждёт с замиранием сердца, что вот сейчас скрипнут двери, глухо цокнет предатель-каблук, запахнет твоими духами, упадёт к ногам твоё платье и, таинственная и желанная, ты скользнёшь под его простыню?
Как давно он не знает жажды, утолить которую смогут только эти сладкие губы? Как давно его в жар не бросает от твоего озябшего тела? Как давно он смотрел при луне на эти роскошные бёдра, проводил рукой по твоей гладкой коже и целовал твою грудь?
Как давно ты под ним стонала? И обхватывала ногами? Не боялась, что сдуру раздавит и не думала: "Надо белить."?
Как давно он храпит лицом к стенке, сочтя что долг свой исполнил? Как давно — только на спине, и только об Англии думая? Darling, enough?
Как давно тебе не хотелось забросить ноги на плечи? Расцарапать в кровь его спину, биться в судорогах и грехах?
Как давно ты его не ласкала губами, и не перебирала пальцами не мошну его, а мошонку, чтобы он побыстрее воспрял?
Поделом ему. Мне — не жалко. Если он настолько дебилен, что считал, что тебе будет не с кем нагой стоять на балконе, изменяя ему даже с ветром, который в паху холодит.
Ты уйдёшь лишь над морем появится солнце, и смазливая кастелянша понимающе прыснет в кулак, меняя мою простыню.
Мне не жалко рогатого мужа. Даже если он — это я.
Рядовое кораблекрушение. К тому ж — невзаправду.
Уволен. За дело? Вряд ли. Вторая модель хозрасчёта, перестройка мышления, щёкинский метод. Словесная дребедень. Почему-то казалось, что выбор будет за мной.
— В рейс желаете?
— Да нет, надоело-с… бороздить…
Даже рассказик сочинил по этому случаю, как накаркал.
По рассказу я сейчас должен сидеть на набережной, мерить взглядом волну и вспоминать самые героические моменты флотской своей биографии, высадки на островах в океане, штормы, шквалы, тайфуны и ураганы: прощаться с морем.
Напоследок я должен буду швырять в море монету, достоинством в сто джибутийских франков. Но последний мой рейс — на Болгарию, с валютой управа надула. В кармане — лишь мелочь и рубль металлический.
Но сижу добросовестно, вперившись взглядом в нефтяные разводы у морвокзала. А мысли — о низменном. Жрать охота. Гастроном — за углом. Если потратить рубль…
Нет, рубль — святое. Не пятак же в волны бросать.
В гастрономе опять нестыковка: на две булки хватило, а вот на кефир…
Возвращаюсь. Рассказ-то написан. Как-то не думалось автору, что все мысли в возвышенный грустный момент будут только о жрачке.
Не выдерживаю, ем свой хлеб, не жую почти, рву зубами, давлюсь — до икотки. Побыстрее зашвыриваю в нефтяные разводы свой рубль: руку жгёт.
Что стоило мне написать, что главный герой швыряет в волну бутылку из-под кефира?
Хочу тебя.
Хочу ждать тебя ночью, на берегу лагуны, под шелест волны и пальмовых листьев, под отдалённый бой там-тамов.
В твоей деревне праздник. Все будут от души лакомиться свининой и плодами райской твоей земли, петь песни о Мауни и танцевать на угольях.
Мне нравятся обычаи твоего острова. Нравится то, что любовью у вас принято заниматься днём, на огородах, чтобы дети не видели, между прополкой грядок сладкого картофеля. Может и я со временем научусь правильно держать в руках тяпку?
Нравишься ты, склонившаяся над грядкой, и как отвисают и упруго перекатываются при каждом движении шарики твоей груди. Не нравится то, что это же могут видеть твои соплеменники-соседи.
Ты недоумеваешь:
— Почему? Они ведь — не дети?
Грядочка ты моя сладкая, в стране, где я вырос, женщины, как в тиски, затянуты в корсеты из китового уса, носят чепцы и полосатые чулки, и верхом неприличия считают, если мужчине удаётся ненароком увидеть краешек их кружевного панталона.
— А как же у вас рождаются дети?
Дети, как ни странно, рождаются так же. Ибо всё, что неприлично днём, дозволено ночью.
И вы никогда не видите тела своих женщин? Вы любите их — наощупь?
— О нет же! Нет! Тело их воспевают поэты, роскошные их телеса украшают картины самых лучших живописцев Гааги и Гронингена.
— Значит, вы смотрите картинки днём, и любите их по памяти?
— Я — не такая, как они? Какие женщины тебе нравятся?
Я смеюсь над собственной глупостью:
— Мне нравятся кормящие матери твоих лет, с шоколадной от тропического солнца кожей, с длинными волнистыми волосами, с ровными белыми зубками, которые они всем показывают всякий раз, улыбаясь до ушей. Сладкая ты моя, нос картошечкой.
Нравится, когда они бросают тяпку, смешно трутся носиком о мой нос вместо поцелуя, и просто пощупав под измочалившейся парусиной матросских штанов, в которых когда-то прибило меня к спасительному берегу, говорят:
— Дурачок, ну что ж ты молчишь? — и тянут в тень близрастущих деревьев.
Хочу тебя.
Хочу тебя, склонившуюся, как над грядкой, как огромный фаллос обхватившую руками ствол дерева, просто и буднично сбросившую и переступившую травяную свою юпчёнку.
Сколько веков ещё моим соотечественницам скрипеть китовой бронёй и манерно поджимать губки, и настолько надоесть Гогену, чтоб он сбежал от них, дабы нарисовать тебя, моё солнышко?
Сколько Тулуз-Лотреков и Мопассанов должно умереть от сифилиса, чтобы подвыпивший пива бюргер мог увидеть в журнале "Плэйбой" то, что я вижу сейчас, и пошёл любить свою жену по памяти?
Памяти о тебе?
О бархатистых фиолетовых створках твоей раковины, выросшей в мелководной лагуне между двух распахнувшихся призывно островов?
О том, как ты стояла, прогнувшись как пальма в тайфун, и терпеливо ждала, пока мой воспитанный на севере пловец вырвется из матросских штанов, и нырнёт за влекущей раковиной?
И руки привыкшие к чему угодно, от манильских тросов до рукоятей штурвала, только не к тому, чтобы обхватывать талию жены, и направлять её, как корабль; руки, оказывается, сами знают, что делать: управлять движениями твоего гибкого тела, ритмичного, как прибой у берегов твоего острова; и спускаться, похлопывая по дивной шоколадной попке, вращающейся уже медленно, захватывая моего беспечного пловца в водоворот; опускаться, захватывать снизу упругий животик и подводные гряды косточек таза; и — двигаться, двигаться, двигаться, тянуть на себя и отталкивать, как при гребле в вельботе;- руки мои уже чувствуют направляющую ладонь поверх грубых пальцев, влекущую их ещё ниже, придавливая к пучку жёстких водорослей, под которыми скрыта жемчужина.
Что за напасть каждый вечер гнала меня на берег моря, чтобы сидеть, глядя на звёзды, и тосковать по ковшу Медведицы? Если б не это, разве пришла бы ты однажды вслед за мной с веслом каяка, и сказала бы просто, не поджимая манерно губ:
— Все будут веселиться и долго спать поутру. Я украла для тебя весло. Плыви к своей звезде, муж мой.
Я поплыл. И теперь, как все мужчины страны, где я вырос, люблю тебя напамять. И тебе не приходится опасаться, что наша дочь, проснувшись в просторной хижине твоей семьи, услышит, как отец и мать любят друг друга наощупь, а тёща не будет ворчать:
— Опять за своё. Дня им мало.
И главное воспоминание моей жизни — не фальшивые стоны и облизывание нарисованных губ, пришедшее на смену манерному поджиманию, как пояса для чулок сменили китовые корсеты, и должные означать то-ли страсть, то-ли похоть, а то, как ты трёшься щекой о волокнистый ствол дерева, потягиваешься, естественно, как райская птица пёрышки, оправляешь свою травяную юпчёнку и говоришь:
— Полегчало? Теперь ты сможешь спокойно полоть батат?
Моё летоисчисление смешалось. Я уже путаюсь в названиях пароходов и портов, как путаются пожиратели сериалов в колючках диких роз и именах плачущих богачей.
По военным переворотам считать? Тоже не вяжется.
За трое с половиной суток ходу от Херсона до Поти, власть в Грузии менялась дважды.
— Слышал, что Звиад сделал? Он опять захватил телевидение! Молодец!
Опять Белый Дом штурмуют? Танки? Руцкой забаррикадировался? Подождите, он же улетел на Бельбек спасать Горбачёва. С танка выступал Ельцин. Он сейчас — по Останкино? А "Лебединое Озеро" как же? Танки бьют по окнам Белого Дома, с них не повыступаешь теперь?
О тихо забаррикадировавшемся в своём кабинете президенте острова Крым, уже и не помнит никто, кроме моряков: он был помполитом в нашей конторе. Боится теперь выйти из своего президентского дворца, потому что обратно его не пустит дежурящий у входа милиционер? Пропуск просрочен? Наш знакомый дурдом.
Когда-то в Белгород-Днестровском порту один ВОХРовец точно так же не пускал меня на моё же судно из-за какой-то закорючки в пропуске. Хорошо что боцман вернулся, ткнул ему в нос своё удостоверение, по которому он за минуту до меня проник в режимную зону морпорта, оказавшееся студенческим билетом на абсолютно непроизносимое негритянское имя с соответствующей фотографией и "Нигерией" в графе "национальность", и попросил сличить фото с оригиналом.
Похож ли Карымов на негра? Ты думаешь? Даже так? Тебе жалко ту девочку, которой он вскружил голову до того, что она заставила его на себе на некоторое время жениться?
У некоторых боцманов просто развито лёгкое отношение к серьёзным вещам. Свадьба была его очередной шуткой, подарком друзьям. Когда мы с тобой последний раз были в ресторане?
А представь, каковы были мои Белгород-Днестровские страдания, когда на следующий день меня вызвали с судна в линейный отдел милиции, и проницательный следователь стал ловить меня на оговорках, чтобы я раскололся, куда я дел труп негра?
" Боже мой, опять пахнет закрытием визы. И за меньшие художества закрывали", — в возможность того, что я вспомню, под каким деревом закапывал труп, я не верил с самого начала.
— Да я и фотографию эту второй раз в жизни вижу!
— Вот именно — второй, — тут же ловил меня на слове Лейстрейд Пинкертоныч Знаменский.
Но, узнав что меня замели, явился с повинной друг Карымов, и через пять минут из кабинета Лейстрейда уже слышался хохот, сыщик звонил по телефону:
— С негром — отбой. Да тут — комик один с пароходом приехал…
Началась тогда уже война в Приднестровье? Или — ещё Югославия? Обстрелы наших судов на Дунае и десять долларов гробовых за проход Вуковара? Даже в войнах можно запутаться.
Твой хронометр более точен.
"Когда Барби было два с половиной, она стала ходить в детский сад, и ещё не выговаривала букву "Р"…
…и, только однажды побывав на моём пароходе, тыкала пальцем во все речные трамвайчики, баржи, моторные лодки и байдарки под мостом через Днепр: "Папины кайаблики".
Сколько же нужно было тебе объяснять человеку разницу между речкой и морем, чтобы он наконец всё понял, и стал вспоминать папу, тыкая пальцем в лужи?
Знаешь, я многое стал понимать только с годами. И одно из этого множества: как важно, когда твоя жена каждый день объясняет дочке хоть что нибудь о скитающемся по всем лужам глобуса папочке. Пусть даже то, что папочка — негодяй, бросивший своих девочек ради очередных луж с бумажными корабликами. Важно лишь, чтобы — каждый день.
Но и тут ты меня поразила.
"Когда нам было пять…"
"Ну, да, Ялта — Синоп, пассажирская линия… "
"Там возле каруселей ещё был такой надувной клоун! Чтобы прыгать."
Я подслушал:
— А ну прекрати! Видишь, как папа зарабатывает эти деньги? А ты мне истерики из-за каких-то заколок закатывать будешь? К тому ж — абсолютно ненужных.
Зато как потом будет стыдно, когда семилетняя дочь будет спрашивать по дороге в школу:
— Папочка, у нас сейчас есть деньги? Так хочется этот журнал с Микки Маусом…
— Мам, почему нашему папе так не везёт? Когда он уже найдёт работу, на которой зарплату платят?
Вот мы дожили и до забот. До забот о хлебе насущном.
Что там дальше? Болезни? Старость, дряхлость? И — смерть?
Я всё ещё молод и глуп. Всегда ставлю смерть в конец списка.
Хочу тебя.
Хочу прямо посреди двора, не дожидаясь ночи, едва приехав вслед за вами с Барби к этому морю моего детства. Даже Светка, хозяйка, заметила.
— Вроде не месяц жену не видел, а целую вечность.
Хорошо, что нашей Барби есть с кем гонять по этому двору до одурения, а ваша комната закрывается на ключ.
Хочу тебя прямо посреди пляжа, бесстыжую, почти голую, даже пожилые мужики пялятся, а не то что всякие волейболисты и пляжные фотографы.
Хорошо что можно отплыть подальше от берега на водном велосипеде и любить тебя, сидящую лицом ко мне. Ощущать грудью твой налившийся сосок, целовать твои плечи и придерживать тебя руками за сводящую меня с ума попку. Плевать на спасателей. Пусть завидуют нам в бинокль.
Плохо, что граница — по-прежнему на замке, и даже вдали от пансионатов, даже на самой безлюдной части пляжа мы не гарантированы от того, что над нами не зависнет вертолёт и вертолётчики не станут мешать советами и грохотом винтов.
Хорошо вечером, когда дети уже нагоняются и свалятся замертво в сон, сидеть с хозяевами за столом в беседке, под виноградом, усадить тебя на руки и тихонько целовать тебя за ушком, пока ты что-то рассказываешь и что-то выслушиваешь, и незаметно заползать рукой тебе под блузку, и в противоположном направлении, невзирая на твои болезненные щипки, чтобы быть приятно шокированным тем, что ты уже без трусиков.
— Вы днём хоть на ключ закрывайтесь, — прыснет вдруг на полуфразе Светка.
— Колька стучать не догадывается. Старые мы уже для этого в его представлении.
Да, Светка теперь — хозяйка. Даже не верится, что этот дом не развалится и виноград не усохнет и без бабы Нины. Она казалась мне вечной. Всегда улыбающаяся и рада любым гостям.... и сейчас не назову её старухой. И представить не мог, что, попрощавшись однажды, можно, вернувшись, уже не застать её.
Всех и всё пережившая женщина.
Раскулачивание двадцатых, когда половину семьи повысылали кого в Вологду, кого в Астрахань.
Голод тридцать третьего. Когда оказалось, что сосланные живут лучше оставшихся, хотя бы потому, что — живут, а картошка у хохла дозревает и в Вологде.
Похоронку на мужа, погибшего ещё в финскую. Я и не знал лет до пятнадцати, что тётя Валя — не родная дочь деда Вани, оставшегося жить здесь после службы. Он после войны дослуживал здесь на пограничной заставе. Так и прирос. Ни разу в Рязань свою не ездил даже. Чем она так его приворожила? Смотрю послевоенные фотографии. Красивая была женщина.
В войну самым добрым человеком оказался для неё, как ни странно, захватчик-немец. Зашёл во двор: "Млеко, яйко…" Какое млеко у вдовы с малым дитём? И козы-то нет, не то то коровы. Дала ему арбузов. Когда заплакала дочь и баба Нина побежала в хату, немец аккуратно положил арбузы у калитки и тихо ушёл, оставив на столе посреди двора четвертинку солдатского своего хлеба.
Свои, только свои издевались. Особенно над ней: муж не вернётся и не отблагодарит.
И на фронт, за сто с лишним километров ходила она с двумя мешками продуктов на спине, для младшего брата и для мужа сестры. Пацаны лопоухие. Их сразу и мобилизовали, как только наши вернулись. Нашла. Очень не любит с тех пор азиатов. С кем угодно договоришься, чтобы пропустил, хоть с грузином. А эти: "Не положено", — и хоть на колени падай перед ним… Всё потому, что сала не едят.
Пожалуй, это было самое дальнее её путешествие за всю жизнь. Хотя нет. Ей ведь и гораздо дальше пришлось побывать не по своей воле. В тюрьме. В пожилом уже даже возрасте. Велика была страна родная. Этапы длинные.
Мать рано умерла. Младшая сестра, брат, отец, слепой ещё с гражданской, тётя Валя мелкая — всё на ней.
И похоронила всех, кроме сестры.
И, вроде бы всех бед мало, ещё и дочку свою пережить пришлось. Светка тогда уже в институте училась, а Колька, он поздний ребёнок был, как-то сам собой прижился у бабки. К отцу наведывался только. И Светка вернулась жить не к нему, а к бабушке.
Вроде бы — каторга, а не жизнь. Но никогда не слышал я от неё жалоб. Всегда с улыбкой, всегда при деле каком-то. И ушла, как прожила. Спокойно. Не готовясь загодя. Будто знала, что вот вчера завещание рано ещё писать было, а сегодня… За Светку переживала, что хату делить станут. Наследников всегда больше, чем родни.
Откуда спокойствие это и умиротворённость? И сила эта откуда?
Может от этого моря, сидя на берегу которого в лунную полночь знаешь, что Бог есть?
Или от скифских баб и курганов за селом, в степи?
Море моего детства. Баба Нина и о пророке Ионе рассказывала мне, вроде бы как о каком-то местном жителе, и мне казалось, что именно в этом море плавает Рыба-Кит, а спасающийся от Бога бегством на черноморском дубке пророк был выброшен на песчаную косу острова сразу за селом. В крайнем случае — около Скадовска.
Классе в пятом я уже твёрдо знал, что Бога нет. Попы всё врут. И спорил с бабой Ниной до слёз.
— Как же врут? Всё как есть — правда написана. И про конец света, и что птицы железные по небу летать будут, и звезда упадёт.
Я всегда был спорщиком.
О том, что баба Нина родилась во времена, когда железные птицы ещё не летали по небу, пионеров не учили.
А о том, что очень скоро будет падать звезда, и даже имя её библейским пророком указано правильно, не знали и сами учителя.
Моя мать как-то решила сгладить наш спор научного атеизма с тёмной религиозностью, сославшись на "Капитал" Маркса, как на пример не менее удачного пророчества, изменившего мир к лучшему.
Пророк Иона больше не приплывал к этому низкому песчаному берегу. Я сидел на пляже, смотрел на голубое море, в котором не живут киты, и твёрдо знал, что за горизонтом — Турция.
Далеко, как на край света на надувном матрасе.
Оказалось, я сидел на берегу Каркинитского залива, и за горизонтом моим был полуостров Тарханкут.
Оказалось, Босфор — это рядом. А чтобы Аллах услыхал молитвы благоверного из гяурского храма Софии, достаточно пристроить к храму минареты.
Оказалось, что сколько раз ни проходи Босфор, он всё равно останется прекрасным.
Оказалось, что у Кандиди — очень сильное отбойное течение.
Ещё позже оказалось, что безлоцманский проход Босфором оплачивается из расчёта семьдесят долларов за один проход.
Единственной книгой, которую прочла за свою жизнь малограмотная баба Нина была "Библия".
Может, и не надо никаких других книг?
Церкви и батюшки в селе её не было.
Бардак — по-турецки всего лишь стакан.
А табак — почему-то тарелка.
Табак будет — тютюн. По-украински, а не по-русски.
Шапка — шапка.
Изюм — виноград.
Кылым — как и у нас.
А вот кавун — дыня.
Водка пишется через букву Т.
Когда знакомого турка контрабандой ввезли в Севастополь и у памятника Нахимову сказали: "Гросс Адмирал…", он ответил:
— Да, как же, знаю. Большой Адмирал. Бомба — Синоп.
Эти стены начала строить ещё амазонка Синопа. А закончил в нынешнем виде Боспорский царь Митридат. Последний соперник Рима. Отравился в Керчи цикутой, когда римские униремы уже входили в пролив. Стены две тыщи лет ждали, когда ж Павел Степаныч Нахимов испытает на них новинку: бомбический артобстрел.
У мечети стоит источник. Бронза, надпись на мраморе. Построен на деньги погибших в Синопском бою моряков. Турки, Турция — дикость: из карманов убитого, даже могильщик, не возьмёт чужого реала: Аллаху всё видно, грех.
(Когда пропадают часы, положенные на парапете набережной, пока хозяин купается, нужно просто идти к проходной портовой полиции: русское судно в порту. Больше — некому. Ну конечно, идёшь — лежат ничьи часы. Какой матрос растеряется?)
"Эскадра русских… Без объявленья войны, внезапно…" Пал Степаныч просто устал крейсировать больше месяца вдоль берегов.
— Сопливые дипломатишки-с… Либо в базу вернуться, либо же — воевать-с!
В развале стены на набережной сейчас полно ресторанчиков. Пьют пиво канадцы с норвегами. Море у столиков плещется, яхты швартуют к пиццериям. Спасибо гросс адмиралу за реконструкцию города.
И за реконструкцию мира.
Три года войны в Севастополе. В Очакове. В Петропавловске. В Кронштадте. В Русской Америке. Почти — Нулевой Мировой.
Флот в Северной бухте затоплен. Севастополь — разрушен, оставлен. Того ли ты ждал, Пал Степаныч? Или всё же сопливый тот дипломатишка неожиданно был прав?
Как по другому читаются знакомые с детства книжёнки, на которых героев воспитывали и политграмотили бойцов. Вот здесь была батарея… Вот здесь они стали на якоре… Что? Степи Синопские? Угнетённые сербы Синопщины?
Короче, опять сон Веры Павловны: и в Аравии русский мужик сеет рожь.
— Мы ещё будем мыть ноги в Персидском заливе!
(- Мои повара по-прежнему черпают воду из Волги!)
— Наши мешочники заполонили все рынки Турции! И Европы! И в Эмираты добрались! Вслед за ними грядут мафиози, тоже — лучшие в мире! Куда Коза Ностре тягаться!
Бог ты мой! Шурик, Трояк! Так это для них ты, выходит, чертил карту Дубая?
— Бей эфенди, давай выпьем воТки! Я не русский, а ты не турок. Мы для них: ты — лас, я — хохол. Родились у нашего моря. Понтийцы, сыны Митридатовы, митридат твою мать. А ты знаешь, что он не умер от целого бардака яда? Он с детства пил яд понемногу, приучал к нему организм. ВоТка твоя — отрава. Но ведь и не пьём, приучаемся. Шарафе, по-украински — будьмо!
Чтобы заработать десять долларов нужно водиночку перекидать восемь тонн сахара. Укрепляет мускулатуру.
Или отстоять восемь часов ходовой вахты.
Или поймать под Змеиным, засолить, привезти и продать восемь бочек черноморского шпрота.
Или ночью, с погашенными ходовыми огнями, пройти всего десять миль вдоль абхазского берега, подсвеченного вспышками залпов.
Думал ли я в Персидском заливе, что вот так же, как буровые платформы, будут гореть черноморские здравницы?
Беженцы, голод, разруха. Стрельба на безлюдных улицах Поти. Буржуйки в панельных домах.
Чтобы сохранить заработанное, нужно отдать почти столько же на лапу чиновнику: от таможенника до рэкетира.
Или дать взятку в кадрах. Прямо как церковь: десятую часть от суммы контракта.
Или платить рыбинспекции.
Или пузом заткнуть ствол обкуренного абрека из Барцханы.
— Он ведь выстрелит, если я буду двигаться резко, и испугаю его. Если стрелять не в воздух, можно попасть в человека. Поможет ли мне то, что я читал об этом у Бабеля?
Чтобы вернуть десять долларов, достаточно перепродать два ящика мандаринов.
Или три пака турецкого шоколада.
Или — контрабандой — провезти в Турцию четыре кило меди. Или — В Италию — два блока "Мальборо".
Или — в Испанию — двести грамм героина. (Они везли четыре тонны. Взяли их сразу за канарами, еще в море).
Или — выбросить за борт нелегального негра, не довезя до Голландии.
Взять на палубу десятую часть жигулей с половиной беженца до Геленджика, только в сумме — не больше двенадцати, чтобы иммиграционные власти не завернули на Новороссийск.
Или надуть по зарплате полтора матроса за день.
Или просто — прокинуть друга. Вот тут мелочиться не надо. Сразу этак штук на десять зелёных. Друзья — товар штучный. Растятся чуть ли не с детства.
Или на шесть минут продать жену турку в гарем, считая что всех трудов — час.
И такое пришлось увидеть. Время — весёлое. Выбор — богатый. Парткомы уже в подполье, Христос ещё не воскрес. Каждый — сам себе церковь и комиссия партконтроля. Сам решает, в чём ему каяться. В чём признаться, а чем — похвастаться.
Тот продавец своей собственной половины разыграл потом вскрытие вен. Ну намучились мы с ним: хирурги, полиция. И всё — только ради спектакля. Да лучше б уж он торговал другой своей половиной.
Свобода. Свобода. И правда — тётка жестокая. А мы, дураки, не верили.
Ни один надсмотрщик галеры не заставит налегать на весло лучше, чем такая свобода. Ты будешь грести и без плети, пусть и зад, и ладони — сплошной кровавый мозоль. Потому что это — единственное, что ты умеешь. Потому что это — твой хлеб.
Хочу тебя.
Даже когда мы в ссоре и каждый из нас горд настолько, что готов ждать целую вечность, что другой заговорит первым.
Даже когда ни к чему разговоры. Потому что сколько ни говори по-английски с француженкой, останешься при своём мнении.
Даже когда дом наш поделен зелёной линией на турецкий север и греческий юг, хоть ставь голубую каску между кухней и туалетом.
Даже когда ты скажешь, что без меня вам жить — проще. Всё равно ни любви, ни денег, только нервы и ругань, а готовить — на одного больше. Вы привыкли уже. Приспособились. И гораздо спокойнее, когда знаешь, что рассчитывать нужно опять — только на себя.
Что ж — рассчитывай. И обзову тебя дурой. И неблагодарной дрянью, и сведу всё к тому, что когда были деньги…
Прости хоть сейчас.
Ни к чему разбираться в тайм-чартерах и ставках фрахта, чтобы понять, что муж твой становится проходимцем. А жить с проходимцем — тяжко. И в любви ему нельзя верить.
Как ты тогда сказала? Когда мы говорили о Джеке Лондоне. Ты сказала:
— Кумир лежебок. Готовы всё бросить и плыть на Аляску, или на промысел котиков, поиски кладов Моргана: голодать, замерзать, тонуть, — что угодно, только б не работать и разбогатеть в одночасье.
Ты сказала ещё:
— Да, он был сильным. И твердил, что есть право сильного победить там, где тысячи проиграли. Но как только он победил, его тут же прибрала к рукам другая. Одна жена — для нищеты и детей. Подожди, потерпи, вот завтра… Сопли вам утереть, когда опять вы с Клондайка вернулись нищими. И без денег, и без зубов — одни долги. А другая — мамзель и тонкий ценитель таланта. И толщины кошелька.
— Да ты мне как раз и противен, когда ты опять с деньгами и считаешь, что дело лишь в этом. И что так будет всегда.
— Так что ищи себе Чармиан загодя. Победитель… Кто будет тебя отпаивать, когда опять тебя "кинут" на год работы на дядю? А ведь могло быть и хуже.
— Вот-вот. Все мы — дуры.
Прости хоть сейчас. Что мне до Волка причёсанного в воспоминаниях Чармиан? О том, как ты права, он сам писал в "Мартине Идене". Читала ли Чармиан "Идена"?
Хочу тебя. Моя женщина для нищеты. Для цинги и таёжного голода. Для дорог и скитаний. И ветра, сдувающего не только маски, но и гримассы вежливости. До кости. Ураган с женским именем.
Если ты меня разлюбила, значит просто я стал недостоен, а не клянчишь новую тряпку, шубку норковую или тойоту.
Если ты меня больше не хочешь, значит просто в такой круговерти я забыл уже, зачем вышел в море, куда плыл, куда возвращаться, и где укрыться от шторма.
Маячок мой. Моя моя тихая гавань. Где всегда тебе будут рады?..
Я опять стою в Феодосии. Но не встречу тебя на улице. Меня не отпустят с выгрузки. Хозяин взнуздал — дальше некуда. И хозяин себе — я сам.
Так уж вышло. Этот — спился. Этот — не выдержал. Этот — просто дал дёру, когда прищемило хвост и запахло бандитами, а не прибылью. А ведь были — друзья и соплаватели. Слабаки! Ничего, мы прорвёмся. Мы возьмём жизнь на абордаж по праву сильного. Мы ей в глотку клыками вцепимся, чтобы крови напиться. Мы читали внимательно Лондона.
Из тех, с кем мы начали, я один лишь остался в доле. Правда — доля моя незавидная. Компаньоны: один щёки дует в Киеве, держит банковский счёт и печать; второй — взятки носит в Одессе. Я ж — на судне сижу вечным сторожем. Чтоб механики не сдали топливо, а матросы брезенты не продали, чтобы судно не разморозилось, когда вырубят электричество. Сами ж были такими — наёмными, которым за месяц не плачено. Да, рэкет. Да, кинули. Но им то что? Они — отработали. Им теперь — получить за труды. И плевать, что мне тоже не плачено, а горбатил я больше их: ведь взнуздал меня не надсмотрщик, а Свобода.
По уму, нужно было всё бросить, как только запил Серёга. Когда он забросил на рельсы свой капитанский диплом, и отправился домой — плотничать. А ведь мы тогда уже выкарабкались… Но ведь я — не слабак. Утрусь. Сломался друг — ладно.
Капитан сейчас — не мой ставленник. Одессита и взяткодателя. То-ли кум, то-ли сват, то-ли брат. Старой закалки дядька:
— Зачем ты связываешься, чтобы ставили в порт? Это — дело получателя груза… — невдомёк, что всё мандариновое судоходство — на друзьях и на личных связях. Даже взятки не даст в портнадзоре, чтобы в рейс без радиста выпустил. Сгниют мандарины, пока получатель выбегает трансфлоты с таможнями всякими. За гниль и нам не заплатит: не с чего. И судись с ним, если найдёшь.
Что там было ему обещано? Он был поражён, что нельзя взять свою повариху вместо повара-мужика. Взял, не поверил. Теперь вот вместе с нами горбатит на выгрузке. Одного не хватает. Проверено. Не привык он таскать ящики на капитанском горбу. Адский труд — и за десять долларов. Не до поварихи ему уже.
Что там было ему обещано? Ну сорвался один клиент — он уже в панике. Возвращаться в Одессу! В мандариновый-то сезон.
Он набрал с собой всяких варений, любимых ковров и старпомов. Он привык жить на судне с комфортом. А тут вахту нужно стоять! Два штурмана, два механика, два матроса, радист и повар. Сокращать уже дальше некуда. И даже самый любимый старпом трое суток не выстоит.
Но в Батуми мы шли целых восемь. Чуть задуло — уже мы на якоре. Старая гвардия. Экономично-валютный ход. Суток больше — больше и шмуток. Даже матросы уже беспокоятся. Мандарины начали рвать, как только мы вышли в море. Заплатят теперь нам, как же. За гниль, что в трюмах привезём?
Что там было ему обещано? Из кабинета взяточника не видно, как эти деньги делаются горбом. Я знаю, что компанейцы, нормально зажилили штуку, заплатили себе самим взятку. Но ведь я не слабак — утрусь. Серёга ведь запил не с рэкета, и не с пролёта в Турции, за который команде не плачено. С этих вот трёх нулей. Лучше б команде отдали… Только б нам двоим не хватило. Но ведь не привыкать — мы хозяева, чёрт возьми, а не батраки.
Мы всю ночь беседуем с кэпом. Обманули его, что поделаешь? Кэп — нормальный мужик, старой гвардии. Сам не знал, куда попадёт. Что там было ему обещано? Вот вернётся в Одессу, сдаст судно, и — творите что заблагорассудится. Мы вот здесь. А сладкая парочка? Ты — в команде с двумя проходимцами.
А ведь он и не знает о трёх нулях. И что стоит вернуться в Одессу — снова месяц простоя, проверок и тыканья палок в колёса. Аренда, одесский тайм-чартер: взятку взять и звонить в портнадзор, чтобы судно в море не выпустил. А тут ещё — долг по взяткам.
Он сказал ещё:
— Образумься. Ты — молодой ещё парень. Но если так пойдёт дальше, ты потеряешь семью. Со мной уже было. Жалею.
Такая вот старая гвардия. Почему я его уважаю, а в компании с теми двумя? Потому что я — сильный?
Мне советует друг мой, Игорь. У него — два своих парохода. Он давно уже переварил всё то, чем я сейчас только давлюсь.
— Отработай сезон. Когда все с деньгами, тогда и пора разбираться, кто козёл, кто святоша. А так… Что матросы? Когда мои черти начинают прибавки требовать, я их просто — в ремонт на месяц. И — как рукой. Все привыкли курить только "Честерфилд". В рейс давай! С грузинов своё сорвут.
— Столько раз как меня "кидали"… Да, друзья. Когда ехал в Москву с деньгами и меня так болезненно кинули — без кавычек, на полном ходу поезда, — просто выкинули, а не "кинули", знали о сумме лишь трое. Что мне думать? Да, люди — свиньи. И приходится с этим мириться.
— Но самое грустное, что когда в эту кухню ввяжешься, уже и не помнишь толком, зачем это всё начинал. До того ли, когда за тобою то менты, то бандиты рыщут? Русский бизнес. Мириться приходится. До жены и до дочки ли?
Но зачем мне так важно, что скажет матрос Серёга? Он не вор, не крикун и не пьяница: просто пашет.
Старый гвардеец, как при судовых комитетах, решил ставить на голосованье, чтобы в Одессу уйти. И жалко его, беднягу. Я-то знаю, что он не сможет даже в рейс без радиста выйти: по закону нельзя. Он — законник. Он не знает, что можно просто идти в портнадзор с одной ролью, а потом с другой — к пограничникам. Такой вот несложный финт. Он не знает, что можно просто купить свой диплом за сало. Нужно ценз до минуты выплавать. По закону. Он даже не знает, где достать тонну левого топлива. Он ведь всю жизнь лишь подмахивал накладные. И как ни проголосуй, без меня он не выйдет в море.
Второй раз уже сам я — кузнец своих долларов. Слова достаточно. Выбираю между правом сильного и правом честного.
Я последний раз принёс домой деньги год назад. Как вы до сих пор там живы? Зачем мне игра в благородство?
Как у тебя ещё сил хватает, просто заплакать и обнимать меня, не упрекнув ни словом, когда станет ясно, что всё — даром? Бандитизм. И бандитов навёл мой лучший друг. Он уже не со мною — с ними. Он и в море ходил-то только для того, чтобы по приходу на вечер купить весь кабак. Во сколько вечеров он меня оценил, и честное слово, под которое турки дали кредит? Нам с тобой оно обошлось почти в год. Год каторги и нищеты, и работы на турка, и ссор с ненормальным, для которого всё — победить. Потому что он — сильный, видите ли.
Бог ты мой, ну зачем мне так важно, что скажет матрос Серёга? Что со мной, — и со мной ли? — только два проходимца. Все уже меня бросили. Даже ты. Маячок мой. Моя тихая гавань, где всегда мне бывали рады.
Ладно. Утрёмся. В Одессу. Всё по новой.
Никогда я не разбогатею. Слаб, чтобы переступить через сантименты. Таким никогда не везёт. И богатство не дарит им радости. Если вообще хоть кому-то способно хоть что-то дарить. Дарить, это что — даром?
Почему мне так важно, что два года я не смог написать ни строки?
Я только сейчас понял, что занимался-то просто привычным делом: кормил войну. И уже не за семью морями, на другом берегу нашего моря.
Сколько, вернувшихся с тех неизвестных воен пацанов-футболистов с обгоревшими под тропическими пилотками ушами так же как я занимались привычным делом? Только привыкли к другому. Убивать, чтобы не быть убитым. За деньги и даром. И ещё — защищать свою родину. Даже от — Родины. Мне судить их? Мне — тыловой крысе?
Помню лекцию капвторанга из политотдела эскадры. Англичане обычно делили колонии не по границам. Просто как им удобно было. Англичане ушли — и везде разгорелись войны. И здесь восьмой год делят полоску земли вдоль Евфрата.
Бумеранг. Но ведь мы — не Томми.
А Батуми — совсем не колония.
Ещё три года назад здесь жили гораздо лучше, чем в Лондоне и Бирмингеме.
Но — до чего всё похоже. Пыльные пальмы вдоль набережной. Бредут по дорогам коровы навстречу грузовикам. Ездят здесь по туземным правилам." Кому надо — объедет,"- главное. И мальцы в порту не ныряют за брошенной в воду монетой лишь потому, что монеты давно обесценились, а бумажек никто не бросает. Зато они первыми, по якорь-цепи, проникают на подошедшее судно и первыми, до всех таможен и портовых властей, задают главный туземный вопрос:
— Что привёз?
Мы возили муку, и сахар, и масло, и мыло, и яйца, и коньячный спирт, и сыр в бочках. Дожились: в Грузию — со своим коньяком и своим сулугуни. Если б не племя базарных торговцев, привыкших ещё при советах возить мандарины в Архангельск, Амдерму и Воркуту, Грузия умерла б с голоду. И гуманитарии Бонна, пожалуй, и не заметили бы. Они больше переживали, что проголодается Ельцин и нажмёт на красную кнопку: кормили Москву из армейских запасов Западного Берлина.
У базарных — свой образ мыслей:
— Дураки, — говорят, — воюют. Умные делают деньги. Всё во время войны дорожает.
Интересно, с каким наваром кормили морские гёзы осаждённые Нидерланды? Тоже с тройным, как минимум? Что-то скромничают историки. Нет ни строчки в учебниках, что в осаде всё дорожает.
Кроме жизни. Грузинские женщины от рождения носят траур. Всегда в чёрном. Но мать погибшего отличишь и среди сотни чёрных косынок. По глазам и по фотографии сына — на груди в траурном банте. И прохожие целуют им руки.
Жизнь дешевеет. На улицах после восьми — повымерло. И слышны одиночные выстрелы вперемешку с воем собак. А ведь война — за горами. Семь часов полным ходом, как минимум.
В порту на ночь не остаются. Все выходят на рейд. Орудует банда в чёрных масках и с автоматами. Зачищают сейфы, как докеры трюм.
Все официальные лица с пистолетами ходят по улицам. С автоматом — значит не меньше, чем прокурор.
Бегут из осады беженцы. Но — кавказские. Все на машинах и с семьями. Больше греки, армяне и прочие русские. Сейнера берут их на палубу. Нидерланды спасли морские разбойники. Грузию — браконьеры, тюлькин флот. История повторяется. Но никто ничему не учится.
У вояк тоже — эвакуация. Стоит у причала транспорт. "Баскунчак". Вот так встреча. Штабное судно Восьмой Тихоокеанской. Раз этот здесь — значит всё правда.
Колония. Эвакуация. В Персидском как-то не думалось, что на вертолётной площадке отлично становятся фуры с чаем и с мандаринами. Фрахты они нам сбивали…
По рынку бродят солдаты армии метрополии: лопоухие, в летних тельниках. Роются в колониальных товарах перед отправкой на родину. Хороший подарок милахе. А эта вот шаль — для мамаши.
А ведь они — не взрослеют. Десять лет назад, в Эфиопии, они были моими ровесниками. Я стал старше на десять лет. А они — по-прежнему пацаны с обгоревшими под южным солнцем ушами.
Бумеранг. Возвращаясь на родину, колониальные воины несут семена на подошвах сапог. Прорастут где-то в Ольстере. И всё равно — победитель вернулся домой, или проигравший сражение в Африке.
Когда крались мимо Сухуми, и за полста миль от берега полыхали зарницы залпов. "Грады", "шилки" и прочие модернизации бомб гросс адмирала Нахимова.
А у Рэнки там — брат и родители. Воюет ли брат? Поставят ли ему памятник на медяк, что найдут в кармане убитого? Мародёры и похоронщики тоже любят войну. Мы — не дикари.
Поставят ли памятник тому адмиралу, который планировал высадку пацанов из морпеха грузинам в тыл? "Без объявленья войны… Внезапно…Конфисковали тяжёлые вооружения…" А они артиллерией только и держались против чеченцев. Бумеранг. Морпехи теперь — в Чечне.
Воткнут ли пропеллер в могилу тем лётчикам, что за деньги бомбят обе стороны? Кто заплатит, тот с авиацией. Не видать с вертолёта ночью, что обстреливаешь сейнер с беженцами, а не подводную лодку грузин с ядерными боеголовками?
Нет, Левон, я — не русский. И этим горд. Я уже ненавижу их Третий Рим, как болгары не любят Второй.
— Я кричал Шеварнадзе, что он предал нас, когда он обходил позиции! Я не стал отдавать орудия. Я вернусь ещё, дайте срок.
Левон уже год живёт всей семьёй в гостинице. Он — директор завода, строитель. Он всегда не любил торговцев, но приходится вот торговать: сахар, мука, сулугуни, мандарины, лавровый лист, водка. Заботы о хлебе насущном. Он и в тире стрелять не любил, но вот пришлось воевать. Он командовал батареей. И дворник станет гусаром, когда война докатилась уже до второго подъезда.
— Звонил недавно соседу. Телефон-то остался прежний. Жалуется: очень наглый живёт в твоём доме теперь, оттяпал кусок огорода. Себе звоню. Говорю ему, давай квартирант, оттяпай ещё у соседа слева. Я вернусь и поблагодарю.
— Эх, мужики, что вы гробитесь за копейки? Заверните в Сухуми, за наши головы абхазы отвалят вам больше. Гия, правильно я говорю?
— Нет, нам честный клиент дороже. Те заплатят ещё ли? Или к стенке поставят? "Спартак" вон нашли в Сухуми. Стоит в порту без команды. А все думали — утонул.
Ну вот, всё наладилось. Не прошло и двух лет. Есть нормальные, из тех что не кинут, клиенты. Капитаном теперь — Барышевский. И команда — не воры и пьяницы. Все свои. Из тех, кого знал сто лет — ещё в Персидском заливе. Заняты привычным им делом: без геройства пройти войну ночью.
Сладкую парочку и не видим: один половинит взятки, второй нами везёт контрабандный свой сахар. Все довольны, смеются.
Только ты вот меня не любишь.
Почему? Появились деньги. Я — сильный. Я — выстоял там, где другие сломались. Я из ничего сделал деньги для себя и семи друзей. Все сидели б сейчас без работы, если б не я. Я, я, я!..
Только вот тебе это "я" противно. И не спешит оно в тихую гавань. И над другими ещё потешается.
Кирилл каждый вечер готов срываться и ехать. Разговоров всех — лишь об Ольке и о малом. Её и зовут как тебя. И всё так похоже на нас, когда были мы помоложе, чуть-чуть по течению выше, и я готов был цепляться зубами в крыло самолёта, чтобы на два выходных, но вернуться к тебе, Маячок.
Слушай, а если б не эти выходные, не было бы нашей Барби?
Куда всё ушло?
— Кирюха. Зарплату проездишь.
— Подожди Кирилл, будет всякое, — я ж куда умудрённей и опытней, могу поучать зелёных, и до первых размолвок не доживших, из училища — в молодожёны, как меня, шутя, поучают старые моряки:
— Всё нормально. По графику. Настоящий моряк обычно женится дважды. Второй раз — счастливо.
А ведь точно. Из тех трёх курсантов, которых кормила ты докторской перед КПП училища, соблюдают график все трое: один просто ушёл от жены, второго жена просто выгнала, третий… Да, об Андрюхе — потом.
Поучитель мой тоже просто узнал, что полгода уже, как разведен, и жена с другим живёт в Польше. Вернулся из рейса — пусто. Квартира продана. Гараж и машина — остались. Всё по-честному.
Рейс был прогарный. Стоял под арестом в Африке. Продал машину, живёт в гараже. Ты Уруса, должно быть, помнишь. Мы ходили к нему, когда он был в гипсе. Ты ещё возмущалась: стоишь в порту всего день, а жену в какие-то гости тянешь. Может быть, и жену его вспомнишь. Нынче — пани уже, оказывается.
Может есть этот график, этот порог?
Может есть, только не для меня.
Потому что хочу — тебя одну. Чем приворожила ты меня, ведьма моя? Что подсыпала в чашку и что нашёптывала? Никак от чар не избавиться.
Смейся. Пробовал — не получается.
В Ялте. Ещё в шоколадный год.
Пляж, безлунная ночь, волны плещутся. Рядом — голая девка какая-то. Водолазы с буксира сочинского удружили. Мол, выручи. Перебор получился с девками. Дарим, как представителю братского судна. Водка — в нагрузку.
Девка плачет и даже страдает. Кто б утешил? С работы, наверное, вытурят. Загуляла она с водолазами. Горе горькое. Жизнь — не мила. Ведь порядочные судовые девки только с горя могут отдаться чужому радисту сразу после вчерашнего сочинского капитана.
Кто б утешил? Вдвоём мы на пляже.
Пока что купаемся. Я всё не утешаю. Мне противно играть в эти игры. Девка спьяну решает топиться.
Волоку её, дуру, к берегу. Да, наощупь она ничего. Голышом ведь купаемся. К тому ж — Ялта, ночь, водка выпита. Вот сейчас догребу, стану на ноги, на руках уже можно будет тащить её, чего нам, лицедеям, и надо.
Бог ты мой, как противно вдруг. Водка что-ли? Да нет — игры в горе. И в спасение утопающих. И — в любовь…
Отучила меня ты от этого. Всё — взаправду. И горе, и радости.
— Знаешь что, дорогая, — топись. Но в другой только раз. Возвращаю тебя, туда где взял. А там — хоть топись. Водолазам привычней с русалками.
Хочу тебя, моя ведьмочка.
Как угодно пусть называют: распущенность, похоть, разврат. Готов быть тем боровом, на котором лететь тебе в эту ночь, нагой, распустившей волосы на свою Лысую Гору.
Хочу тебя. Даже посреди шабаша, когда уже нет недозволенного, только желанное, когда даже самые дикие и постыдные в божий день похоти, в которых стыдно признаться себе самой, держишь их взаперти в самом дальнем закутке, тут же с готовностью будут выполнены.
Хочу тебя. Даже в свальном грехе, когда тебя берут двое и трое, и сзади и спереди — столько и как только тебе захочется. Только и мне пусть достанется хоть малая толика твоего греха. Даже если прогонишь от себя, дай хоть видеть, как страстно трепещут твои ноздри, как качается в этой дьявольской пляске тело твоё, и разметались волосы, и колышется грудь, как ты бьёшься в судорогах, стонешь, кричишь, царапая спину избранника. Готов быть хоть подстилкой под вавилонской блудницей, пропускающей через свои жаркие чресла когорту солдат императора за ночь. Только не прогоняй от себя меня, не отлучай от тела своего.
Если это грязь — растянусь в ней боровом.
Если это грех — первым прыгну в приготовленный для тебя костёр.
Всё равно — на моей спине возвращаться тебе домой. Опустошённой, затихшей, нагой и простоволосой по-прежнему, пугая проснувшихся дворников и неспавших всю ночь, захлебнувшихся желчью соседей. Не их время. Кончилась инквизиция.
Из какого ребра можно вылепить это грешное тело? Такое не изваять, не любя.
Бог ревнивый прогнал от Адама первую женщину, не из ребра, а из плоти и грязи вылепленную, потому что Адам рядом с ней забывал о нём?
Или потому, что ваяя из грязи и глины, возлюбил её сам, как Пигмалион Галатею? И побоялся на старости лет свою же нарушить заповедь?
Почему он отдал Лилит Дьяволу?
Чтобы можно было испытывать своих пророков, и жён, и детей их лишая: не возропщут ли? Нет: слава Господу! Всё во власти его. И другая жена уже им за то дана, и детей нарожала — пророки счастливы. Не заметили даже, что — не та жена. Всё равно — из того же ребра. Протез женщины. Голливудский стандарт. Даже родинки заштукатурены, все — блондинки и грудь по последней моде.
Не хочу я — другого, Господи. Эти морщинки появились на мраморе уже на моей памяти. А этому седому волосу — я виной. И не знаю я, кто гребёт уже в нашей лодке, а кто правит.
Неужели нужно было случиться такому, чтобы я понял, что не обязательны войны, необязательны старость и дряхлость? Необязательна умудрённость безусых Сократов и мудрость Соломонова, чтобы чувствовать, что тебе нужно быть рядом с женой каждый раз, когда выпадет случай, и не считать расходы с доходами, и срываться, лететь, плыть, прыгать с поезда, ловить попутки, бежать, будто кто-то гонится, успеть бы только.
Она и не гонится. Но всегда за плечом, с косой: примеряется.
Он как чувствовал. Зелёный совсем пацан. Даже штурманский ценз не выплавал. А успел — всё.
Олька — в чёрном, хоть и не Грузия. Не ты, его Олька. Говорит спокойно и буднично.
— Мы так радовались этой работе. Хорошо, что ты о нём вспомнил. Я — в декрете. Деньги кончились. Он сторожит машины какие-то.
Благодетель. Позвонил, вспомнил:
— Хватит держаться за жёнину юбку. Есть судно, есть место. Завтра к обеду будь в Одессе.
Благодетель. Облагодетельствовал пацана деревянным бушлатом.
И ведь всё позади: расслабились. Ещё раз пронесло. Уже выгрузились. Уже шли домой. Отдавай концы!
Что за команда? Никогда ведь не думаешь, что такие команды наверное — не иначе как с погребальной лодьи викинга.
— Нет — я счастливая женщина. Было всё у нас. И деньги, и нищета, и сказка просто, когда вы меня в Ялту взяли… Помнишь, выкрали просто? "Поварихи нет. Садись, поехали." Я потом звоню: "Бабушка не пугайся, я — в Ялте…", и хоть немного поплавал он, как хотел. Мир увидел. И сына — … тоже увидеть успел.
— Он рассказывал мне обо всех почти. Я вас всех уже знаю, мальчики. И приснился в ту ночь, но вроде как хорошо: я — с друзьями приехал, накрывай на стол.
— Вот он — стол. Вот и вы…
Бог ты мой! Вспомнил. Я ведь написал всё это так давно! Сразу после училища. Почему вдруг — об этом? Кто водил моей рукой? Кто решил показать мне, что все слова — ложь? Даже те, что сбываются наяву.
А ты знаешь, Кирилл тоже учился в КЮМе в группе у Барабаша? На семь лет просто позже. Мог бы вспомнить его, лопоухого пятиклассника, когда мы со Славкой — кумиры-курсанты, после первой практики, — приезжали к ним: "Да чего, пацаны? Ну, красивый у них Копенгаген…Русалочка… "Мог бы вспомнить, если б знать наперёд. Он случайно мне проговорился, недавно совсем.
Недавно? Ему всегда теперь — двадцать три. А нас всех несёт уже дальше.
Неужели мне нужно было нырять, знать что уже не найду, об ракушки резаться, плакать, лёжа на тёплой палубе, трусить течения и того что опять затянет под три корпуса сразу, и уже с другой стороны не вынесет, снова нырять, пока водолазы приехали, чтобы просто понять, что сильных и слабых — нет. Все бессильны. Перед ней — все. И смерть не ждёт ни войны, ни старости.
Ошибка. Опять я обманут коварным Отцом. Это ведь мной написано:
"Не покажется ль даже ад после рейса такого — отдыхом? Так к чему всё: голод, лишения, жажда, пекло экватора, лютая стужа Дрейка? Все мы бросим свой якорь в аду. В срок. Кто раньше, кто позже, но — в срок. Все замкнут этот круг своевременно, как вернутся с Востока, ушедшие к Западу.
Так к чему всё? Шаг до борта — и круг будет замкнут сейчас. И никакому пастору не подсилу похоронить тебя за оградой этого кладбища, отдельно от праведника, сорвавшегося с рея в шторм… "
Вот и сорвался.
Я спросил Баришевского:
— Как дальше жить?
Он ответил:
— Как? Быть мужчиной.
— Не хочу. Это был мой последний рейс.
Неужели мне нужно было узнать, что Рэнкин брат — жив, родители тоже, из ада выбрались, а её — больше нет… Неужели должен был из-под знака выскочить на трассу тот частник, чтобы я наконец понял, что и ты — смертна? Даже без войн и старости, даже в тихой нашей гавани, где всё так постоянно, где, даже среди катастроф и войн, по-прежнему другой отсчёт времени:
"Нам уже — семь. Завтра — в школу… "
Знаешь, а мы все втроём были в неё влюблены. И когда Андрюха был на плавпрактике, мы вместо него провожали её до общаги пединститута, и ходили на всякие сборища молодняка: питие чая на ковре в чьей-то гостинной, на какие-то стихи, выходки студента по кличке Тромбон и разговоры в прокуренной кухне. Когда они сильно поссорились, мы перестали с Андрюхой разговаривать. Он уже тогда умел перешагивать через сантименты, плевать бы ему на наш бойкот. Но нет, сорвал последнюю розу с клумбы перед училищным КПП, которую начальник строевого отдела уже чуть ли не принимал у дежурного по описи: "Лепестков — семнадцать, листков — пять, шипов — восемь…"- и пошёл мириться и свататься.
Помнишь какой счастливой она была на нашей свадьбе? Не за нас, конечно. Андрюха вернулся из первого рейса, она ездила встречать его пароход в Одессу и даже стояла за лентяя Андрюху стояночную вахту механика: открывала в машине какие-то клапана и переключала рубильники на ГРЩ, пока её сокровище нежилось в коечке.
Может ей лучше было бы с Толиком? Или со мной? Если бы для нас дружба не была святым и решённым?
Я знаю, что ты готова меня ревновать даже к школьным подружкам, но к этому — не надо. К тридцати наконец понимаешь, что нельзя откладывать напотом ни любовь к женщине, ни измены ей.
Всё ведь было ещё до начала времён. До тебя.
Когда она последний раз приходила к нам в гости, и вы по-женски секретничали и жаловались друг другу на мужей, я даже разочарован был: ничего не ёкнуло. Чужая женщина. Смотрел больше на уменьшеную копию с Андрюхи-оригинала. Такой же шустрый пацан.
Андрюха и в мореходке был шустрым: всегда умел устроиться так, чтобы самую неблагодарную и тупую работу делал другой. В какие-то лаборанты, чтобы не отмечаться на самоподготовке и иметь каморку, даже в сантехники какие-то, на зарплату. Делил с Толиком. До сих пор смешно, прорыв канализации, Толик в люке уже, а Андрюха подаёт ключи и инструкции. Он ведь — механик, специалист, а не радист какой-нибудь малахольный. И не водолаз.
Он и из училища уже с рабочим дипломом вышел. Дописал в справке о плавании ноль в мощности дизелей, порт Николаев после порта Херсон, и превратил речную баржу, на которой мотористом после бурсы работал, в сухогруз с морским районом плавания.
И в море пытался какой-то короткий путь выискать. Учёба в вышке по направлению управы, аспирантура. Заучился до того, что теперь его в моря силой не выпихнешь. А в море оказалось, что лёгких путей нет. Там идти по дуге — короче чем по прямой.
Он теперь — бизнесмен. Торгует рыбой вместо того, чтобы, как учили одиннадцать с половиной лет, ловить её.
Вот он — победитель. Хозяин жизни. Без сантиментов.
Только вот… Бизнес — в Мурманске. Рэнка с ребёнком — в Киеве. "Ты — свободная женщина. Моё дело вас обеспечить. Можно, завтра об этом? Дела. Должны позвонить."
Обеспечил. Наконец все дела оказались недостаточно срочными.
— Не знаю, как сыну сказать.
Что осталось? Звон того хрустального колокольчика, который они подарили на нашу с тобой свадьбу?
Как хрупок хрусталь.
Колокольчик мой. Неужели, опять хлопнув дверью и закинув на плечи парусиновую кису, я могу возвратиться в пустыню?..
Может тебе было бы лучше с другим моим другом? Который напился вдрызг на нашей свадьбе? С бестолковым моим Клюбе, так и не вышедшим ни разу в моря, даже на училищной практике умудрившимся угодить на отстойный пароход и четыре месяца проловившим бычков с его борта, так и не выйдя в рейс?
Ведь это он, а не я, называл тебя Оленькой?
Он ведь и звонить нам перестал, после того, как я в шутку отчитал его:
— А чего это ты ей звонишь? Я ж — в рейсе ещё.
И Клюбе пропал. Неужели я сдуру — угадал? Бестолковый, смущающийся вечно Клюбе. Я ведь тоже это только сейчас понял. Как мудреешь, когда перевалил эту тридцатую параллель.
Он звонит тебе ровно раз в год. Уже десять лет. Дружба — святое. Может лучше с ним, чем со мной неприкаянным?
Колокольчик мой.
Знаешь, что сказала мне моя мэм, когда я в очередной раз хлопнул дверью и ехал в Одессу побеждать эту чёртову жизнь, несмотря на то, что… Да какая разница что? Прости ей все придирки к чужой девке, уведшей навсегда из дому родненького и всегда правого сынка, то, что она не такая, как ты, и за всё остальное, даже мне неизвестное, прости за одну эту фразу:
— Ты может не знаешь, что тётка твоя ушла из жизни по своей воле? Никакой не инфаркт. Да, тогда за это грозила тюрьма, а не поездки на Канарские острова. Но куда важней то, что рядом не нашлось человека, способного поддержать её в такой момент, и она ушла даже несмотря на то, что Колька ещё был совсем маленьким. Не доводи до этого Олю.
Если б мы слышали женщин.
Неужели только звон разбившихся колокольчиков проникает в наши залитые воском уши?
Оказывается, вот так всё это происходит?
Без шума и гама, ты говоришь:
— Похоже, мне пора, — собираешься и мы идём за ручку, точно так же, как часом раньше я отводил в школу Барби. Даже той же дорогой.
— Боже мой! Вы что, шли пешком? — это моя мэм. Ты всегда её поражала. На сей раз тебя упрекают в беспечности.
А я опять думаю о естественности. Рожать для женщин — естественно.
Так же, как для меня собирать свой заплечный мешок и садиться на поезд.
— У тебя что, ещё нет билетов?
Как же можно рожать, не договорившись заранее с каким-нибудь светилом акушерской мысли, не задобрив его щедрым подношением, не упросив присутствовать лично, чтобы не дай бог чего…
— Да, Оля — смелая женщина, — это уже твоя подруга Ирка, забираем из школы наших девок.
— Рожать сейчас, когда и самим непонятно за что жить, мой Генка — опять без работы. Нет уж, увольте. Янку я вам родила, хватит.
А я опять думаю, что рожать-то — всегда одинаково. Бог не берёт взяток, и королев обслуживает так же по-хамски, как и простолюдинок: выполняет обещанный пращурам пункт о муках.
А я ведь до сих пор не запомнил день рождения Барби. Двадцать пятое или двадцать четвёртое?
Радиограмма пришла двадцать пятого.
— Двадцать третьего, — отвечает мне Барби, насупившись. Оказывается, чтобы помнить такие вещи, нужно стоять не на якоре под островом Нокура в Красном море, а под окнами первого роддома, вместе с разделившим мою радость и бутылку самогона однокашником Стасом, который почему-то прыгает свадебным индейцем под твоими окнами, пожалуй, повыше меня. Явно решил, что имя для Синди мы выбрали в честь него, плэйбоя лысеющего.
У Стаса хорошо получается очаровывать женщин, мурлыкая марши мартовских мурзиков на ушко, но, видимо, плохо получается просто жить с этими женщинами все остальные месяцы года. Его мгновенную какую-то жену я успел увидеть всего дважды, один из них был на дне рождения Стаса, в марте, когда он её ещё только охмурял. Ему хватило её всего на два моих рейса.
Ты же с одного взгляда охарактеризовала её странной женщиной. Стас, кстати, в трезвом виде тебя побаивается, и за глаза называет княгиней Ольгой. Боится, что и его, невзначай как-нибудь охарактеризуешь, и прийдётся только оправдывать, другого выхода нет.
Бог мой, тёплая моя жёнушка.
Хочу тебя, даже после привычного до "потолок побелить" и такого же непродолжительного совокупленья. Но "хочу" уже не всегда значит "могу". Старею?
Я опять безработен, весь вечер грузил какие-то ящики с медикаментами, и даже работа и водка не согрела меня на морозном ветру аэродрома. Медикаменты уже улетели в Туркмению. Там тепло, как у тебя под бочком.
Не обманывай. Я не жгучий брюнет, чтоб иметь седину на висках в свои двадцать девять. Старость здесь ни причём, просто — вечер трудного дня.
Хорошо, когда есть кому согреть, обхватив руками и положив на грудь голову, и говорить о чём угодно: о деньгах, о школе…
Но тебе почему-то вдруг захотелось, чтобы мы рассказали друг другу об изменах друг другу. Или попытках измен, как уж там получилось. Прижмись ко мне поплотнее.
Я расскажу тебе о том сочинском буксире, и о той голой русалке, едва не утащившей меня на дно.
Ты выслушаешь спокойно. Заметишь только:
— Ты хотя бы изменить мне сможешь для меня, а не для дружественных водолазов?
И расскажешь свой случай.
День рожденья в общаге, домой идти поздно. Ночевать пришлось в одной комнате с мужем подруги. В одной, и — одной.
Сытый, ухоженый кобель. Привык чтобы дамы сами прыгали прямо в штаны. Повздыхал, поворочался с полчаса, чтож, если уже не идут к Магомету… Что ж такое? Стареет?
Если б брыкалась, кусалась — тогда ясно всё. Надо брать силой. Хочет, просто ломает комедию. Будто муж лежит третьим в постели. И после всего обязательно, хоть одним словом, но упомянёт своего рогатенького. Тоже вечная реплика этой комедии.
Но никто из-под одеяла не гонит, но — и только. Он отвык от забав восьмиклассников. Зажиманий и поцелуев у подоконника после танцев в актовом зале. Целоваться тебя не учили? Неужели старею?
Но не гонят ведь, не кричат караул. Значит хочется. Есть, есть ключик для любого пояса верности. Так облом включать обаяние: говорить, говорить, говорить. Ведь тоже давно отвык. Но прийдётся.
Вот, собственно, всё. Не относить же к процессу измены полуночные разговоры.
Через год, встретив случайно на улице, он смутится и скажет тебе, что нужно было тебя просто трахнуть. Озабочен поныне. Холёные, с родословной и педигрипалом на блюдечке, очень болезненно переживают неудачи на этом поприще.
Мне смешно. Найти к тебе ключик за ночь. Я искал целый год. А когда нашёл, оказалось, что всё очень просто: не играть и не делать любовь, а любить.
— Когда это было?
"Кара-Даг". Так давно. Хорошо что ты раньше не решалась устроить этот душевный стриптиз. Я смеюсь над безусым Сократом, у которого все мысли — в скобках. Как бы он вёл себя?
Похоже, ты разочарована. Обнажались, старались, чтобы под музыку. А никто нам не аплодирует, и ничего с небес не обрушилось от обнажившейся правды.
Мы всё так же лежим, обнявшись. И ты такая же тёплая, домашняя моя жёнушка. Говорим уже о другом: о деньгах и о детях. И вдруг меня догонит, рикошетом настигнет ревность:
— И этот кобель обнимал мою тёплую жёнушку? Голую, только в трусиках?.. Или нет, ещё ту египтяночку. Или нет, другую — страстную мою амазонку? Или наяду разнеженную?
Настигнет, и тут же уйдёт, перекатившись, как волны. Я просто пойму, что вопреки всем трудным дням, и холодным ветрам на аэродромах, просто — Хочу тебя.
Бог мой, сладкая моя жёнушка. Благодарен буду даже самому гневному Богу только за то, что вот уже десять лет каждый день и каждую ночь я
Хочу тебя.
Какое это счастье, и какая мука — десять лет, день в день, познавать одну единственную во всём мире женщину, но так до конца и не знать. И пусть Всевышний простит, когда я скажу ещё одну правду:
— Когда я с тобой, мне не нужен бог.
Он — простит. Если б он не хотел, чтоб вкусили мы от этого плода, он бы просто выкорчевал то дерево.
Бог — простит. А Стругацкие не обидятся.
Бог мой, тёплая моя жёнушка, рядом с которой даже пророку Ионе было бы не страшно жить в этом Содоме с Гоморой, наступившем по окончании света.
Не знаю, сколько ещё предстоит проплыть нашей лодке, и далеко ли осталось до устья нашей Реки. Не знаю уже, кто гребёт, а кто правит в ней.
Я благодарен жестокому Богу уже за то, что мы до сих пор живы, и до сих пор — рядом, и — уже не одни в этой лодке. И каждую последующую милю Реки готов отмечать крестом на берегу во славу его, как делали и поморы, и португальцы, продвигаясь вдоль берегов в неведомое.
К счастью, я не пророк.
Не преследует меня гневный Бог, чтобы шёл я куда он прикажет, и нёс его слово.
Мы всего лишь плывём в нашей лодке вдоль пустынного берега, и читаем надписи на почерневших крестах.
Одна из них:
Бороздящие море вступают в союз со счастьем.
Ибо море есть поле надежды.
M/V SURSK/3FZW5
1996.
"Невыносимо жить без дельфинов…"
Невыносимо жить без дельфинов.
Годами, десятилетиями на суше. Тычась в берега, как в стенки камеры. От этого можно спятить.
Пусть на твою только что пригнанную с Фарерских островов тачку упал телеграфный столб;
Пусть сын-балбес стащил из бумажника двести баксов и купил игровую приставку «Денди» вместо того, чтобы зубрить бином Ньютона;
Пусть возгорелся и сгорел синим пламенем твой курень на Сухом лимане;
Пусть упали мировые цены на сало, доллар упал, скакнула марка, в общем — ты разорен;
Пусть тебя преследуют неудачи и долги, разыскивают алименты и интерпол, а импотенция не лечится даже пантокрином из собственных рогов;
Пусть жизнь — одна сплошная, как рана, и черная, как дыра, полоса — все нипочем, пока можешь сплюнуть под ноги, хлопнуть дверью и выйти вон с осточертевшей земной тверди.
Не в запой и не в петлю — выйди в море. Ощути ногой и нутром, как ходит палуба. Стань у борта. Всмотрись в лазурную зыбь. В пенные усы под форштевнем и сполохи солнечных зайчиков на волне. И они появятся.
Обязательно появятся, легки на помине.
Вынырнут стаей из толщи вод.
Примчатся торпедами.
Прискачут мячиком, вонзая в волну веретенообразные упругие тела. Будут мчаться перед самым носом судна, выпрыгивая, изгибаясь и кувыркаясь, рискуя получить штевнем по заднице.
Канальи! Бестии! Сучьи дети!
И как удается им вот так вот, играючи, мчаться наперегонки с табуном железных коней, громыхающих в машинном отделении?
Без пыханья задыхающихся клапанов, стука поршней, без дыма и копоти из труб, без надсадных вибраций винта. Без исходящих потом кочегаров у топок. Двенадцать узлов играючи. Лёгко. Даже не заметишь движений хвоста.
У дельфинов высокие сократовские лбы, хитрый прищур, и улыбка на все тридцать два, или сколько у них там, зуба. У дельфинов не оскал, а
именно улыбка. Не резиново-американская: «С-ы-ы-ы-р!». Натуральная, скоморошья. Острые зубы не кажутся хищными. Хотя те же акулы, машины для убийства с шестью рядами зубов, предпочитают с ними не связываться.
Под сократовским лбом дельфины прячут уникальный свой разум. Мозг дельфина больше и совершеннее человеческого. Они, например, могут спать, ни на секунду не прекращая движения, попеременно отключая полушария мозга. Решать навигационные задачи и размышлять о жизни одновременно. Судя по веселому нраву, большинство дельфинов придерживаются эпикурейской школы. Хотя попадаются среди них и стоики, не без того.
Не даром древние эллины, народ моряков и философов, признавали в них равных, называя морским народцем.
А голландцы, народ Моряков и негоциантов, знали, что Большой Халль, демон лютой тоски, преследующий моряка в океанском плавании между тропиками Рака и Козерога, бежит как черт от ладана, стоит хотя бы одному дельфину появиться у борта заштилевшего парусника.
Вот они! Появились! Ясно вижу! Право десять! Вот бестии! Прохвосты! Еще насмехаются, клоуны!
Перевожу с дельфиньего на человеческий:
Да, не везет тебе. Да, жизнь — копейка, злодейка судьба. Но — take it easy, дружок, take it easy.
Будь проще, и к тебе потянутся люди и другие дельфины. Do you read me?
— Roger, — отвечу по-гречески с филиппинским акцентом.
M/V KONKAR THEODORA/3FZMN
не позже 1998
ПРОЛОГ 1986
Книга написана давно.
Задумывалась она еще раньше, и такое впечатление, что вообще не этим автором.
Много воды утекло. Автор уже не только материться разучился, но и третий тост забывает правильно пить. Последний рейс — тысячелетие назад.
И уже четыре года простираются перед ним кривые пыльные окольные тропы.
А море — не высохло.
Обидно, но что поделаешь. Не внутреннее, не Аральское оно. Приходится делиться.
Книга эта с самого начала задумывалась долгой и нудной, как собачья вахта. Так что автору некого винить, если читатель не добрался до этой страницы. Как некого винить в том, что главного рассказа он так и не написал. И уже не сможет. Как та змея, пережившая свой яд.
Но безвыходных ситуаций автор не признает. Прологом он запасся еще в годы стажерской юности, а вместо эпилога он что-нибудь да придумает.
МАКСИМКА ИЗ МОМБАСЫ
Такие сюжеты называют бродячими. И считают, что все они уже есть в Библии. Но если задуматься, Станюковичу удалось написать не просто небиблейский, а отрицающий Библию сюжет.
Пророка Иону корабельщики выбрасывали за борт, а Максимку — наоброт спасали.
Мальчик (Давид) подружился с добродушным великаном — пьяницей Голиафом — и даже спас его.
Кстати, ты знаешь, что Станюкович стал писать морские рассказы через двадцать лет после того, как в ужасе сбежал с флота? И дядя-адмирал ничего поделать не смог.
Из вахтенного трепа со старпомом Серегой.
Когда-то я поклялся страшной клятвой, что впредь буду писать лишь о том, что видел своими глазами. Моряку поверить — себя обмануть.
Сами приплатят, дай только приврать. Ну хоть самую малость.
И гуляют по промыслам, переносятся с судна на судно совсем уж невероятные истории, в которых, если разобраться, ничего невозможного нет. Скорее наоборот. Все — до боли типично, но обязательно неожиданно и смешно.
Не внушает доверия к этим байкам то, что каждый рассказчик непременно утверждает, что случилось это именно с ним. Или с Вашим общим знакомым по пароходу N.
До этого я свято верил в эти россказни старых моряков, и заглядывал им в рот, и скрипел пером, боясь упустить хотя бы слово из их бесконечной вахтенной травли. Но случалось так, что одну историю мне приходилось выслушивать на разных пароходах и из разных уст дважды, и трижды, и даже — четырежды.
В конце концов я разозлился на свою доверчивость, и поклялся. Даже слова из старинного вахтенного журнала в книге писателя Сахарнова нашел:
ЧТО НАБЛЮДАЕМ, ТО ПИШЕМ.
А ЧЕГО НЕ НАБЛЮДАЕМ, ТОГО НЕ ПИШЕМ.
Вот как все просто. А прежние записи все — сжечь, разорвать, посечь в капусту, привязать балластину и вышвырнуть за борт — все что угодно, только не развешивать эту флотскую лапшу на ушах своих читателей.
И это было правильное решение. Я так и сделал бы, наверное. Но…
Историю эту подбросил мне наш начальник радиостанции. Он знал, что я записываю всяческие сюжеты, но я еще не успел сказать ему о моей страшной клятве. Максимкой из Момбасы обозвал негритенка тоже он.
— Да, представь себе. Прямо по Станюковичу. Негритенок-путешественник. Забрался ночью к нам на палубу, спрятался. Мы на следующее утро из Момбасы ушли, а через сутки глядь — Максимка собственной персоной. Улыбается, тараторит что-то по-своему.
Мы сидели на потертом диванчике в каюте начальника. Чай в наших чашках плескался в такт качке. Начальник со смаком прихлебнул из своей литровой бадьи, взял предложенную мной сигарету. Он так заботился о должном эффекте от своего рассказа, что даже запамятовал, что официально он уже месяц назад бросил курить. Начальник знал цену точно выдержанным паузам. Он выдерживал их каждый час дважды в периоды радиомолчания. Он сладко затянулся, и…
Не люблю многозначительных троеточий. Но что делать? Именно тогда, когда я добрался до своего многозначительного «и.», внутрисудовая трансляция что-то прохрипела пиратским голосом нашего капитана — резким и сухим — и начальник, поперхнувшись дымом, пулей улетел на мостик.
Что-то там «полетело» или «скисло». Какой-то неблагодарный прибор из обширного начальникова заведования. Тут уж не до Максимки. Но негритенок-путешественник на палубе советского траулера — это здорово. Прекрасный сюжет.
А какая уважающая себя приключенческая повесть обойдется без такого захватывающего начала, как бегство в трюме. Вот вспомните. Вы наверняка об этом уже читали.
Англия, Плимут. Мальчуган бежит от своего хозяина-ткача в трюме старого угольщика — парусника, перевозящего в Англию уголь из Ирландии.
Хозяин нещадно бил его за нерасторопность, а мальчуган вовсе не был таким уж невнимательным. Просто он мечтал об Америке. Почему тогда угольщик — неуклюжая посудина, никогда не ходившая дальше Дублина, спросите Вы. Правильно спросите. Но мальчуган считал, что все корабли идут в его Америку, где нет ни одного хозяина-ткача. Понимаете — ВСЕ.
Этим соображением он так рассмешил старого шкипера и его единственного матроса, что его не стали по обычаям тех времен выбрасывать за борт, чтобы плыл, как умеет, к берегу и не вернули назад к хозяину.
Да и нужен был старику-шкиперу палубный юнга, особенно такой, который не потребует у него ни пенса за труды.
Мальчуган, хотя и был немного разочарован каботажной судьбой своего корабля, оказался очень смышленым и все-таки расторопным малым. Узлы ткачей и моряков — очень похожи. Только вместо ниток — канаты.
Пусть не Америка. Пусть Бристоль и Дублин, но наступит день, когда он доберется и до Вест-Индий.
И знаете — добрался. Чин капитана британского флота он получил за работы по съемке на карты северо-восточного побережья Америки. И не только до Америки добрался. Даже другой материк открыл. Австралию. Мальчика этого звали Джеймсом Куком.
А тут — Максимка из Момбасы. Прекрасная получилась бы повесть. Я даже знаю того пьяницу-боцмана, которому не помешал бы такой непьющий спутник во время визитов по иностранным кабакам. Повесть с пиратами, тайфунами и кровожадными акулами. И зачем я только давал свою страшную клятву?
Кому это интересно, был ли я на самом деле в Момбасе, отбивался ли от пиратов малаккского пролива из ракетницы, пуская по их джонке звуковые ракеты? Ну, не было у меня случая убедиться в акульей кровожадности — и слава богу. Кто знает, чем все кончилось бы.
Даже в Момбасе я ни разу не был, чтобы описать все не хуже, чем Юрий Сенкевич и Корней Чуковский.
Ряды лавченок на базаре; голосистых торговцев, предлагающих все, чего душа пожелает: от штампованных в Гонконге часов, сигарет, зубочисток и свистящих брелоков до старинного серебра, масок из сандалового дерева и раковин каури; контрабандистов, зазывающих к своим тайваньским и сингапурским тряпкам, горами сваленным на брошенном прямо на землю покрывале.
Я бы описал, с какой поразительной быстротой сматывают свои контрабандные манатки эти самые контрабандисты, едва завидев полицейский джип у въезда на площадь.
(Только что Вы продирались сквозь толпы самозабвенно торгующихся, умоляющих и требующих купить именно у него, хватающих за руки, сующих свои сингапурские портки прямо в Вашу сумку, норовящих наступить на ногу и стащить бумажник, не смущающихся и весело хохочущих, даже если их ухищрения раскрыты, только что вы отчаялись найти своих затерявшихся товарищей в этом черно-шоколадном контрабандном море, и — никого.
Только Вы с разом отыскавшимися соотечественниками и летящий через площадь, не тормозя, джип с полицейскими.
Но оказывается, никто и не собирался убегать далеко. И стоит полицейским не уехать даже, просто остановиться с другой стороны и отвернуться, — и торг возобновляется. Все по-прежнему. И убегали контрабандисты, скорее всего, просто из уважения к представителю власти за рулем джипа.
И снова бегают, ловко лавируют в волнах торга чернокожие мальцы, сызмальства приучающиеся к запретному и прочему ремеслу. Они разносят в высоких стаканах на подносиках какое-то жуткое пойло из захудалого ресторанчика, торгуют какими-то орешками и всякой контрабандной мелочевкой: сигаретами, презервативами, зажигалками, темными очками и туалетной водой «от Коко Шанель». И среди этих мальцов — мой Максимка.
Жаль, что я никогда не был в Момбасе, и даже не знаю, есть ли там контрабандный рынок. Может, так и не прийдется описывать все это взаправду. Глупую клятву я дал себе. Но клятва есть клятва. И я не стану рассказывать Вам о том, чего не наблюдал.
— Это надолго, — понял я, заглянув исподтишка на мостик. Капитан раздраженно мерял шагами палубу рулевой рубки, рулевой матрос с отсутствующим видом наблюдал за горизонтом, а начальник рации доказывал, что никакой локатор, кроме лампового «Дона», не выдержит, если с ним будут обращаться так, как третий помощник обращается с нашим радаром.
— Этот цирк на добрый час, как минимум, — понял я, и улизнул на промпалубу.
На палубе было пусто. Не удивительно: ночь, штивает, и до района промысла еще топать и топать.
Наш старичок-траулер с отчаяньем изнемогшего под грузом лет ветерана бодает носом встречную зыбь.
Волны — не так чтобы очень. Но их больше. А ветерану остался рейс до его корабельной пенсии. Это был его последний рейс в Океан. А там — ремонт, регистр. Может быть — льготный год и приемка хамсы и тюльки у юрких сейнеришек местного плавания. Старичок наш очень хотел этого льготного года, и не хотел «в отстой» и «на иголки» — в переплавку. Он пыхтел изо всех своих лошадиных сил, но все равно скорость порой падала — стыдно сказать — до трех с половиной узлов, и стармех, чертыхаясь, скатывался в машину перебирать клапана холодильника.
Я стоял у слипа и смотрел на низкую звезду, светляком летающую над горизонтом. Звезда выписывала на иссиня-черном небе такие причудливые вензеля, что я её и не узнал поначалу. Думал: самолет — не самолет. Но качалось все небо над головой. Все созвездия, планеты, все миллионы и миллиарды звездных пылинок, звездочек, просто звезд, и путеводных маячков звезд навигационных, — пришли в движение вокруг неподвижного топового огня на верхушке мачты. Огонь, наверное, вообразил себя Полярной звездой.
Впрочем — я просто перестал ощущать качку, окончательно сросся с этим странным миром, в котором все не как у людей: «верх» и «низ» — и те стали играть в чехарду.
Да, именно мира. Пусть крошечного, затерянного в Океане, ограниченного бортами и горизонтом, пусть — замкнутого в себе на долгие месяцы рейса, но — МИРА.
Приятно все-таки ощущать свою причастность к этому миру с позывными и бортовым номером, к миру, названному по имени красивой звезды из Большой Медведицы. И если бы мне предложили самому сотворять этот мир, я оставил бы его точно таким же.
Потому что ничего и никого лишнего в этом мире нет. Я взял бы капитана и его трех помощников, чтобы они стали глазами и мозгом судна. Потому что без капитана и трех помощников — никак.
Это только в моих рассказах штурмана нужны в основном для того, чтобы выводить из строя радары, брать питание для электрических чайников от гидролокатора и гонять чаи с матросами. А на самом деле, без них ведь нечего и думать выходить в море. Ной вон вышел и умудрился сесть на мель на самом Арарате.
А механики, мотористы, электрики? Рыцари масленки и гаечного ключа на сорок пять. Не пожелал бы никому участи парохода, оставшегося без машинной команды. Это будет мертвый пароход.
Еще я бы взял начальника рации, чтобы он выхватывал из хаоса эфира морзянку слов, посланных нам берегом. И чтобы в каждой радиограмме непременно любили и ждали перед подписью. А в свободное время начальник доставал бы свою кружку, и…
Да что там рассуждать. Ничего не выбросишь безболезненно из этого отлаженного, притертого двадцатью годами работы механизма, в котором каждый знает свое предназначение.
Нет здесь ничего лишнего. Необходимы даже сверчок-гастролер, поселившийся на пеленгаторном мостике, и обитающая в «кармане» дикая и тощая кошка, которую наш старпом из жалости подобрал в аденском порту.
Кошка эта обитала в недрах уложенного тральцами в «кармане» трала.
Это на промысле трал станет уходить за борт по отдаленно напоминающему детскую горку в гидропарке (прямо в воду, и с визгом!) слипу.
В воде траловый мешок станет надуваться встречным потоком, разинет свою хищную пасть, и — берегись рыба! Бойся хек, ледяшка, клыкач и ставридка! Спасайся — мы идем!
И дюжим тральцам не будет времени глянуть в гору, а рыбцех, в котором потрошат и разделывают шкерочным ножом тонны рыбы, пропустит через себя всех, кто только есть на нашем суденышке, невзирая на табель о рангах, за исключением доктора, радиста и капитана.
Это все после.
А сейчас еще мирно спят в своих койках матросы и мотористы, и никто среди ночи не дергает их на подвахту разделывать сардину и скумбрию, а трал зеленой копной лежит в «кармане», пахнет рыбой прошлого рейса, и дает приют дикой аденской кошке. Кошка не идет в руки, но все же позволяет нашему старпому приносить ей в мисочке остатки нашего ужина.
— Ну и потребляет же она у Вас, Петрович, — деланно ворчит боцман, бросая кости в шеш-беш, к которому моряки питают почему-то особое пристрастие.
— Вот был у меня дома бегемот (карликовый, конечно), так тот и то меньше ел, — продолжает боцман, а тральцы-молодцы принимаются хохотать богатырскими своими басами.
А может?.. И как я раньше не догадался?
Негритенок был там. Он спал, схоронившись за тралом, сладко посапывая своим черным носиком. И весь он был черным, как ночь. И не удивительно, что я сразу его не заметил. В ногах у него, свернувшись калачиком, помурлыкивала кошка-бегемот, по-братски делившая с ним свой законный ужин, а сверчок-невидимка старательно выводил свои трели — пел негритенку колыбельную.
Негритенок спал, и во сне улыбался дальним странам, в которых живут смешные белые и желтые люди. Кто хуже, кто лучше — кто как. Странам вечного лета, как на его родине, и землям, где ночь длится полугодие, а зима — еще дольше.
Это все были очень разные страны, со своими особыми обычаями и нравами. Такими особыми, что человеку со стороны сразу и не понять их разумности и справедливости. Так и должно быть. Слишком уж все мы — люди — разные.
Но почему тогда так одинаково сбегают со случайным судном мальчики таких разных народов?
И считают, что любой корабль обязательно идет в их Америку, которую еще нужно открыть, потому что никто другой за тебя этого не сделает, будь он хоть Лейвом Эриксоном и Христофором Колумбом в одном лице. А вы сами разве ни разу не мечтали о подобном бегстве от непонятных учебников, домашних заданий и неудов по поведению?
Так вот, моряки — это люди, мальчишеские мечты которых сбылись. Вам никогда не доводилось видеть хозяина агентирующей фирмы в Триесте с годовым доходом 100 килобаксов, готового выпрыгнуть из своего костюма от Версаче от лютой тоски и зависти к нищему советскому капитану в плохо сшитом форменном кителе? Мальчишки не мечтают заработать сто килобаксов в год. Мечтают подержаться за дерево штурвала или румпеля. Баксы люди выдумали не так уж давно. А рули и румпели — еще в доисторические времена. И кстати где-то здесь, рядышком, на Мадагаскаре.
Может все-таки мы, мужчины, не такие уж безнадежно разные, и кергеленский француз-зимовщик в детстве видел те же сны, что и я, советский рыбак, стоящий у закрытых ворот слипа, уходящего в Индийский океан?
Негритенок спал, и я не стал тревожить его сон. Я пошел в радиорубку к начальнику, узнать, что же было с моим Максимкой дальше.
Начальник освободился лишь после нуля: пока локатор до ума довел, пока циркуляр с киевского радиоцентра принял.
— А, Максимка? Да понимаешь, какая с ним история вышла… Мало того, что какой-то кабинетный адмирал нам Момбасу портом захода выбрал. Валюту на нас решил экономить. Нам от Момбасы до промысла — ого-го-го сколько бежать. План горит, каждые сутки на вес золота, а тут — возвращаться надо. Не за борт же его. Вернулись, а его принимать обратно не хотят: он, ко всему, еще и подданным Танзании оказался. Ты бы посмотрел на кэпа — командный голос потерял.
Негритенок спал, и ни о чем не догадывался. Утром боцман, потеряющий от такого подарка дар матерной речи, вытащит его из убежища-трала на свет божий, и все, даже невозмутимый капитан, забегают вокруг него, хватаясь за головы. А начальника замучают цифирью радиограмм в инстанции.
Потом, уже снова в Момбасе, поостынут, посмеются над собой даже. Конечно — пять потерянных суток, пять потерянных очень длинных валютных рублей на брата, но ведь не воротишь.
И будут шутить с ним, говоря на своем рыкающем языке, по-королевски накормят на дорожку, но все же спишут.
— Это ж надо! Такэ малэ, а уже — подданный Танзании!
Я стоял у ворот уходящего в Индийский океан слипа.
Вода за кормой вспучивалась, вскипала под ударами лопастей гребного винта, и стелилась кильватерным следом, теряющимся в ночи.
Мой мир бежал навстречу промыслу своим восьмиузловым ходом.
Я уже был необходимой частью этого мира, без которой нельзя.
И думал, что именно он — моя Америка, которую еще открывать и открывать.
И не надо мне ни экзотики, ни акул, ни пиратов. Это — для мальчишек и авантюристов. Всегда лучше просто вернуться в порт с удовлетворением от хорошо исполненного и оплаченного честного тяжелого мужского дела.
И все-таки мне было жаль, что в этом мире не нашлось места еще для одного странника, Максимки из Момбасы.
Так жаль, что я даже забыл свою страшную клятву и пошел писать свой рассказ о мальчике, которого никогда не видел своими глазами.
От автора:
Когда я, по прошествии многих лет, показал этот рассказ тому начальнику радиостанции, он заверил, что все эти принципы про вахтенные журналы выдумали неграмотные судоводители. Лично он, начальник, фиксировал в журнал только то, что слышал. И ничуть об этом не жалеет. Он уверяет, что только он видел моряков настоящими, и просто сохранял тайну радиосвязи.
РТМ «Кара-Даг»/EWVW — завод "Ленинская Кузница", Киев.
Ноябрь 1986, - Ноябрь 2000
ЭПИЛОГ 2000
(Из ненаписанного)
Рассказ вот так вот сразу в лоб должен начинаться с:
— Выбора нет.
Дело должно происходить в Турции. Выберите сами свой любимый турецкий порт из не очень больших. Что-нибудь вроде Эрегли или Текирдага. Чтобы столики пивной одной ножкой свисали прямо над гаванью. Пиво обязательно должно быть «Эфес Пилзен». Все прочее — по обычаям порта.
И вот между первым и вторым бокалом и должно прозвучать это:
— Выбора у нас все равно нет.
И сразу же — возражение. Дескать, всегда есть. Нелегалов в случае чего можно выбрасывать за борт, а можно — сидеть. В случае чего. И это тоже выбор. Такой вот Максимка из Юго-Восточной Азии.
Спорить должны два нетурка, и не по-турецки, без излишней приторной вежливости.
Да какой же в красную армию выбор, если за восемь месяцев не плачено, а теперь вот ставят перед фактом?
А выбор простой — нагнуть и поставить перед фактом их. Триста долларов — всегда триста долларов. На двоих хватит. Предлагается голосовать. Ногами.
Документы? Пусть засунут сименс бук себе в ватер-шпигат. Не зря недосыпал-недоедал, а общегражданский паспорт оформил. Дипломы? В тюрьме диплом не нужен.
Нужно просто пересидеть отход. Шуметь никто не будет. Не в том они положении, чтобы полицию на уши ставить. До Стамбула два часа на автобусе. Из Стамбула на Николаев каждый четверг отходит «Гепанис». Папой на нем — оба знают кто. Неужто Алексеевич в тяжелой турецкой неволе любимого старпома бросит?
И по репликам должно быть понятно, что автором плана является как раз не старпом, а вполне безответственный член команды.
Собственно, на этом рассказ можно заканчивать. Можно было бы еще долго рассказывать, почему не прокатили другие варианты, и кто громче всех орал, а как дошло до дела… Но по-моему — это лишнее.
Рассказ задумывался коротким, как приговор, а не долгим, как срок в четыре года два месяца.
Они просто допьют свое пиво и разойдутся как в море корабли. Навсегда.
Один пойдет снимать комнату в трех звездах с бетонным полом, кося под норвежского туриста, а другой — руководить погрузкой негров на итальянские плантации.
Это непередаваемое и ни с чем не сравнимое чувство — сидеть у открытого окна, потягивать ракию и тупо ждать, когда уйдет в море твой пароход.
Хочу предупредить, что это просто рассказ. Свое право поучать и умничать автор честно заработал, по запарке засунув руку под двухтонную крышку трюма, месяцем ранее описываемых событий. Списан, рассчитан и не посажен.
Серега отсидел на Сицилии, в Каладоне, на восемь месяцев меньше капитана, тоже херсонского.
На фоне «Тайгера» и «Кобе Квин» его возвращения не заметил даже отдел консульской поддержки МЗС.
В самом деле, не нарко-тяжеловоз, не убивец безбилетников и пират 20 века вернулся. Просто моряк, который посчитал, что у него нет выбора.
Автор будет считать, что книга достигла своей цели, если будет прочитана, хотя бы последняя фраза из 73 068 слов.
Мужики. Неужели это мы?
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Если вы читаете это, значит, Вы либо моряк, либо злостный курильщик, в любом случае, у вас много общего с автором.
Автору непонятно, зачем он связался с изданием этой книги. В век компьютеров и интернета можно удовлетворять свои графоманские амбиции гораздо дешевле и быстрее.
Но, во-первых, друзья автора, среди которых есть капитан, стармех, начальник радиостанции и даже одна женщина — потомственная жена моряка, уже профинансировали издание этой книги. Автору неловко их подвести.
Во-вторых. Писатели-маринисты уже приняли автора в литературу, угостили тем, что сами пьют в это время суток, и подарили ему по книге с автографом. Быть в литературе без книги автору неудобно. Это все равно как не отработать предрейсового аванса. Иных из писателей уж нет.
В-третьих, несмотря на вымышленность имен и случайность совпадений, автору уже пишут узнавшие себя герои с предложениями изменить и переписать, потому что все было совсем не так. И выход из этого один — издать.
Автор благодарен всем тем, кто проявил участие в появлении его шедевров немыслимым тиражом, но еще более будет благодарен тем, кто решит читать дальше обложки.
BRGDS Антон Санченко [email protected]
Копирайт нотис
© Санченко Антон
Книга распространяется условно-бесплатно. Это значит, что если она вам понравилась, вы можете поощрить автора, зайдя на страницу книги на сайте
«Автура» и перечислить на его кошелек 15 грн. электроденег на указанный там номер кошелька Веб-мани. Там же можно заказать бумажную версию книжки с почтовой доставкой в пределах Украины.
Лучший способ вдохновить автора на написание новых книг — заплатить ему за предыдущую.