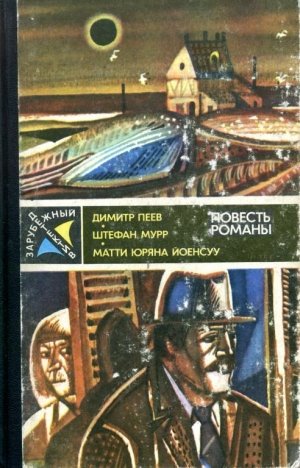
В сборник вошли три произведения детективного жанра: повесть известного болгарского писателя Димитра Пеева «Вероятность равна нулю» рассказывает о работе органов госбезопасности Болгарии; в романе писателя ФРГ Штефана Мурра «Гиблое место» полиция раскрывает загадочную историю исчезновения молодой богатой женщины; в документальном романе финского писателя Матти Юряна Йоенсуу «Служащий криминальной полиции» речь идет о будничной работе рядовых сотрудников криминальной полиции Хельсинки.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной сборник зарубежного детектива содержит три произведения писателей Болгарии, ФРГ и Финляндии. Три произведения об одном и том же: о преступлении. Читая их, отчетливо ощущаешь, образно говоря, различный климат, в котором происходит действие, но для более убедительного сравнения хочется взглянуть на эти произведения в несколько иной последовательности.
Роман Штефана Мурра в переводе называется «Гиблое место». Конечно, гиблым местом в прямом смысле этого слова можно назвать поселок, в котором разворачиваются драматические события, связанные с убийством Сандры Робертс. В самом деле: малонаселенный и редко посещаемый даже туристами поселок, такая же маленькая гостиница, еще не фешенебельная, но задуманная как место отдыха для «уставших» избранных. И к тому же экзотика — местность опасна, так как выход к морю осложнен наличием зыбучих песков, в которых не знающему местности человеку нетрудно и погибнуть. Место для отдыха. Но и место, удобное для совершения преступлений и сокрытия их следов. Вот что важно. Как-то сразу, начиная читать роман Штефана Мурра, думаешь именно так.
Дальнейшее развитие событий в общем-то традиционно для традиционного детектива. Усложненные личностные отношения, наличие многих людей, которых можно заподозрить в совершении преступления, в том числе даже один бывший нацист. В итоге конец тоже традиционен: несложившаяся жизнь в богатом буржуазном семействе, деньги, борьба за наследство, брошенная старая и молодая новая жена, месть, месть утонченная, продуманная, вынашиваемая много лет, преступление, совершенное так, чтобы напомнить всем участникам трагедии о прошлом, и, конечно, естественный разоблачительный финал — на фоне действий криминальной полиции, вполне прилично оснащенной технически. И конечно, умный сыщик. Впрочем, неумный и не знающий своего дела человек, конечно, ничего бы сделать не мог. Более того, опытный сыщик знал, что такие продуманные преступления нередки в высших кругах. Как знал и то, что сильные мира сего не очень-то любят, когда разоблачения их образа жизни выплывают наружу. Но в данном случае, как говорят, деваться некуда, да и главное действующее лицо — сенатор Робертс умер. А мертвые, как известно, сраму не имут.
Вот тут-то и возникает вопрос; а может быть, «гиблое место» — это своего рода обобщение и относится не только к поселку, где разыгралась трагедия, но является характеристикой общества, в котором совершаются преступления подобного рода? Думаю, читатель примет это название (несмотря на традиционность повествования), и примет именно потому, что «гиблым местом» можно (и нужно) назвать общество насилия, человеконенавистничества, обогащения любыми средствами, — общество, в котором совершено преступление, описываемое автором.
Еще один роман — это роман тоже о событиях в капиталистической стране — в Финляндии. Но стране, отличающейся во многом по образу жизни, традициям, нравам от таких стран этой же системы, как США, ФРГ, Италия, и ряда других. Хотя истоки преступности в них одинаковы, но различен образ жизни людей, различен и характер преступности. «Экспорт преступности» из США и других ведущих капиталистических стран, «экспорт» наиболее опасных ее форм еще не захлестнул эту северную страну, хотя, конечно, никаких гарантий от этой опасности нет. Естественно, нигде, ни в каких странах не может быть все одинаково. Преступность тоже неодинакова. А работа тех, кто непосредственно ведет борьбу с ней, в частности сотрудников полиции, следователей, судей, прокуроров и т. п., также имеет свои особенности, хотя и однозначна в главном.
Матти Йоенсуу пишет о преступности, борьбе с ней в приглушенных тонах, я бы сказал, как-то обыденно-буднично живописует не столько само преступление, сколько жизнь и работу тех, кто призван раскрывать преступления. Его герои — сотрудники криминальной полиции, которые в общем-то тяготятся своей работой, мечтают о том, чтобы во время их дежурства ничего не произошло, чтобы не было событий, которые ставили бы под угрозу их собственную жизнь, принесли бы неблагоприятные испытания их семьям.
В романе мы находим в то же время рассуждения о чувстве ответственности сотрудников криминальной полиции перед людьми. Проникаешься к ним сочувствием, когда читаешь, что и технически-то они оснащены неважно, и автомобили у них старые (да и мало их), и даже оружие они подчас покупают на свои деньги, получая не очень-то удовлетворяющую их заработную плату. В общем, тяжелый труд, ответственные обязанности, невысокий престиж профессии и даже постоянная боязнь за свою жизнь.
Психологический настрой сотрудников, которых показывает на страницах книги автор, приводит их к серьезным профессиональным ошибкам в ситуациях, где их не должно было бы быть, например, при задержании соучастницы преступления, некой Кариты Ирмели, ранее уже известной полиции. В этой сцене каждый шаг — ошибка. Сотрудники сами создают для себя опасность, практически без всякой надобности рискуя жизнью. Действуют как робкие новички, ничего не выяснив предварительно, не обеспечив элементарных условий ни для собственной безопасности, ни для того, чтобы обеспечить успех операции. Но, пожалуй, чувство долга и страх, именно страх, гонят их вперед. И они глубоко вздыхают с удовлетворением, когда все кончается благополучно. Кончается и столь тягостное для них время дежурства. Все мысли их: скорее уйти домой, увидеть жену, детей, забыть, хотя бы на время, о своих делах и даже о своей профессии.
Таким образом, это не «бодренький» детектив, где упоенный своим величием проницательный сыщик преодолевает ухищрения преступника и «наказывает» зло. Это скорее показ того, что делу борьбы с преступностью служат люди, с одной стороны, понимающие, что со злом нужно вести борьбу, а с другой — тяготящиеся своей службой. Но даже в этих условиях они стараются быть добросовестными, они ищут пути к установлению преступников, они понимают свою ответственность. Обратите внимание на эпизод, где сотрудники криминальной полиции с нетерпением и надеждой ждут ответа эксперта-криминалиста о принадлежности отпечатков пальцев, обнаруженных на месте происшествия. Не постоянные погони, «игра ума и смелости», а тяжелый, утомительный труд, психологически не всеми понимаемый, труд не сверхчеловеков, а обыкновенных людей — вот что стремится показать автор. Не случайно и называется роман «Служащий криминальной полиции».
Это труд для людей, но в условиях буржуазного общества это труд людей, оторванных от людей. У них нет устойчивых и постоянных связей с окружающими, они работают изолированно, даже свидетелей для раскрытия тяжкого преступления им найти трудно. Никого ничто вокруг не интересует. Даже семью убитого. В противоположность роману Мурра автор показывает нам преступность деклассированных элементов буржуазного общества.
Особое место занимает в сборнике повесть известного болгарского писателя и публициста Димитра Пеева. Это произведение о тех опасных проявлениях, которые сегодня наиболее беспокоят капиталистическое общество. Произведение, подтверждающее, что уголовные преступления в современном капиталистическом мире нередко имеют политическую подоплеку, что терроризм, ставший ныне средством осуществления государственной политики США, это практически смыкание общеуголовной преступности с теми, кто верховодит политикой империалистических государств. Наконец, это произведение о том, как уголовщина и преступная политика используются империализмом для наступления на социализм, для проведения подрывной деятельности против стран социалистического содружества, о том, как и кого использует империализм на путях своего «крестового похода» против коммунизма. Автор в то же время раскрывает очень важную тему, суть которой заключается в том, что те люди социалистического общества, даже пользующиеся доверием и занимающие ответственное положение, но подпавшие под разлагающее влияние чуждой нам идеологии стяжательства, могут стать и становятся либо людьми, ступившими на путь преступлений, либо, что еще опаснее, людьми, за деньги торгующими интересами своего общества, своего государства, своего народа.
На этом фоне автор с большим чувством такта и в то же время умело показывает и прекрасную профессиональную зрелость сотрудников органов госбезопасности, и их глубокую связь с народом, с людьми, ради интересов которых они трудятся.
Небезынтересен прием, использованный Пеевым. Он заканчивает одно повествование. Казалось бы, все ясно и подведена черта. Но уже в самом конце начинается новая линия, вроде бы и не связанная с предыдущим изложением, но имеющая право на свое возникновение. Писатель начинает ее развивать. Но только начинает. Что будет дальше, он не говорит. Появляются новые персонажи, новый поворот событий. Не знаешь, какое чувство испытывать: неудовлетворение от того, что автор бросил читателя в начале пути, или от того, что не раскрыл связь предшествующих событий с последующими. А может быть, автор сделал это намеренно, как бы показывая, что разоблачать преступную деятельность тех, кто вредит социалистическому обществу, нужно постоянно, что он об этом еще расскажет читателю.
И. КАРПЕЦ
ДИМИТР ПЕЕВ
ВЕРОЯТНОСТЬ РАВНА НУЛЮ
ПОВЕСТЬ
© Димитър Пеев, 1980 c/oJusautor, Sofia
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. ПОЛУНОЧНЫЕ ШИФРОГРАММЫ
Ковачева разбудил телефонный звонок. Он сразу же по привычке посмотрел на часы — было начало седьмого. Кому он мог понадобиться в такую рань? Скорей всего досадная ошибка. А может, из управления? Как бы то ни было, придется откликаться на назойливое дребезжанье, не то проснется жена. И он соскочил с кровати, двинулся в холл к телефону.
— Доброе утро, товарищ полковник, — зарокотал знакомый бас генерала Маркова. — Вроде бы не вовремя звоню, вы уж извините и за воскресенье, и за ранний час. Надеюсь, понимаете, что по неотложному делу. Неотложному!
— Что случилось, товарищ генерал? — спросил Ковачев приглушенно.
Однако жена все-таки проснулась. Она появилась в дверях спальни сонная, с недоумевающим взглядом.
— Случилось то, что вам надо немедленно отправляться в Варну. Вместе с Петевым и Дейновым. Они уже в курсе. Товарищу полковнику, как и положено, звоню последнему. Чтобы он прихватил лишние пятнадцать минут сна.
— Благодарю за любезность. Подробности будут?
— Все подробности узнаете из шифровки. Ее передаст вам Петев. Самолет в 8.15, машина будет у вас в 7.30. Времени достаточно, правда? Минев знает о вашем прилете, будет ждать в управлении.
Пока Ковачев брился и стоял под душем, жена приготовила ему чемоданчик. К таким вызовам она давно привыкла.
Шифровка была лаконичной. Минувшей ночью, точнее за минуту до полуночи, спецслужба перехватила странную радиограмму, переданную в эфир в районе между Золотыми песками и Балчиком, где-то возле Кранева. Те, кто засек передачу, сразу предположили по «почерку», что неизвестный радист был крайне сбивчив. Вероятнее всего, передатчик находился в автомашине — заодно удобно было воспользоваться и ее аккумулятором.
Вот и все содержание шифровки. Остальное предстояло распутывать.
В Софийском аэропорту у них еще хватило времени выпить по чашечке кофе. А в Варне ждала машина, и они с места в карьер понеслись в город.
Вскоре они вошли в кабинет начальника окружного управления генерала Минева. Там уже чинно сидел человек в очках, представившийся майором Симовым из отдела дешифровальной службы. Минев быстро ознакомил Ковачева с материалами, но по тону его трудно было понять, обижен ли он, что министерство скоропалительно передало дело своей софийской группе, или радуется, что в самый пик горячего курортного сезона не придется самому копаться в такой заурядной истории.
Впрочем, знакомство с материалами не затянулось надолго. Действительно, в 23.59 седьмая станция перехвата засекла тайную передачу. Электронная автоматика не только записала сигналы, но мгновенно задействовала подстанции Б и В. Три луча пересеклись в квадрате Л-17, где зафиксировали стационарный радиоисточник. Туда немедленно выехали оперативники, но, когда через четверть часа группа оказалась на предполагаемом месте, вблизи не было ни единой души. Ни одного автомобиля в окрестностях, ни одного строения вокруг.
Пока оперативные машины безуспешно прочесывали окрестности, перехваченные сигналы были переданы в Софию. Дешифровальная машина в министерстве бесстрастно проглотила пятизначные группы цифр, «жевала» радиограмму несколько часов и наконец в восьмом режиме алгоритма ЕФ-3 «выплюнула» дешифровку. Оказывается, передача велась на английском языке. В переводе текст выглядел так:
«...ПЕСКИ ДВЕНАДЦАТЬ ОТЕЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ О’КЭЙ ЭКСТЕРЬЕРА УСЛОВИЯ ЖАЛКИЕ МЭРИ И ДИНГО ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ МАМАН».
Ковачев повертел листок с переведенным текстом, который передал ему Минев, положил на стоя.
— Гм... динго, не о дикой ли австралийской собаке идет речь?.. И куда — «через Турцию»? К нам или от нас? Вроде и расшифровали, а поди разберись!..
— То-то и оно, — сказал Минев. — Вероятно, она еще и закодирована. Однако пора выслушать соображения майора Симова.
— Действительно, в дешифровке сориентироваться трудно. Надо иметь в виду, что начало радиограммы отсутствует, мы располагаем текстом лишь с того момента, когда включился магнитофон. Передача шла с небольшим ускорением, не более двадцатипятикратного. Но «растягивание» сигналов до скорости, с которой работал неизвестный радист, показало, что специалист он отнюдь не классный. Скорее всего недостаточно хорошо обученный любитель. Об этом можно судить не только по неравномерным интервалам между цифрами, но и по неровному радиопочерку. К тому же этот почерк немного вялый, замедленный.
— Но этот ваш заурядный любитель, — подал голос Ковачев, — располагает приставкой для предварительной записи сигналов, которая в нужную минуту «выстреливает» загадочную цифирь.
— И что самое интересное, — подхватил Симов, — приставка снабжена достаточно мощным передатчиком. Отсюда его услышат хоть в Новой Зеландии.
— Или в Австралии, — сказал Минев.
— К тому же радист располагал и аппаратурой для шифрования текста, для превращения букв в цифры, правда, в несколько ограниченных пределах. Такую аппаратуру, как и приставку для ускорения записи, в магазине «Тысяча мелочей» не найдешь!
— Вы хотите сказать, что радист хорошо подготовлен, вооружен специфичными для профессии средствами, если можно так выразиться? — спросил Ковачев. — Такое вполне естественно.
— Я хочу обратить внимание на тот факт, что оснащен он как раз слабовато, с ограниченными возможностями для шифрования. Потому мы так легко и раскусили орешек.
— Простой шифр, говорите? — в задумчивости спросил Минев.
— Да, вполне.
— Странно, как будто нам хотели облегчить задачку по дешифровке. Но тогда едва ли можно верить этой шифрограмме.
— Хоть верь, хоть не верь, все равно будем разбираться, — сказал Ковачев. — Первая наша задача — найти Маман, раскрыть этот псевдоним. Следует установить наблюдение за всеми автомобилями, которые ночью останавливаются на шоссе с работающим двигателем. Понятно, что такая слежка в чем-то бессмысленна, но другого выхода нет. Дейнов, твоя задача поинтересоваться всеми гостями, прибывшими в последние дни в гостиницу «Интернациональ». А Петев возьмет на себя наблюдение за машинами. Вдруг кто-нибудь еще раз выйдет в эфир. — Он перевел взгляд на Минева: — Товарищ генерал, одной нашей группе здесь не управиться. И для поисков машины с передатчиком, и для кое-чего другого нужна ваша помощь. Нам потребуется кто-либо из ваших подопечных.
— Согласен, я уже думал об этом. Но ждал, когда вы сами поднимете вопрос. Предлагаю капитана Крума Консулова. Хотя этой весной его перевели к нам из Софии, но он наш земляк, варненский. Обстановку знает отлично, инициативен, порою даже сверх меры, энергии на троих...
В тоне, которым превозносились достоинства Консулова, чувствовалась скрытая ирония, хотя нельзя было понять, разыгрывают ли столичных гостей или хотят им капитана подсунуть. Поэтому Ковачев, хотя и не знавший Консулова лично, но кое-что о нем наслышанный, не стал вступать в игру, а лишь спросил:
— И за эти несколько месяцев он так преуспел, что уже сработался с местными коллегами?
— О, вы его не знаете! Сработался, да еще как. Попробуйте парня. Если не подойдет, всегда можно заменить.
Полковник Ковачев любил работать с так называемыми трудными людьми, знал, как затрагивать потаенные струны их сердец, а «трудные», «несговорчивые» отплачивали ему преданностью и предельным напряжением сил. И порою даже дружбой.
В небольшом кабинете директора гостиницы «Интернациональ» Дейнов внимательно просматривал списки гостей. С первого числа гостиница принимала только иностранцев. Не было ни одного болгарина. Но как он ни старался, пока что выйти на след не удавалось. Тоненькая ниточка от Маман обрывалась в самом начале. Эта кличка могла принадлежать равно и мужчине и женщине, и старому и молодому. Даже английский язык, на котором была составлена шифровка, не подсказывал категорично, что радист непременно англичанин (их здесь было достаточно) или американец (гостей из США значилось гораздо меньше). Все-таки Дейнов аккуратно записал подозрительные, на его взгляд, имена и отправился расспрашивать здешнего лифтера. Эти вроде бы неприметные служащие в гигантской машине «Балкантуриста» обыкновенно отличались наблюдательностью и могли быть чрезвычайно полезными, если заручиться их доверием или хотя бы симпатиями.
Здравко оказался словоохотливым малым, через несколько минут они уже беседовали как старые приятели. Дейнов представился летчиком-истребителем. Но, судя по всему, парнишка не только не поверил этой версии, но и живо смекнул, что за «истребитель» вовлек его в разговор. Несколько раз Дейнов замечал, как лифтер разглядывает его со страхом и любопытством, будто ищет, где у гостя предательски оттопырен пиджак от пистолета. Слава богу, оружие он сегодня не прихватил...
Может, потому, что он обо всем догадался и хотел помочь, а может, из-за обыкновенной мальчишеской болтливости Здравко охотно делился своими наблюдениями над постояльцами, порою давая остроумные характеристики.
— А вон еще один редкий тип, — он кивнул в сторону только что вышедшего из лифта немолодого господина, одетого с подчеркнуто английскими пристрастиями начала века: клетчатый костюм с точно таким же платком, очки в толстой роговой оправе черного цвета, дымящаяся трубка. Господин был рыжий, весь усеян веснушками и надменно важен, точь-в-точь Джон Буль на карикатурах. — Мистер Галлиган тоже наш постоялец. Приехал несколько дней назад вместе с женой. Он коллекционирует окурки.
— Как так окурки? — изумился Дейнов.
— А вот так, окурки. За оригинальный окурок он готов выложить хоть целый лев. Вчера высыпали с верхнего этажа целую пепельницу. Он заметил и тут же попросил меня собрать их все с террасы. Среди них были и наши сигареты, и заграничные, большинство со следами губной помады...
— Ну и что?
— Да ничего. Он взял их, а мне вручил очередную купюру. Эх, были б все постояльцы как мистер Галлиган!
Этой ночью между Варной и Балчиком патрулировал капитан Консулов. Вместе с шофером они объезжали свой сектор и упорно молчали — нечто крайне странное для обоих. Но для взаимного молчания была причина. Шофер опоздал на две минуты, а Консулов закатил такой скандал, будто тот вообще не явился. Теперь обиженный шофер дулся на капитана. Консулов же не считал возможным снисходить до беседы с подобным растяпой.
Дорога была пустынной. Машина ехала медленно, спешить было некуда.
Поднявшись на очередной холм, они заметили впереди, возле перелеска внизу на равнине, автомашину с горящими задними огнями. Едва машина Консулова приблизилась, огни погасли. Консулов скомандовал включить дальний свет, чтобы высветить чужой номер. Когда они проезжали мимо, то заметили за рулем мужчину с зажженной сигаретой.
Консулов докладывал по радиотелефону: на двадцать пятом километре, недалеко от развилки, замечен «вартбург-люкс» ПА 37-18...
— Работал ли у него мотор? — спросил дежурный по управлению.
— Разобрать было невозможно. Однако... ожидайте очередного выхода в эфир.
Когда оперативная машина отдалилась, мужчина в «вартбурге» внимательно посмотрел взад и вперед. Шоссе было абсолютно пустым. Он кивнул — и сразу же рядом с ним оказалась притаившаяся на соседнем сиденье спутница с коротко стриженными русыми волосами. И они незамедлительно принялись целоваться.
Петев приехал в ведомственный дом отдыха забрать Ковачева в окружное управление.
— Что новенького? — спросил полковник уже в машине.
— Ничего, не считая ночной ложной тревоги Консулова.
— А как Дейнов?
— Прикипел к Галлигану, целый день проторчал на пляже возле этого господина. Вообразил, что тот и есть Маман...
— По мне он смахивает на Папана. Боюсь, это ложный след. Странный субъект... Окурки собирает...
— Может, разыгрывает из себя сумасшедшего?
— Едва ли. Какой смысл ему привлекать наше внимание своим идиотским хобби!
Войдя в кабинет, который ему отвели, Ковачев механически снял трубку, чтобы позвонить генералу Маркову. И тут же ее положил. Что нового мог он сообщить? Какую свежую идею подкинуть? Да, две машины патрулируют ночью по шоссе возле Золотых песков, но «они» могут снова выйти в эфир хоть через неделю, хоть через месяц, а могут и вообще не выйти. Или выйдут в дневной суете. А этот Галлиган, единственная находка, по всей вероятности был безобидный чудак-одиночка, не более...
И все же Ковачев позвонил:
— Никаких новостей, товарищ генерал. Главное наше занятие — лежать пока что на песочке и доводить до кондиции загар.
— Что-то вы быстро выкатились на дорожку, по какой прогуливаются отдыхающие у моря болгары.
— Не ради прогулок, а единственно службы ради. Просто мы. должны целыми днями быть на пляже, рядом с нашими подопечными. А что, если и вам переправиться сюда? И пободаете нас, и дадите какое-либо ценное, как всегда, указание.
— Не искушай меня без нужды. Коли дойдет до ЦэУ, я уж не упущу возможность. Продолжайте и докладывайте каждое утро.
В оперативном помещении часами, а то и днями царило абсолютное спокойствие. Приборы следили за официально разрешенными передачами, контролировали их согласно эталонам, и только мягкое свечение экранов и едва уловимый ухом шум реле подсказывали, что аппаратура, хотя и дремлющая, задействована. А людям ничего другого не оставалось, как только любоваться этим странным техническим пейзажем. Но появись в эфире незарегистрированный передатчик — и в тот же миг с внезапностью взрыва все оживет: и аппараты, и люди с максимальной скоростью и напряжением начнут действовать.
Ровно в полночь опять вышел в эфир тот же самый передатчик. Но это никого не удивило. Сигналы на сей раз были записаны с самого начала. И едва пересеклись два луча, дежурный, не дожидаясь третьего, уже сообщил в управление:
— Внимание, та же самая станция. Наши машины движутся по направлению к Краневу.
К счастью, машины оказались по разные стороны от точки пересечения, на том же шоссе, только в нескольких километрах от прежнего места, и спустя буквально секунды уже неслись на предельной скорости.
В той, что летела от Балчика, Петев поддерживал постоянную связь по радиотелефону. Третий луч пеленгатора уже уточнил нужное место. И в этот момент шифрованные сигналы прекратились.
— Жми на педаль! Газуй! — задыхаясь, подгонял Петев шофера. — Он уже вырубился, пойми! Еще немного! Эх, не упустить бы!
Шофер так газовал, что на каждом повороте они рисковали опрокинуться в кювет. Когда вылетели на очередной холм, Петев скомандовал:
— Теперь потише! Где-то здесь, недалеко.
Шофер сбросил газ, и вскоре они заметили вдали одну-единственную машину. Она стояла на обочине с зажженными задними огнями.
При их приближении неизвестный шофер совершил маневр: выехал поперек шоссе, будто вознамерился его перегородить. В свете, фар был отчетливо виден одинокий мужчина за рулем. Впечатление, что им хотели преградить путь, вскоре рассеялось. Стало ясно, что шофер хотел всего лишь развернуться. Огромный американский автомобиль с австралийским номером, который Петев тотчас записал.
— Посигналь ему, будто мы нервничаем. Пусть поймет, что спешим, а он перегородил дорогу.
Шофер несколько раз просигналил, а мужчина в ответ помахал приветливо рукой, как бы пытаясь извиниться. Развернувшись, он поехал в сторону города. Петев начал доклад по радиотелефону.
Рано утром Ковачев собрал в кабинете Петева, Дейнова и Консулова.
— Передатчик находился в автомобиле марки «плимут», австралийский номер АУС фау эм 46-57, — начал полковник. — Шофера зовут Дэвид Маклоренс, австралийский гражданин, пересекший нашу границу на рассвете 12 июля со стороны Греции через погранпункт Кула. Заметьте, в тот самый день, когда засекли первую шифровку. Вместе с Маклоренсом в машине приехала и Эдлайн Мелвилл, тоже австралийская гражданка. Сегодня оба они разместились в отеле «Интернациональ», в двух соседних номерах: 1305 и 1307...
— Доподлинно известно, что это именно та самая машина? — поинтересовался Дейнов.
— Мы прибыли к запеленгованному месту ровно через минуту после прекращения сигналов, — доложил Петев. — И по пути не встретили ни единой машины. Со стороны Варны двигался капитан Консулов — он тоже никого не видел. Стало быть, сомнений нет. К тому же, заметив нас, Маклоренс сразу же смылся с запеленгованного места. Повторяю, сомневаться здесь бессмысленно.
— А этот... Маклоренс, — спросил Ковачев, — он что из себя представляет?
— Ему тридцать пять лет. Крупный, атлетически сложенный господин с немного флегматичным, я бы даже сказал, туповатым видом, — впервые отозвался Консулов. Он проследил Маклоренса до самой гостиницы и имел возможность разглядеть его вблизи.
— Да это же явно Маман! — с энтузиазмом воскликнул Дейнов.
— Ну как же! Собственной персоной, — усмехнулся Консулов. — Стало быть, Маман, да? Вы, значит, тешите себя такими догадками? А я все же задался бы вопросом, с чего это он на своем австралийском рыдване прикатил к нам. То ли пляжей у них нет, то ли соблазнился обслугой «Балкантуриста»? И почему притащился именно из Австралии, а?..
— Хочу ознакомить всех с текстом ночной радиограммы, — счел нужным вмешаться Ковачев. — Она тоже на английском. Шифр идентичен, по этой части наши коллеги не встретили затруднений. Итак:
«ДОН БОНИФАЦИО СТАРЫЙ НИКТО И КОКО С ЖЕЛЕЗНЫМ ВОЛКОМ УЖЕ В ОТЕЛЯХ У НАС ЖДУ ПАРОЛЯ МАМАН».
— Значит, еще четыре персоны пожаловали сюда, а пароля ждут уже шестеро. Приличная компания! Что же их сюда привело? Что же касается...
Эти размышления Дейнова были прерваны возгласом Ковачева:
— Погоди, погоди! Откуда набралось их вдруг шестеро?
— Ну... эти... Маклоренс и его возлюбленная, что из Австралии... двое... старый Бонифацио — трое, Никто, Коко и Железный Волк. Шестеро!
— Значит, и Никто зачисляется в компашку, да? — спросил Консулов.
— И Никто, и Железный Волк, и Коко — все это псевдонимы...
— Достаточно, Дейнов, я понял. А вы, Консулов, что скажете?
— Похоже на розыгрыш, товарищ полковник. Особенно если иметь в виду этот элементарнейший шифр. Текст уж больно несерьезный. А дон Бонифацио сильно смахивает на дона Базилио.
— А на что смахивает «жду пароля»?
— Тоже с гнильцой товар. Слишком ясно и категорично.
— Да, но все же зашифровано, — возразил Ковачев.
— Зашифровано, но так, чтоб мы сразу все поняли. И этот легко опознанный автомобиль с передатчиком, и сам радист — все это или какой-то идиотизм, полная глупость, розыгрыш, или... серьезнейшее дело...
— Продолжайте, Консулов.
— Дон Бонифацио старый — это, несомненно, адрес. Бонифацио старший — отец Бонифацио младшего. Такое на Западе практикуется. Для меня загадочнее Коко и Никто. Железный Волк вызывает ассоциации с техникой. Может быть, речь идет о какой-либо аппаратуре, уже установленной Коко в нескольких номерах гостиничного комплекса.
— Я вас серьезно спрашиваю, — сказал Ковачев.
— Я вполне серьезен... Если допустить, разумеется, что текст — не розыгрыш. Железный Волк может означать подводную лодку; Никто тогда название операции, а Коко — дата ее окончания. «В отелях у нас» — это соседние державы, а Пароль — некая красотка, которая вот-вот прибудет. И так далее, если есть желание фантазировать.
II. ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН
После раскрытия радиста и дешифровки радиограммы снова наступило полное затишье, и никто не мог предсказать, когда оно нарушится. Гораздо важнее было поразмышлять: действительное или кажущееся это спокойствие? Поэтому, едва закончилось утреннее совещание и коллеги его направились решать свои задачи, Ковачев отправился в дом отдыха министерства. Даже пошел на пляж. Но не прошло и часа, как там появилась угловатая фигура Консулова. Тот был в плавках и с сумкою в руках. То и дело оборачиваясь, вглядываясь в голые тела, Консулов наверняка искал его, Ковачева. Уж не случилось ли что?
— Здравствуйте! Ко мне или в объятия Нептуна?
Ковачев уже распознал своеобразную манеру высказываний Консулова и решил ему подыграть.
— Какой там Нептун! Квод лицет Йови, нон лицет бови. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. — Он явно полагал, что Ковачев не силен в латыни, поэтому сразу перевел поговорку: — Бреду в жалкой роли почтальона. Хочу порадовать вас открыточкой.
— Любопытствую.
Консулов достал из сумки цветную открытку с видом Золотых песков. На обратной стороне значилось:
«Варна, Сиреневая улица, дом № 5. Петру Петкову. Дорогой Пешо, я на несколько дней приехал на Золотые пески. Гостиница «Метрополь». Давай-ка повидаемся в пятницу, 19 июля, в десять тридцать. Твой приятель Гошо».
— И что же? Чем замечательна эта открытка?
— Тем, что ее только что опустил в почтовый ящик гостиницы «Метрополь» Дэвид Маклоренс. Наблюдатель засек и с помощью администрации гостиницы заполучил открыточку.
— Гм! Интересно. А не мог ли наблюдатель ошибиться?
— Нет. Во-первых, он видел, кто и как опускал открытку, во-вторых, в ящике она оказалась единственной.
— Возможно ли, что этот Маклоренс — болгарин? В Австралию много отбросов уплыло.
— Даже если он и болгарин, то скорее всего второго издания: допустим, сын некоего нашего эмигранта. К тому же от англосаксонской мамаши, судя по комплекции.
— У вас было больше времени на размышление. Что вы думаете относительно открытки? — спросил по пути к дому отдыха Ковачев.
— Адресат, разумеется, никакой не друг Маклоренсу. Сообщается место и время встречи агенту, каковым не обязательно должен быть Петр Петков. Во-первых, Маклоренс обитает не в «Метрополе», а в «Интернационале». Во вторых, если они друзья, то Маклоренс может посетить дом друга. В-третьих, и это самое важное, пятница приходится не на девятнадцатое, а на восемнадцатое июля.
Ковачев мысленно сосчитал дни недели.
— Да, правильно... Что бы это могло означать? Не мог же он случайно ошибиться. Восемнадцатое... Девятнадцатое... В нашем деле такие ошибки маловероятны.
— Вероятно, это какая-то уловка, к которой мы еще вернемся. А открытка? Как поступить с ней? Все-таки надо послать по адресу, не правда ли?
— Обязательно. Иначе возникает опасность, что ничего не случится вообще. А этого допустить нельзя. Но время есть. Почта доставит открытку завтра, вероятно, после обеда. У нас в запасе чуть больше суток. Думать, думать, думать!
Ковачев оделся быстро и, уже сидя в машине, взял открытку у Консулова, снова пристально в нее вгляделся. И чем дольше он смотрел, тем больше убеждался, что эта открытка, случайно попавшая в их руки, кроет немалую тайну. То был не просто условный знак для встречи, но нечто гораздо значительней...
— Думаете ли, товарищ полковник? — спросил Консулов, как будто телепатически уловил его состояние.
— Думаю, думаю, чем еще лучшим можно заняться?
— Тогда поразмышляйте вслух. Может, и я чем-нибудь помогу.
— Вырисовываются две версии. Или этот Дэвид Маклоренс болгарин, и тогда нет ничего удивительного, что он, подписываясь как Гошо (может, он действительно Гошо или под этим именем его знает Пешо), послал открытку, которую сам надписал здесь, у нас. Но интересней и, разумеется, перспективней другая версия. Что он не болгарин и, стало быть, не мог сам написать текст. Тогда следует логически, что открытку ему вручили «там» уже готовой, надписанной и его задача — только опустить ее и повстречаться с Пешо или в пятницу, 18-го, или 19-го, в субботу, перед гостиницей «Метрополь».
— С ним или кем-то другим, которого Пешо знает как Гошо... Возникает законный вопрос: как Пешо узнает Маклоренса, который только что прибыл аж из Австралии?
— Знаете, когда я вас слушал, пришла в голову одна догадка в пользу версии, что открытка была надписана «там».
— Представьте себе, и меня осенила такая же догадка, — усмехнулся Консулов.
— Тогда поделитесь вашей догадкой. А после мы их сравним.
— Почему встреча перед гостиницей «Метрополь», а не перед «Интернационалем», где расположился Маклоренс и где было бы естественно увидеться, допустим, в холле, а еще естественней — в номере, если они друзья? Не означает ли это, что открытка была надписана еще до того, как Маклоренс поселился в гостинице «Интернациональ», причем надписана человеком, которого он знает и который жил в гостинице «Метрополь»? Такова ли была ваша догадка?
— Нет. Ваше предположение, быть может, и верно. Оно весьма логично и правдоподобно, но существует вероятность, что «Метрополь» указан для конспирации, чтобы знакомые случайно не засекли их встречу. А может, «Метрополь» означает некую условность.
— Не исключено.
— Представьте себе, что некто поручил вам, когда прибудете на Золотые пески, отправить открытку с таким содержанием. Независимо от того, болгарин ли вы или только перепишете текст по-болгарски. Как вы поступите?
— Куплю открытку, приклею марку, напишу условленный текст и опущу в почтовый ящик, — отвечал без размышлений Консулов, глядя на полковника с нескрываемым интересом.
— Именно это я и хотел от вас услышать! Прежде всего купите открытку! Что я и поручаю вам сделать. Я сейчас сойду и дальше доберусь автобусом к окружному управлению, а вы на машине постарайтесь решить единственную задачу: купить такую же открытку и доставить ее мне. Но помните: не какую-нибудь другую, а именно такую. Начните у киоска возле «Интернационаля», потом в других гостиницах комплекса, в «Дружбе», если понадобится, поищите и по городу на центральных улицах, но любою ценой найдите и привезите мне такую открытку.
— Но зачем вам? Да не решили ли вы...
— Ничего я не решал. Выполните задание и после этого поговорим... в управлении... — отвечал Ковачев, вылезая из машины.
В кабинете его ожидал Петев. Оказывается, он звонил в дом отдыха, но уже после того, как Ковачев отбыл.
— Ну, рассказывайте о вашем Дэвиде.
— Почему моем? Разве он не общий?
— Вы его открыли, значит, ваш. Что он теперь поделывает? Вижу, не случайно вы меня искали.
— Так называемый «мой Дэвид» чувствует себя отлично и держится превосходно. После открытки он ничем себя не проявил. Но появился господин, который его усиленно ищет.
— Как так ищет?
— Ходит из гостиницы в гостиницу, ища некоего Мортимера Гаррисона, а когда ему отвечают, что такого не значится, спрашивает и о Дэвиде Маклоренсе.
— Болгарин?
— Нет, ирландец. Ларри О’Коннор, из Соединенных Штатов. Прибыл вчера вечером самолетом из Парижа, поселился в гостинице «Лебедь». С самого начала, как мы его засекли, он, вместо того чтобы нежиться на пляже, занимается одним и тем же: ходит, расспрашивает, высматривает...
— И кого же он высмотрел?
— Слава богу, гостиниц много, он еще не дошел до «Интернационаля». Как вы полагаете, найдет ли он Маклоренса?
— Разумеется. Зачем нам мешать человеку? Ни в чем ему не препятствуйте, только наблюдайте.
Консулов появился лишь под вечер — усталый, голодный и раздраженный.
— Нет как нет проклятой открытки, — докладывал он. — Нигде ни единой. Я до отвращения насмотрелся на все эти разноцветные картинки, но именно такой не обнаружил. На всякий случай заглянул и в контору, что ведает распространением такого рода продукции. Там мне объяснили, что прошлым летом проходила одна такая партия открыток, но больше их не производили. Марочка тоже прошлогодняя. Эта серия быстро себя исчерпала еще в середине прошлого года.
— Вот видите, одна из наших догадок оказалась убедительной. Теперь уверенно можно полагать, что Маклоренс привез с собой открытку, купленную в прошлом году здесь, но надписанную «там».
Консулов оставил открытку на столе и несколько театрально откинулся на стуле. Ковачев взял ее и снова принялся разглядывать. После долгого молчания он слегка усмехнулся и сказал:
— Не люблю, когда «он» меня не уважает. Тогда и я начинаю терять к нему всякое уважение.
— Кто же сей таинственный «он», товарищ полковник, и чем он соизволил провиниться перед вами, утратив ваше доверие?
— Не доверие, нет! Я как старые кабатчики. Помнится, в былые времена везде в корчмах и бакалейных лавках красовались засиженные мухами надписи: «Уважение — каждому, кредит — никому!» Так и я: доверие — никому, но уважать готов всякого. Опасно перестать уважать кого-либо. Мигом можно дело любое завалить. Если, конечно, «он» сам не потеряет к тебе уважения.
— И опять вы упомянули местоимение «он»...
— Тот, кто послал сюда Маклоренса, кто распорядился купить, надписать и послать по почте открытку. Какой-нибудь тамошний полковник или, чтобы себе не льстить, только майор.
— Чем же заслужил «он» ваш гнев?
— Посмотрите на эту открытку. Гребешки морских волн, плохо покрашенная пластмассовая пальма, зарытая в песок вместе с жестяной посудиной, но жесть видна, ветер выдул песок. И бедный несчастный верблюд, разукрашенный «по-восточному», в полном согласии с представлениями и этнографической культурой какого-то торгаша из «Балкантуриста». И восседающий на верблюде этот самодовольный розовый болван, закутанный в простыню из инвентаря гостиницы. А копьем он размахивает так, будто сейчас проткнет нубийского льва. Пожалуйста, любуйтесь остатками рыжей его шевелюры, ухмыляющейся круглой физиономией, на которой и презрение к «туземцам», и самодовольство дурака, рассказавшего тупой анекдот. «Созерцайте меня в дикой Болгарии, которая разыгрывает свою фальшивую экзотику, покуда я провожу свои денечки почти бесплатно!»
— И чем же этот коммерсант из Дюссельдорфа так раздосадовал вас?
— Пусть коммерсант останется на совести мазил, сляпавших открытку. Ошибся тот, кто купил одну из этих картинок — якобы поражающих взор, вроде бы эффектных, а значит, и запоминающихся, вместо того, чтобы избрать обыкновенную, скромную, безличную. Если иметь в виду стандарты и вкусы Запада на такого рода продукцию, надо было выбрать популярную серию, которая долгое время в ходу. Ведь поправка-то должна была быть на целый год вперед. Но нет, «он» и мысли не допускал, что здесь раскусят его картинный замысел. За слабоумных идиотов нас считает. А это нехорошо. Нехорошо его характеризует!
— Теоретически вы правы, но какое это имеет практическое значение? Не заметь мы, как Маклоренс опускает открытку, и она дошла бы с любой расцветкой. «Он» явно на это и рассчитывал. А когда Маклоренса уже засекли, то не все ли равно, что на открытке изображено? Хоть гостиница «Мимоза»...
— Нет, не все равно. Красуйся на открытке «Мимоза» — и поди узнай, что она куплена год назад, что надписана «там», что Маклоренс не болгарин и, самое важное, что «он» считает нас дураками.
Открытка пошла своим путем, и на следующий день почтальон доставил ее Петкову. Действительно, на улице Сиреневой, в доме № 5 проживал Петр Господинов Петков, или, как его ласково именовали все знакомые, Пеню. Ему было 28 лет, он давно осел в этих местах и последние три года работал шофером такси. В биографии его не было особенных шероховатостей, если не считать того, что, будучи матросом торгового флота, он попался на валютной махинации с контрабандой в придачу, после чего его уволили. Смущала и еще одна особенность — недавно он женился на служащей военно-морского флота, она работала в финансовом отделе одного из подразделений.
Следить за таксистом особенно трудно — целый день он носится по улицам, доставляя десятки людей в разные концы, поди разберись, с кем он встречается, о чем беседует! Но при больших неудобствах для слежки есть и некоторые преимущества — можно, к примеру, в любое время сесть в его машину и затеять нехитрый разговор, изучая собеседника. А если потребуется, не составит особого труда приспособить в незаметном местечке микрофон с передатчиком. Именно этими преимуществами и воспользовались.
Ровно в девять Ковачев собрал две группы для последнего уточнения задач. В конце он обобщил:
— Хотя сегодня и восемнадцатое, но все же пятница, первая возможность для их встречи, так что будем начеку. Номер машины Петкова — ВН 13-30, серая «Волга».
— Вы все же убеждены, что десять тридцать — это именно время встречи, а не что-либо другое? — спросил Петев.
— Да, я убежден, но независимо от этого следует проверить самую вероятную возможность. Если нет других вопросов, то по местам.
...Петев стоял рядом с шофером оперативной машины. Отсюда, где они припарковались среди других машин, отлично просматривался вход в «Метрополь». Почти все обитатели гостиницы были на пляже, наслаждаясь знойным солнцем и тихим морем. Лишь изредка кто-либо входил или выходил. В 10.27 появился Маклоренс — успевший слегка загореть атлет в элегантном светло-синем костюме и пестрой рубашке с раскрытым воротом. Он курил сигарету, а в левой руке держал средних размеров черный чемодан. Стоя неподалеку от входа, он чего-то ждал, как обычно ждут машину, чтобы ехать на аэродром.
Петев немедленно доложил по радиотелефону:
— Докладывает «Второй». Вышел, ждет у гостиницы. В руке черный чемодан.
— Скоро прибудет и другой, — отвечал ему Ковачев.
В 10.31 к «Метрополю» подкатило серое такси ВН 13-30. Не заглушая мотора, шофер быстро вылез из «Волги», взял чемодан и, пока Маклоренс устраивался на заднем сиденье, поставил в багажник. И тотчас же, даже не спросив, куда ехать, направился в город. Вслед на некотором расстоянии двинулась машина Петева. На пересечении одной из аллей он заметил оперативную машину, где рядом с шофером сидел Консулов. Петев слегка ему кивнул и взял трубку радиотелефона.
Даже на широком и сегодня почти безлюдном шоссе на Варну таксист не увеличивал скорость. Видимо, они не спешили. Пришлось Консулову и Петеву обогнать серую «Волгу», так что позади осталась лишь третья оперативная машина — побитый, замызганный «Запорожец» с тремя веселыми беззаботными девицами. Вряд ли кто мог бы заподозрить, что «Запорожец» оснащен мощным двигателем и радиопередатчиком.
Одна из девушек докладывала Ковачеву:
— Едут довольно медленно, не лучше ли и нам их обогнать?
— Нет. «Запорожцу» не положено нестись по шоссе. Но что они там поделывают в салоне, почему молчат?
— Сидят, как прежде, на своих местах.
— Уж не поврежден ли микрофон? Ни звука от них.
— Вовсе нет, товарищ полковник. Вы ведь слышите, должно быть, как играет музыка. Это шофер включил радиоприемник.
Все так же не спеша такси достигло города и вскоре остановилось перед вокзалом. Петков проворно выскочил, открыл багажник и протянул чемодан Маклоренсу, который небрежно сунул ему десять левов. Пешо согнулся подобострастно. Маклоренс приветливо ему махнул, и они расстались, так и не обменявшись ни единым словом.
Минут десять Маклоренс бродил по вокзалу, постоял у расписания поездов и пароходов, полюбовался на рекламные щиты «Балкантуриста», потолкался у буфета, но ничего не купил, а затем внезапно влился в поток прибывших с очередным поездом и оказался опять на стоянке такси. Наконец подошла его очередь. На сей раз «Волга» была оранжевая, из Софии, под номером СА 81-19. Шофером, как быстро установили, оказался Иван Петров Биловарски, из командированных. Он отвез Маклоренса обратно, но не к «Метрополю», а к «Интернационалю», за что получил пять левов. Все повторилось в обратной последовательности. Однако чемодан был не в багажнике, а рядом с Маклоренсом.
Вскоре после того, как австралиец поднялся в свой номер, в кабинет Ковачева прибыли Петев и Консулов. Интересно было наблюдать за их поведением — возбужденный Консулов готов был немедленно делиться своими мыслями, спорить, даже на повышенных тонах. Петев же удрученно молчал, как будто на нем лежала вина за то, что «его Дэвид» ничем себя не выдал и тем самым «надул» его, Петева. Смущен был и Ковачев, хотя старался этого не показать.
— Ладно, ребятки, не вешайте носы! Было бы гораздо хуже, если бы Маклоренс бросил открытку не после, а до радиограммы.
— Увы, — сказал Консулов. — И специальная, надписанная «там» открытка, и загадочное путешествие черного чемодана, и получасовое сидение Маклоренса в холле «Метрополя» в ожидании Петкова — все это вовсе не водевиль, нет! Таксист заранее знал, куда ехать. Все было обговорено заранее. А мы хоть и наблюдали за ними и извне, и, как говорится, «изнутри» спектакля, не можем ответить сейчас на самые элементарные вопросы.
— Да, события протекали вроде бы совсем гладко, — отвечал спокойно Ковачев. — Но только на первый взгляд. Хотелось бы проанализировать отклонения от привычной картины вызова иностранцем такси на предмет поездки в город. Может, поговорим на эту тему, а? Авось что и придумаем.
— Прежде всего настораживает способ вызова, — заговорил с пересохшим горлом Петев. — Иностранцы обращаются обычно к администратору или ловят свободное такси...
— Не возбраняется вызывать и почтовой открыткой, — перебил его Ковачев. — А еще что?
— Бросается в глаза ошибка в дате, — зачастил Консулов. — Не верю, что это описка. Видимо, читать следует так: «18 июля, в пятницу, а если не сможешь, то 19-го, в субботу».
— Об этом мы говорили несколько раньше. Что еще?
— Поскольку они не обменялись ни словом, — сказал Петев, — для таксиста открытка означала: приезжай и отвези гостя на вокзал!
— Какого такого гостя? — спросил Консулов.
— Как это какого? С черным чемоданом в руке.
Ковачев пожал плечами.
— Ага, значит, черный чемодан играл роль опознавательного знака. Допустим. А почему именно Пешо должен был везти Маклоренса, а не любой другой шофер? И почему именно на вокзал? Давайте думать и над этим. Разыгрывать среди бела дня спектакль с поездкой в город и обратно, ради чего? — почти шепотом закончил Ковачев.
А пока они пытались раскрыть загадку этой вроде бы бессмысленной встречи, все разрешилось само собою. Сделав еще несколько посадок, таксист Петков вывесил на переднем стекле табличку «В гараж» и заглянул ненадолго к себе домой. Там он оставил черный чемодан, абсолютно похожий на чемодан Маклоренса, только намного тяжелее, после чего приехал в гараж и передал машину сменщику.
Все это Ковачев узнал уже под вечер, когда бригада слежения за Петковым вручила свой рапорт.
III. КАТАСТРОФА
Ковачев был из тех людей, что каждую ночь по нескольку раз видят сны. Сколько он помнил, видения его были всегда остросюжетны. Более того, почти каждую ночь, точнее около часу пополуночи, снился ему какой-нибудь кошмар. Или он ведет автомобиль, а шоссе начинает круто уходить вниз, настолько круто, что уже не затормозишь, и за мгновение до того, как рухнуть в пропасть, он просыпался. Или он в каком-то огромном, почти незнакомом городе, похожем на Париж, или в новом районе его любимой Москвы заблудился, пытаясь найти дорогу к аэродрому, и самолет улетает без него. Или ему предстоит выпускной экзамен, а он ничего не знает, абсолютно не готов, и лишь за долю секунды перед пробуждением от пережитого страха он с облегчением осознает, что давно уже получил высшее образование...
Сегодня он стоял на краю небольшой, нависшей над водою деревянной пристани, а жена его с двумя детьми носилась в лодчонке без весел далеко в море и звала: «Асен! Асен!» А волны били в пристань, угрожающе раскачивали осклизлые доски. Будто прикованный к этим хлопающим доскам, он и шагу не мог ступить, чтобы прийти семье на помощь. И неслось над морем встревоженное: «Асен! Асен!»
Ковачев проснулся, но не сразу понял, что находится в гостиничном номере. Первое, что он почувствовал, — радость, ибо избавился от кошмара. Вслед за тем он не на шутку рассердился, когда понял, что его разбудили. Включив настольную лампу, он с некоторым облегчением отметил, что было всего лишь полдвенадцатого. Телефон снова зазвонил. Дежурный окружного управления попросил спуститься вниз и подождать оперативную.
Через несколько минут он уже был внизу, перед входом в гостиницу и курил сигарету. Ночь была прохладной, с моря поддувал ветерок, и он с удовольствием застегнул плащ, который предусмотрительно взял с собою. Судя по всему, случилось нечто важное.
Не успел он докурить сигарету, как подкатила черная «Волга», он сел рядом с шофером, а Петев немедленно доложил сзади над ухом:
— Только что сообщили, что Маклоренс погиб в автомобильной катастрофе на шоссе, ведущем к Балчику. Его машина съехала с шоссе и разбилась где-то недалеко от пионерского лагеря.
— Кто доложил?
— Служба наблюдения.
— Маклоренс был один в машине? Кто-нибудь еще пострадал?
— Больше ничего не известно.
Шофер мчался с такой скоростью, что Ковачев всерьез начал думать об опасности последовать за Маклоренсом. Время от времени навстречу им проносились с шумом машины, возвращавшиеся в Варну или на Золотые пески. Судя по тому, как они вписывались в повороты и не переключали дальний свет, можно было предположить, что большинство шоферов предпочли бы в эту ночь не встречаться с автоинспекторами.
На одном из поворотов, где шины снова зловеще запищали, Ковачев увидел вдалеке, как кто-то вроде бы размахивал огнем. Шофер сбавил скорость, и за следующим поворотом показался крупный мужчина с электрическим фонарем в руке, а рядом стояли машина ГАИ, санитарная машина и темная «Волга». Ковачев выскочил и сразу был ослеплен, но мужчина тут же перевел луч на землю и представился:
— Бай[1] Драган, сторож пионерского лагеря. Вы, кажется, из милиции. Другие ваши внизу. Следуйте за мною, я знаю дорогу меж камней.
Строителям шоссе пришлось здесь рассечь скалистый холм, и лишние камни так и остались на склоне. Тропинки не было, и в ночной тьме, хотя и рассекаемой фонарем бая Драгана, они все же с большим трудом сумели попасть на травянистую поляну, где теперь покоился «плимут».
Собравшиеся представились: врач курортной поликлиники Миладинов, установивший факт смерти, капитан Савов из ГАИ и два эксперта, которые закончили осмотр, фотографирование и зарисовку места происшествия, а также один работник службы наблюдения. Каждый из них дело свое уже сделал и теперь ждал указаний «начальства из Софии».
Ковачев отозвал в сторону оперативника. Тот доложил:
— Точная картина не ясна. Мы следовали сзади метрах в трехстах-четырехстах. А он погиб именно на повороте, вне пределов видимости. Какой-то шум мы, правда, услышали, но не придали значения. А когда вылетели на открытое место и увидели, что он исчез, решили возвратиться. Отъехали почти на километр. И тут его обнаружили. По огням внизу и по... проломанному парапету.
Ковачев поинтересовался, кто сообщил о происшествии. Оказалось, что первым все же позвонил в милицию не оперативник, а сторож пионерского лагеря. Сейчас и он ожидал своей очереди, смущенный вниманием, но гордый своей ролью бдительного помощника. Рядом с ним неразлучной тенью маячил сухонький старикашка.
— Вот кто видел воочию происшествие, — представил старичка капитан Савов.
— Да ну... никто его не видел, товарищ капитан.
— Не видели, так хотя бы слышали, правда?
— А как же, слышали. Сидим мы как раз, стало быть, в кухне, в картишки перекидываемся, а тут что-то как заскрежещет. Загромыхало, значит, потом удар... и еще разок ударило.
— Когда это произошло?
— Да как вам сказать, товарищ капитан, не догадались мы на часы-то поглядеть. Однако время-то достаточно прошло после вечерней поверки. За одиннадцать наверняка перевалило...
— А вы, доктор, не взглянули на часы, когда вас вызвали? — спросил Ковачев.
— Взглянул. Было 23.07, когда мне позвонили.
— Благодарю. А теперь надо вытащить из машины труп. Прежде чем он попадет в морг, хотелось бы его осмотреть.
«Плимут», перевернувшись по откосу несколько раз, снова оказался на колесах. Но почти все стекла были разбиты, крылья разодраны, дверцы раздавлены. Лишь ломом удалось вскрыть шоферскую дверь. Наконец вытащили Маклоренса. Хотя и окровавленное, лицо его сохранило холодноватую англосаксонскую красоту. Должно быть, смертоносный удар пришелся от руля в грудную клетку, к сердцу.
Из правого кармана Ковачев достал паспорт. Между страницами пестрели банкноты. Он пересчитал их: в одном месте девять купюр по сто долларов, в другом — сто двадцать левов пятерками и десятками. С первой страницы в свете фонаря ему улыбался мертвый Дэвид Маклоренс. Слева под мышкой у него обнаружился в элегантной кобуре увесистый блестящий пистолет. Ковачев стал его разглядывать. То была неизвестная американская модель, вероятно, тридцать восьмого калибра или побольше. Он сунул пистолет обратно в кобуру.
После внимательного осмотра трупа Ковачев распорядился доставить его в морг для вскрытия. А сам полез в «плимут», чтобы окинуть взглядом все изнутри, порыться в карманчиках дверок и в ящике на панели.
— А вот и еще один!
— Что вы нашли? — спросил его доктор Миладинов, склоняясь над его спиной. После находки пистолета его интерес к происходящему значительно вырос.
— Это, доктор, не по вашей части, — сказал Ковачев, вылезая из машины. В руке он держал второй пистолет, на этот раз с гораздо более длинным и тонким дулом с глушителем на конце.
Труп положили на носилки. Предстояло тащить его наверх, но уже не между камней. Бай Драган взялся показать им окольный путь по тропинке.
— Откройте багажник и вообще осмотрите машину. Самым внимательным образом, — распорядился Ковачев. — Мы с капитаном Савовым отправляемся к шоссе, поможем, если понадобится, нести труп.
Когда мертвого положили в санитарную машину, Ковачев взял у Савова фонарь и принялся внимательно разглядывать что-то на шоссе. Что он мог найти?
Оперативник ему рассказал, что в 19.30 Маклоренс и Эдлайн Мелвилл поехали в сторону Балчика. Двигались они не торопясь, как на прогулке, нигде не останавливались, ни с кем не встречались. В Балчике они заняли столик на террасе ресторана. Недалеко от них расположился наблюдатель, потягивая пиво и закусывая.
Через полчаса, когда Маклоренс (к великому ужасу наблюдателя, тоже шофера-любителя) сумел справиться с двумя стограммовыми стопками водки без всякой закуски, за их стол подсела еще одна пара: мужчина лет пятидесяти пяти — шестидесяти, низенький, с лысиной, обрамленной седыми кудряшками, и большим крючковатым носом, сопровождал тридцатилетнюю даму — непомерно загримированную броскую брюнетку в расцвеченных розовым и синим хлопчатобумажных брюках. Подсели они как старые знакомые, заказали себе ужин и все сразу начали оживленно переговариваться.
Этот спокойный момент и избрал оперативник, чтобы позвонить из кабинета директора ресторана и «попросить подкрепления» ввиду прибытия неизвестной пары. Но он так и не успел ничего о ней выяснить, поскольку его сослуживцы вскоре появились в ресторане.
К половине одиннадцатого Эдлайн Мелвилл заплатила по счету. Однако лысый и обе дамы направились не к «плимуту», а к другой иностранной машине, броская брюнетка села за руль, и они укатили. А Маклоренс допил водку (возможно, они на него за что-то рассердились) и уехал через четверть часа. Характерно, что если те трое пили лишь белое вино, то Дэвид успел влить в себя еще два стакана водки, что не помешало ему завести свою машину. Правда, сказалось опьянение: без всякой нужды он начал форсировать двигатель, будто любовался его мощностью, зажигать и гасить дальний свет, пока наконец не рванул с места с такой скоростью, что оперативная машина еле за ним успевала.
Как и положено при транспортном происшествии, капитан Савов начал измерять на шоссе тормозной путь «плимута». Нет, не беззаботным ангелом вознесся Маклоренс на небеса. Надо отдать ему должное: хотя и сильно пьян, он сделал все возможное, чтобы спастись.
Освещая фонарем дорогу и помогая Савову в замерах, Ковачев никак не мог отвязаться от навязчивого вопроса: катастрофа ли это пьяного шофера или нечто другое? Вроде бы все говорило в пользу обычного варианта — и водка, и ненужная перегазовка, и бешеная скорость даже на поворотах, у одного из которых он и обрел свою смерть. Но приходили на ум и другие доводы. Почему Мелвилл пересела в другую машину, оставив его одного? Почему катастрофа случилась в самом опасном месте на всем отрезке пути между Варной и Балчиком — на самом крутом повороте, у самой глубокой пропасти? Вторая случайность? Да, именно в этом месте его бешеная гонка вероятней всего могла закончиться смертью. Но почему именно здесь он потерял вдруг управление?
Когда они дошли до начала тормозного пути, Савов принялся записывать измерения в блокнот, а Ковачев продолжал освещать самым внимательным образом буквально каждую пядь предполагаемого последнего пути «плимута». В одном месте он остановился и долго вглядывался в световой круг.
— Товарищ капитан, взгляните-ка сюда.
Савов тоже навел свой фонарь, вгляделся и покачал удивленно головой.
— Надо аккуратно снять асфальтовое покрытие и отдать на экспертизу, — сказал Ковачев.
В эту ночь полковник Ковачев смог лечь в постель лишь на рассвете. И хотя славился тем, что засыпал, едва лишь коснется подушки, на этот раз он долго не смыкал глаз. Мучили его вопросы, порожденные этой катастрофой, а процедура вскрытия трупа, на которой он присутствовал, не давала успокоиться. И когда в предрассветных сумерках сон все-таки сморил его, выспаться всласть он так и не смог. Его разбудили, вызвав в окружное управление. Там уже был высокий гость. Узнав о катастрофе («все-таки труп есть труп!»), генерал Марков первым же самолетом прибыл в Варну и теперь хлопал Ковачева своею медвежьей лапой по плечу.
— Вот и я решил воспользоваться субботой и воскресеньем. И вас, думаю, повидаю, и воздухом морским надышусь. Эх, какая вокруг красота! Ну, рассказывай, чем порадуешь?
— После такого убийства радости мало...
— Значит, все-таки убийство!
— Да, это не случайная катастрофа. Слишком уж место для нее подходящее.
— Мне сообщили по телефону, что сломался привод рулевого управления.
— Да, сломан. Весь вопрос в том, почему он переломился в ситуации экстремальной, на самом опасном повороте. Допустим, реакция Маклоренса, хотя и пьяного, но опытного шофера, составляет полсекунды. Мы тщательно просмотрели тормозной след от его начала по всей пятнадцатиметровой длине.
— И что же?
— К приводу была прилеплена магнитная радиоуправляемая мина.
Генерал Марков даже присвистнул от удивления.
— Осколки мины торчали в асфальте между четырнадцатым и пятнадцатым метром. Примерно посередине. Обнаружены подобные осколки и в нижней части двигателя. То, что мина была магнитной, подтверждается и отсутствием следов ее крепления, и точностью взрыва перед катастрофой.
— Значит, тот, кто ее поставил и взорвал, находился где-нибудь вблизи, наблюдая за движением на дороге, из автомобиля.
— Несомненно.
— Так, так... — Генерал почесал кончик носа. — Радиомина — бесспорное доказательство, что убийство задумано и даже предрешено там... где продают такие игрушки.
— Если их не берут с собою просто так, на всякий случай, а вдруг понадобятся. Достаточно вспомнить два пистолета Маклоренса.
— В таком случае компания их должна быть экипирована прилично.
— Нашли мы и передатчик, — продолжал Ковачев. — За обыкновенным приемником, в арматурном табло. Он настроен на ту же волну. Одна клавиша задействует его, другая включает частоту приема. Теперь частота известна. И постоянно прослушивается.
— Смею надеяться, прослушивается не только частота передатчика, но и приемника.
— Неужели у вас есть сомнения, что это тот самый, уже засеченный передатчик?
— Раз вы так уверены, могу ли я сомневаться. Но позвольте грешному вашему начальнику продолжить свои расспросы. С чего бы этому австралийскому красавцу приспичило мчаться аж в Болгарию, чтобы здесь отдать богу душу? Кто обделал это дельце и... зачем, зачем?
— Да, именно так. Экспертиза установила, что паспорт у него подложный, фото приклеено вместо другого. Приклеено ловко, но все же не без огреха. Паспорт действительно австралийский, визы показывают весь путь из Австралии. Но поскольку, повторяю, документ оказался поддельным, появилось вновь основание считать убитого болгарином.
— Теперь и вы туда же. И это после вашего же убедительного доказательства, что открытка куплена в прошлом году.
— Одно не исключает другого. Открытка может быть и прошлогодней, как условный знак с пейзажем, а надписана по приезде Маклоренсом. Кстати, и шофер его знает как Гошо.
— Нет... изучил я нашего брата. А этот... — Марков полистал дело, захваченное в управлении, и нашел снимок Маклоренса. — Этот со своею жеребячьей мордой не болгарин, не наша кровь. Нисколько не похож.
— Или... полуболгарин, если мать англосаксонка.
— Все может быть, но какой смысл гадать. И без того столько загадок, прежде всего два пистолета.
— Есть и еще кое-что. Вы знаете, у него при себе было девятьсот долларов и сто двадцать левов. Это в паспорте. А в другом кармане были еще и чеки. Тогда зачем доллары в банкнотах? Спекулировать? Или для других целей?.. Допустим, долларов была тысяча и недостающая сотня превратилась в левы.
— Да-а, ничего себе этот... Маман. Неплохо подзапасся всем. Хотя тот, кто снабдил его радиоминой, все-таки лучше предвидел финал... Не вызывает ли каких-либо ассоциаций этот его псевдоним?
— Маман — значит мать, товарищ генерал, а он никак не похож на чью-либо матушку.
— Допустим. А как насчет тех, кто похож? К примеру, Мелвилл.
— Никакой реакции с ее стороны. До сих пор убитым она не поинтересовалась, будто вообще ничего не знает...
— Или именно потому, что знает!
— Вроде бы она его любовница, а...
— Или он ее любовник.
— Разве не одно и то же?
— Пора уж разбираться в таких тонкостях, Ковачев. Когда ей за сорок, а он явно ее моложе, есть кой-какая разница.
— Разница, возможно, и есть, но стоит ли начинать по этому поводу дискуссию? Выделим главное. Во время катастрофы она была уже в своем номере. А знаете ли, с кем прибыла вчера вечером в гостиницу Мелвилл?
— В управлении Петев мне докладывал, что с каким-то господином в летах. За рулем была его дочь. Они вместе ужинали в Балчике, — сказал Марков.
— Именно так. Сей господин — торговый представитель одной американской фирмы в Константинополе. А знаете ли, как зовется это милое семейство?
— Откуда я могу знать, если вы крутитесь вокруг да около, вместо того чтобы мне доложить. Надеюсь, это не Рокфеллер и не Джон Пирпон Морган?
— Конечно, нет. Он всего-навсего Еремей Ноумен, а дочь его Мишель Ноумен.
— И что же из того?
— А то лишь, что фамилия Ноумен в буквальном переводе с английского означает... Никто!
— Никто! Значит... это и есть господин Никто!
— Очевидно. Старый Никто с Коко, как значится в одной из шифрограмм. А наши простодушно перевели фамилию, вот и все.
— Браво, вот это переводчики!
— Существенно, что старый Никто и Коко, я имею в виду Еремея и его дочурку, прибыли к нам именно в понедельник, 14 июля, когда выпорхнуло в эфир второе послание.
— И они, разумеется, тоже имеют алиби?
— Вы проявляете удивительную догадливость!
Ковачев позволял себе иногда подобные вольности, он знал о душевной слабости генерала по отношению к своим любимцам и хотя и редко, но пользовался этим.
— Во время катастрофы они как раз входили в свой номер, после того, как распрощались с Мелвилл, — сказал полковник.
— А этот Ларри О’Коннор?
— Сидел в ночном баре гостиницы «Интернациональ» и потягивал коньяк «Поморие».
— Тогда остается парочка Галлиган...
— Должен вас разочаровать, товарищ генерал. После девяти вечера эта замечательная пара уснула сном праведников. Во сне мистер Галлиган отыскивал оригинальные окурки, а супруга ему помогала.
Генерал хмуро взглянул на Ковачева.
— У меня подозрение, что вы недоговариваете. Что вместо положенного доклада испытываете своего начальника на сообразительность. Да ладно, уж так и быть. Если все оказались в ауте, остается шофер Пешо. Не находилась ли мина в черном чемодане?
— В каком из двух? — Ковачев выждал небольшую паузу и, поскольку генерал ею не воспользовался, продолжал: — Версия, что Маклоренс собственными руками передал шоферу мину, которая и доставила его на тот свет, мне представляется, мягко говоря, несостоятельной. Но загвоздка в том, что у Пешо обеспечено алиби. С половины девятого он был со своею женой в гостях у одного дружка и домой возвратился, порядком нагрузившись, притом далеко за полночь.
— Гм... Значит, у всех алиби на момент катастрофы. В конце концов получится, что только я не запасся! Кто-то ведь должен оказаться без алиби! Какой же вывод должны мы сделать?.. Может, это вовсе и не убийство? Может, Маклоренс прилепил магнитную мину к тяге рулевого управления всего-навсего для украшения? И она случайно взорвалась в самом подходящем месте! Не так ли?
— Выходит, так. Если, разумеется, не предположить, что есть еще какая-то фигура, о которой мы даже не подозреваем.
IV. МАМАН
Спала ли этой ночью Эдлайн Мелвилл, в каком часу проснулась, делала ли свою утреннюю гимнастику, осталось неизвестным. Первые признаки жизни она подала около восьми утра, когда позвонила по телефону в номер Маклоренса. Поскольку никто не отвечал, она появилась у дверей соседнего номера и долго стучалась. Пришла горничная, открыла номер, и, когда Мелвилл выяснила, что ее любовника не просто нет, но он и не ночевал здесь, она явно растревожилась и вернулась к себе. Минут через пять она опять появилась в коридоре, за спешкою позабыв о тонкостях туалета и грима, и немедленно ринулась вниз к администратору с расспросами о Маклоренсе. Но никто ничего сказать ей не мог, кроме того, что ключ со вчерашнего вечера висит на положенном ему месте. Последнее известие взволновало Мелвилл, она упала в ближайшее кресло и нервно закурила. Она настолько погрузилась в какие-то неспокойные думы, что оперативник позволил себе приблизиться и взглянуть ей в лицо. Ему почему-то показалось, что вовсе не ревность исказила это лицо, не ревность и не тревога за судьбу ее дружка, а какой-то дикий, животный страх за собственную жизнь.
Докурив сигарету и погасив ее в пепельнице, немного успокоенная, Мелвилл встала. Она попросила женщину-администратора узнать в больнице или в полиции (она именно так выразилась), не случилось ли чего с ее приятелем Дэвидом Маклоренсом. И снова закурила в кресле.
Прошло десять минут, прежде чем администраторша выяснила в курортной поликлинике, что случилось. Сильно смущенная, она пересказала Мелвилл ужасную новость, вплоть до того, что в крови погибшего обнаружено много алкоголя, а машина его тяжко повреждена.
Мелвилл выслушала все это без единой слезинки, быстро вышла из гостиницы и принялась возбужденно расхаживать перед входом. Села на ближайшую скамейку, снова закурила, но после двух-трех затяжек отшвырнула сигарету. Опять началось хождение перед фасадом гостиницы. Наконец, будто выяснив для себя что-то или приняв какое-то решение, она направилась к почте.
Марков и Ковачев только что вышли прогуляться в парк возле дома отдыха, когда их почти бегом догнал возбужденный Петев.
— Товарищ генерал, я понял, кто Маман!
— Говорите!
— Это... Мелвилл. Только что она отправила телеграмму в Нью-Йорк. И подписалась «Маман». На английском... — И он протянул Ковачеву листок бумаги с латинскими буквами.
— Нью-Йорк, Бронкс, Уэстчестер-авеню, 181, квартира 73. Джо Формика, — переводил Ковачев. — Морти погиб катастрофа машине быстрее жду Маман.
— Гм... Морти... — прошептал еле слышно Марков. — Мортимер... Напомните, как звали господина, которого ирландец искал по гостиницам?
— Мортимер Гаррисон.
— Так, так... По паспорту погиб Дэвид Маклоренс...
— По фальшивому, товарищ генерал!
— А она сообщает, что погиб Морти. О’Коннор разыскивает Мортимера Гаррисона или... в крайнем случае Дэвида Маклоренса. Видимо, это одно и то же лицо. Ибо найдя Маклоренса, он прекратил поиски Гаррисона. Вроде бы логично, а?
— Она и есть Маман! — не унимался Петев.
Ковачев сердито потряс головой.
— Откуда такая уверенность! Можно писать и от чужого имени, как это делал Маклоренс. Хотя... скорее всего вы правы. — Он ненадолго задумался. — Джо... Формика... На латыни «формика» означает вроде бы муравья. Джо Муравей!
— Может быть, так зовут этого... Бонифацио, — сказал Петев.
— Оставьте вы эти псевдонимы. Кто поручится, что Бонифацио — это не какой-нибудь полковник Лоуренс, а Муравей, к примеру, может оказаться и генералом.
Петев машинально поглядел на Маркова.
— Дались вам генералы, — усмехнулся Марков. — Пока что можно сделать лишь один вполне определенный вывод: у них нет на сегодня другого передатчика и приходится пользоваться официальным телеграфом.
— Значит... — Петев почесал свою бородку, — значит, Мелвилл не причастна к убийству.
— Ладно... — махнул рукою Марков. — Может, она сообщает, что возложенная на них задача успешно выполнена. Самое большое впечатление в этой телеграмме на меня лично произвела подпись. Точно такая же, как в шифрограммах, — Маман. Профессионалы так не поступают. Не так уж трудно догадаться, что мы можем их засечь и расшифровать текст. Тем более что шифр-то элементарный...
— А что могут значить эти два словечка напоследок: «быстрее жду»? — размышлял вслух Ковачев. — Куда уж там спешить после катастрофы? И чего ждать?
— Или... кого? — продолжил генерал. — Как поступили с телеграммой? Отправили?
— Я поговорил с начальником почты, — сказал Петев. — Договорились немного ее подзадержать.
— И правильно поступили. Когда ее там получат, то будут знать...
— Что Маклоренс, что Морти уже... морто, мертв. И что передатчик уже в наших руках. Так что других шифрограмм больше не поступит. Заметьте следующее... — Ковачев заглянул в лист с текстом: — «Морти погиб катастрофа машине» можно понять и так: «Морти погиб. Точка. Катастрофа в машине». То есть катастрофа с передатчиком.
— А что все-таки передать начальнику почты? — спросил Петев. — Он не может надолго задержать телеграмму.
Марков зажег сигарету, несколько раз торопливо затянулся.
— Действительно... А жалко! Смущает меня, что время идет, а мы все еще не знаем цели их прибытия сюда.
— Надо надеяться, скоро они покажут свои коготки, — сказал Петев.
— На что надеяться? Разве они уже не показали, на что способны, когда спровадили Маклоренса в пропасть. А завтра может произойти что-нибудь и похлеще!
Супруги Галлиган, как и положено достопочтенным англичанам, точно в восемь явились к забронированному для них столику. Несколько минут спустя, когда еще ничего не было заказано, в зал вошел Ларри О’Коннор. Он оглядел зал, как бы кого-то ища, и, хотя свободных столиков было достаточно, он приблизился к столу англичан и обменялся с ними несколькими ничего не значащими фразами, как водится между соотечественниками в чужой стране, после чего был убедительно приглашен разделить компанию. Когда О’Коннор оказался за столом, беседа была продолжена.
Петев сидел недалеко. Цены здесь были не для командированных, а выдавать обеды и ужины в таком первоклассном заведении тоже за служебное задание Петеву было совестно, и потому он заказал пиво. Официант посмотрел на него подозрительно, но недовольства не выказал. Тем временем подоспел Дейнов и уселся напротив.
— Здравствуйте!
— Добрый вечер! Как видите, сидят и беседуют.
— Беседуют и закусывают. Скоро к ним присоединится и Мелвилл. Я проверил, О’Коннор прибыл самолетом прямо из Франкфурта.
— Что еще известно о нем?
— Ничего. Паспорт выдан в Нью-Йорке.
Среди столиков замаячила и Мелвилл. Заметив Галлиганов, она приветливо им замахала, а те энергично начали зазывать ее к себе. Она еще только усаживалась, а уж ей представили О’Коннора, и сразу же завязался оживленный разговор.
— Вот и собрались, — сказал Петев. — Этот О’Коннор искал Гаррисона-Маклоренса, а нашел его любовницу.
— Как будто она была ему только любовница! Не кажется ли вам, что уже пора вызвать ее к нам и порасспрашивать о том о сем... — оживился Дейнов.
— О чем, например?
— Да хотя бы о том... — тут Дейнов задумался, — о том хотя бы, что ее дружок, с которым она прикатила к нашим берегам в одной машине, оказался убитым.
— В автомобильной катастрофе!
— А она прыгает, ручкой помахивает, будто ничего не случилось.
— Вы ожидали, что она облачится во все черное, да? Она узнала скорбную весть вполне официально, от администраторши. После обеда побывала в морге. Даже всплакнула. Но что поделаешь, дорожное происшествие, такие вещи случаются даже в Австралии.
— А про два пистолета и радиопередатчик что она станет плести?
— Помилуйте, скажет она, я ничего такого не знаю, не ведаю... И точка. Вы думаете, вам одному хочется перекинуться с нею парой словечек. Однако не забывайте, что перед вами Маман. Поглядите-ка на нее!
О’Коннор пригласил Мелвилл, и они оба весело отплясывали.
Странную пару представляли Ноумены. Огромный крючковатый нос, жалкие остатки рыжеватых кудряшек выдавали в Еремее выходца с Ближнего Востока. А вот дочь его походила скорее на испанку, или сицилианку, или француженку. Появлялась она везде одетой крайне экстравагантно, непомерно, даже вульгарно загримированной и почти всегда одна. С отцом ее видели целый вечер только тогда, в Балчике. Она редко пользовалась автомашиной, предпочитая пешие прогулки в одиночестве. Складывалось ощущение, что она кого-то разыскивает. Ее трудно было бы назвать красавицей, хотя на мужчин она производила впечатление. И только глаза ее, если в них вглядеться, говорили о какой-то душевной опустошенности и внушали страх.
После обеда — на сей раз в одном отдаленном ресторанчике — Мишель Ноумен снова отправилась на прогулку. Но то было не беспечное послеобеденное путешествие для облегчения пищеварения, а подобие неистового уморительного кросса, как будто возникла необходимость разом сбросить все калории, набранные за столом. Не впервые Мишель выматывала таким манером оперативников.
На этот раз очередная прихоть привела ее на пристань. Послеобеденная дремота одолела всех отдыхающих, так что свободных лодок, предназначенных для приятных прогулок, было хоть отбавляй.
Мишель внимательно оглядела все лодки, а главное, всех лодочников и остановилась возле небольшого суденышка с надписью «Гларус». В ней красовался в выразительной позе культуриста, молоденький черноволосый лодочник. После того как он перехватил ее взгляд, Мишель кокетливо усмехнулась. Видя столь явный к себе интерес, он поднялся, дерзко ухмыльнулся, даже подмигнул и прибегнул к жестам с полупоклонами, каковыми, по его представлению, венецианские гондольеры зазывают молодых синьорит в свои лодки.
— Не угодно ли, фройляйн, на прогулку. Шпацирен гевезен... променад. Чиба гарантирует полное обслуживание.
Без всяких колебаний Мишель вскочила в лодку, а Чиба ухватил ее за талию, делая это несколько энергичней, чем следует при посадке дамы. И оба они рассмеялись, довольные. Чиба немедленно завел мотор, лодка понеслась от берега.
Генерал Марков собрал в управлении всю группу, как он выразился, на прощальный разговор, поскольку намеревался ближайшим самолетом вернуться в Софию. Кроме Ковачева, Петева и Дейнова, был здесь и Консулов как энергичный и полноправный участник общего дела.
— Что нового у наших господ? — спросил Марков.
— Дочь Ноумена почти целый час бесцельно носилась в лодке по морю, — ответил первым Петев.
— Кто лодочник?
— Христо Спиров Диамендиев, известный среди местных ухажеров как Чиба. Год назад выгнан из торгового флота за валютные спекуляции. Теперь он вольный рыбак, а летом промышляет как лодочник, предлагая клиенткам «полное обслуживание»... Встретились они впервые в жизни.
— Какие страны посещал он в плаваниях, другие интересные подробности?
— Коллеги из Варны занялись и его биографией, и им самим.
— А в лодке?
— Ничего особенного не замечено, — закончил Петев.
— Как вы полагаете, полковник, — генерал обернулся к Ковачеву, — случайно ли Мишель Ноумен угодила к Чибе или... был предварительный уговор?
— Не могу сказать ничего определенного... Как вы знаете из доклада, Еремей Ноумен внимательно наблюдал за Мелвилл все то время, пока она была с О’Коннором в кафе-мороженом. Он следил целых два часа, пока они не расстались. И сразу же пошел к ней в номер. Там он находился примерно пятнадцать минут.
— Встречался ли он с О’Коннором наедине?
— Нет. Кроме усиленного ухаживания за Мелвилл, ничем другим О’Коннор не интересен. Слонялся бесцельно по пляжу, лежал на песке...
— По моей линии я видел его только вместе с Мелвилл, — взял слово Дейнов, — но в ее номер он пока не входил. Или мы его не засекли. Вчера многие посещали Мелвилл: оба Галлиганы, Ноумен, дочь его тоже показывалась на этаже. Но Ларри О’Коннор визит ей еще не нанес.
— А она гостила у него?
— Едва ли. Разве что... ночью... не знаю, — сказал Дейнов.
— Странно... столько людей собралось. — Марков начал загибать пальцы. — Один... два... пять... если считать и Железного Волка...
— Если он человек. А одно время их было даже шестеро, — вставил Ковачев.
— Да, с убитым. Собралось столько людей, а ничего не делают, — продолжал Марков. — Если прибавим парочку Галлиган, набирается восемь душ. Хотя Галлиганов можно и не считать.
— Ничего не делают! — изумился Петев. — Один убит, две шифровки...
— Убийство не в счет, это их внутреннее дело. Едва ли такая компания прилетела сюда, чтобы убрать Морти. А радиограммы... Расшифровали мы их, но что из того? Что взамен?
— Да, прошла неделя после прилета первых ласточек, — сказал Ковачев. — Ясно, что это не агенты, которых внедряют надолго. Еще десять, от силы пятнадцать деньков — и они все упорхнут. Кто в Англию, кто в Штаты, а кто и еще дальше. А мы как засели на мели, так и сидим. Ни единой версии об их пребывании здесь.
— Насчет версий мы еще поговорим, но... — Генерал испытующе всех оглядел. — Но сначала ответьте на такой вопрос: регулярно ли читаете газеты?
Все молчали.
— Красноречивый ответ. А если бы регулярно читали, то знали бы, что вчера через Босфор в Черное море вошли два ракетоносных крейсера из шестого американского флота.
— Вы думаете, есть связь?
— Не перебивайте, Петев!.. И если вы сделаете правильный вывод из моих слов и начнете читать газеты регулярно, то через два дня узнаете, что в Варну приходят с визитом дружбы советские военные корабли. А теперь подумаем, что было бы, если вся эта многолюдная компания собралась бы здесь...
В этот момент заверещал телефон, и Марков поднял трубку.
— Слушаю... Да, это я... Так... так... Понял. Ждите на месте и ничего не предпринимайте. Ничего. Сейчас прибудет полковник Ковачев. Ждите.
Генерал опустил трубку, подумал, посмотрел на всех внимательно и сказал:
— Докладывал наблюдающий за Мелвилл. Уже десять часов утра, а она не выходит из номера. О’Коннор дважды пытался дозвониться к ней по телефону, никто не отвечает. Ключ от номера вниз не передавался. Вы, полковник Ковачев, отправляйтесь в гостиницу и выясняйте, что все это означает. А я... Возвращение в Софию на сегодня откладывается...
Ковачев взял с собою капитана Консулова. Последние дни он имел возможность все чаще работать с ним, и это ему доставляло все большее удовольствие. Не только потому, что капитан был исключительно энергичен, инициативен (иногда больше, чем нужно), пунктуален — с точностью до секунды на своих электронных часах. Эти качества в той или иной степени были присущи всем работникам управления. Их учитывали при приеме на службу, и, если оперативный работник начинал ими пренебрегать, долго на службе он не задерживался. То, что отличало Консулова от других, даже от безупречного во всех отношениях майора Петева, не говоря уж о добродушном и слегка наивном капитане Дейнове (чья наивность, правда, иногда смахивала на глупость), называлось остроумием. Да, он был остроумен, часто злоязычен и далеко не всегда почтителен и воспитан. Присущая ему резкость выражений, видимо, и породила всех его врагов и недоброжелателей. Но полковник Ковачев, хотя и сам попридерживал язык (или именно поэтому), ценил чужое остроумие и забавлялся оригинальными высказываниями Консулова.
На всякий случай они заглянули в курортную поликлинику и прихватили с собою доктора Миладинова. В гостинице они наткнулись на наблюдателя, но тот сделал вид, что их не заметил, пригласили администраторшу и поднялись на тринадцатый этаж. Возле номера 1305 все остановились. В коридоре было тихо, только в самом конце его трудились две уборщицы. Консулов постучал, потом сильней, потом забарабанил кулаками в дверь.
— Постойте, Консулов, дверь снесете!
— Но это же не...
— Возьмите, пожалуйста, ключ у уборщицы, — обернулся Ковачев к администраторше.
Та принесла ключ и подала Ковачеву. Он медленной осторожно вставил его в скважину. Дверь открылась легко. Но прежде чем войти, Ковачев жестом остановил своих спутников:
— Вы подождите здесь!
Затем он достал носовой платок, наложил его на дверную ручку, вошел в номер и закрыл за собою дверь. Не прошло и минуты, как он возвратился, загораживая спиною проем, и сказал администраторше:
— Уборщицы пусть занимаются своим делом. А вы спускайтесь вниз и... как будто ничего не произошло.
— Как так ничего! Наверно, что-то все же случилось?
— Именно ничего! Потом поговорим. А вы, доктор, и вы, Консулов, следуйте за мною.
Осмотр занял более двух часов. Доктор Миладинов увез труп для вскрытия, затем прибыли генерал Марков и Дейнов, и, когда все было описано, осмотрено, сфотографировано, Консулов вместе с экспертами ушел составлять протокол. В номере остались Марков, Ковачев, Дейнов.
Генерал расположился в одном из кресел и взглянул на разбросанную постель. На ней и нашли Мелвилл, уже спящую вечным сном. По всей комнате, на стульях, на столе валялись предметы ее туалета. И только на тумбочке возле кровати сейчас было пусто. Эксперты забрали шприц и ампулы — Мелвилл оказалась наркоманкой.
— Картина вроде бы ясна, а? Очередное впрыскивание морфия, сердце не выдерживает и... инфаркт. Вывод?.. Если не хочешь в сорок два года скончаться от инфаркта, не злоупотребляй морфием! — Марков поискал глазами пепельницу, чтобы стряхнуть пепел с сигареты. — Эти молодцы и пепельницу увели... Дейнов, не предложите ли идейку?
— Я? Но по мне... дело представляется очень уж сомнительным. То приятель ее попадает в катастрофу, то вдруг сама она... от инфаркта...
— Я не о том, Дейнов. Не подскажете ли, куда стряхнуть пепел старшему по званию? Принесите, пожалуйста, пепельницу.
— Будет исполнено, товарищ генерал! — И он стрелой вылетел из номера.
— И вы, полковник, разделяете мнение Дейнова, что ситуация с гнильцой?
— Как вам известно, ключ от номера, тот, что находился у Мелвилл, был не до конца вставлен в замочную скважину, а лишь слегка всунут. Он стоял вертикально, так что я просто вытолкнул его своим ключом, даже не заметив.
— Вы — и не заметили?
— Товарищ генерал! Я был весь внимание, когда открывал.
— Да, тут можно сделать несколько выводов.
— У меня пока что один. Кто-то побывал в номере уже после смерти и, уходя, вставил ключ так, чтоб не мешал запереть дверь.
Вошел Дейнов с пепельницей и поставил на стол перед генералом. Марков пересыпал пепел с ладони.
— Спасибо, Дейнов... Постой, постой. Уже после смерти, говорите? Да, будь она жива, такой прием не прошел бы. Да и не было бы нужды... Это почерк убийцы!
— Похоже... если она убита! — сказал Ковачев. — А что, если так: случайный свидетель, допустим просто гость, присутствовал при инфаркте, перепугался и...
— И вспомнил про ключ от чужого номера в собственном кармане! — перебил его Марков. — Уборщицы сюда утром не заглядывали?
— Нет, никто из персонала гостиницы не пытался до нас открыть номер. Это... Икс с ключом побывал в номере после смерти. Вероятно, он причастен и к самой смерти.
— К инфаркту?
— Криминалистике известно множество средств для вызывания инфаркта, товарищ генерал, вплоть до уколов.
— Спасибо, я этого не знал, — улыбнулся Марков. — Посмотрим, что покажет вскрытие. Кто же может быть вашим Иксом?
— Вчера у нее был Ларри О’Коннор. Провожал после ужина. Они вошли в номер в 21.30, но он ее покинул еще до полуночи. Свидание их длилось не более двух часов.
— А смерть наступила позднее, где-то к часу ночи.
— Не только это. В самом начале первого Мелвилл позвонила администраторше, попросив разбудить ее в восемь. Собственно, потому администраторша и подняла тревогу. Так что О’Коннор вышел от еще живой Мелвилл.
— Однако он мог и возвратиться.
— Поди установи. Вообще-то О’Коннор не без странностей. Едва проявит к кому-нибудь интерес — и хоп, всплывает мертвец. Так было с Маклоренсом, сегодня Мелвилл. Но это еще не означает, что именно он убийца.
— Нет, но какая-то связь прослеживается. Может быть, убивает кто-то другой, но именно потому, что О’Коннор выступает как наводчик...
— Действительно странно. Кто-то другой, говорите. Кто бы это мог быть? Некто из их знакомых.
— Или нам незнакомых...
— Кого она приняла около полуночи в своем номере...
— Или он сам его открыл.
— Ну ладно! — воскликнул сердито Марков. — Или... или... Сначала поразмыслим о знакомых. Во-первых, господин Никто и доченька его Мишель, которые любезно доставили ее сюда из Балчика...
— Или чудесная парочка Галлиган. Но она обитает в другой гостинице.
— Не забудем и Железного Волка. Если, разумеется, он существует в природе.
Зазвонил телефон. Администраторша сообщала, что пришел О’Коннор и разыскивает Мелвилл, а она не знает, как поступить.
— Конечно, пусть подымется сюда.
— Что бы это значило? — спросил Ковачев, узнав про новость.
— Ничего сверхъестественного. Когда преступник соблюдает все правила игры, я всегда склоняюсь к мысли, что он просто умен... Прошу вас в очередной раз блеснуть вашим английским в разговоре с О’Коннором. Я тоже останусь... Мы из болгарской милиции, пардон, полиции. А вы, Дейнов, отправляйтесь в ванную. Трое — это уже перебор. Ждите там, когда позовут. И не курить!
Услышав стук в дверь, Ковачев вскочил и открыл. При виде его О’Коннор отступил на шаг, посмотрел на табличку, полагая, что ошибся номером, а затем опять изумленно воззрился на незнакомого господина.
— Прошу прощения, но я ищу миссис Мелвилл.
— Прошу вас, заходите!
Поколебавшись, О’Коннор все же вошел. Ковачев закрыл дверь и приветливо указал на кресло. Гость оглядел комнату, раскланялся с Марковым, но продолжал стоять.
— Что все это означает? Где миссис Мелвилл?
— Госпожа Мелвилл ночью почувствовала себя дурно и сейчас находится в больнице.
— Что значит дурно? Скажите, бога ради, что с ней? Я был у нее вчера вечером. И ничего такого не заметил.
— Очевидно, ее состояние ухудшилось после вашего ухода.
— Где можно ее видеть... поговорить с ней? А вы кто такие, почему оказались в номере?
Прежде чем ответить, Ковачев долго и внимательно рассматривал О’Коннора.
— Мы представители болгарской милиции.
— И что вы здесь потеряли? Уж не случилось ли что похуже... похуже с ней?
— А что похуже могло случиться с миссис Мелвилл? Лично вас я попросил бы рассказать, где вы были вчера вечером и сегодня ночью.
— В какой больнице можно найти миссис Мелвилл?
— Не могли бы вы рассказать...
— Нет, не смог бы! Господа!
О’Коннор легко поклонился и вышел из номера.
— Стоило ли так уж напрямик приступать к допросу? — сказал Марков.
— Почему бы и не спросить человека напрямик, что он поделывал ночью?
— Но, как видите, он не пожелал отвечать.
— И это ответ.
— Зачем вы его ввели в заблуждение, почему не сказали, что Мелвилл умерла?
— Я вовсе не вводил его в заблуждение. Я сообщил, что она в больнице, не уточнив, в каком именно отделении. А его вопрос — не случилось ли с ней что-нибудь похуже? — наводит на размышление. Как и то, что он не желает разговаривать.
— Бросьте, бросьте изворачиваться. Надо решить, что мы скажем о случившемся всей их компании... Эй, Дейнов, вылезайте!
V. МЕРТВЫЙ ПОСЫЛАЕТ ПИСЬМО
После того как шофер Петков распрощался с Дэвидом Маклоренсом на варненском вокзале, оперативники с неослабным вниманием следили за каждым его шагом. И это в условиях, когда такси моталось по городу и предместьям, так что наблюдателям приходилось не сладко. Однако и круглосуточная слежка успеха не имела. Пик курортного сезона давал Петкову неплохой заработок, а свободное от работы время он сидел дома, шатался по магазинам или ходил в гости с женой.
Да, слежка была настолько безрезультатной, что наводила на решительную мысль оставить бесперспективный объект. Если бы не было черного чемодана!
После смерти Маклоренса при обыске в номере обнаружили черный чемодан. Но он оказался пустым. Если не считать одного-единственного рапана из тех отполированных и покрытых лаком ракушек, которыми бойко торгуют на всех перекрестках приморских городов. Вернулся ли Маклоренс в гостиницу с пустым чемоданом или в нем было кое-что? Кто и зачем положил туда рапана? Ничего компрометирующего в вещах Маклоренса не нашли. Судя по всему, он следовал завету древних мудрецов и все свое носил с собою: два пистолета, а передатчик со всеми принадлежностями для шифрования — в своей машине.
Обсудили и версию, что в переданном Маклоренсом чемодане находились самые обыкновенные подарки, посланные Пешо его заграничным приятелем Гошо. Но версию тут же отклонили. Те, кто выступал против, даже возмущались ее изначальной несостоятельностью: ну кто в здравом уме вручает подарки, пользуясь явно шпионскими методами? Не согласились и с предложением сделать обыск в доме Петкова и разгадать тайну чемодана. Оставалась единственная возможность — негласное наблюдение, чего бы оно ни стоило. И слежка продолжалась, пока наконец не принесла первые плоды.
В понедельник, когда обнаружился труп Мелвилл, Петков подъехал ко входу «Интернационаля» ровно в 12.30 и простоял четверть часа, отказав нескольким клиентам. В 12.45 время назначенной встречи явно истекло, он великодушно взял подвернувшегося пассажира и укатил в город. Наверняка он дожидался Маклоренса. Чему была бы посвящена их встреча, если бы она состоялась?
В полдень Петков подвез двух мужчин к международному дому журналистов, а в 12.30 снова оказался у входа в «Интернациональ». И опять он был глух к просьбам клиентов. Выкурил несколько сигарет, открыл дверцу, вылез, посмотрел по сторонам.
В 12.45 (явно был уговор дожидаться ровно 15 минут) он смилостивился к одной болгарской семье — муж, жена, двое маленьких детей, — обремененной тремя саквояжами, едва влезшими в багажник, и отвез на вокзал. Когда семья расплатилась, Петков тоже вышел и встал в очередь к почтовому киоску. Здесь он купил несколько марок для отправки корреспонденции в Америку и вскоре уже опускал в почтовый ящик синеватый конверт. Когда такси Петкова с очередным клиентом двинулось в путь, следом, как обычно, поехала оперативная машина. Сидящий в ней снял трубку радиотелефона:.
— Докладывает «Альбатрос-семь». Письмо в Америку, по форме несколько суженное, синее, ящик номер 243 на железнодорожном вокзале.
— Принято, — сказал голос на другом конце. — Немедленно попросим прокурора дать разрешение и по его получении взглянем на письмо.
Марков взял синий конверт и два листа с переводом, напечатанным на машинке, и начал читать вслух:
— «Уильям Монтег, седьмая Восточная улица, дом 89, Нью-Йорк, США.
Дорогой Билл! Пишу тебе с другого конца света, из некой Болгарии, куда нас послали. Но когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Я попросил одного из здешних типов, с которым судьба свела меня случайно, опустить конверт, если со мною это случится. А поскольку письмо у тебя, то знай: это случилось. И хотя для меня это уже не имеет ровно никакого значения, как и все остальное на грешной земле, все-таки хочется наступить на мозоль этому негодяю Бонифацио. А на мозоль наступишь ему ты, если ты мне друг и если не запамятовал годы нашей совместной службы. Прошу тебя! Умоляю! Тебе это ничего не стоит. Позвони инспектору Бидли (из автомата, анонимно или пойди к нему как коллега — ты уж сам это решишь) и скажи, что Джузеппе Макаронину кокнули перед кинотеатром люди Бонифацио. По личному указанию Бонифацио. Пусть порасспрашивают Майка Длинного или Джо Гарднера, они расколются, если их поприжать. Так ему и скажи. И передай ему привет отсюда, с того света, если Бидли меня еще помнит. И еще кое-что скажи, это самое важное! Скажи, он страшно обрадуется. Бриллианты, представь себе, здесь, с нами. Это тоже дело рук Бонифацио. Пусть они не вынюхивают их там, они здесь, здешние лягавые не получают навара от таких делишек, и потому мы в безопасности. Все здесь. У Маман, а я ее охраняю. Потому и опасаюсь за свою жизнь. И не только потому: случайно я знаю кое-что про некоторые вещички, о которых лучше и не знать. Между прочим, старый Никто тоже здесь, вместе с этим мерзким исчадием Коко. Вот так-то, дорогой Билл. Я всегда верил, что ты мой человек, уверен, что и теперь исполнишь последнюю просьбу твоего друга и бывшего коллеги... Морти. Кстати, у тебя есть резон выполнить мою просьбу. Если не понимаешь насчет резона, загляни в газеты ближайших дней — и сразу все поймешь. Твой друг Морти.
Постскриптум. До свидания в одном из котлов с кипящей серой».
Генерал замолчал, взгляд его заскользил по письму, как бы удостоверяясь в точности перевода.
— Ну, полковник, как вам это нравится?
— Да, вот это весточка. Дайте и мне насладиться оригиналом!
Ковачев дважды прочитал письмо про себя, но когда положил его на стол, то ничего не сказал. Оба они молчали, полные самых разнообразных догадок. Первым не выдержал генерал:
— Давайте, давайте, поразмышляйте!
— Не знаю, почему, но этот Морти стал мне чем-то симпатичен.
— Куда уж симпатичней! С двумя базуками! А письмо?
— Самое сильное место про бриллианты.
— Да, бриллианты... Звучит как в «Тысяча и одной ночи». Но тогда где они? Если были у Маман — то почему мы их не нашли?
— Создается впечатление, что их компания, во всяком случае Морти и Маман, из команды Бонифацио.
— И что он послал их сюда с какими-то бриллиантами!
— Которые, по всей вероятности, не перешли к Бонифацио по наследству от тетки. А инспектор Бидли явно из другой партии. С приятелем Биллом он, очевидно, в одной команде. По всей вероятности, и наш Морти подвизался раньше у них... «Если не запамятовал годы нашей совместной службы»...
— Возможно, речь идет о военной службе, — сказал Марков.
— Возможно. Но важнее другое. Морти, опасаясь, что погибнет от рук людей Бонифацио, действительно хочет наступить ему на мозоль и выдает полиции местонахождение бриллиантов.
— Совершенно согласен. Однако не забудем и другой пассаж. «Здешние лягавые не получают навара от таких делишек, и потому мы в безопасности». Здесь Морти прекрасно нас охарактеризовал!
— Позвольте не согласиться, хотя навара и нет.
— Позволить можно все, что угодно. Например, позволяю вам доложить, где находятся бриллианты!
— Если вопрос поставлен ребром, мне скрывать нечего. Но прежде чем расколоться, хочу поделиться с вами одной деталью, бросившейся мне в глаза при обыске.
— Выкладывайте одну деталь!
— Деталь, надо извиниться, очень уж деликатная...
Ковачев извлек из досье конверт со снимками Эдлайн Мелвилл и артистично разбросал их по столу. Большинство фото было во весь рост — как она одна или с Маклоренсом фланируют по курорту, как сидят в ресторане, как нашли ее мертвой в постели, и последний снимок — труп на оцинкованном столе в морге.
— Посмотрите внимательно. Что больше всего производит впечатление?
Марков придирчиво разглядывал фото, как ищут скрытые дефекты в картине. Но сказал только:
— Обворожительная мадам... была.
— По вашему мнению, зачем Икс проник в номер Мелвилл?
— Мы же договорились: чтобы убить.
— Только ли для убийства?
— Разумеется, убийство могло быть не единственной целью. Он мог и взять что-либо. Прочтя письмо, вы думаете, что бриллианты.
— Это очевидно. Морти выразился вполне определенно: бриллианты у Маман, а он их охраняет. С двумя пистолетами. И если мы при тщательном обыске ничего не обнаружили, значит, Икс их забрал. Притом они были спрятаны не по частям, а в одном месте.
— В каком же месте прячут сокровища красавицы?
— Извините, вы осматривали труп?
— Конечно, осматривал.
— Но не в морге, верно? Там у Маман был достаточно скромный бюст. А взгляните на другие снимки. Любая красотка из порнографических журнальчиков ей позавидует!
— Так... так... — Марков задумался. — Ведь верно! Такие приспособления делают на Западе. А кто знает, наверное, и у нас... Постойте! Значит, для нас, профанов, она была просто пышно одаренной от природы. А все те, кто знал ее раньше, легко могли заметить внезапное изменение прекрасных форм. И сделать соответствующие выводы.
— Эти выводы могли сделать и те, кто имел возможность лицезреть ее не только на улице, но и в постели.
— Намекаете на Ларри?
Да, он имел в виду О’Коннора, как человека, который «крутился» около Мелвилл и, вероятно, не упустил возможности лицезреть ее в постели. А поскольку с самого своего появления здесь он прилип к Маклоренсу и Мелвилл, которые владели бриллиантами Бонифацио, то это могло значить наверняка, что он достаточно осведомлен и сделал соответствующие выводы, а может быть, и действия. Все это было и логично и правдоподобно. Вопрос заключался в том, не слишком ли наивно упрятаны были бриллианты в переменной геометрии бюста Мелвилл, так что сразу могло броситься в глаза, где собака зарыта, как любил выражаться генерал. А это означало: и тайники шифр были предназначены для легкого распознавания. Но легкость эта предназначалась кому? Зачем?
Ковачев не рискнул поделиться этими мыслями с генералом. В происходящем спектакле было нечто опереточное, как и во всех этих Морти, Коко, Макаронинах и прочих компаньонах дона Бонифацио. Опереточное, если не считать трупов.
— И на Ларри намекаю, и на всех, кто констатировал разницу в параметрах бюста. Нам же остается констатировать, что в Болгарию были доставлены какие-то бриллианты...
— Стоп! — воскликнул Марков. — Не покоились ли бриллианты в черном чемодане Пешо, а Маман продолжала демонстрировать большой бюст для камуфляжа. А некто ее убил, ничего не подозревая?
— Смысла не вижу, но и такое можно предположить, — продолжал Ковачев. — Бриллианты для меня еще нечто мифическое, а трупы вполне реальны. Можно строить версии, почему убита Мелвилл, но как криминалисты мы должны разрабатывать более важный вопрос: кто убийца? Вы знаете результаты вскрытия: смерть наступила от коронастена — вещества, обладающего свойством при внутривенном вливании вызывать смертельный инфаркт. А вскрытая ампула, найденная в постели, из-под морфия. И в самом шприце остатки морфия, а не коронастена.
— Но она была морфинистка. В ее чемодане найдено достаточно ампул с морфием, а на левой руке следы от уколов.
— Однако экспертиза категорична. В ее организм последние 24 часа до смерти морфий не вводился. Инфаркт был вызван коронастеном.
— Ясно, ясно, все это я знаю. Убийца или сам впрыснул ей коронастен, или подменил ловко ампулу, чтобы она себя убила, а после смерти новая подмена: появляются следы только морфия. Это для нас: морфинистка делает очередной укол, но сердце не выдерживает — и смерть. Убийца берет то, что ему нужно, ловко прилаживает ключ изнутри, а дверь запирает своим ключом.
— Все та же недооценка нас как профессионалов... — задумчиво протянул Ковачев. — Судя по всему, «там» нас считают недотепами. И Бонифацио, и даже Морти. «Здешние лягавые» — это ведь мы с вами, товарищ генерал, — «не получают навара от таких делишек».
— То, что недооценивают, лично мне нравится. Но не будем забывать, что, в сущности, Морти прав. С тех пор как мы начали это дельце, никакой опасности для них не возникло.
— А нельзя ли допустить, что бриллианты — это некая диверсия с их стороны, какой-то ход, чтобы ввести нас в заблуждение?
— Нет, нельзя. Перед смертью человек не склонен к такого рода диверсиям. Выходит, они заведомо знали, что мы засечем письмо, обладая сверхинтуицией. Какая уж там недооценка! Нет, слишком сложно, чтобы быть правдоподобным.
— И все-таки... он, Морти, ни о чем не говорил с шофером, а после они не встречались. Как он объяснил Петкову, что письмо должно уйти после его смерти? И как Петков узнал о смерти? Означает ли это, что между ними был еще один канал?.. «Между прочим, старый Никто тоже здесь». В шифрограмме тоже говорится «старый Никто». Разве это непременно Ноумен?
— Он самый, больше некому. На лбу написано. А «мерзкое исчадие Коко»? Может, это Железный Волк?
— Все возможно в стране неограниченных возможностей! Хотя несомненно, что Коко — это прозвище Мишель Ноумен среди них.
— Как может женщина быть «мерзким исчадием Коко»?
— Грамматически в английском здесь нет ошибки, так можно назвать и женщину и мужчину. К тому же имя Коко следует сразу же за сочетанием «старый Никто», как имя Мишель после фамилии Ноумен... Как вы думаете, не нужно ли отправить письмо адресату?
— Вы что, вознамерились услужить коллеге Бидли? Он много чем нам услужил? Вот закончим, тогда, не исключено, и отправим. А пока это письменное свидетельство в деле. Бриллианты, алмазики надо найти. Лифчик с бриллиантами — это вам не шутка!
— И довольно внушительного размера лифчик, — засмеялся Ковачев. — Ага... вы, значит, поверили!
— Во что это я поверил?
— В то, что бриллианты привели сюда эту компанию, а не кое-что посерьезней, вроде шифрограмм и военных кораблей...
— Я от рождения ни во что не верю, даже в истории с бриллиантами. А вы, вместо того чтобы подначивать старого начальника, поведайте-ка лучше о результатах графологической экспертизы. Что показали дактилоскопы?
— Открытка, посланная Петкову Морти, и письмо написаны не одним и тем же лицом. Если принять, что в письме почерк Морти...
— Почему бы не принять?
— Я, как и вы, товарищ генерал, ни во что не верю.
— Есть ли другой текст, написанный достоверно Морти?
— Нет. Но письмо наверняка писал именно он. И на письме, и на конверте значатся его отпечатки. Как и на открытке. Да и содержание письма слишком впечатляюще...
— Значит, все-таки подтверждается версия, что кто-то надписал эту открытку по-болгарски, а он опустил ее здесь. Кто это может быть?
— Кто угодно. Хотя бы «мерзкое исчадие Коко».
Дни супругов Галлиган шли как по расписанию: ровно в восемь завтрак в ресторане гостиницы, ровно в девять — жариться на пляже и ровно в двенадцать — возвращение с пляжа, ровно в час пополудни они усаживались за обеденный стол. В два часа они ложились отдыхать, как и положено англичанам в их возрасте. Программа выполнялась столь пунктуально, что еще ни разу раньше пяти вниз они не спускались, где пили в ближайшем заведении свой чай. Естественно, у любого наблюдателя возникала игривая мысль сочинять ежедневный доклад под копирку.
Но внезапно железный ход расписания был нарушен. Вместо пляжа они поднялись на тринадцатый этаж гостиницы «Интернациональ», разыскали горничную и принялись в чем-то ее убеждать жестами и словами. Главным действующим лицом выступал мистер Галлиган. Подведя горничную к номеру 1305, он принялся убеждать ее, что им необходимо попасть вовнутрь. Горничная упорно отказывалась открыть дверь, жестикулируя еще энергичней и отвечая, как если бы они понимали по-болгарски:
— Не могу! Нельзя! Запрещено входить без хозяина в чужие номера!
Тогда мистер Галлиган сунул ей банкнот. Горничная возмущенно отмахнулась. Появилась еще одна купюра — горничная замахала руками и попыталась уйти. Но Галлиган задержал ее рукой и сунул сразу три купюры, заставив принять. Двери были открыты, и все трое вошли в номер.
Мистер Галлиган немедленно начал самым внимательным образом разглядывать обстановку, не прикасаясь ни к одному предмету. При этом он пользовался большой лупой. Одним словом, старый англичанин от начала до конца сыграл мизансцену «Шерлок Холмс оглядывает место преступления». Особое его внимание привлекла пепельница с тремя окурками. После внимательного их изучения посредством все той же лупы он бережно пересыпал пепел в один пакетик, а окурки — в другой. Больше ничего из номера они не вынесли, ни к чему другому так и не притронулись. После их ухода горничная опять закрыла дверь на ключ.
Сразу после этой акции семейства Галлиган генерал Марков собрал группу и ознакомил с докладом горничной.
— Хорошо, что догадались поставить оперативного работника на этаж. Виолетта Радева, из варненского управления, в роли горничной, — сказал он. — Только не будем попадаться на его дешевые номера, где он разыгрывает из себя чокнутого, или, точнее, Шерлока Холмса. Поведение его может быть запланированным камуфляжем. Заметьте, как эта невинная пожилая пара непрерывно участвует в нашей истории. Разглядывание в лупу, добыча окурков — а может, цель посещения была совсем другая. Например, проверить, на месте ли определенный знак. Или бог весть что. Этот тип все меньше мне нравится, слишком уж дерзко крутится там, где ему не место.
После небольшой паузы заговорил Ковачев:
— Хочется мне поделиться кое-чем с вами, хотя... это может ничего и не значить...
— Это мы решим сообща. Рассказывайте.
— Мелвилл не прикасалась к мылу, которое кладут в номер к приезду нового постояльца. Пользовалась своим, фирмы «Нина Ричи».
— Одобряю. И я не прикоснулся бы, когда имел бы знаменитое «Нина Ричи».
— Один начатый кусок в мыльнице над ванной и еще пять в чемодане — для двадцати дней запасец многоват, верно?
— Допустим.
— Согласитесь, что шесть увесистых кусков вполне достаточно даже для дамы, принимающей ванну два-три раза в день. К тому же у нее было пять-шесть видов шампуня.
— Красавицы чистоплотны, это известно.
— А в чемодане у нее обнаружился пакет, где еще шесть больших кусков мыла «Рексона». Вот я и спрашиваю: зачем так много мыла, притом двух различных марок, различного аромата?
— Исследовали мыло?
— Естественно. Ничего. Даже рентгеном проверили, ультразвуком просветили. Обыкновенное мыло, хотя и из самых дорогих.
— Обертки?
— Ничего. Ни шифра, ни тайнописи.
— Э, черт ее знает, может, она мыльная маньячка.
— Может, но страсть сразу к двум маркам? Для коллекции мало, для любимого мыла — много...
— Разрешите доложить, товарищ генерал, — сказал Консулов, — о положении на фронте господина Никто. Старый Ноумен ходил в гости к Галлиганам и оставался там больше часу. А доченька его прибыла в гостиницу рано и не выходила из номера всю ночь. Но вроде бы имела любовную встречу. Есть подозрения, что молодой человек вошел к ней ночью и... до сих пор не вышел. Я хочу сказать, что наши ребята не замечали, чтобы он выходил.
— А он еще у нее?
— Нет, в номере уже никого.
— Тогда... значит, они его упустили.
— Выходит, упустили. Но они клянутся, что это невозможно.
— Гм, невозможно... А старик?
— Вышел от Галлиганов около часу ночи и сразу же направился в свой номер. Нес сумку. Впрочем, с той же сумкой он пошел к англичанам.
— Нельзя ли поподробнее о молодце, посетившем дочь? — спросил Марков. — Об исчезнувшем? Это не Чиба?
— Нет, не Чиба. Этот был поменьше ростом, похудей. Наши ребята раньше его нигде не замечали.
— Товарищ полковник, как вы думаете, — повернулся генерал к Ковачеву, — Ноумен и Галлиганы из одной команды?
— Знай я ответ на этот ваш вопрос, товарищ генерал, сразу бы сказал, кто убийца.
VI. А-34
При очередной поездке на вокзал таксист Петков купил билет в купейный вагон до Софии. Как умудрился он в курортной неразберихе и толчее раздобыть себе столь дефицитное место, так и осталось тайной. Сдав машину сменщику, он возвратился домой и больше нигде не показывался.
Времени на подготовку было достаточно, чтобы обеспечить наблюдателям удобное путешествие в Софию. Консулов не без оснований вызвался в эту поездку, и просьба его была удовлетворена. А Марков сел в последний самолет на Софию — он не зря задержался целых три дня, и теперь предстояло достойно встретить Петкова.
К сожалению, нельзя было узнать, кто окажется с Петковым в его двухместном купе. Вероятней всего, случайный попутчик. Но если учесть, сколь удобны для встреч наедине первоклассные спальные купе, то становилось жалко. Особенно когда за полчаса до отхода поезда Пешо вышел из дома с черным чемоданом в одной руке и с раздутым ученическим портфелем — в другой. Уж не предстоял ли повторный обмен чемоданами? Или он просто оставит его попутчику? Или передаст ему содержимое, а чемодан прибережет для следующей операции? Так или иначе, но пришло время черному чемодану снова появиться на сцене.
Ночь прошла вполне спокойно, если говорить о первом купе, где спали Петков и его попутчик, явно болгарин. Зато из третьего купе несколько раз доносились возбужденные голоса и даже выкрики, сопровождаемые пощечинами. Там молодая пара уточняла свои отношения после курортного флирта. Но каждый раз при появлении проводника, водворявшего тишину, скандал стихал.
Поезд прибыл рано утром. Большинство пассажиров двинулось к трамвайным и автобусным остановкам, оптимисты вливались в длинную очередь на такси. Спутник Петкова с пухлой сумкой отбыл домой, где, вероятно, наслаждался кофе, прежде чем взять другую сумку и направиться в судебную палату. Не составило особого труда выяснить, что это видный софийский адвокат, который после трудного уголовного дела в Варне хочет успокоить нервы несколькими заурядными бракоразводными процессами.
Медленно, нехотя, будто не выспавшись, одним из последних вывалился из вагона Петков с чемоданом и портфелем. Без всяких колебаний он двинулся к багажному отделению, придирчиво осмотрел ячейки и столь же уверенно выбрал себе свободную. Поставил чемодан, набрал шифр, опустил монету, прислушался, как щелкнет замок. После этого он пошел в буфет подкрепиться булочками и кефиром.
Консулов, выкуривший за ночь почти пачку сигарет, тоже был голоден, но остался возле камеры хранения. Как следовало поступить?
Вещи, оставленные в ячейке, говорили о многом. Не будет же Петков возвращаться с ними в Варну? Что-то должно произойти, и произойти, возможно, сейчас, сию минуту! Консулов был достаточно осторожен, чтобы наблюдать за подопечным издалека. Номер ячейки он не различал (не говоря уже о шифре!), но расположение ее среди других запомнил точно. И когда Петков пошел в буфет, он мимоходом прочитал этот номер: А-34.
Вероятнее всего, через некоторое время покажется гражданин с точно таким же чемоданом, который знает или сейчас узнает у Петкова шифр, откроет ячейку и... Одним словом, повторится варненская история, но не в такси, а в автоматической камере хранения.
Второй вариант, хотя и менее вероятный, представлялся Консулову так: неизвестный появляется с пустыми руками и спокойно забирает вещички. Один или... вместе с Петковым.
В это время появился еще один коллега-наблюдатель, и у Консулова появилась возможность позвонить генералу Маркову.
Позавтракав, Петков вышел на площадь перед вокзалом, достал сигарету, но не закурил, положил ее обратно в пачку и вскочил в трамвай. В городском агентстве он попытался купить билет на самолет в Варну, но все билеты были давно распроданы, а связей здесь у Петкова явно не было. Однако он не отчаялся и ближайшим автобусом поехал в аэропорт. Здесь он потерся у нескольких касс, нахально ввалился в служебное отделение, что-то там нагородил, ибо через некоторое время уже держал в руках билет. Вскоре Петков уже находился в воздухе, а черный его чемодан так и покоился на вокзале.
Если для таксиста Пешо то был вполне счастливый день, то Консулову явно не повезло. Буквально через пять минут после того, как он передал- сменщику свой «объект» и поехал домой побриться и постоять под душем, у ячейки А-34 появился невзрачный среднего роста мужчина и, убедившись, что никто за ним не следит, уверенно набрал шифр. Так черный чемодан перекочевал на заднее сиденье темно-синих «Жигулей» АГ 03-72. Владелец машины не стал петлять по городу, а сразу направился домой, на улицу Березовую, где под номером «девять» значилась дряхлая одноэтажная хибара с чердаком. Домишко этот оставили доживать свой век посреди дворика, заросшего бурьяном и огороженного с двух сторон высоким деревянным забором. С двух других сторон дворик ограждали глухие стены высоких кооперативных домов. Все сведения о мужчине, внесшем черный чемодан в свой собственный дом, вскоре оказались в деле. Неизвестного звали Георги Михайлов Петров, а жену его Ева.
VII. ФЛИРТ В ОДИНОКОЙ ЛОДКЕ
Возле деревянных мостков на пляже ближе к вечеру обычно царит оживление. Отдыхающие используют последнюю возможность покататься по успокоившемуся сонному морю, но свободную лодку найти не так-то просто. Но на этот раз две лодки были свободны, между тем как несколько пар фланировали по пристани, выбирая между морской прогулкой и «променадом цу фус». В одной из лодок восседал равнодушно Чиба и курил. Внезапно он что-то заметил на пристани и оживился. Подошедшая Мишель Ноумен кокетливо ему помахала, и вскоре гостья оказалась уже в лодке. Но когда Чиба кинулся заводить мотор, Мишель схватила его за руку и указала на весла. Тот послушно уселся на скамейку, начав энергично грести.
Лодка с Чибой и Мишель вскоре была уже далеко. Подступающие сумерки и приличное расстояние не позволяли ясно видеть, что происходит в лодке, но, судя по всему, парочка флиртовала. Мишель хотела сама погрести, Чиба ее дразнил, не давая весел и щекоча. Оба они усиленно жестикулировали. Мишель раскрыла свою сумочку и что-то подала Чибе, видимо, деньги.
Бинокль у оперативника был всего лишь шестикратный, так что подробностей не выявлял. Второй наблюдатель докладывал обстановку по телефону. И тот и другой прятались в зарослях среди дюн в конце пляжа.
Весла были опущены в воду, Чиба и Мишель сидели рядышком, обнимаясь. Вдруг что-то случилось. Чиба грубо оттолкнул даму. Она вроде бы попыталась его ударить, но лодочник откинулся, взмахнул веслами, суденышко рванулось вперед, а Мишель шлепнулась на кормовое сиденье. Чиба бешено греб, как будто спасался от преследовавшего их чудовища, не сбавив ход даже у самой пристани. Лодка еще не ткнулась в песок, а из нее уже выскочила Мишель. Застыв на миг, она окатила холодным взглядом Чибу и скрылась.
В то же самое время, когда лодочный флирт оборвался столь внезапно, не далее как в километре разыгралась драма с гораздо большим внутренним смыслом для описываемых событий. И если ситуация в лодке сложилась вопреки желанию Чибы, то все же она обеспечила ему преимущество — абсолютное алиби...
Комната супругов Галлиган находилась на первом этаже одной из небольших гостиниц в предгорьях. Покидая номер, Галлиганы аккуратно закрывали дверь и оставляли ключ дежурному. Но регулярно забывали прикрыть дверь на террасу. И вот когда почтенные курортники бродили по аллеям, влекомые слабою надеждой нагулять к ужину аппетит, неизвестный проник в их номер. Наблюдателю опять помешали сумерки: поскольку гость света не зажигал, трудно было уяснить цель его прихода. Видимо, он что-то искал, ибо открывал гардероб и заглядывал под кровать.
Тут послышался возле террасы какой-то подозрительный шум. Неизвестный прислушался и быстро скрылся за портьерой. А в комнату тем временем все через ту же незапертую дверь прокрался Ларри О’Коннор. Оказавшись внутри, он замер, сдерживая дыхание, потом начал осматриваться и наконец, видимо, убедился, что он здесь один. Тогда он начал спокойно обследовать помещение. Открывал и закрывал выдвижные ящики небольшого письменного стола, тщательно перетряхнул содержимое двух чемоданов, затем принялся за гардероб. Случайно он бросил взгляд на портьеру (уже зажгли огни на аллеях, и свет их, хотя и робкий, проникал в номер), заметив под ней торчащие носки мужских ботинок. Инстинктивно он потянулся отдернуть портьеру. Но это было его последнее побуждение. Страшный удар по голове твердым предметом — и безжизненный Ларри опустился на пол. Неизвестный перешагнул через упавшего, совершенно не интересуясь его состоянием, ибо был уверен в убойной силе своих ударов, и через террасу скрылся, выскользнул из номера на аллею.
Не прошло и десяти минут, как появились Галлиганы. Они взяли ключ, ушли к себе, но вскоре мистер Галлиган сломя голову уже мчался по коридору и вопил испуганно:
— Господа! Господа! У нас в комнате труп! Убит мистер О’Коннор!
Вслед за ним неслась и миссис Галлиган.
VIII. «ЭТО УБИЙЦА!»
Не слишком рано (как и положено хорошо воспитанным людям), но и не слишком поздно (когда Галлиган был уже на пляже) Ковачев послал к нему Петева с машиной, чтобы самым учтивым образом пригласить на конфиденциальный разговор. Создавшаяся обстановка благоприятствовала непринужденной беседе, которая, не будучи принята за допрос, поможет Ковачеву лично познакомиться с одним из действующих лиц и выяснить некоторые вопросы. Во всяком случае, он на это надеялся. Заодно представлялась возможность поупражняться в английском и сравнить его с лондонским произношением мистера Галлигана.
Петев привел Галлигана и сразу вышел.
— Прошу вас, господин Галлиган, — встретил Ковачев гостя и указал на кресло.
— Добрый день, сэр, — усмехнулся Галлиган и начал поудобнее устраиваться в кресле, как будто предстоял длинный приятельский разговор.
— Я пригласил вас, чтобы с вашей помощью выяснить некоторые вопросы.
— Очень рад. И я искал встречи с представителями болгарской полиции, но мне все время препятствовала супруга.
«У этой женщины здравый рассудок», — подумал Ковачев, а вслух сказал:
— Интересно. Надеюсь, вы сообщите, зачем хотели встретиться с нами... но сначала позвольте выяснить обстоятельства, связанные с вчерашним инцидентом в вашем номере.
— С величайшим удовольствием. Надеюсь, вы понимаете наше состояние, когда, войдя в номер, мы увидели на полу мистера О’Коннора, адвоката из Нью-Йорка, с которым нас недавно познакомила покойная миссис Мелвилл.
— Посещал ли вас раньше мистер О’Коннор?
— Да, раз-другой.
— А вчера вы условились о свидании с ним?
— Нет. Но потом уже я узнал у портье, что он разыскивал нас, пока мы гуляли.
— Вас мог разыскивать кто-то другой. Или вы все же назначали встречу?
— Но прошу вас, это исключено! Если бы был уговор, мы не отправились бы на прогулку.
— Резонно. Как тогда объяснить присутствие О’Коннора в вашем номере?
— Ну... вошел через дверь на террасу. Это не так уж и трудно... мы на первом этаже...
— И все-таки странно. Без приглашения... через террасу. Согласитесь, что это слишком смело даже для не очень хорошо воспитанного американца? Согласитесь также, что первый этаж не может служить оправданием для поступка О’Коннора. А что вы думаете о другом лице?
— О каком таком другом?
— Надеюсь, вы не предполагаете, что он сам себе раскроил голову? Значит...
— Значит... другой мужчина мог залезть тоже с террасы.
— Мог. И это выявляет единственную альтернативу!
— Или через дверь номера, — как бы машинально добавил Галлиган.
— До или после прихода О’Коннора?
— Что вы хотите этим сказать, господин?
— Я объясняю суть альтернативы. Не верится, что они могли пожаловать к вам вдвоем.
— Исключено. Могу вас заверить, что мы застали в комнате только одного О’Коннора.
— И что вы ему сказали, когда застали?
— Что вы себе позволяете, господин! Разве с убитыми разговаривают?
— Вы абсолютно уверены, что О’Коннор убит?
— Но он лежал без признаков жизни. Неужели не умер?
— Позвольте вернуться к вопросу о присутствии О’Коннора в вашем номере. Зачем он проник к вам с террасы?
— Может быть... хотел нас подождать...
— В темноте! У нас, например, так поступать не принято, за исключением определенной среды, с которой мы чаще всего имеем дело. Неужели О’Коннор, нью-йоркский адвокат, из такой же среды?
— Нет, не допускаю. Впрочем, кто его знает, мы познакомились не так давно. Эти американцы...
— Стало быть, все же допускаете. Тогда скажите, с какою целью он влез в номер в ваше отсутствие?
— Не знаю, ей-богу... не знаю. Или... спросите у него, если он жив. Зачем он влез, кто его ударил — не ведаю.
— Не думаете ли вы, что ударивший О’Коннора проник в ваш номер с той же целью?
— С какой?
— Надеюсь получить ответ у вас. С какой целью проникают злонамеренно в дом?
— Украсть что-нибудь... Проверить что-либо... Или оставить.
— Логично. И что вы установили?
— Ничего не взято и не оставлено. Загадка, что могло его интересовать.
— «Их», мистер Галлиган, «их», а не «его». Значит, проведенная вами тщательная проверка оказалась безрезультатной. Не так ли? А что, если то, зачем оба к вам пришли, они не смогли украсть... поскольку не успели найти?
— Вы правы, выходит, так. Хотя ума не приложу, что их привело. Эти господа, вероятно, полагали по ошибке, что у нас что-то находится.
— Один из них мог и ошибиться, допускаю такое. Но оба? Нет, случайно на столь рискованные предприятия вдвоем не решаются. Значит, вы утверждаете, что у вас нет ничего, что могло бы привлечь внимание этих господ?
— Не так уж мы и богаты. К тому же ценностей с собою не возим.
— А почему вы думаете, что оба проникших в номер были мужчины?
— Я... когда я это говорил?
— Во-первых, вы сказали «другой мужчина мог залезть тоже с террасы». Во-вторых, «эти господа».
— Странно. Один О’Коннор. А другой... Хотя вряд ли женщина может нанести такой удар.
— Разные бывают женщины, мистер Галлиган. Но оставим эту тему. Поскольку у вас нет особых ценностей, возможно ли, чтобы эти господа искали у вас... ценности чужие?
— Чужие! Чьи... чужие?
— Надеюсь услышать от вас. Эх, мистер Галлиган, не кажется ли вам, что вы больше задаете свои вопросы, чем отвечаете на мои. Сомневаюсь, что в Скотленд-Ярде чиновники столь же терпеливы, но мы не Скотленд-Ярд, поэтому я хочу облегчить вашу задачу и подскажу некоторые другие альтернативы......
— Слушаю вас с величайшим вниманием, сэр...
— Вспомните миссис Мелвилл, например. Не передала ли она вам чего-либо перед смертью?
— Что вы говорите? Я вас не понимаю.
— А вы ничего не брали в номере Мелвилл после ее смерти?
Галлиган резко поднялся, весь багровый от возмущения.
— Садитесь, мистер Галлиган, садитесь. Я вовсе не хочу вас обидеть. Просто перечисляю различные возможности... Но вы не станете отказываться, надеюсь, что проникали тайно в номер миссис Мелвилл после ее смерти?
— Входил. Но не тайно! И не воровать!
— А с какой целью?
Галлиган, который уже послушно сел, на этот раз заметно смутился, колеблясь.
— Вы знаете... Мне немного неудобно, но все-таки я скажу, как коллеге...
— Я слушаю.
— Вы, кажется, меня не поняли. Я сказал: «как коллеге»!
— Значит ли это, что вы служите в Скотленд-Ярде?
— Боже упаси! Я детектив-любитель, своего рода коллега. Но детектив по призванию.
— Теперь понял. Рад за вас, коллега. И что вы мне скажете?
— Миссис Мелвилл была убита!
— Она умерла от инфаркта.
— Она была убита. Как и ее приятель Маклоренс.
— Маклоренс погиб в автомобильной катастрофе. Вторая по распространенности причина смерти, после инфаркта... По крайней мере, в Соединенных Штатах и Западной Европе.
— Да, я понимаю вас, даже сочувствую. Как представитель болгарской полиции вы должны блюсти реноме ваших курортов. Тут нет акул, нет мафии и бандитов, человек может отдыхать спокойно.
— Вы хотите сказать, что мы в состоянии прикрыть два убийства только ради, доброй славы наших курортов? Ошибаетесь, мистер Галлиган... Кстати, на мой вопрос вы так и не ответили. Какова была цель вашего прихода в номер миссис Мелвилл?
— Чтобы установить, кто ее убил.
— И вам удалось?
— Это уже ваша задача. Но кое-что я заметил...
— Тогда помогите нам. Всякая помощь, в том числе и коллеги-любителя, для нас благо.
— Это мне льстит. Итак, убийца не болгарин. Один из отдыхающих здесь иностранцев. Он нервный, властный, я бы сказал, сатрап. Может быть, даже грубиян. Вообще... крайне неприятный человек. Но глуп. И это хорошо, что он глуп. Это поможет вам в раскрытии преступления.
Ковачев слушал с неподдельным интересом. Как он уверенно описал убийцу! Кого подозревал?
— А не могли бы вы, мистер Галлиган, описать внешность убийцы, какие-то приметы для его опознания?
— Разумеется! — воскликнул тот без колебаний, окончательно войдя в роль Шерлока Холмса. — Не молод. Во всяком случае, ему за сорок. Вероятно, небольшого роста. Худой. Ищите его среди низкорослых, ссохшихся мужчин с желтоватым, болезненного цвета лицом, которые любят английские сигареты...
Не намекал ли Галлиган на старого Ноумена, если столь точное описание наружности можно считать намеком? Эту версию следовало немедленно проверить.
— Поразительно! — сказал Ковачев. — А вы знаете такого человека?
— Разумеется, нет. Иначе я назвал бы его.
— А не подскажете ли вы, как этот неказистый глупый грубиян убил миссис Мелвилл?
— Этого я не знаю.
— И почему убил?
— Тоже не знаю.
— Так вы, коллега, не знаете самого главного!
— В любом убийстве самое главное — личность убийцы. Запомните мои слова! Поймаете его по моему описанию — а уж он выложит все остальное.
— Согласен с вами. Вам осталось поделиться, как вы составили столь полный словесный портрет убийцы.
Галлиган вроде бы заколебался.
— В сущности... мне не следовало бы это делать... Это моя личная профессиональная тайна. Но вам, как коллеге, и прежде всего во имя торжества правды... Да и... вы мне симпатичны!
— Сердечно вас благодарю за добрые чувства и намерения!
С таинственным видом Галлиган извлек пакет из кармана пиджака и помахал им перед глазами Ковачева.
— Вот! Вот где истинный портрет убийцы! Взгляните на него! Дайте лист, дайте чистый лист белой бумаги!
Ковачев вынул листок и положил на стол. Он уже понял, какой «портрет» сейчас увидит. А Галлиган жестом фокусника высыпал содержимое пакета — три окурка от сигарет без фильтра и немного пепла.
— Существуют два вида проявления личности человека, — начал наставнически Галлиган. — Один, который он постоянно контролирует, направляет усилиями ума, например речь. Другой вид — проявления малозначащие и потому ускользающие от нашего внимания, здесь самый характерный и самый распространенный пример — курение. Поэтому я и специализируюсь исключительно на исследованиях окурков и пепла. Даже собираю материалы для небольшой монографии «Введение в окуркологию». С помощью этой, в сущности, созданной мною дисциплины я сумел воссоздать не только физический, но и моральный облик убийцы. Эти три окурка я обнаружил в комнате миссис Мелвилл. Именно за ними я и приходил в ее номер...
Ковачев внимательно осмотрел окурки. «Арда», второго сорта, без фильтра...
— Хорошо, но откуда известно, что убийца иностранец? Сигареты-то болгарские.
— Сколь вы наивны! — самодовольно рассмеялся Галлиган. — О, не думайте, что он настолько уж глуп. Он предвидел ваше умозаключение. Болгарские сигареты, значит, болгарин! К тому же из самых дешевых, даже без фильтра. Кто может маскироваться болгарскими сигаретами? Только иностранец. Но это не все. Он выкурил три сигареты одну за другой, и это в обстановке, когда я не советовал бы ему курить. Значит, это старый, заядлый курильщик.
— А моральный его облик?
— Внимательно поразглядывайте окурки, и вы перестанете улыбаться. Там все написано. По тому, как грубо смяты сигареты губами, сразу видно, что это человек властный, бесцеремонный.
— Вы сказали, он низкого роста.
— Лишь низкорослые мужчины бывают бесцеремонными властителями и сатрапами.
— Допустим, он низкий. А почему глупый?
— Лишь глупец может рассчитывать на прикрытие с помощью болгарских сигарет, притом самых дешевых!
Эх, жаль, что не было рядом генерала Маркова, он бы покатился со смеху! И уж наверняка бы запомнил на всю жизнь это описание. Конечно, Ковачев даст ему послушать магнитофонную запись, но это не то, совсем не то... А сейчас вроде бы настала пора положить конец этому водевилю, заодно преподав небольшой урок доморощенному Шерлоку Холмсу.
— Знаете ли, мистер Галлиган, ваша искренность, ваше желание поделиться с коллегою личной профессиональной тайной обязывают и меня ответить вам тем же. Вот почему я решаюсь вам открыть, что знаю человека, выкурившего эти три сигареты в номере миссис Мелвилл после ее смерти. Более того, я присутствовал там, когда он курил!
Галлиган впился в него взглядом с неподдельным изумлением. Уж не разыгрывают ли его?
— Только хочу вас разочаровать. Он высокий, достаточно полный, флегматичный. И увы, болгарин. При всем при том незлобив, сущий добряк. И без всяких амбиций... Это мой начальник, мы вместе работаем уже пятнадцать лет.
Сейчас, пока Галлиган еще не пришел в себя от удара, следовало преподать еще один урок этому британскому детективу, любящему совать свой нос, куда не следует.
— А теперь, дорогой коллега, я должен вас информировать, что ваше хобби не столь безопасно, оно не лишено риска.
— Что вы имеете в виду?
— Имею в виду следующее. Кроме разъяснений, которые вы уже дали, мы позвали вас сюда, чтобы сообщить, что за преступление, которое вы совершили в нашей стране, вам придется отвечать перед судом.
— Кто? Я? — закричал Галлиган. — Какое преступление?
— Например, подкуп болгарского должностного лица, — продолжал все тем же официальным тоном Ковачев. — Подкуп горничной с целью склонить ее к нарушению своих обязанностей и пустить вас в чужой номер.
— Как вы смеете мне угрожать! — не унимался Галлиган. — Я пожалуюсь консулу ее величества! — В его взгляде чувствовалось испепеляющее презрение, будто канонерки ее величества уже бросили якоря на рейде Варненского залива.
Ковачев вызвал старшину и попросил проводить Шерлока Холмса до выхода из управления.
IX. ЛАРРИ О’КОННОР
Да, забавный чудак. Вопрос был в том, просто ли он безобидный дурак или ведет игру. За его вроде бы безобидной манией могло скрываться и кое-что посерьезней. Не случайно же два человека рискнули забраться в его номер! Один остался неизвестен. Другого отправили в больницу без сознания. К счастью, оказалось, что череп даже не пробит, пострадавшего можно было уже выписывать. Ковачев использовал то обстоятельство, что О’Коннор все еще жаловался на головную боль, и попросил попридержать его еще несколько часов. Наконец он отправил Дейнова доставить Ларри в управление, хотя и опасался, что тот откажется давать показания. Но, по всей вероятности, удар должен был смягчить его характер.
После обычных формальностей Ковачев начал допрос:
— Разрешите воспользоваться тем обстоятельством, что вы юрист, и сразу приступить к главному. Я попросил бы вас объяснить, что вы искали в номере супругов Галлиган в их отсутствие. Уверен, ваши законы столь же строго карают за нарушение неприкосновенности чужого жилища, как и наши. Поэтому, я надеюсь, вы не станете утверждать, что вы просто ожидали в номере, когда вернутся хозяева.
— Вы удивительно догадливы, — усмехнулся О’Коннор, — но я ожидал именно хозяев.
— Позвольте вам не поверить, господин адвокат.
— Сожалею, но ничем не могу вам помочь.
— Мне помогать и не надо. Речь идет о вашей голове. Следующий такой удар она может и не вынести!
— У ирландцев головы крепкие.
— Я это заметил.
— В вашей профессии и надо быть наблюдательным.
— Послушайте, мистер О’Коннор, мы встретились не состязаться в остроумии, а выяснить вашу роль в целой цепи преступлений.
— Каких именно, если не секрет?
— Едва вы проявите к кому-либо интерес, как предмет вашего любопытства, неизвестно почему, умирает. Судя по ситуации, теперь можно ожидать скоропостижной смерти господина Галлигана.
— Я вас не понимаю.
— Тогда позвольте сообщить вам приятную новость. Ночью сюда прибыл тот самый ваш знакомый, кого вы так усиленно разыскивали. Мортимер Гаррисон из Соединенных Штатов Америки.
— Значит... — О’Коннор бросил испытующий взгляд... — вы за мною следили?
— Вы заблуждаетесь, полагая, что мы следим за всеми иностранцами. Но слишком уж бросается в глаза ваш нездоровый интерес к покойному Дэвиду Маклоренсу и к покойной Эдлайн Мелвилл... Однако вернемся к Морти. Он наверняка ваш друг, может быть, даже коллега, хотя я и не знаю, в какой именно области. Поселился он также в гостинице «Интернациональ».
Ковачев замолчал. Но О’Коннор смотрел все так же внимательно и в беседу не вступал.
— Вижу, что вы не настроены на разговор. Как и положено курортнику, прибывшему к нам отдохнуть, пожариться на солнышке и, разумеется, не имеющему ничего общего с преступлениями, случайно совершенными против граждан, к которым он проявлял живой интерес. Даже и о Бонифацио вы ничего, конечно, не слышали. Но готов побиться об заклад — доллар против цента, — что, выписавшись из больницы, вы не станете разыскивать в гостинице «Интернациональ» своего знакомого Мортимера Гаррисона и бросаться в его объятия. Поскольку знаете, что он и Дэвид Маклоренс — одно и то же лицо... Уже мертвое лицо...
— Вот как... — сказал, поразмыслив, О’Коннор... — предлагаете игру с открытыми картами?
— Если вы на это способны.
— А если я буду лгать?
— Ничего. Переживем. Нам не впервой.
— Что ж. Я готов сказать правду. Но... при одном условии.
— При каком?
— Э, не торопитесь. Условие вопреки обычаю я поставлю в конце.
— Не рискуете ли?
— Ведь мы играем честно. Хотя и... — О’Коннор дружелюбно усмехнулся и потрогал голову. — Хотя и без риска нельзя. И не воображайте, что вы меня растрогали. Жизнь научила меня не поддаваться эмоциям в отношениях с полицией.. Да, и как только выдержала такой удар моя головушка... А вот если бы я увидел все-таки, кто за портьерой в номере Галлиганов, головушка вряд ли выдержала бы. Хотя она и ирландская. Может, отсюда и начнем наш мужской разговор?
— Вы его уже начали. Продолжайте, пожалуйста.
— Начну тогда с цели моего пребывания здесь. Меня не прельщает ваше море. И пусть это вас не обижает. Я хочу получить сто тысяч долларов. Не пугайтесь, не от вас, а от дирекции Американского музея естественной истории. Теперь вы понимаете меня?
Ковачев удивленно развел руками.
— Как?! Разве ваши газеты не писали?
— Допустите, что не писали. Рассказывайте так, будто я ничего не знаю.
— Но об этом все знают! Впрочем, ладно. Две недели тому назад, десятого июля, около полуночи, в музее была похищена коллекция самых лучших бриллиантов. Один охранник был убит, один из банды тоже остался лежать на тротуаре. Ужасный скандал! Не только потому, что уникальная коллекция оценивается в десятки миллионов долларов. После этого дерзкого ограбления нация почувствовала, что задета ее честь! Объявили награду в десять тысяч каждому, кто наведет на след, и сто тысяч — кто укажет местонахождение бриллиантов.
— И вы готовы указать? — упросил Ковачев.
— Готов. Они здесь, у вас. Их доставили сюда Эдлайн Мелвилл и Дэвид Маклоренс, то есть Маман и Морти. Вероятно, вы спросите, как я узнал. Это было достаточно сложно и необыкновенно. Короче говоря, мне сообщил один мой клиент. Точнее, я получил от него письмо. Заметьте: получил после его смерти! Он-то я остался лежать на тротуаре перед зданием музея. Что поделаешь. Я всего лишь начинающий адвокат, ни один из концернов пока еще не предложил мне должность главного юрисконсульта. Если нет акул, приходится иметь дело и с мелкой рыбешкой. Было бы паблисити! Так и в этом случае. Я ему помог как-то развязаться с одним делом. И он в знак благодарности обещал мне, что выдаст мне тайну гангстеров, когда его уже не будет среди них. В письме сообщалось, что бриллианты будут на некоторое время спрятаны в Болгарии, на курорте Золотые пески, что привезет их туда Мортимер Гаррисон, который в Афинах для маскировки возьмет паспорт другого гангстера, Дэвида Маклоренса. Этот Маклоренс прибудет из Австралии на своей машине вместе с Маман, бывшей любовницей шефа моего клиента... Вот так. И я решил попытать счастья. Собрал всю свою наличность и прилетел к вам в гости. Сто тысяч долларов стоят того.
— Почему же вы не сообщили все эти сведения вашей полиции?
— Потому что десять тысяч долларов — это не сто тысяч долларов.
— И что же вы предприняли для получения ста тысяч?
— Во-первых, следовало найти Морти. Бриллианты скорее всего были у Маман, а он ее охранял. Мне нужен был надежный тыл, чтобы начать боевые действия. Я начал ходить по гостиницам, искать их. А Морти взял да и угодил в катастрофу.
— Почему и после этого вы не обратились в полицию?
— К вам?
— Ну... если не к нам, то в ваше посольство.
— Предпочитал более надежный путь. Маман ведь осталась одна.
— Одна?
— Так мне казалось.
— Как же вы поступили?
— Как может поступить мужчина со стареющей красавицей? Начал за ней ухаживать, и она... вопреки моим сомнениям... склонилась...
— А результат?
— Кто-то их забрал.
— Но кто?
— Может быть... я? — усмехнулся О’Коннор. — Но зачем тогда мне было проникать в номер к супругам Галлиган?
— Ну... для камуфляжа, например.
— И удар по голове для камуфляжа? Но если бриллианты у меня в чемодане, а вы об этом ничего не подозреваете, как тогда объяснить, почему я согласился посетить ваше учреждение и отвечать на вопросы?
— В самом деле, почему?
— Из-за страха. После смерти Маман я сразу же уяснил, что она здесь не одна, что есть и другие бандиты, а в одиночку мне с ними не справиться. Поэтому я решился рассказать все начистоту и попросить вашего содействия. Теперь настало время выдвинуть мое условие.
— Выдвигайте, пожалуйста.
— По завершении этого дела и поимки преступников помогите мне получить награду. Ей-богу, я ее заслужил. И сведениями, что я сообщаю, и риском, которому подвергаюсь. Ведь обещаете, да?
— Что можно вам обещать? Это нас не касается. Могу лишь вас заверить, что мы не претендуем ни на какие вознаграждения. Меня интересуют только преступления, совершенные в Болгарии. И должен вам сказать при всей симпатии к вам, что вы были бы мне еще симпатичней, если бы не посещали комнату Эдлайн Мелвилл той ночью, когда она скончалась.
— Неужели после всего, что я здесь рассказал, я все еще под подозрением?
— Видите ли, и я немного умею считать. Какова оценка стоимости бриллиантов?
— Не меньше двадцати миллионов долларов. Почему вы это спрашиваете?
— Потому, что эта сумма в двести раз больше ста тысяч.
— Ага... Но кто ударил меня по голове?
— Это скажете вы сами.
— Я повторяю: слава богу, что не успел увидеть. Не забывайте, что Маман была не одна. Тут еще и супруги Галлиган, в чьей комнате...
— Вы еще не поделились со мною, что вы искали в их комнате.
— Бриллианты искал, разумеется!
— И... нашли их?
— Нашел... — О’Коннор снова потрогал голову... — нашел, вот это у Галлигана.
— Уж не намекаете ли вы, что за портьерой находился мистер Галлиган?
— А кто другой? Кто был в ней постоянно? Старый разбойник заметил, что я направляюсь в их номер, затаился и...
— Любезный мистер О’Коннор, должен вам сообщить, что в те самые минуты, когда вы рылись в номере супругов Галлиган, сами супруги Галлиган наслаждались мороженым в молочном баре.
X. «ТОВАРИЩ» ПЕТРОВ
Что произойдет, когда завтра утром он, Консулов, явится к генералу? Или его вернут в Варну (вероятней всего), или оставят на старой службе (самое неприятное), или предпишут (уже здесь) заниматься все тем же черным чемоданом. Консулову хотелось продолжить работу с этой знаменитой парой Марков — Ковачев. Нет, он не был поклонником знаменитостей, относясь к ним достаточно скептически. Но о Маркове ходили легенды, и хотя перед легендарными личностями Консулов не склонялся (он ни перед кем не склонялся!), все же было любопытно, что осталось за 35 лет службы от прежних генеральских идеалов. Поговаривали, что остались прежними не только идеалы, но и мужество отстаивать их.
С Ковачевым положение было и яснее, и проще. Это высокообразованный, культурный и интеллигентный человек — три качества, которыми сам Консулов не обладал в достаточной мере, но которые ценил превыше прочих. Он не выносил подчиняться людям, если, на его взгляд, они не были совершенней его, особенно по интеллектуальным меркам. И не мог мириться с тем, что, как правило, его начальники волею судьбы оказывались именно такими — недостаток мозговых извилин старались компенсировать борьбой за должности и звания. Это создавало ему много неприятностей по службе. Но неприятностей такого рода он не опасался, поскольку свыкся с ними. Где-то в глубинах подсознания теплилась надежда, что встретится в жизни начальник по его вкусу. И вот замаячила надежда...
И он решил пойти в управление сегодня же, сразу после обеда.
В управлении ему пришлось немного подождать — генерал был в столовой. Наконец появилась его грузная фигура с большой головой и растрепанными седыми волосами. Дышал он тяжело, наверняка был сердечником, хотя вопреки всему продолжал курить, притом беспрестанно.
Ловкими, заученными движениями генерал наполнил кофеварку и включил в сеть. Затем сел на диван рядом с Консуловым, легко ударил его по колену и сказал:
— Вы, юноша, должны были явиться завтра утром. Откуда такая спешка? Может, размолвка с женою?
— Я не женат, товарищ генерал. Скучно ждать до завтра. Может, я еще сегодня понадоблюсь.
— Холостой, значит... Зачем, на ваш взгляд, вы можете понадобиться именно сегодня?
— Выполнить какую-либо задачу, получить распоряжение...
— Все только и ждут распоряжений. Вы что, хотите у меня остаться?
— Очень хотелось бы, товарищ генерал.
— Небось ищете себе добренького начальника, а? Ходят обо мне такие слухи, ходят.
— Справедливого ищу, а не добренького.
— Справедливого. Много таких теперь соискателей. И я, сколько себя помню, все правду-матку искал, вот на меня чаще всего и сыпались удары. Поиски этого дефицитного товара связаны, как правило, с неприятностями, поверьте мне.
Кофе вскипел. Марков разлил его по чашкам.
— Насчет поисков справедливости я придерживаюсь вашего мнения, — сказал Консулов.
— Уж не занимаетесь ли вы подхалимажем? Если так, то вы на ложном пути. Я этого не люблю.
— Если б вы знали, как я́ этого не люблю, ни за что бы меня к себе не взяли, — твердо сказал Консулов.
— Не дерзите! — Марков несколько раз аппетитно отхлебнул кофе. — Ладно, попробую, поскольку люблю рисковать. Закончим эту историю, а там видно будет.
Консулов не без удивления узнал об утреннем приключении с черным чемоданом, убедившись в своей невезучести.
— ...Жена его Евлампия Благовестова (девичья фамилия Босилкова) более известна в их квартале как Ева. Домашний номер телефона 61-13-11. А работает товарищ Петров... я сейчас взгляну... — Генерал раскрыл тонкую папку на столе. — Да, в ГДКБУМКП, что это такое, не знают даже у нас в техническом отделе. Отделение точной механики, цех по ремонту точной аппаратуры. Все остальное узнаете сами. Свяжитесь с товарищами, ведущими оперативное наблюдение, но не мешайте им. Об их и ваших успехах докладывайте ежедневно.
Консулов был польщен не только тем, что оставлен работать под начальством генерала Маркова, но и указанием о ежедневном личном докладе. И поэтому решил показать, на что он способен.
По пути к месту работы Петрова он никак не мог отделаться от навязчивого вопроса: как Петров узнал о черном чемодане? Как узнал номер ячейки и шифр?
Одно знал Консулов твердо — от самого выхода таксиста из дому и до приезда в Софию у него не было ни малейшей возможности сообщить какие-либо сведения. Невероятно, чтобы он попросил своего попутчика адвоката позвонить Петрову домой. Невероятно, ибо действовать через третье лицо глупо и рискованно. Да и не успел бы Петров даже после звонка так быстро приехать к вокзалу из своего района Лозенец. Такая возможность решительно исключалась!
Оставался единственный вариант — они связались еще до отъезда Пешо, допустим, по междугородному телефону. Набирает код Софии, сообщает номер поезда и шифр ячейки. Стоп... не только шифр ячейки, но и ее номер. А откуда он знал у себя в Варне, что ячейка А-34 будет свободна? Конечно, возможен другой вариант — Петров ждет таксиста на вокзале, наблюдает со стороны за его действиями в камере хранения. Да, эта возможность единственная, но ведь Консулов видел собственными глазами, что в камере хранения не было никого, кроме какого-то тамошнего работника, маячившего вдалеке.
И разумеется, оставался самый естественный вопрос: зачем надо было таксисту прятать чемодан в ячейку? Не проще ли подойти к Петрову, обменяться с ним несколькими малозначащими фразами, вручить чемодан и разойтись спокойно в разные стороны? Это самый удобный способ. Почему они так не поступили? Ответ мог быть только один: таксист и Петров не знали друг друга!
В отделе кадров он показал служебное удостоверение, попросив для наведения справки ознакомиться с личными делами. И поскольку он предпочел бы спокойную работу без свидетелей, а к миловидной заведующей то и дело заходили люди, она проводила его в комнату с большим сейфом. Там он быстро нашел дело Георги Михайлова Петрова и сделал необходимые выписки. Впрочем, выписывать было не так уж и много. Кроме автобиографии и характеристики с прежнего места работы в городе Видине, дело его было переполнено заявлениями об очередных отпусках и приказами о всевозможных поощрениях и наградах.
Консулов все еще не видел Петрова в лицо, и теперь он мог полюбоваться его снимком. Серьезный, приветливый, умный, можно было бы сказать, благородный человек смотрел с фотокарточки. Благовоспитан, из тех, что мухи не обидят и готовы услужить в любом деле даже незнакомому человеку. Автобиография была не из приметных. Родился в городе Провадии 4 марта 1930 года. Отец был ремесленник (столяр), мать домохозяйка. Брат и сестра умерли в малолетнем возрасте. Родителей его тоже уже не было в живых. Учился в родном городе, затем окончил техникум в Русе. По прохождении военной службы начал работать электротехником в городе Ломе, переехал в Видин. Там женился на Пенке Сербезовой, продавщице бакалейного магазина. Детей не было. В 1972 году жена скончалась от рака печени. Он тяжело перенес эту смерть. Думал даже о самоубийстве. Да, он так и сообщал в автобиографии. И решил наконец оставить и дом, и город, где все напоминало о любимой супруге. Продал все, чем обладал, и уехал в. Софию. К тому времени он был уже специалистом по точной механике, притом специалистом классным, высоко ценимым.
В Софии благодаря отличной (может быть, даже восторженной) характеристике из Видина и нехватке мастеров по ремонту научной аппаратуры он сразу же нашел работу. И в нем не ошиблись: руки у него были золотые, а голова ясная. Начальство в нем души не чаяло, любой прибор он налаживал в два счета; наконец-то цех мог вздохнуть свободно, потому что план теперь регулярно перевыполнялся. И посыпались на Петрова премиальные, благодарности, награды. Его регулярно выбирали в профком — то казначеем, то ответственным за культмассовую работу. И хотя он был беспартийный, намечали его продвинуть и в председатели профкома.
Эти подробности Консулов узнал позднее, уже от секретаря первичной партийной организации. Разумеется, он спросил о Петрове не сразу, а в последнюю очередь, ибо просмотрел еще несколько дел. Секретарь был человек многоопытный, из старой гвардии, наверняка в людях он разбирался лучше, чем в тонкостях точной механики, и можно было верить, что он ни с кем, как обещал Консулову, не поделится содержанием их разговора.
— Это лучший специалист и один из лучших людей нашего предприятия, — сказал секретарь на прощанье. — Лучший. По всем параметрам.
Участковый тоже был склонен к похвалам. Оказывается, нрава Петров был тихого, добрый и отзывчивый необыкновенно. К тому же он едва ли не единственный, кто безропотно соглашается на вечерние дежурства дружинников.
О жене Петрова отзывы были умереннее. По мнению участкового, это весьма стеснительная и молчаливая женщина. На людей она смотрит подозрительно, соседей чуждается, а после смерти своего первого мужа вообще перестала с ними разговаривать. На общие собрания жильцов не ходит, чего не скажешь о самом Петрове. Но главное, что настроило участкового против тетки Евы, была ее религиозность. Она принадлежала к секте адвентистов, из тех, что ожидали второго пришествия Христа и страшного суда. Регулярно посещала по субботам их молельню. Резкая перемена, как говорили участковому соседки, произошла с ней после того, как трамваем задавило ее первого мужа, отпетого алкоголика. После второго брака она стала немного вроде бы поприветливей, но все равно гордячка и молчунья.
Оперативное наблюдение показало удивительный порядок в жизни пожилых супругов. Утром он выходил из дома в половине восьмого. С восьми до половины пятого неотлучно был на работе. Тем временем жена готовила или занималась чем другим по дому, но никогда никуда не ходила. Нужные покупки делал либо он до работы, либо она — уже после прихода мужа. Вечером они смотрели телевизор. И так любой рабочий день. В субботу, пока она была в молельне, он сидел дома или копался на своем небольшом, но удивительно аккуратном огородике. Иногда он садился за руль, совершая по воскресеньям загородные прогулки.
Когда началось наблюдение за домом Петрова, получили разрешение и на прослушивание его телефона. Никаких результатов: не только они никому не звонили, но и в их доме не раздавалось звонков, разве что по ошибке. Непонятно было, зачем им вообще нужен телефон. Впрочем, он остался как бы по наследству от первого мужа Евы, и до сих пор в телефонном справочнике значилось его имя.
XI. БРИЛЛИАНТЫ
Генерал Марков вновь прибыл в дом отдыха ближе к вечеру. На аэродроме его встречал Ковачев. Но ни в машине, ни за ужином они не касались дела. И лишь перед самым прощанием Марков пригласил полковника в свои так называемые генеральские апартаменты, чтобы вручить пакет.
— Здесь газеты. Подробное описание налета на музей. Я, сами понимаете, смог только разглядеть фотографии. Посмотрите их внимательно, а утром поговорим. Спокойной ночи!
Поговорить можно было лишь после завтрака, и то не сразу, а когда все отдыхающие ушли на пляж. Наконец Марков и Ковачев облюбовали себе скамейку в тени развесистого ореха.
— Прочитали? — спросил Марков.
— Прочитал, товарищ генерал. Вы уже наверняка ознакомились с показаниями О’Коннора. Они полностью подтверждаются всеми газетами. 10 июля около 22.00 в помещении охраны Американского музея естественной истории раздался сигнал тревоги. Сразу же началась перестрелка. Убиты полицейский и один из бандитов. Исчезла коллекция бриллиантов на сумму почти 18 миллионов долларов. Газеты полны самых немыслимых предположений относительно имен грабителей, а также упреков за плохую охрану в адрес дирекции музея. И во всем остальном О’Коннор не солгал, включая суммы вознаграждений — десять и сто тысяч долларов. Если вы желаете, я переведу поподробней.
— Не надо. Но с чего это вы расхваливаете этого вашего О’Коннора, всего лишь повторившего газетные сообщения? Великое чудо! О бриллиантах мы знали еще из письма Морти.
— Не кривите душою, товарищ генерал, ничего мы не знали. А Ларри нам открыл глаза.
— Такие уж мы слепцы, чтобы нам глаза открывать! Однако он забыл указать, где находятся бриллианты...
— Почему он должен это знать?
— Заступаетесь за него, будто поверили ему до конца. Не забывайте, что он возможный убийца Мелвилл.
— Убийца забрал бриллианты. Будь это Ларри, зачем ему лезть к Галлиганам? Он бы уже улизнул. Нет, бриллианты не у него. Вероятней всего они в черном чемодане.
Марков углубился в свои мысли, курил и молчал, точно не слышал последней фразы Ковачева.
— Вы не допускаете, что бриллианты уже в надежном месте в Софии? — спросил полковник.
— Ну вот! — оживился Марков. — Вы, стало быть, хороните вашу версию о лифчике красавицы.
— Я не отказываюсь от нее. Но не исключено, что объемистый лифчик служил всего лишь для усиления женских чар.
— А почему же тогда он исчез из ее номера? Зачем его было уносить?
— Это серьезный вопрос, согласен. Но не менее серьезна и проблема черного чемодана.
— Нет, этот чемодан из другой оперы, поверьте моему чутью. Да и логика. Шофер Пешо и мастер по приборам Петров козырные тузы из другой колоды. Иначе выходит абсурд: что оба завербованы не кем-то иным, а доном Бонифацио. К тому же не вчера! Или вы предпочитаете версию, что музей ограблен ЦРУ?!
Разговор вокруг преступления постепенно иссяк. Оба отлично понимали по своему богатому опыту, что, сколь ни полезно вникать в подробности всех версий, спорить, анализировать, все равно однажды наступает момент логического пресыщения. Это значит, нужны не новые гипотезы, а факты...
Неожиданно генерал задал Ковачеву свой традиционный вопрос: «А не расскажете ли вы, полковник, что новенького в космосе?» То был сигнал сменить пластинку, а заодно просьба к старому товарищу поразмышлять на его любимую тему — звездное небо, Вселенная. Ковачев говорил, как всегда, с удовольствием, увлеченно, и они начали расхаживать по аллеям парка, переносимые воображением, словно юноши, в просторы метагалактики...
Перед самым обедом появился Петев. Оказывается, Мишель Ноумен только что расплатилась в гостинице по всем счетам и предупредила администрацию, что завтра пополудни освободит номер, поскольку улетает.
— А ее отец? — спросил Марков.
— Ничего не сообщал. Она расплатилась только за себя.
— Что бы это могло значить? — обернулся генерал к Ковачеву.
— Нельзя ее отпускать. С ней могут улететь и бриллианты.
— К черту бриллианты!.. Она, вероятно, замешана в убийствах. Хотя бы в убийстве Мелвилл... Не отпускать, говоришь? Но как, на каком основании? А утром, глядишь, и старик даст тягу...
— В машине, на которой они сюда приехали? — Ковачев посмотрел на Петева. — О машине она... ничего не вспоминала?
— Вроде бы нет.
Поразмыслив, Марков сказал:
— Для ареста нет оснований. Вызовем-ка мы ее на допрос — авось что-то и проклюнется...
Уже темнело, но фонари на шоссе еще не зажглись. Еремей Ноумен вывел машину со стоянки и неторопливо, как бы совершая прогулку, поехал в сторону города. На третьем километре возле одной из урн на обочине он притормозил, высунул руку из окна и опустил газетный сверток. Длилось это какое-то мгновенье, после чего машина продолжила свой неторопливый бег. Затем при первой возможности она развернулась, возвратившись в гостиницу.
Вскоре метров за сто от урны остановилась машина с Марковым и Ковачевым, извещенными по радиотелефону.
Наблюдатель сообщал, что к урне никто пока что не подходил. Повторялась ситуация с черным чемоданом в камере хранения. С тою разницей, что прямо сейчас можно было проверить содержимое пакета. А если это хитрая ловушка Ноумена, заподозрившего о слежке? Может, в газету завернут обыкновенный камень или кирпич, и теперь некто преспокойно наблюдает со стороны, клюнут ли на приманку. К тому же и место было подозрительное — между закусочной и будкой с газированной водой, рядом с редким лесочком, где легко затаиться. Впрочем, зачем затаиваться? Можно было незадолго до появления машины Ноумена усесться за столик перед закусочной, потягивать пивцо и ждать удачи.
Ковачев с безразличным видом прошел мимо урны, свернул в узкую аллею, ведущую к маленькой даче с буйно разросшимся виноградником, и скрылся в кустах. Надо было что-то решать. Допустим, это капкан, поставленный Ноуменом. А если нет? Если он что-то задумал передать сообщнику? Стоит ли упускать шанс проверить содержимое пакета?..
Полковник обрадовался, когда в сторону урны прошествовала пожилая пара. Полускрытый ею, он наклонился, схватил пакет, сунул его под пиджак. Нет, это не кирпич!..
Удобнее всего было разглядеть содержимое в туалете возле закусочной. Ковачев так и поступил. Выходя оттуда, он был предельно осторожен, старался ни к кому не приближаться, ожидая нападения сзади. Пакет он снова опустил в урну, опять же не заметив ничего подозрительного, и вскоре сидел в машине с Марковым.
— В газете то, что украшало Маман, прежде чем исчезнуть из ее номера, — сказал полковник.
— Гляди-ка...
— Правда, лишь половина. Я не вспарывал, но на ощупь это бриллианты. Правильно ли я поступил, не взяв с собою?
— Разумеется. Посмотрим, кто за ними явится.
Несмотря на выходной день, в окружном управлении было шумно и многолюдно. Марков с Ковачевым просматривали оперативные донесения.
Вскоре после того, как Еремей Ноумен столь легкомысленно оставил бриллианты в урне и возвратился к себе, его посетили мужчина и женщина. Он был темноволосый, кудрявый, плотно сбитый, с квадратной челюстью, смахивал на боксера. Она — светло-русая синеглазая красавица лет около тридцати.
— Еще одна красотка. На сей раз с гориллоподобным компаньоном? — спросил Марков, разглядывая их фотографии.
— Из той же самой мафии. По-моему, явились за сокровищами посланцы дона Бонифацио.
— Но сокровища были брошены в урну.
— Лишь половина сокровищ, товарищ генерал!
— Пусть половина. Заметьте, что Ноумен избавился от этой половины сокровищ перед самым приходом гостей. Видимо, опасался, чтобы их не нашли именно у него.
— Но почему он не спрятал бриллианты так, чтобы потом снова забрать, а выбросил?.. — Ковачев задумался... — Помнится, у Эдгара По есть рассказ, где один политикан прячет необычайно важное письмо на самом видном месте, прямо на письменном столе. Может, и Ноумен следовал подобной логике? А потом что-то ему помешало взять пакет. Или приход гостей его перепугал.
— Кто гости?
— Вирджиния Ли. Из Штатов. Прибыла вчера из Турции. В одной машине с Джеком Джексоном. Расположились в гостинице «Мимоза»... А не Динго ли это и Мэри... вспоминаете?
— Чего тут вспоминать. «Динго и Мэри через Турцию. Маман». Может, и они.
Ковачев открыл сейф, достал вчерашний пакет. Никто им ни вчера, ни сегодня утром не заинтересовался. Но когда уборщица ссыпала несколько урн в контейнер и уже подошел грузовик, чтобы отвезти его на свалку, пришлось двум оперативникам выскакивать из кустов, показывать удостоверения, рыться в контейнере, добывая пакет.
— Они были в полном замешательстве при виде грузовика, — сказал Ковачев. — Ищи-свищи потом сокровища на свалке. И по радио не с кем было посоветоваться...
— Правильно поступили, — отрезал Марков. — Показывайте ваши стеклышки.
— Пожалуйста, любуйтесь. — Ковачев высыпал на стол бриллианты. — Стекла здесь примерно на десять миллионов. Признаться, для служебного сейфа многовато...
— Вы правы. Надо вызвать представителя банка, кого-то из здешних ювелиров. Сделайте официальную опись ценностей и передайте их кому следует... — Генерал заглянул в записную книжицу. — Кстати, как вам нравится история с таинственным нападением?
...Вчера вечером один из оперативников, приставленных к Ноуменам, заметил, как из гостиницы появился молодой человек с чемоданом. Оперативнику показалось, что это тот самый неизвестный, который несколько дней назад входил в номер Мишель. Но тогда не удалось установить, каким образом он оттуда исчез. Теперь представилась возможность познакомиться поближе с загадочным любовником.
Любовник между тем двинулся по аллее между небольшими корпусами. Было достаточно поздно, но кое-кто еще гулял. Держался он необычно. То сядет внезапно на скамейку, будто он основательно нагрузился спиртным и ему плохо (хотя походка у него была как у трезвого), то скроется ненадолго в кустах. Оперативник не без оснований подумал, что притворяющийся хочет проверить, нет ли за ним слежки, и начал действовать с предельным вниманием. Так, пытаясь перехитрить друг друга они крались по пустеющим аллеям. Преследуемый направился было к летнему ресторану, но у входа резко вильнул в сторону дощатого забора, за которым были свалены в кучу ящики из-под фруктов. Не раздумывая, оперативник тоже перемахнул через забор, огляделся. И в тот же миг его свалили на землю два сильных удара в живот и один прямо в челюсть, а нападавший сбежал.
Сейчас этому оперативнику, лейтенанту Крыстеву, предстояло лично доложить о происшедшем самому генералу. Лейтенант вошел, отрапортовал и остался стоять возле двери, виновато опустив глаза. Марков оглядел его с ног до головы и, не здороваясь, спросил:
— Вы уверены, что это тот самый?
— Так точно, товарищ генерал, абсолютно уверен. Я и тогда дежурил. А он зашел в номер к Мишель. После полуночи, любовник он ее... Он самый. Я хороший физиономист.
— Куда уж лучше. Мало того, что засветился сам, но еще и брюхо подставил под чужие кулаки...
— Виноват, товарищ генерал!
— Выпороть вас мало! Упустили его из-за вас! И где теперь искать? Правильно он вам врезал. Заслужили! Можете быть свободны.
Лейтенанта как ветром сдуло.
— Жалко, — сказал Ковачев. — Этот любовник, может быть, и убил Маман. А то и Морти... По описанию Крыстева я объявил всеобщий поиск. Но в такой суматохе где уж...
Генерал не успел ответить, подняв трубку.
— Что? Подождите... — Закрыв ладонью микрофон, он сказал Ковачеву: — Наш Еремей заявил администрации, что исчезла его дочь. Он просит содействия болгарской полиции. Отправляйтесь туда.
XII. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК
Без пятнадцати девять полковник Ковачев в сопровождении двух оперативников и эксперта технического отдела поднялся в номер к Ноумену.
— Спасибо, что вы столь отзывчивы, — сказал старик после взаимного представления. — Я встревожен. Возможно все обойдется, но... Одним словом, моя дочь вдруг исчезла... ночью. Ее зовут Мишель Ноумен. Утрем она мне не позвонила, как обычно, я зашел к ней в номер и установил, что там она не ночевала. Ее номер здесь, рядом.
— Но что вам дало повод для беспокойства? Может быть, извините... она с компанией... или с приятелем?..
— Нет. Она обязательно позвонила бы, предупредила. Что-то случилось с Мишель.
— Какие у вас на сей счет предположения, догадки?
— Увы! — Ноумен пожал плечами. — Никаких.
— Хорошо. Мы сделаем все, что в наших силах. Но потребуется осмотреть ее номер.
— Разумеется, если надо. Я готов вас проводить.
После методичного осмотра гардероба, чемоданов, ванной Ковачев отыскал комплекты мужского белья и несколько пар мужских носков.
— Вам знакомы эти вещи? — спросил он у Еремея.
— Да, конечно, это мои. — Он взял вещи. — Они попали сюда случайно.
— А сейчас, — сказал Ковачев, — вернемся в ваш номер. Вы, Петев, останетесь здесь.
— Но что вас может заинтересовать у меня? — спросил Ноумен. — Последнее время она ко мне даже не заходила...
— Уверяю вас, так положено. Прежде чем начать следствие, мы должны проверить везде, нет ли наводящих следов.
Ковачев занялся гардеробом. Внутри в одном из выдвижных ящиков обнаружилась большая коробка с мылом. Ноумен навис над Ковачевым и бдительно смотрел за всеми его движениями, как будто старика собирались обокрасть. Тем временем дверь резко открылась, хотя никто не стучал. Ковачев задвинул ящик, захлопнул гардероб. Оказывается, к Ноумену опять пожаловали вчерашние гости — Вирджиния Ли и Джек Джексон. Они даже попятились при виде стольких людей.
— Это кто такие? — спросила Ли.
— Из болгарской полиции, — отвечал ей Ноумен. — Ночью исчезла Мишель.
Заслышав о болгарской полиции, Джексон дернулся, как будто хотел выхватить пистолет, но вовремя овладел собою и засунул руки в карманы.
— Исчезла! — продолжала Ли, не обращая внимания на других, словно их не существовало. — Что за комедия?
От помощников Ковачева. не укрылось агрессивное поведение двух незваных гостей, особенно гориллоподобного Джексона, и они незаметно заняли удобную позицию на случай непредвиденных событий, полукругом в центре комнаты. Джексон заметил маневр, однако не смутился, весь сжавшись, как бы готовясь ринуться в атаку. Ковачев приблизился к женщине. Общее напряжение возросло.
На какую дерзость мог решиться горилла, притом без всякого повода с их стороны? Открыть пальбу? Ударить Ковачева? Неужто он позволил бы себе такое в своей стране, по отношению к их полиции? Или он вообразил, что здесь сплошь молокососы?
— А вы, миссис, кто такая и что здесь ищете?
— Мы еще вернемся, — сказала красавица Ноумену, будто не слыша Ковачева. — Идем, Джек!
Ковачев приблизился к ней вплотную.
— Вас спрашивают!
Подскочил Джексон и ручищей грубо отстранил Ковачева.
— Занимайся своим делом!
Готовые вмешаться оперативники тоже приблизились, но полковник остановил их выразительным жестом. Ли и Джексон исчезли.
День прошел в страшной суете. Особенно измучился Ковачев с бриллиантами — не так-то просто искать ювелиров и банковских работников в такой прекрасный воскресный день. Вконец вымотанный после беготни по разным местам, лишь вечером он смог прийти в кабинет к Маркову. Тот командовал сразу по двум телефонам и тоже был порядочно вымотан.
— Как сквозь землю провалилась эта Мишель. Я буквально всех поднял на ноги, но пока что бесполезно. Хотя машина Ноуменов по-прежнему на стоянке. Хорошо, что старик официально обратился к нам, можно задержать его дочь на законном основании. На ваш взгляд, когда мы ее упустили?
— Ее упустил Крыстев, когда крался за любовником. Около десяти минут номер Мишель оставался без наблюдателя.
— Похоже. А вы чем похвалитесь?
Ковачев усмехнулся не без лукавства, достал из кармана белый мешочек, высыпал на стол множество бриллиантов.
— Все они фальшивые, — сказал Ковачев. — Все до одного. Искусная подделка из стекла с примесью олова. Так называемые дубликаты. На Западе они в ходу.
— Значит, вот почему он столь легкомысленно бросил их в урну?.. А настоящие? Впрочем, их может и не быть. Ларри мог нарочно затеять с нами игру, чтобы отвлечь внимание.
— Не забывайте, что, кроме Ларри, есть еще и их газеты. Не могли же они специально в нашу честь поднять такую ложную тревогу. А может, на ваш взгляд, это агенты ЦРУ выкрали бриллианты, пытаясь ввести нас в заблуждение?
— Ладно, не острите. Но что им мешает воспользоваться действительным ограблением банка, маскируя операцию у нас? Там ведь тоже есть мыслящие граждане.
— А два трупа? И заметьте, это их трупы, не наши. Нет, товарищ генерал, наконец-то у меня возникли подозрения, где могут находиться бриллианты. Я имею в виду настоящие.
— Выкладывайте!
— Э-э... разрешите, я еще поразмышляю. Хочу поставить один эксперимент...
— У вас завелись секреты от меня? Вы знаете, я не поклонник такого рода служебных игр, даже с вами!
— Знаю, знаю... И все же прошу небольшую отсрочку. Кроме того, я приготовился порадовать вас кое-чем необычным.
— Тогда порадуйте!
— Пожалуйста. Знаете ли, как зовут директора гостиницы, где блаженствовали Ноумены?
— Где уж мне знать такие тонкости! — угрюмо сказал генерал.
— Железко Волков.
— Железный волк! И вы предполагаете...
— Нет, я узнал это случайно, когда мы были у Ноумена. Звезд с неба он, может быть, и не хватает, но наш человек, проверенный. Его имя навело меня на мысль, нет ли других «железных волков» на курорте...
— Браво, железная логика!
— Их оказалось два; месье Луфер из Лиона и герр Айзенвольф из Гамбурга. Лу — это волк, фер — железо. Теперь другой: Айзен — железо, вольф — волк.
— Какой же из них в нашей стае?
— Гамбургский. Я успел посмотреть на обоих. Французик весь как из оперетты: старый волокита, дамский угодник, несмотря на подагру и болезнь печени. А вот немец настоящий эсэсовец, из недобитых. Крикни ему: «Хайль Гитлер!» — он тут же вскочит и вытянется во фрунт.
— Внешний вид часто обманывает, особенно в нашей профессии.
— Вы правы, для меня это лишь косвенное доказательство. Почему я остановился именно на нем? Он появился здесь в один день с господином Никто и госпожой Мишель. В тот самый день, когда была послана телеграмма. Луфер же прибыл несколькими днями раньше.
— Что удалось о нем узнать?
— Живет в гостинице «Виктория». Номерной знак его «мерседеса» свидетельствует, что машина из Гамбурга. Он один. На время с восьми часов вчерашнего вечера и до двух ночи у него нет алиби.
— В каком смысле?
— В восемь он сел в свою машину и уехал неизвестно куда. Пока еще за ним не присматривают всерьез.
— Естественно. А во время катастрофы с Морти?
— Товарищ генерал, это выше моих возможностей. Слишком много воды утекло, чтобы кто-то мог такое припомнить. Хотя я интересовался...
— Значит, выявился Железный Волк, но пропала Мишель. Природа, как известно, восполняет потери... По-моему, пришло время поговорить с лодочником, что прогуливал Мишель. Его величают вроде бы Чиба.
— Но что можно выжать из этого наемного ухажера?
— Что-нибудь можно. Все же они были в одной лодке. Даже дважды. Мы ничем не рискуем. Скажите Петеву, пусть повидается с Чибой.
— Вам не кажется, что важнее было бы повидаться с Пешо, шофером такси? Чиба бесперспективен. А с таксистом можно побеседовать об очень интересных вещах.
— Ни в коем случае. До него очередь не дошла. Узнай о такой беседе нынешний владелец черного чемодана в Софии, то-то он растревожится. А его тревожить нельзя. Вдруг он еще получит гостинцы.
XIII. НАЗОВЕМ ЕГО УСЛОВНО КОКО
Без лишних разговоров майор Петев прыгнул с пристани в лодку Чибы и разместился на корме, возле, двигателя.
— Полчаса прогулки — десять левов, — равнодушно сказал Чиба, успев бросить подозрительный взгляд на вломившегося к нему гостя, не очень-то похожего на курортника.
— Обернемся и за пятнадцать минут.
— Пятнадцать минут — значит, пять левов.
— Двигай, двигай!
Чиба неохотно завел мотор, пристань начала отдаляться. Лодочника почему-то начали терзать дурные предчувствия.
— Как делишки? — дружелюбно спросил Петев. — Наживаем капиталец?
— Более-менее. Не жалуюсь.
— А по части прекрасных дам?
— Да ну, что мне от них?
— Но ты же такой богатырь!
— Слушай, а тебе какое до этого дело?
— Насчет этого дела мы и поговорим. — И майор показал служебное удостоверение.
— О чем вы хотите разузнать? — Голое Чибы чуть дрогнул.
— Расскажи-ка мне все об одной твоей зазнобе, американочке.
— Что за американочка?
— Ладно, не разыгрывай, Чиба, дурачка. Недавно ты ее прогуливал, притом дважды. Черноволосая.
— А, эта... будь она неладна... Какая она к черту зазноба! Мужиком оказалась! Мужиком, не сойти мне с этого места!
Генерал Марков, буквально утопающий в бумагах, внимательно рассматривал множество фотографий на своем столе, когда появился запыхавшийся Ковачев.
— Здравия желаю, товарищ генерал. У меня сенсационная новость. Милейшая дочь Ноумена оказалась мужчиной!
— Да что вы такое говорите, товарищ полковник!
— Вы что... не верите? Мне?
— Как я могу вам не верить, когда сей мужчина уже найден!
— Найден?
— Точнее, арестован. Как видите, я в отличие от некоторых других не скрываю от своих коллег разные там эксперименты. Ночью в Софийском аэропорту наши узнали Мишель. Хотя и в мужской одежде. Я ведь не зря подымал всех на ноги. Мишель узнали, когда она оформляла билет в Вену. Паспорт был французский, на имя Жан-Жака Адомара. Поскольку, как и следовало ожидать, месье Адомар закатил скандал, я попросил Консулова подскочить в аэропорт. Он сразу ее узнал.
— Видимо, вы хотели сказать: «его» узнал...
— То, что Консулов узнал не ее, а его, установили уже при обыске. Под предлогом поисков наркотиков пришлось месье Адомара раздеть. Отгадайте, что найдено при обыске? Половина лифчика с бриллиантами. Но, увы, опять подделки. Остается решить, как поступить дальше с новоявленным месье Адомаром.
— Минутку! — оживился Ковачев. — Если не госпожа Мишель и не господин Адомар, то, может быть, это... Коко?
— Ладно, согласен. Назовем его условно Коко. Вопрос в том, везти его сюда, в Варну, или сами отправимся в столицу.
— На мой взгляд, пусть он немного потомится под арестом в Софии. Пусть им пока позанимается Консулов. А скоро, мне кажется, и всю эту свору мы перевезем в Софию.
— Правильно.
— Товарищ генерал, вся эта муть, а особенно расправа с Мелвилл и половина сокровищ, обнаруженная у Мишель, дают нам законные основания задержать и Еремея Ноумена. А главное, сделать обыск в его номере.
— Этим и следует заняться. Берите разрешение у прокурора и действуйте.
Чем располагал полковник Ковачев, когда направлялся обыскивать и арестовывать Еремея Ноумена? Возможно, он был соучастником — притом наверняка косвенным — убийства Мелвилл. Для прямого обвинения оснований было маловато, да и тактически такой ход был сомнителен. Целесообразней нажимать на загадочные перемены пола этого Коко. Главная же цель сегодняшней операции состояла в том, что только при продолжительном и тщательном обыске можно было осуществить достаточно рискованный эксперимент, о котором безуспешно допытывался генерал.
После необходимых приготовлений вся группа подошла к номеру Еремея Ноумена: полковник Ковачев, эксперты, трассологи, фотограф, лейтенант Радков с чемоданом.
Завидя гостей, хозяин хотя и удивился, но особого смущения не выказал.
— На предмет чего столь массовое посещение? — спросил он, когда все уже оказались в комнате.
— Ваша дочь найдена, — вместо ответа сказал Ковачев.
— Где же она? — В голосе Ноумена особенной радости не чувствовалось.
— В тюрьме. В Софии. Поймана при пересечении границы с фальшивым паспортом. А главное, она пыталась контрабандой вывезти огромные ценности.
— Какой фальшивый паспорт? Какие ценности? — тем же тусклым голосом осведомился Ноумен.
— Я убежден, что вы лучше нас информированы в этой области. Надеюсь на ваши правдивые показания. Но для этого у нас еще будет время. А сейчас прежде всего мы произведем тщательный обыск в обоих номерах.
— Но вы уже осматривали...
— Возникли новые отягчающие обстоятельства. Вот санкция прокурора и официальный перевод ее на английский.
Ноумен безразлично посмотрел на бумаги, которые ему протягивал Ковачев, но не взял.
— Значит, арестована... в Софии... а мне даже не позвонила... — бормотал Еремей. — И все же расскажите мне подробности.
— Расскажу, если вам интересно. — Он дал знак приступить к обыску. — Готов ответить на все вопросы, которые вы мне начнете сейчас задавать.
— Какие вопросы?
— Самые разнообразные. Ну, например, уверены ли мы, что арестовали именно вашу дочь. А может, вашего сына? Почему бы вам не спросить?
— Что за намеки?
— Не стесняйтесь, господин Ноумен. Все равно вам придется разговориться. Вот вы не пожелали прочесть текст санкции прокурора, а в нем разрешение не только на обыск, но и на ваш арест.
— Что?! — возмутился старик, но возмущение было явно показным, словно он даже чему-то обрадовался. — На каком основании? Уж не заподозрен ли я в убийстве?
— Кто здесь произнес слово «убийство»? Кое в чем мы вас подозреваем, это правда. Но зачем торопиться?
— Ладно, не буду спорить, — вроде бы примирился с судьбою Еремей Ноумен. — Насильно подчиняюсь, но оставляю за собою право на протест.
XIV. МЫЛО, МЫЛО...
Да, в кусках мыла оказались бриллианты, притом такой величины и чистоты, что ювелиры не осмелились назвать цену даже приблизительно — они впервые в жизни любовались такими сокровищами.
После того, как каждый камешек был взвешен и по всем правилам описан, прежде чем исчезнуть в бронированном банковском сейфе, а у полковника Ковачева осталась всего лишь четвертая копия протокола, пришла пора вызвать на допрос арестованного.
— Итак, вы Еремей Ноумен, торговый представитель американской фирмы «Крусибел стийл» в Константинополе, — говорил Ковачев. — Стало быть, торговец...
— Да, с вашего позволения, — бойко откликнулся Ноумен.
— А господа руководители фирмы знают, что только вы представляете их интересы на Ближнем Востоке?
— Спросите их сами.
— Обязательно спросим. Если, разумеется, такая фирма существует. А почему Никто? Почему не выбрали себе другое, нормальное имя?
— Надеюсь, господин, услышать более умные вопросы. Если их нет, потрудитесь меня освободить. Благое сделаете дело.
— Не думаю, чтобы освобождение стало для вас благом. Что касается более умных вопросов, то как вам нравится такой: как это ваша дочка стала вдруг мужчиной?
Ноумен молчал.
— Возможно, вы мне не верите? Извольте сами убедиться. Вот, взгляните.
Ковачев достал из папки снимки Мишель — сначала как женщины в платье, затем как мужчины в Софийском аэропорту. Ноумен посмотрел на них равнодушно и не счел нужным прокомментировать.
— Вижу, снимки вас не убеждают, — сказал полковник. — Впрочем, при вашем желании мы можем организовать очную ставку.
— Это двойник, — буркнул Еремей.
— Интереснейшая мысль! С одинаковыми отпечатками пальцев?
— Мужчина ли, женщина ли — какое имеет значение? Допустим, он мой сын.
— Удивляюсь, как вы бьетесь за это родство. Наверное, Коко необыкновенно вам дорог.
При имени Коко старик не выдержал и еле заметно вздрогнул.
— А я, например, не хотел бы иметь такого сынка, — сказал Ковачев.
— В конце концов я хочу знать, в чем меня обвиняют и на каких основаниях задержали? Иначе вообще перестану говорить с вами.
— Значит, хотите по-деловому, как положено бизнесменам. Правильно ли я вас понял? Хотите заключить сделку?
— Но вы никакой не бизнесмен. И о какой сделке может пойти речь?
— Например, о такой. Вы рассказываете всю подноготную, а я вручаю вам половину лифчика с бриллиантами. Согласны?
— Почему... половину лифчика?
— Не становитесь алчным! Стоит ли торговаться за целый лифчик? Ах, господин Ноумен, джентльмены всегда договорятся. Нужно ли переходить нам в кинозал, чтобы посмотреть короткометражку, где из окна «бьюика» высовывается рука и бросает пакет в урну. Ваша рука. Из вашего «бьюика». На пакете остались отпечатки ваших пальцев. Хорошо, я вас понял. Скажите, кто взял одну половину лифчика Маман, и я вам вручу и другую половину. Разве это не предел щедрости?
Еремей Ноумен был озадачен, но не настолько, чтобы раскаяться в грехах. Несмотря на наводящие вопросы, он продолжал запираться. И тогда полковник сказал:
— Значит, сделка не состоится. Мы согласны и на это. Если и есть убитые, то все же иностранцы... А в наших руках как-никак бриллианты. Почему бы вас не отпустить. Пожалуй, денька через три-четыре отправим-ка мы вас в Турцию. Туда, откуда вы прибыли.
Удивительно, но Еремей Ноумен молчал!
— Понимаю: молчание знак согласия, правда? Но вы забыли осведомиться, почему мы вышлем вас отсюда через три-четыре дня, а не сегодня. И напрасно забыли. Это небезынтересная деталь в игре. Но я не столь молчалив и охотно объясню. Сначала мы пошлем телеграмму. Адрес такой: Джо Формика, Уэстчестер-авеню, 181, квартира 73, Бронкс, Нью-Йорк. И уведомим получателя, когда вы появитесь на турецкой границе. Думаю, он возрадуется. А для надежности пошлем шифровку дону Бонифацио. Шифр нам известен. Адрес такой...
— Это недостойно! Это вымогательство! — не выдержал Ноумен.
— Отпустить человека на свободу — вымогательство?
— Нет, вы так не поступите! — вконец разволновался старик. — Не имеете права!
— Почему?
— Они меня пришлепнут, даже если я сдал бы им бриллианты!
— И я так думаю. Но вас мы вышлем без сокровищ, учтите.
— Ладно, я выложу все как на духу.
— Только без уловок, свойственных торгашам.
— Все выложу. Но при одном условии. Вы пообещаете меня отсюда не выпускать.
— Можно и пообещать, если вы не переборщите со сроком. Боитесь?
— Еще как! Эти двое, дай им шанс, сразу меня прихлопнут!
— Динго и Мэри?
— Какие там Динго и Мэри! Вирджиния Ли, любовница Бонифацио, и этот зверь, Джексон.
— Значит, не они Динго и Мэри?
— Нет. Ная и Джек Горилла, так их зовут. Динго и Мэри остались в Афинах. А свои документы и автомобиль они отдали Маман и Морти.
— Ясно. Извините. Я весь внимание.
— Мое настоящее имя Иеронимус Гольдштейн, я немецкий еврей, эмигрировавший от гитлеровцев в Соединенные Штаты. По образованию я физик, но Эйнштейн из меня не получился. Пришлось обосноваться в мафии дона Бонифацио. Что поделаешь, не всем преподавать в университетах. Лично я не совершал никаких преступлений, будучи гуманистом и поклонником Эразма Роттердамского. Известен вам этот философ?
— Слышал про него кое-что... Как же вы, гуманист, оказались в команде дона Бонифацио?
— Научный консультант в его плановом отделе. Только консультант. Ранее вы спрашивали меня о двух смертных случаях...
— О двух убийствах, господин Гольдштейн! Пора называть вещи своими именами.
— Да, вижу, что вы прекрасно осведомлены. Морти был убит Айзенвольфом, бывшим эсэсовцем, разыскиваемым польскими властями как военный преступник. Морти подорвался на магнитной мине с радиовзрывателем. Айзенвольф обожает технические сюрпризы.
— А кто убил Маман?
— Коко... я выдавал его за мою дочь. Чтобы забрать у нее бриллианты. Коко — это садист и морфинист, исполнитель приговоров Бонифацио.
— Симпатичная дочурка.
— Что делать, не я выбирал! Не думайте, что для меня, поклонника великого Эразма, доставляло удовольствие быть в одной связке с Коко. Но, увы, Эйнштейном я не родился.
— Не горюйте, Еремей.
— Коко взял бриллианты, убив Маман. А половину отвалил мне, чтобы я не проговорился. Но я философ, мне жизнь дороже любых сокровищ. И тут является Ная, посланная доном Бонифацио. Но они с ее телохранителем Джеком опоздали — я уже выбросил мою долю в урну.
— Не лучше ли было передать вашу долю Ли и ее телохранителю? Все-таки половина больше, чем ничего.
— О, вы не знаете этих зверей. После появления Наи мне оставалось лишь одно — как можно быстрее давать деру. Найди они у меня бриллианты — на месте б прикончили.
— Хорошо, что вы живы. Как вам показался мистер Галлиган?
— Безнадежный дурак. К нам он не имеет никакого отношения... Вы сами видите, что назад мне дороги нет. Я это понял сразу после убийства Маман. Если мы вернемся отсюда без бриллиантов — всех перещелкают по одному. Даже без расспросов. — Еремей Ноумен усмехнулся. — Да, сегодня мне не остается ничего другого, кроме как стать подданным социалистической Болгарии.
— Так уж сразу и подданным! Но довольно продолжительное местопребывание здесь можно вам пообещать... Теперь еще один, последний вопрос на сегодня: почему выбрали именно Болгарию, заметая следы после ограбления музея?
— Да, понимаю ваше любопытство. Мы всесторонне обсудили эту идею. В сущности, она принадлежит мне. Следовало выждать, когда утихнет шум, улягутся страсти. Но где выждать, в какой стране? Мне подумалось, что Болгария идеальное место: не поддерживает связей с Интерполом, принимает иностранцев без виз, далекая маленькая балканская страна по ту сторону «железного занавеса». И мы решили, что именно здесь, у вас, вероятность провала... равна нулю!
XV. ПРОСЬБА СТАРОГО ЕРЕМЕЯ
Судя по всему, появление Наи с Джеком и последующие события растревожили Айзенвольфа. Выйдя из гостиницы, он тщательно осмотрелся и как-то весь сжался, точно ожидал нападения. Затем сел в машину, завел мотор. Но никуда не поехал, если не считать нескольких бесцельных маневров на стоянке. И постоянно озирался. Кого же он опасался? Конечно, Джека Гориллу. И не без оснований. Наконец Айзенвольф заметил, как тот вышел и сразу направился к своей машине. Тут уж Айзенвольф рванул с места в карьер, Горилла — за ним, как будто оба они условились состязаться на пари.
Увлеченные гонкой, они вряд ли обратили внимание, что их сопровождают ничем внешне не приметные автомобили, таившие под капотами сверхмощные двигатели. Оперативники исправно докладывали о ходе бешеной гонки по прибрежному шоссе.
Расстояние между машинами Айзенвольфа и Джексона по-прежнему не сокращалось. За одним из поворотов лимузин Айзенвольфа исторгнул на асфальт струю густой черной жидкости — лишнее доказательство пристрастия немца к техническим новинкам в духе Джеймса Бонда. Джексон, естественно, заметил расползающееся масляное пятно, но слишком уж велика была скорость — колеса вляпались в масло, тормоза завизжали, машина соскользнула на обочину, едва не перевернулась на уклоне и пронеслась еще полсотни метров по свежевспаханному полю.
Одна из оперативных машин осторожно объехала пятно, следуя за Айзенвольфом, а другая дождалась, пока Горилла снова не выбрался на дорогу. Теперь уже оперативники не очень заботились о маскировке, поскольку гонка вполне могла закончиться кровавой расправой, и гангстерам следовало решительно напомнить, что они не одни.
В село Каменный Берег Айзенвольф влетел все еще с бешеной скоростью, но вдруг притормозил, видимо, выбирая дальнейший маршрут. А затем решительно двинулся по еле приметному проселку в сторону моря. Он явно желал скрыться в прибрежных скалах. Трудно было предположить, что он не понимает всех тонкостей создавшейся ситуации, в которой мог смело обратиться за помощью к представителям власти. Скорее всего хитроумный Айзенвольф надеялся воспользоваться своим положением преследуемого и, допустим, прикончить Джексона в состоянии законной самообороны.
Появился и Джексон. Он тоже свернул на проселок и вскоре заметил вдалеке покинутый хозяином «мерседес». Однако приближался осторожно, ожидая подвоха. И, лишь убедившись в безопасности, выпустил воздух из передних шин «мерседеса», а свою машину закрыл на ключ. Затем начал пробираться между скал к морю, пока перед ним не открылась знаменитая Яйла — причудливые каменные террасы, являвшие хаос из скал, пещер, зарослей кустарника и деревьев. Место для засады, можно сказать, идеальное, но откуда знал его Айзенвольф?
Когда полковник Ковачев с капитаном и двумя старшинами из службы охраны оказался на косогоре перед Яйлой, здесь уже маячили Петев и Дейнов.
— Где они? Не ускользнут? — только и спросил полковник.
— Исключено, товарищ полковник, — ответил один из местных оперативников. — Из этого лабиринта нет другого выхода. Слева, вон там, скалы круто уходят в море, а правей страшенная круча, туда соваться бесполезно. Западня... Мы уже слышали оттуда два выстрела.
Последние слова были сопровождены сухим треском еще нескольких выстрелов, и какие-то тени мелькнули среди скал.
— Так они перестреляют друг друга, — сказал Ковачев. — Разделимся на три группы. Я с капитаном по центру, Дейнов левый фланг, Петев справа. Будьте начеку! Стрелки́ они отменные.
Пока оперативники спускались по крутому откосу, выстрелы зачастили. Оказывается, Горилла уже сумел, искусно маневрируя, загнать Айзенвольфа почти к самой воде. Но здесь преследуемый в очередной раз перехитрил его и ловко юркнул в пещеру. Там он мог преспокойно дожидаться, пока враг появится в светлом проеме и... Самое удивительное, что Джек короткими перебежками все же направился к пещере. «На верную смерть», — подумал Петев и швырнул в кусты камень, чтобы отвлечь внимание. Этого мига хватило, чтобы капитан сделал очередную перебежку. Джек инстинктивно выстрелил, сразу обозначив свое точное местонахождение, и ответные выстрелы оперативников высунуться ему не давали. Тем временем капитан ловко метнул в пещеру бомбочку со слезоточивым газом. Из пещеры вскоре повалил дым, послышался кашель, чиханье, и наконец выполз ничего не соображающий Айзенвольф — прямо в объятия двух оперативников.
На следующий день в Софию доставили Еремея Ноумена, и Айзенвольфа, и Джексона. Отсутствовала лишь красотка Вирджиния — формально ее обвинить было не в чем, и она упорхнула к своему дону Бонифацио.
— А так называемый Железный Волк, — говорил Ковачеву генерал Марков, по привычке отхлебывая кофе из вместительной чашки, — оказался Гансом Шмольце, заурядным эсэсовским сержантом. Даже не вышел в фельдфебели. Установлено, что во время войны он был здесь, в Болгарии, служил в береговой обороне. Отсюда и точное знание Яйлы. Но судить его будут сначала за преступления, которые он успел совершить у нас по делу об украденных бриллиантах. Здесь ему не фашистская Германия! Пусть они с Гольдштейном топят друг дружку. Поразительно, как могло возникнуть такое содружество: еврей и фашист...
— Айзенвольф убил Морти. Это ясно. А смерть Маман?
— Маман на совести «дочурки Коко». Вот бестия! Как ловко всех провел, флиртуя с лодочником, — прекрасно сыгранная роль многоопытной обольстительницы.
— В равной мере к смерти Маман причастен и Ноумен. Не забудьте коробку с мылом. Бриллианты подменил все-таки Еремей. О них знали лишь он и Маман. Коко думал, что они в лифчике. Потому и убил. Очевидно, Маман знала, что настоящие бриллианты спрятаны в кусках мыла «Рексона». А то, что Ноумен привез другую такую же коробку с мылом, достаточно красноречиво выдает его намерения. Он обдумал дельце еще там.
— Да, этот иуда Еремей высчитал все, что предпримут Айзенвольф и Коко, потирал руки, плетя свою сеть. И ни в чем им не мешал. Кроме главного эпизода: когда проник к Маман после ее смерти и незаметно подменил коробку. Нельзя забывать, что он трудился в плановом отделе дона Бонифацио и знал все обо всем. Вероятно, ему же принадлежит идея трюка с фальшивыми бриллиантами в лифчике и настоящими в мыле.
— Как же теперь распорядиться этими богатствами?
— О, да вас, кажется, не на шутку взволновала обещанная награда. Вернем мы, вернем бриллианты их законным музейным владельцам. Вот закончим следствие, и какой-нибудь товарищ из Министерства иностранных дел торжественно вручит их американскому посольству. Но это уже не наша епархия!
— Значит, Ларри получит кукиш с маслом?
— Не беспокойтесь за вашего Ларри. В сообщении для американских коллег мы специально упомянем, что он помогал при поиске бриллиантов. Мне он тоже симпатичен, хотя и не знаю почему. А выгорит ли у него с наградой, это зависит уже не от нас. Если повезет, глядишь, и станет юрисконсультом концерна... Кстати, все ли выложил гуманист и почитатель Эразма Роттердамского?
— Делает вид, что он предельно искренен. И еще больше разглагольствует на темы искренности, не забывая время от времени напомнить, чтобы мы сохранили все его вещи. Они ему весьма-де пригодятся, когда он окажется на свободе.
— О мыле не вспоминал?
— Ни разу. Мыло явно входит в понятие «все вещи».
— Гляди-ка, каков гусь, а... «Вероятность равна нулю». Да он до сих пор считает нас простаками!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. ОПЕРАТИВНЫЕ ВЫВОДЫ
Прошла неделя. Две бригады — одна в Варне, другая в Софии — безуспешно вели круглосуточное наблюдение за шофером такси Пешо и наладчиком аппаратуры Петровым. Дело это было трудоемкое, хлопотное, да и казне обходилось в копеечку, так что в конце концов терпение у начальства иссякло и оно поставило перед генералом Марковым вполне резонный вопрос: есть ли вообще нужда в слежке?
Поэтому однажды утром Марков собрал у себя в кабинете всех, кто был причастен к раскрытию бриллиантовой аферы, и начал убедительно развивать тезис, что черный чемодан был пуст.
— Прежде всего кто привез чемодан в Болгарию? — рассуждал генерал. — Один гангстер. На первоначальном этапе расследования, имея дело с их шифрограммами, мы не без основания заподозрили нечто другое. В нас сработал инстинкт контрразведчиков. И по инерции мы ему доверились. А случай-то, может быть, из простейших. Допустим, некий Икс, невозвращенец, болгарин, приятель или родственник товарища Петрова, регулярно посылает ему черные чемоданы с обыкновенными вещичками: костюмы и рубашки, немного ношенные, магнитофон, духи для Евы... Случайно он знакомится с Морти, узнает, что тот собирается в Болгарию. Правда, не в Софию, а в Варну, но там обитает другой его знакомый, шофер Пешо, и он пишет шоферу письмо с необходимыми инструкциями. Дальнейшее вам известно. Узловой момент: почему они молчали в такси? Во-первых, Пешо не знает английского. Во-вторых, Морти мог ему показать листок бумаги с необходимым болгарским текстом. Молча. В Софии, чтобы зря не тратить времени, шофер преспокойно оставляет чемодан в указанной ячейке камеры хранения и возвращается в Варну. Петров забирает чемодан, костюмы и рубашки вешает в гардероб, а магнитофон заводит в свободное время. Мы же все наблюдаем, наблюдаем, анализируем, следим... Сколько недель или месяцев мы собираемся вести слежку? Зачем? Во имя чего? Эти вопросы начальства вполне законны. Не пора ли пригласить сюда и Пешо, и Петрова для сердечной беседы? Уверен, что мистерия превратится на глазах в заурядный бытовой фарс... Попрошу высказываться по затронутому вопросу.
Этот хитрый трюк с отстаиванием идеи, в которой сам генерал основательно сомневался, был слишком хорошо знаком Ковачеву. И он решил не клевать на приманку. Петев и Дейнов, глядя на непосредственного начальника, тоже решили пока что помолчать. Однако Консулов, еще не знавший всех особенностей характера Маркова, страшно разволновался. Ему казалось невероятным, чтобы генерал поверил вдруг в невиновность Пешо и Петрова, и капитан кинулся гасить пожар:
— Но как же мы, товарищи, собираемся объяснять подмену чемоданов? — начал он. — Версия о добром дяде-невозвращенце выглядела бы правдоподобной лишь при одном условии: если бы Маклоренс послал аналогичную открытку Петрову в Софию и тот лично забрал бы свой чемодан. Берет полный, возвращает взамен пустой. Хотя, как известно, в Америку пустые чемоданы не возят.
— Почему пустой? В нем могли быть подарки для доброго дяди, — неожиданно сказал Ковачев. Он тоже включился в игру на стороне генерала.
— Вы прекрасно осведомлены, товарищ полковник, что чемодан, который вернул Пешо, был пустой.
— Или он стал пустым к тому времени, когда мы смогли его осмотреть.
— В нем был один рапан. Вроде квитанции, условного знака, что посылка получена.
— Или рапан случайно был оставлен там Морти.
— А как объяснить, что Петров не пошел на контакт с Пешо? Ведь они были на вокзале почти в одно и то же время...
— Петров мог не планировать эту встречу, предполагая где-то задержаться утром, но внезапно, допустим, освободился, — продолжал спорить Ковачев, а генерал лишь усмехался самодовольно.
— Сам факт, что таксист поехал специально в Софию, чтобы оставить чемодан на вокзале, не получив за это ни гроша от Петрова, уже настораживает. Это не похоже на обыкновенную дружескую услугу... Более того, они, сдается мне, даже не знакомы.
Консулов мгновенно оценил, что переходит на слабую позицию, основанную на «бытовых» аргументах. К тому же он заметил, что его разыгрывают. Обычно он сразу же вскипал, если кто-то относился к его идеям или, упаси боже, к его личности со снисходительной иронией. И потому незамедлительно ринулся в наступление:
— То обстоятельство, что Петров знал и номер ячейки, и шифр, красноречиво указывает на сговор между ними. Однако они не встретились. Причина? Таксист не должен был знать, кому везет чемодан. Для кого он предназначен?.. На мой взгляд, мы имеем дело с западной агентурой. Что ж тут необычного, если через десять дней после хитрой передачи чемодана ничего нового не проклюнулось. Или мы ничего не заметили. С каких это времен повелось, чтобы шпионы показывали рога через день-два? Случай предельно ясен: нельзя ни прекращать наблюдения, ни тем более вызывать кого бы то ни было на допрос. А если кое-кто спешит поставить точку и отрапортовать, то я могу лишь посожалеть.
Последняя фраза прозвучала неприкрыто дерзко, да и Консулов после нее сразу прикусил язык, но генерал, будто и не расслышав дерзости, повернулся к Петеву и Дейнову, добродушно спросил:
— А ваше мнение, товарищи?
— Благодаря счастливой случайности мы, возможно, выйдем на иностранного агента. Самое важное сейчас — узнать содержимое чемодана и посмотреть на Петрова со всех сторон.
— Я согласен с товарищем майором, — коротко сказал Дейнов.
— Ну, полковник Ковачев, — усмехнулся генерал, — счет три — два, мы с вами в меньшинстве, пора сдаваться, а? — Он немного помолчал, а затем перешел на серьезный тон: — Соглашаясь с доводами большинства, прошу понять, что все-таки дальше так продолжаться не может. Да, не исключено, что Петров еще сегодня предпримет нечто такое, что поможет его разоблачить. Если он спокоен. А если нет и он затаится на месяцы? Кому из нас или из начальства не надоест бесконечно долгое наблюдение? А все возрастающий риск, что слежка будет замечена? Однако до сих пор у нас нет в руках нити, чтобы распутать весь клубок. Настало время всерьез обмозговать ситуацию. Я бы выразился так: от пассивной позиции наблюдателя перейти в атаку.
— Задержать — и на обстоятельный допрос, — встрепенулся Дейнов. — И пусть сами объясняют свое поведение, все эти загадочные обстоятельства.
— Эта мысль и меня соблазняла, — отвечал ему генерал. — Может быть, она не такая и бесплодная. Предположим, они проговорятся, саморазоблачатся, суд докажет их вину. Но достаточно ли этого? Или вы допускаете, товарищ Дейнов, что Петров всего лишь кустарь-одиночка, а таксист его единственный помощник? Будь оно даже так, мы все равно не имеем права упиваться столь маловероятной гипотезой. Во всяком случае, пока она не доказана!..
— Но должен же Петров распорядиться содержимым чемодана, — сказал Ковачев. — То, что ему послано, не будет пылиться в доме. Значит, он вот-вот что-то предпримет.
— Кто знает, кто знает... — Генерал в задумчивости потер подбородок. — Там может быть радиостанция. Или деньги. Да мало ли что еще... Вы правы, товарищи, легких путей нет. Но нет и крепости без тайного хода. И поэтому мы поступим так. Пусть каждый подумает и скажет, нет ли чего-либо необыкновенного в этом деле. Какая-нибудь мелочь, деталь, странное обстоятельство — все, что угодно, чтобы ухватить кончик нити...
— У меня из головы не выходит фокус с камерой хранения, — набрался храбрости Дейнов. — Как он узнал ячейку и шифр?..
— Вы меня не поняли, Дейнов, — прервал его генерал. — Это не мелочь, не деталь. Это продумано, это самый главный козырь в игре, тут они неуязвимы. Ищите незаметное, такое, что ушло от контроля преступников.
— На меня произвело впечатление, что Петров... как бы это выразиться поточней... идеален, — сказал Ковачев. — Все его хвалят, все его уважают, все любят. Отличный работник, безупречный сосед. Столь идеальный гражданин вам не кажется немного подозрительным? Похоже на маску, камуфляж.
— Подозревать человека, потому что он безупречен? — засмеялся Марков. — По этой давно уже забытой логике вы и меня в чем угодно заподозрите, поскольку и я немного идеален!
— Вы не идеальны, это подтвердят все ваши подчиненные. Как начнете голос повышать на подчиненных, так в соседних кабинетах слышно.
— Иногда хочется не голос повышать на подчиненных, а заняться рукоприкладством. Я-то думал, вы по части курева меня сразу опровергнете. Иногда хочется бросить, но не могу... Да, есть возможность догнать по идеальности этого Петрова. Неужели не курит?
— Не курит, не пьет, с женщинами не якшается, в карты не играет, как и положено идеальному обывателю, — сказал Консулов.
— А вы ничего интересного не замечали? — спросил его генерал. — Дольше каждого из нас возитесь с ним...
— Замечал. Даже два обстоятельства.
— Что ж молчали?
— Да, знаете... они такие... показались мне незначительными. Скорее всего случайности, хотя в чем-то подозрительные. Первая: его дом ни на миг не остается пустым, в нем всегда или Петров, или его жена, или они вместе. Пока он на работе, она даже во двор не выйдет. Хотя это самое удобное время для покупок. Дождется возвращения мужа и лишь тогда идет по своим делам. Сознаюсь, я обдумывал греховную возможность проникнуть в дом и потрясти чемоданчик. Но это исключено. По этому поводу и набрел на первую случайность.
— И никаких исключений?
— Никаких! Правило у них железное: в доме должен быть человек.
— Это уже кое-что, — сказал Ковачев. — Стало быть, жена его тоже в игре и соблюдает все правила.
— А второе обстоятельство? — спросил Марков у Консулова.
— Другое еще странней. Внимательно читая донесения наблюдателей (а читал я их многократно, все искал какую-нибудь зацепку), я подметил, что несколько раз Петров пользовался телефоном-автоматом на углу бульвара Евлоги Георгиева, возле остановки автобуса, которым он едет на работу. Но у него и дома есть телефон, и в цехе, и в канцелярии, где оформляют заказы. Первый раз он позвонил спустя три минуты после выхода из дома. Я решил, что он что-то забыл сказать своей любимой Еве. Но он звонил не ей. Вечером того же дня, сойдя с автобуса, он опять воспользовался автоматом. Я подумал: а вдруг испортился домашний телефон! Проверил. Нет. Исправен! Так повторялось несколько раз. Что это за ритуал — вести краткие разговоры до или после работы, явно предпочитая общественный телефон личному? И чем иным объяснить этот ритуал, кроме страха, что домашний телефон можно прослушать, а уличный — нет?
— Вот это идея! — сказал Марков, почесывая свои седые волосы. — Да представляете ли вы, сколь она может оказаться плодоносной? И отчего раньше не сигнализировали, ведь мы упустили несколько его разговоров!
— О чем сигнализировать? Что он звонит по автомату недалеко от своего дома? С кем такое не случается.
— Автомат всегда один и тот же?
— Судя по донесениям, да.
— Так, так... — начал потирать руки Марков. — Значит, господин Петров полагает, что если домашний его телефон прослушивается, то из будки телефона-автомата он может говорить с кем угодно и о чем угодно. Браво, идеалист Петров.
— Прикажете взять разрешение на прослушивание этого автомата? — спросил майор.
— Постоянно, весь день, не нужно. Но в момент, когда им воспользуется Петров, по радиосигналу наблюдателей мы должны слышать разговор. Преступно упустить такую возможность. Какой шанс! Какой шанс!
II. АВТОМАТ 70-69
Как и следовало ожидать, Марков был в одной из генеральских палат. И поскольку у него никого не было в Софии — родители давно умерли, свою семью он не создал, братья и сестры жили в Казанлыке, — в эти послеобеденные часы в палате он был один.
Крыстю Марков давно страдал почками. Были долгие периоды, когда они вообще не давали о себе знать. Случались недели, как он выражался, «примирения», некоего равновесия между болезнью и организмом, но время от времени болезнь набрасывалась, как лютый зверь, и тогда этот огромный бесстрашный мужчина искусывал в кровь губы и скреб ногтями стену возле кровати.
Очередной камешек двинулся в свой кровавый путь, когда началось наблюдение за уличным телефоном-автоматом № 70-69. Приступ свалил генерала рано утром в кабинете, еще до чтения бюллетеней. Несколько дней боли были настолько острыми, что только лишь огромные дозы атропина и папаверина облегчали генеральские муки. Но, слава богу, вчера камень вышел, и врачи разрешили посещения...
Когда дошла очередь до последних служебных новостей, генерал прежде всего поинтересовался, как дела с Петровым. Вместо ответа Ковачев достал из своей сумки диктофон и протянул начальнику.
— Это наш общий подарок, товарищ генерал, по случаю вашего выздоровления. Нет, не диктофон, а кассета.
— Уж не записи ли моей любимицы Лили Ивановой?
— Кое-что потрогательней. Записи телефонных разговоров товарища Петрова по автомату номер 70-69, снабженные информационными справками и нашими комментариями к оным. Идея, как и сценарий этой радиопьесы, принадлежит капитану Консулову. Он и ведущий. А исполнители все мы, ваши подчиненные.
— Радиопьеса ради одного меня? — спросил явно польщенный и обрадованный Марков.
— Зная ваше любопытство, я и не помышлял заявиться к вам без папки под мышкой со всеми документами. И опять возник этот Консулов. Генералу, говорит, делают уколы атропина, значит, он не может пока что читать. Да и зачем читать, когда у нас на пленке живые голоса. Так и родилась радиопьеса. Слушайте на здоровье... А я не стану мешать.
— Суббота, девятого августа, тринадцать часов сорок восемь минут, — услышал он отчетливый голос Консулова с характерными металлическими нотками. После краткой паузы что-то лязгнуло (явно включился автомат), и другой голос сказал:
— Можно ли попросить товарища Пипеву?
— Одну минуту, — отвечал девичий голос. — Мама, тебя зовут.
Последовала пауза.
— Жанет Пипева у телефона, — поплыл плотный альт. Видимо, обладательница его была женщиной полной и властной.
— Вас беспокоит Христакиев. Брат Кынчевой.
— Минутку.
Краткая пауза, затем послышался шум, как будто закрыли дверь.
— Деверь Гинки?
— Да. Что у вас для меня?
— Глаубер может уезжать. Сделка не состоится. Аппаратуру все-таки доставим из Союза. Так решил замминистра... Максимальная цена, которую мы предложим Мантонелли, составляет сорок семь долларов пятьдесят центов за штуку... Вурм может с наших содрать три шкуры, тут большой прорыв — без запасных частей, которые он предлагает, через месяц с небольшим завод в Разграде остановится. Мы готовы дорого заплатить... А насчет переговоров со Свенсоном все оказалось блефом. На сегодня хватит.
— Благодарю. И снова повторяю: никаких встреч, никаких личных контактов ни по какому поводу. На ваш счет будет переведено еще пятьсот долларов. В чем-нибудь нуждаетесь?
— Пока что ни в чем.
— Тогда... до очередного звонка.
И снова голос Консулова:
— Справка. Справка. Жанет Минчева Пипева, тридцать восемь лет, разведена, проживает по улице Световой, дом номер семнадцать, третий этаж. Домашний телефон: сорок девять — восемнадцать — пятьдесят три, спаренный. Работает экономисткой в Софияимпорте, закончила немецкую филологию в Софийском университете. Живет с дочерью Минкой, ученицей десятого класса.
— Товарищ генерал, — начал свою роль в радиопьесе Ковачев, — тот, что представился Христакиевым, разумеется, Петров. Далее вы услышите, как он постоянно меняет фамилию, хотя и в определенных фонетических границах. Немаловажен и размен информации: «брат Кынчевой» — «деверь Гинки». При каждом разговоре эти условные вопросы и ответы повторяются, как, например, обмен позывными при радиосвязи. И как вам станет ясно в дальнейшем, нарушение порядка, отсутствие ожидаемого пароля — это сигнал, что разговор не состоится. Но продолжим...
— Воскресенье, десятого августа, тринадцать часов сорок семь минут, — пояснил Консулов.
— Зара, это ты?
— Я. Кто спрашивает?
— Христодоров, туз пик!
— Десятка треф. Слушаю вас.
— Сначала я вас послушаю.
— Мы познакомились. Состоялся и первый сеанс. Ничего особенного. В азарт он вошел, но он все еще полный профан. В любое время могу его проглотить, а пуговицы выплюнуть.
— Пока это не нужно. Оставим на потом. Переходите на валюту. Но разменивайте не ниже один к трем! И только когда он будет в выигрыше. Ухлопайте на него до пятисот долларов, они будут вам высланы незамедлительно. На сегодня все.
— Понятно. Конец?
— Конец. Позвоню на следующей неделе.
— Справка. Справка, — снова прозвучал голос Консулова. — Васил Бижев Заралиев, известный в определенной среде по кличке Зара, шестидесяти двух лет, живет на улице Революционеров, номер двенадцать, домашний телефон: двадцать семь — восемнадцать — сорок два, пенсионер, бывший бухгалтер Продэкспорта, в молодости наследовал мельницу, но сумел все наследство спустить в карты, чтобы ничего не оставлять народной власти. К сожалению, нет достаточных данных, чтобы установить лицо, о котором шла речь в разговоре.
— Комментарий. По всей вероятности, Зара получил задание втянуть кого-то в свои карточные аферы, но не обобрать, а для начала подманить долларами, чтобы крылышки увязли в меду. Очевидно, после этого он должен оказаться в сетях Петрова. Неясно только, как Петров даст Заре необходимые пятьсот долларов. Слово «высланы» наводит на мысль, что деньги не будут переданы из рук в руки. Но каким образом? Денежным переводом доллары не посылают! Остается рискнуть послать их в письме, максимум в заказном. Необходимые меры на сей счет с нашей стороны приняты.
— Понедельник, одиннадцатого августа, семь часов тридцать пять минут.
— Да-а-а-а, кто это? — спросил сонный женский голос.
— Можно попросить товарища Ерменкова?
— Асен, тебя спрашивают...
— Да, слушаю.
— Христев вас беспокоит так рано. Это ваше объявление в «Вечерних новостях» насчет потерянной собаки?
— Нет, у нас только кошка.
— Получили искомую сумму?
— Да, благодарю.
— Через несколько дней пошлю вам столько же.. До конца недели прибудет Блюменталь. Он, предложит вам весьма выгодную сделку, которую должно реализовать. Непременно. С фирмой «Хелиге» можете больше не церемониться, продемонстрируйте им ваше нерасположение. Будьте твердым и принципиальным. От подарков отказывайтесь, мелкие передавайте в профком, соблюдайте инструкцию буквально. Вам ясно? Теперь слушаю вас.
— Бруно Шмидт должен проявить больше гибкости и отступить. А то меня упрекают в крайнем максимализме.
— Пусть это будет вашим недостатком. Шмидт поступил правильно. Конец.
— Конец...
— Справка. Справка. Асен Пенков Ерменков, улица Найдена Григорова, дом пять, домашний телефон: тридцать пять — тридцать восемь — шестьдесят один. По образованию юрист, заведует сектором в Приборимпексе.
— Как говорится, комментарии излишни. Объект наблюдается всесторонне, — заключил голос Ковачева. — Проверкой установлено, что Ерменковы не давали объявления о потерянной собаке. Это пароль.
И снова голос Консулова:
— Вторник, двенадцатого августа, семнадцать часов тридцать восемь минут.
— «Промышленность», — сказал некто.
— Это говорит ваш сотрудник Христофоров. Можно позвать товарища Атанасова?
— Это редакция, товарищ, у нас такого сотрудника нет, — ответил сердитый мужской голос, и трубку положили.
— Справка. Справка. Это телефон еженедельника «Промышленность». Петров набрал его правильно, очевидно, он попал на нужного ему человека, но разговор не состоялся. Наверно, в комнате были неудобные люди. Это подтверждается следующей записью, сделанной двадцатью минутами позже.
— Вторник, двенадцатого августа, семнадцать часов пятьдесят восемь минут.
— «Промышленность», — раздался тот же голос.
— Это говорит ваш сотрудник Христофоров. Можно позвать товарища Атанасова?
— Атанасов у телефона.
— Что вы мне скажете об эссе, которое я вам принес?
— Это никакое не эссе, а обыкновенная корреспонденция.
— Интересуются новым заводом, который строится близ села Павелско в Родопах. Плановый пуск и все остальное о нем, необходимое сырье и его обеспечение, комплектация оборудования, подробная характеристика продукции и особенно вторичной, редких металлов. Я подчеркиваю, самое важное — редкие металлы. Что скажете?
— Думаю, что, если вы позвоните через две недели, я смогу дать ответ.
— Желаю успеха. На этот раз наша благодарность будет гораздо больше, чем раньше. Конец.
— Конец...
— Справка. Справка. Атанас Петров Атанасов, редактор отдела технического развития еженедельника «Промышленность». Служебный телефон: сорок два — пятьдесят один — шестьдесят восемь; домашний: двадцать девять — тридцать четыре — пятьдесят один. Живет на улице Кукеров, дом номер одиннадцать. По образованию инженер-механик, на журналистской работе пять лет. Член партии. Женат, детей нет. Много путешествует по стране, хороший очеркист. Часто бывает за границей — каждый год в нескольких соцстранах и хотя бы раз на Западе. Одним словом, находочка, — не сдержался Консулов.
— Комментарий. Из всех засеченных агентов, — зазвучал спокойный голос Ковачева, — наибольшую опасность представляет журналист Атанасов. Как представитель авторитетного издания, пользующегося доверием и уважением у работников нашей промышленности, он имеет доступ не только к официальной, открытой экономической и научно-технической информации, но и большей части информации секретной. Кто знает, какого рода откровения выслушивает он, предваренные формулой: «Только само собою разумеется, это не для печати...» Можно себе представить, сколько всего он и видит, и фотографирует, сколько знает такого, чего вообще не печатают... Думаю, за успешную вербовку журналиста кто-то получил солидную награду.
Такова жизнь, товарищ генерал. Желаем вам скорейшего выздоровления и плодоносных размышлений по поводу услышанного.
III. РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МАРКОВА
После третьего прослушивания ленты Марков немного отошел от возбуждения, лег на спину, закрыл глаза, все еще воспроизводя в памяти только что умолкнувшие голоса.
Да, на этот раз им повезло. Невероятная удача! Чтобы собрать столько полезной информации, засечь четырех агентов одного резидента, обычно нужны месяцы, годы. А здесь — все вот в этой маленькой кассете... Отчего же мысль о везении не радует, как обычно, а гнетет? Чем должны они расплатиться (и он прежде всего) за этот необычайный успех?
Марков не был склонен рассчитывать ни на удачу, ни на случайности. В жизненной практике такое может иногда произойти. Ищешь безуспешно преступника по всей стране — и вдруг видишь его покупающим простоквашу в магазине рядом с твоим домом. Дни и ночи пытаешься найти предателя, регулярно раскрывающего перед Западом тайны внешней торговли, — и вдруг случайно получаешь информацию, что на имя такого-то директора внесены десять тысяч долларов на его личный счет в одном из банков Лихтенштейна. Да, всякое такое может еще произойти, как уже не раз происходило. Но полагаться на случайность, на удачу генерал считал легкомыслием, притом преступным легкомыслием. Однако в данном случае следовало честно признаться перед самим собою, что удача налицо...
Тридцать пять лет своей жизни Марков посвятил борьбе со шпионами и не без основания полагал, что неплохо знает и характеры, и манеры этого сорта людей. А тут возникло нечто такое, что не вписывалось в традиционный шпионский пейзаж — фамилия, под которой шпион выступал. Желание избрать псевдоним вполне понятно, хотя тут и попахивает легкомыслием. Резиденту естественно связываться с разными агентами, имея абсолютно разные фамилии. Да, такова шпионская практика. Почему же Петров ее нарушил, точнее, полунарушил? С Пипевой — Христакиев, с Зарой — Христодоров, с Ерменковым — Христев, с Атанасом — Христофоров. Все фамилии начинались на «христ», и это, разумеется, не случайность, здесь сокрыт глубокий смысл. Но какой? И распространяет ли Петров этот приемчик на других своих агентов, которые наверняка еще выплывут?
Любопытную, мягко говоря, фигуру представляет этот товарищ Петров. За неделю четыре агента. А за месяц сколько можно раскрыть? Притом как они все ему безоговорочно подчиняются, как четко докладывают о вынюханных секретах, как покорно выслушивают новые задания!.. Как удалось ему завербовать в приспешники, холуи всех этих граждан народной республики, среди которых оказался даже член партии? Той партии, которой он, Крыстю Марков, посвятил всю свою жизнь. Партии, за идеалы которой погибли его любимая, его близкие друзья... И какой же силой держал Петров в слепом подчинении своих приспешников? Неужели только шелестом купюр?
Теперь, немного успокоившись, Марков начал размышлять, зачем все-таки принес ему Ковачев эту радиопьесу, столь старательно сочиненную коллегами. Неужто лишь для удовлетворения любопытства своего начальника? Нет ли в этой любезности еще и скрытого смысла? И что это за смысл?.. Только один! Пока ты сладко почиваешь в генеральской палате, Петров действует. Он получает секретную информацию о внешнеторговых сделках, информацию, которая в любой день может уплыть за кордон. Если уже не уплыла! Он дает указание пронюхать все о стратегически важном заводе. Имеют ли они право в данном положении предпочитать свои оперативные интересы, дожидаться, когда всплывут новые агенты, когда могут пострадать интересы всей страны? Имеет ли он право отлеживаться?
Да, каждый день, каждый час приобретал теперь огромное значение. Он, генерал Марков, должен быть на боевом посту и сам все решить. Всю ответственность взять на себя. Он, а не его подчиненные!
Генерал позвал дежурную сестру и попросил принести обмундирование...
На этот раз Петров нарушил свой традиционный маршрут и другим трамваем поехал на бульвар Витоши. Здесь он заглянул в рыбный магазин, кое-что купил, но поехал опять-таки не домой, а в противоположную сторону. Ехал он долго, чуть не до конца маршрута, пока трамвай не оказался на улице Революционеров. Здесь Петров буквально на несколько секунд заскочил в подъезд старого дома, где обитал Васил Заралиев, и тут же вышел из подъезда. За эти считанные секунды он вряд ли успел бы даже убедиться, что Зары нет дома. Ибо Зара тем временем сидел за чашкой кофе в закусочной поблизости и вернулся домой два часа спустя.
Ковачев был убежден, что Петров не только не искал встречи с Зарой, но заведомо знал о его отсутствии. Видимо, он что-то ему оставил в почтовом ящике — скорее всего деньги. Когда на другой день внимательно, хотя и незаметно, осмотрели почтовый ящик, сразу же обратили внимание на замок: он был повышенной секретности, импортный и настолько надежный, что вполне подошел бы и для сейфа.
Рано утром Атанасов вместе с молодым фоторепортером Станчо Славовым возвращался из Родоп в Софию. В машине сидели две прихваченные по пути длинноволосые девицы в синих джинсах и полупрозрачных кофточках. Узнав о возвращающемся журналисте, генерал вызвал к себе Ковачева, Петева и Консулова.
— Ну вот, ребятки, наш Атанасов переполнен впечатлениями от посещения завода, от курорта Пампорово, где задержался на два дня, и скоро вернется в любимую редакцию, — начал он оживленно. — Кто поручится, что вечером ему не позвонят? Где гарантия, что буквально следующей ночью информация не перескочит через «железный занавес»?
Все молчали. Слишком много оставалось нерешенных вопросов и сомнений. И главный вопрос — сколько еще невыявленных петровских агентов?..
— Мы призваны охранять секреты нашей державы, — как всегда, первым начал Петев. — Это наш высший долг. И потому нельзя больше рисковать. Третьим звонком для нас должен стать телефонный разговор резидента с Атанасовым. После этого надо их всех забирать — и Петрова, и журналиста, и всю эту шатию-братию...
— И таксиста? — спросил Марков.
— И таксиста.
— И Еву?
— Именно так.
— А ее за что?
— За соучастие.
— О, какие мы лютые и кровожадные, — засмеялся Марков. — А я считал вас примером кротости.
— Вы можете шутить, товарищ генерал, но я вполне серьезен.
— А ваше мнение, Ковачев?
— Возможно, я максималист. Но я тоже не оставлял бы эту Еву на свободе. Кто знает, какие номера она еще отколет...
— Постойте, — перебил его Марков. — Я не спрашиваю о деталях. Убеждены ли вы, что пора бросить карты на стол?
— Как сказал бы товарищ Зара, — добавил с дерзинкой Консулов.
— Зара, говорите? — продолжал в задумчивости генерал. — И с Зарой побеседуем за столом, и со всеми прочими негодяями, обожающими внешнюю торговлю. Значит, позаботимся об ордерах на обыск и на арест. Прекрасно, так тому и быть. Чистая работа, никакого риска. Тогда ровно через час прошу еще раз меня посетить.
Ковачев и Петев уже поднялись, когда Консулов нервно заговорил. Голос его трепетал, казалось, он вот-вот расплачется.
— Да вы, товарищи, серьезно или театральный этюд разыгрываете?
— Что случилось, капитан Консулов? — спросил заинтригованный Марков. — У вас возникла сногсшибательная идея?
— Возникла. Задержать одного Петрова. А сеть его не трогать. Неужели мы упустим этот уникальный шанс! Ведь все мы убеждены, что в их системе нет обратной связи. Он — резидент, но с пассивными агентами. Никто из них не знает, когда он позвонит в следующий раз, какие задачи поставит, кто он такой в действительности, где живет, как выглядит. И соответственно, не узнают они и об аресте. Зачем же брать сразу всю компанию!
— А мы продолжим вместо него его дело, — засмеялся Ковачев.
— Но голос, голос-то его как имитировать? — спросил Петев.
— Скрытые, еще не известные агенты, — сказал Марков. — Допустим, что есть у Петрова и такие. Но как мы их раскроем без него? Кто их знает, кроме нет?
— Постойте, постойте, — защищался Консулов. — Есть смысл продолжать с ними игру его голосом хотя бы для дезинформации. Какие могут быть проблемы с имитацией голоса? Снимем фонограмму, сравним с другими, неужели из сотен голосов не найдем подходящего? Да и агенты не так уж и запомнили голос резидента. Много ли он им звонит?.. А если не удастся, что мы теряем? Арестовать их можно всегда, куда они денутся. Но если удастся... Представляете, какие открываются возможности...
— Да, представляю, — сказал Марков. — Но жену все же арестуем. Чтобы не подняла шум. Может, это входит в ее обязанности в их игре.
Петров все же позвонил вечером следующего дня. А возле дома его уже ожидали трое плечистых мужчин, среди которых был и майор Петев. Вскоре прибыл и Ковачев с целой группой экспертов и оперативников.
За долгие годы службы полковник присутствовал на многих внезапных арестах — и закоренелых садистов, и заурядных блатных, и согрешивших по легкомыслию, и даже невиновных. Да, к сожалению, и такое подчас случается. Соответственно наблюдал он и поведение, реакции задержанных как в момент ареста, так и на первых допросах. Он давно уже установил, что эти реакции не всегда эквивалентны, не всегда соответствуют естественному правилу, по которому виноватый угрюмо сознает свою вину и молчит, а невинный изумлен, потрясен и протестует против облыжного обвинения. Случалось (не так уж редко) и противоположное — закоренелый преступник выглядит как невинный барашек, а человек действительно невиновный — то ли он испуган, то ли смущен — как угрюмый злодей.
Но реакция этого образцового гражданина и добросовестного наладчика приборов поразила даже Ковачева и всех его видавших виды коллег. Разумеется, прежде чем войти в дом, они предъявили ордер на арест и на обыск. Хозяин отреагировал так, как если бы Петев, его любимый и уважаемый кум, привел нескольких подвыпивших приятелей поздравить его с днем рождения. Любезный, улыбающийся, он приветливо пригласил всех в дом и объявил в самых почтительных тонах, что он всецело к их услугам. Он хорошо их понимает, просит не стесняться и со своей стороны готов сделать все от него зависящее, дабы они с успехом выполнили свою служебную обязанность. При этом он едва заметно усмехнулся.
Столь же учтиво, хотя и гораздо сдержанней, держалась его супруга Евлампия. И лишь изредка в ее глазах вспыхивали ледяные искры ненависти.
Петров даже не спросил, как водится, чем он обязан таким вниманием к своей скромной персоне. Всем своим поведением он как бы говорил: «Не хочу проявлять излишнее любопытство. Оставляю вам самим убедиться, что вы ошиблись. А когда вы решите, что это возможно, то сами скажете, что вас привело в наш дом».
Осмотр всех помещений — жилых комнат, чердака, гаража, отдельного чулана в углу двора, всего садика — продолжался несколько часов. Первые, хотя и поверхностные поиски оказались безрезультатными. Правда, обнаружили черный чемодан, его нашел Консулов запиханным в один из гардеробов. Однако чемодан был совсем пустой!
К десяти часам вечера осмотрели буквально все, но ничего изобличающего не нашли. Неужели у Петрова не было никаких вещей, аппаратов, денег, необходимых для шпионской деятельности? А где содержимое черного чемодана? Невероятно, чтобы Морти и таксист возились с пустым чемоданом! Возможно, резидент скрывает вещественные улики где-то на стороне, у сообщника, или закопанными в земле. Или, может, у себя на работе? Для начала генерал предпочитал объяснить отсутствие Петрова на работе его внезапной болезнью.
Ковачев распорядился отложить обыск на другой день, решив привлечь сюда научно-технический отдел. Понятых отпустили по домам, все двери опечатали и оставили двух часовых. А Петрова и жену разместили в отдельные камеры. Негласное наблюдение показало, что Евлампия долго не могла успокоиться и задремала едва лишь перед рассветом. Петров же сразу уснул сном праведника. Или у этого человека были железные нервы, или... Нет, он не был невиновным. Но почему чувствовал себя таковым?..
Обыск продолжился на следующее утро, после того, как эксперты привезли свою сложную и разнообразную аппаратуру. Каждую вещь разглядывали поштучно, книги перелистывались страница за страницей, мебель тщательно измеряли в поисках потайных мест. Стены прослушивали ультразвуковыми аппаратами, магнитометры ощупали каждый квадратный дециметр, в ход пошли специальные рентгеноскопы и гамма-детекторы.
Лишь к обеду удалось обнаружить первый тайник — в дымоходе одного из каминов. Тогда обследовали другой камин — и там тайник. Место было выбрано достаточно традиционно, и, разумеется, при вчерашнем обыске оба камина осматривали: и газеты жгли — тяга была идеальной, и железную гирю со щеткой — главное орудие-трубочистов — пускали в ход — никаких препятствий не встретилось. Да, тайники располагались в традиционном месте. Но конкретное решение отличалось необычностью и точностью исполнения всех деталей.
В средней части дымохода была устроена параллельная выемка, где хранилось шесть пластмассовых контейнеров. Электромотор этого маленького лифта опускал контейнеры к нижнему отверстию камина (а оно было не в комнате, а в подвале!), где можно было спокойно открыть дверцу и распоряжаться контейнерами.
Ни единый мускул не дрогнул на лице Петрова, когда начали подробно записывать в протокол содержимое всех шести контейнеров. Один был заполнен купюрами по двадцать, сто и пятьсот долларов. Второй — болгарскими левами, но он был неполон. Из остальных контейнеров извлекали приборы — многочисленные, разнообразные и подчас непонятные даже специалистам. То было в буквальном смысле последнее слово в области микроминиатюрной электроники — аппараты для шифрования и дешифрования, аппараты, способные «сжать» шифрограмму и «выстрелить» ее за считанные доли секунды. Обнаружили и два радиопередатчика — один коротковолновый, для дальних связей, другой работал только на ультракоротких волнах, так что бессмысленно было подслушивать радиопеленгаторами, когда его задействуют для связи с некой дипломатической миссией в пределах Софии...
IV. КТО ТЫ, ГРАЖДАНИН ПЕТРОВ?
Допросы начались на другой день после завершения всех формальностей с обыском. Петров до самого конца так и остался как бы любопытным наблюдателем. Все происходящее в его доме вроде и не касалось самого хозяина, хотя и было крайне интересно. И только под конец обыска он ввел в свою роль несколько стыдливых ноток деликатного раскаяния.
Первый допрос Ковачев и Консулов проводили вместе. Роли распределили так: Ковачев будет вести официальный допрос, а капитан, удобно расположившись в кожаном кресле возле стола, станет наблюдать за резидентом. И вмешиваться будет лишь в крайних случаях.
Когда старшина ввел Петрова, тот смиренно застыл в дверях, взглядом уперся в ковер, руки вытянул по швам, точно ему предстояло выслушать смертный приговор, сел он лишь после третьего и даже немного резкого приглашения Ковачева, да и то лишь на самый краешек стула.
На формальные вопросы по установлению личности отвечал ясным голосом гораздо подробней, чем требуется для протокола. А когда Ковачев предложил ему рассказать о своей преступной деятельности, он опустил еще ниже голову, прошептав еле слышно: «Виновен!» Казалось, от отчаяния он готов был биться головой о стену.
Столь скорое признание вины было, разумеется, обнадеживающим, но явный налет театральности не обещал ничего хорошего.
— Я знаю, слышал, читал в криминальных романах, — спокойно начал Петров, — что в данной ситуации положено обращаться к вам казенным словом «гражданин». И все же прошу вас от всего сердца, позвольте называть вас «товарищи». Поверьте, я искренне чувствую вас товарищами в испытании, которому меня подвергла судьба.
— Хорошо, хорошо, — поспешил его успокоить Ковачев. — Не возражаю. Чем же вы хотели бы поделиться с вашими новыми товарищами?
— Я человек чистосердечный. И сам не могу понять, почему ранее не пришел к вам с повинной. Но за ночь я все переосмыслил и понял, что единственный путь для меня — чистосердечное раскаяние.
— Похвальная идея, — уже серьезно сказал полковник. — Приступайте к чистосердечному раскаянию.
— Два месяца тому назад я случайно бродил по Русскому бульвару и возле магазина иностранной литературы познакомился с двумя иностранцами, похожими на супружескую пару. Я искал одну техническую книгу, они — альбом с красотами Рильского монастыря или с болгарскими иконами. Я постарался подобрать им подходящие издания. Они довольно сносно говорили по-болгарски. Когда мы вышли из магазина, я предложил им посидеть в кафе-мороженом при гостинице «Болгария». Говорили мы, как водится, о разных пустяках и условились встретиться на другой день. Встретились. Я предложил осмотреть на моей машине живописные окрестности Софии. Была, помню, суббота, и поездка удалась на славу. Обедали мы в мотеле «Белые березы». Расплачивались за обед они. По этому пункту я с ними чуть было не рассорился, но в конце концов уступил этим милым людям. Я рассказывал за обедом о Софии, они интересовались, чем я занимаюсь, с кем живу. Уверен, что я был первым болгарином, с которым они разговаривали здесь. И я не видел оснований скрывать что-то о себе или о своем образе жизни...
Фатальный разговор состоялся на следующий день, в воскресенье. Ах, если б можно было вычеркнуть из моей жизни это воскресенье! Мы поднялись на Витошу и провели на горе весь день. Обедали в ресторане. Но на этот раз я настоял и платил сам. После обеда жена легла позагорать на солнышке, мы прогуливались поблизости. И тогда он начал совершенно особенный разговор — о пользе сотрудничества между народами, против ненависти, разъедающей нынче весь мир, и националистической, и расовой, и классовой. Он был убежден, что самые добрые, самые культурные, самые интеллигентные люди, где бы они ни жили, братья и должны служить гуманной идее предотвращения войны, идее мира и взаимопонимания. В общем, он предложил мне оказывать некоторые мелкие услуги одной державе, как он выразился, «дружески настроенной к судьбе многострадального болгарского народа». Великой державе, знаменосцу свободы и демократии во всем мире.
Петров продолжал держаться смиренно, смотрел он в одну точку стола, а стиснутые руки сложил на животе как при молитве.
— И я, можете ли вы поверить, я, глупец, я, простофиля, я, всю жизнь честно прослуживший моему народу, согласился. Ничтожество! Глупец! Преступник!
— Постойте, постойте! — пресек это самобичевание Ковачев. — Лучше скажите, откуда были эти иностранцы?
— Я не знаю. При начальном знакомстве они пробормотали имена, но я не запомнил, как водится. А друг друга они называли то «дорогой», то «дарлинг». Но давайте вернемся к вопросу, который не дает покоя моей душе. Я согласился не только во имя свободы и демократии. И вовсе не потому, что мне было предложено на выбор ежемесячно по сто долларов или триста левов, за те мелкие услуги, которые я им должен был оказывать. И без того неплохо зарабатываю, к тому же с моей благоверной мы обходимся без излишеств. Нет, я решился, ибо меня уверили, что в моей услуге нет ничего, упаси боже, противозаконного. Единственное, что от меня просили, — соорудить в доме два тайника. В общем, все то, что вы открыли. Мне объяснили, где и как я должен их сделать. В тайники я должен был загрузить контейнеры с вещами, которые мне пришлют. И по особому указанию передать эти вещи лицам, которые явятся с паролем.
— Каков пароль?
— Мне сказали, что при необходимости сообщат его по телефону. Но позвольте мне продолжить исповедь. Мои знакомые отбыли в понедельник. Прошло пятнадцать дней, последние спокойные дни в моей жизни. И вот однажды голос с иностранным акцентом сообщил мне по телефону, что следует немедленно приехать на вокзал и из ячейки А-34 в камере хранения забрать черный чемодан. Шифр я помню — 1681. Что я и сделал. В чемодане были все необходимые приспособления и подробные указания для монтажа тайников. Там же, в чемодане, я обнаружил и деньги, что описаны в протоколе, и всю эту непонятную аппаратуру. В записке, которую я немедленно уничтожил, говорилось, что я должен взять себе тысячу левов — аванс за три месяца и сто левов в покрытие расходов на монтаж тайников. Что я и сделал. С тех пор никто мне не звонил и не появлялся. А доллары я даже в руки не брал... И последнее. Уверяю вас, что моя жена тут ни при чем. Она ничего не знает, ничего!
— Очень интересно. Но как вы объясните, что столь честный и ничем не запятнанный гражданин, как вы, без колебаний согласился служить иностранной разведке?
— Какая разведка? Я просто хранил их вещи!
Тут уже смиренный Петров явно перебрал с наивностью. Переигрывает, подумал Консулов.
Картина окончательно прояснилась — резидент сообщал заранее вымышленную версию. Он явно не подозревал, что был под наблюдением, начиная со сцены на вокзале. Но тут-то и крылась загвоздка. Ковачева смущало, почему он рассказывает о чемодане, если они ничего о нем вроде бы не знают... Был ли это симптом разоружения, или Петров поддался первой ассоциации — известно, что камера хранения удобна для негласной передачи вещей.
Поскольку на первом допросе Петров ни разу не упомянул о своих разговорах по автомату, Ковачев тоже решил не касаться пока этой темы. Он твердо придерживался формулы: «Стремись получить максимум информации при минимуме с твоей стороны». Эта максима, на его взгляд, отражала древний закон биологии. Тигр обладает превосходной тончайшей чувствительностью, чтобы обнаружить свою жертву, но даже он, всесильный зверь, раскраской шкуры сливается с джунглями.
Дальнейшие допросы должен был вести Консулов, придерживаясь все той же линии: слушать, уточнять, вылавливать противоречия.
— Как и вчера, ничего нового? — спросил Ковачев у капитана на утреннем докладе.
— Если новое и есть, то не в словах, а в контексте. Нет, даже не в контексте, а в целостной оценке всех проведенных допросов. Я основываюсь даже не столько на фактах, сколько... скажем... на интуиции, хотя и не привык полагаться на этот ненадежный реквизит парапсихологии.
Все в кабинете молчали, и Консулов, выждав, продолжил:
— Я уверен, что агентура у Петрова не маленькая и руководил он ею активно. Вопрос в том, как она была завербована. Не могу представить, что вербовал лично он. Ведь, судя по всему, агенты ни разу не видели его в лицо. Значит, вербовал другой. Как? Когда? Кто он? Все ли еще он в Болгарии? Или передал всю свою агентурную сеть Петрову? Я убежден: Петров принял агентов из рук в руки уже здесь, в Софии, бессмысленно искать следы и в Провадии, и в Русе, и в Видине. А играет он с нами в кошки-мышки не только по поводу своего резидентства. Ставка у него покрупней.
— Что может быть покрупней его шпионской деятельности? — удивился полковник.
— Его личность. Три дня, проведенных в его компании, убедили меня, что перед нами вовсе не провинциальный электротехник, а человек с высшим образованием, с огромной эрудицией и богатым житейским опытом. Именно интуиция подсказывает: перед нами птица высокого полета. Сколько можно слушать эти опротивевшие его причитания и так называемые раскаяния? Не пора ли заняться биографией героя?
— Может быть... и пора, — протянул Ковачев. — Хотя бы для того, чтобы высветить все стороны его жизни. Даже если вы не правы.
— Я прав, — отвечал капитан с подчеркнутой уверенностью. — И для начала посвятил целый допрос уточнению его жизни в провинции и службе в армии. К сожалению, товарищи, урожай не богат. Он будто бубнит чужую автобиографию. До запятой вызубренную, однако чужую. На эти допросы я ухлопал целый день. А в воскресенье, когда вы отдыхали, я кое-что сочинил.
Консулов извлек из папки несколько исписанных страниц и протянул полковнику.
— Здесь резюмированы все тонкости в его биографии, все детали, которые позволяют установить личность. И план дома, где он обитал с покойной супругой, и план улицы, и расположение близлежащих магазинов, где он бывал сотни, тысячи раз. В общем, здесь множество бытовых подробностей, могущих его изобличить. Потому что чужую автобиографию можно вызубрить до запятой, а бытовые подробности — это как сказать...
— Как же он реагирует на ваши дотошные расспросы о житье-бытье? Понимает ведь, что интерес не случаен?
— А никак. Как всегда, невозмутим. Не удивляется даже самым пустяковым вопросам. Хотя для меня это тоже сигнал.
— Вы что же, не допускаете, что Петров — это действительно Петров? — спросил Петев.
— Речь не о том. Дело проще. Достаточно иметь хотя бы одну его фотографию тех лет.
— Почему так уверены? Подмена — слишком рискованная игра, разоблачить при этом можно быстро и легко.
— Моя уверенность покоится на одном косвенном, но достаточно красноречивом доказательстве. Еще при обыске я заметил и удивился, что в доме нет ни одной фотографии хозяина до его переезда в Софию. Ни на стенах, ни в столе, ни в семейном альбоме. Чего не скажешь о тете Еве — ее жизнь представлена с младенчества... Лично я не знаю никого, чтоб у него не было фотографий детства и юности. Допустим, в характере Петрова существует такая странность. Допускаю, что он все свои фото однажды потерял. А если нет?
Консулов оказался прав.
Выяснить личность резидента поручили Дейнову, снабдив его сочинением капитана, теперешними снимками кающегося преступника и его паспортом. И Дейнов для начала полетел в Русе, где паспорт был выдан. В паспортном столе с личного дела смотрел совсем другой человек. Разница была слишком очевидной. Настоящий Петров был с пухлыми щеками, курнос, с круглыми добродушными и чуть глуповатыми глазами под дуговидными бровями. Лицо же на паспорте было слегка удлиненным, напоминающим лица раннехристианских аскетов, брови прямые, взгляд острый, стальной, нос тонкий и достаточно длинный...
V. ТРИНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СВЯТОГО ИГНАЦИЯ
Утром Консулов явился на работу не просто чисто выбритым, в белоснежной рубашке, с черным галстуком, как он являлся всегда, но и подстриженным, благоухающим парфюмерными ароматами. Настроение его вполне соответствовало жениховскому обличью. Однако он таинственно молчал и лишь многозначительно усмехался.
Ковачев вслух расписывал день для каждого, будто ничего не замечал, и лишь в самом конце спросил как бы между прочим:
— А вы, капитан Консулов, чем занимались вчера, забыв заглянуть утром к своему непосредственному начальнику?
— Я был вчера в библиотеке. Весь день, — так и встрепенулся Консулов. — И вчера, и позавчера. Аж до самого вечера.
— Гляди-ка, — искренне удивился Петев. — До сих пор я знал, что кое-кто из научных работников под видом сидения в библиотеке шастает по магазинам или еще куда. Но чтоб шастали представители нашего ведомства. Что-то не верится...
— В публичной библиотеке, дорогой Петев, сосредоточены мудрость и знания, которые человечество, заметь, мыслящее человечество, копило тысячелетиями. Библиотека находится возле университета. Для тех, кто и этого не знает, поясняю: университет расположен на углу Русского бульвара и бульвара Толбухина. Такое большое здание, Дейнов...
— Достаточно, достаточно, — вмешался полковник в намечающуюся перепалку. — Расскажите, чем вы утоляли голод по тысячелетней мудрости, накопленной человечеством.
— Я читал и записывал в надежде, что вы оцените мои старания. — Консулов достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, развернул, внимательно оглядел-всех присутствующих и начал читать: — «Правила скромности. Первое. Повсеместно выказывай скромность и смиренность. Второе. Не крути легкомысленно головою, а поворачивай голову медленно и лишь при необходимости. Держи ее прямо, слегка наклонив вперед, не заваливая ни вправо, ни влево. Третье. Глаза должны быть потуплены, не следует смотреть без нужды в сторону или вверх. Четвертое. Когда разговариваешь, особенно с лицом, обладающим властью, смотри не в лицо, а чуть ниже подбородка».
Тут Консулов сделал небольшую паузу, как бы ожидая услышать комментарий или дать коллегам возможность усвоить прочитанное. Ковачев поначалу был изумлен, но после четвертого правила какая-то мысль мелькнула в мозгу, какой-то образ возник мимоходом. Да, образ резидента. Это же его описание, слепок его своеобразного поведения.
— «Пятое. Не морщи лоб и особенно нос. Лицо твое всегда должно быть беззаботным, отражающим внутреннее спокойствие. Шестое. Губы не стискивай, но и широко не раскрывай. Седьмое. На лице твоем должно быть выражение скорее веселости, нежели печали или некоего иного необыкновенного чувства. Восьмое. Твой внешний вид и одежда должны быть опрятными и приличными. Девятое. Руки держи спокойно. Десятое. Ходи спокойно, не торопясь, если нет особой необходимости. Но и при необходимости соблюдай приличие. Одиннадцатое. Все твои слова, жесты, все телодвижения должны быть всеобщим примером. Двенадцатое. Выходить наружу следует вдвоем-втроем, как предпишет начальство. Тринадцатое. При разговоре не забывай скромность и приличие как в словах, так и в манере поведения». — Консулов опустил бумагу и закончил тише обычного: — Таким вот образом, товарищи. Вызывают ли ассоциации эти тринадцать правил?
— Это, несомненно, экстравагантное описание манер нашего резидента, — сказал Ковачев.
— Но если бы вы знали чье. Словесный портрет нашего героя — всего лишь копия с оригинала. Оригинал же жил больше четырехсот лет назад. Это небезызвестный Игнаций Лойола, основатель и первый генерал ордена иезуитов. Тринадцать правил святого Игнация обязательны для братьев иезуитов и доныне определяют их поведение.
Сообщение Консулова всех крайне удивило. Задуманный капитаном эффект, безусловно, удался. Первым нарушил молчание Петев.
— Что же... выходит... резидент наш еще и иезуит?
— Получается так. Если не допустить случайного совпадения между его поведением и тринадцатью правилами. Впрочем, я должен объяснить, как наткнулся на эту премудрость. С первого дня знакомства с этим субъектом что-то меня постоянно скребло, не давало покоя. Слишком уж особенным, слишком необыкновенным было его поведение — и вечное смирение, и постоянно потупленный взгляд, и размеренные, как бы сдерживаемые движения рук. Все свидетельствовало о том, что в человеке есть нечто чуждое нам — не болгарское, не социалистическое, если угодно. Он замешен из другого теста. Но какого? Где? Мейд ин Ю Эс Эй? Сделано в США? Или где-то еще? Тогда-то я и решил порыться в библиотеке. Но, сознаюсь, сначала пошел по ложному следу. Вы, верно, слышали такое выражение — протестантское лицемерие? Так вот, вбил я себе в голову, что он из породы протестантов, может быть, даже тайный пастор, работающий, допустим, не только на американскую церковь. Более того, как вы знаете, его благоверная госпожа Евлампия, субботница, адвентистка, из клана фанатиков, чье главное в жизни занятие — ожидание скорого пришествия страшного суда. При такой подруге был резон предположить, что и он протестант. Но я ошибся, и эта ошибка стоила мне целого дня сидения в библиотеке. Однако этот день не прошел попусту. Не знаю, насколько вы знакомы с различными протестантскими течениями: лютеранством, кальвинизмом, цвинглианством и так далее. В одной только англиканской церкви несколько сект: баптисты, методисты, квакеры, пятидесятники, адвентисты, вроде нашей Евлампии. Каково было разобраться всего лишь за два дня в этом религиозном хаосе, это знаю только я, хорошо бы за эти деньги получить надбавку за вредность. За вредность моральную... Залез я, значит, в протестантский лабиринт, долго плутал, но все же выбрался. Тогда-то меня и осенило божье просветление. Разве лицемер и иезуит — не синонимы? И пошло дело, пошло. Особенно помогло мне сочинение Алигьеро Тонди, бывшего иезуита, варившегося в котле святой конгрегации, вкусившего с лихвою иезуитской премудрости и сбежавшего от духовных своих собратьев, когда увидел всех изнутри. Кстати, труд его читается как увлекательный роман. В нем-то я и нашел тринадцать правил. Игнаций Лойола сочинил их еще в середине шестнадцатого века, а его последователи, божьи служители, вылепили нашего героя сообразно этим правилам. Для вящей славы господней, или, если перейдем на латынь: ад майорем деи глориам!
VI. «АД МАЙОРЕМ ДЕИ ГЛОРИАМ»
Завершив разбор странного открытия Консулова, полковник позвонил генералу Маркову и попросил немедленно его принять. Причем вместе с капитаном Консуловым — не только потому, что генерал, возможно, захочет услышать подробности от первоисточника, но и из-за чувства справедливости. Консулов заслужил похвалу и должен был получить ее лично от генерала.
Консулов на сей раз чуть приглушил свои сценические эффекты, но от первоначального сценария не отказался: и тринадцать правил прочел, и пространно все объяснил. Генерал слушал терпеливо, ни разу его не перебил, а в конце встал и по-отцовски обнял Консулова.
— Браво, капитан, скоро станете майором. Нравитесь вы мне. Я тоже бился в догадках относительно лже-Петрова, но дальше душевных терзаний так и не ушел. А надо было, оказывается, идти в библиотеку. Еще раз поздравляю!.. А теперь, ребятки, давайте думать, как использовать открытие Консулова. Не настал ли срок сбросить маски и заставить этого иезуита играть в открытую...
Да, дело близилось к завершению. Игра по телефону-автомату 70-69 все еще продолжалась, хотя и безрезультатно. Сравнив фонограммы голосов работников управления, установили, что самый подходящий голос у фотографа-эксперта Петра Манчева. В установленные часы он выходил на петровских агентов, давал новые задания от имени резидента, выслушивал доклады, но практической пользы это не приносило. Ибо новых агентов не раскрыли.
— И все же он болгарин, — воспользовался наступившим молчанием капитан. — Я твердо уверен!
— И я думаю так же, — сказал Ковачев. — Но как он оказался в 1975 году в Софии, вот вопрос. Мы установили, что приехал из Видина. А до этого? Кем он был, прежде чем стать Георги Петровым? Чем занимался? Пока мы это не установим, откровенничать с ним не стоит.
— Вопрос в том, когда он стал иезуитом. Сейчас ему под пятьдесят. В таком возрасте роль иезуита вызубрить невозможно. Нужно было пропитаться этим духом еще в юности, не меньше тридцати лет тому назад.
— Значит, где-то в начале пятидесятых годов, — подхватил мысль полковника Марков. — Помню я эти времена, ох как помню. И процесс пасторов, и процесс кюре. Но иезуитов у нас в стране были считанные единицы. Кто же и зачем сделал из него иезуита?
— Именно сделал, вылепил, — сказал Ковачев. — Такое возможно лишь в молодости, когда психика еще не устоялась.
Марков жестом остановил полковника.
— Погодите, погодите! У нас же было целое гнездо иезуитов! Их французский коллеж в Пловдиве... постойте... как же он назывался... там еще раскрыли одного старого шпиона, Анри д’Ампера, небезызвестного в свое время пэра Озона... трудный был человек. Ученики дразнили его пэром Пизоном. До сих пор не могу его забыть. Ах да, заведение называлось коллежем святого Августина, принадлежало конгрегации «Успение Богородицы»... Вот какие номера откалывает склероз: выплывают из памяти историйки, вроде бы уж канувшие в Лету. Этот коллеж ежегодно выпускал альбомы с фотографиями своих питомцев и абитуриентов. Возьмите эти альбомы в нашей библиотеке, поройтесь в них. Не удивлюсь, если и эта змея выползла из гнезда пэра Озона...
Архив бывшего французского коллежа святого Августина действительно сохранился. Среди огромного количества книг отыскались и упомянутые генералом альбомы с фотографиями и краткими характеристиками. Дальнейшее было делом техники. Из пяти представивших определенный интерес фотографий следовало найти одну, для чего эксперты зафиксировали 28 опорных точек на голове — анфас и профиль и сравнили их с соответствующими точками на фото теперешнего Петрова. Измерения и вычисления указали на Стефана Мирославова, окончившего коллеж в 1947 году.
Для контроля генерал распорядился проверить биографии и четырех остальных заподозренных. Двое жили в Пловдиве, один в Русе, четвертый умер два года назад, а пятый... Пятый безвестно канул еще в 1954 году, и о той поры никто о нем ничего не слышал. Несомненно, он-то и играл роль Петрова. Понадобилось всего несколько дней, чтобы навести нужные справки. Биография резидента была короткой, но содержательной.
Стефан Мирославов (все называли его Стив) родился в 1928 году. Он был единственным сыном Йозо Мирославова — богатого католика, владельца обширных земельных угодий, нескольких доходных домов на главной улице Пловдива, столь же обширных лесных массивов в Родопах и двух лесопилок. Религиозен он был до фанатизма и вместе с супругою Марией регулярно посещал католический собор святого Людвига. Неудивительно, что их единственный сын оказался в коллеже иезуитов, который и закончил с золотой медалью.
В гимназическом архиве оказалось немало материалов о молодом Мирославове, характеризующих его с самой лучшей стороны. Как известно, отцы-иезуиты обращали особое внимание на детей из высших слоев, которые благодаря своим родителям могли занять со временем видное место в обществе. Особенно если они ко всему прочему были трудолюбивы, интеллигентны и тщеславны. Всеми этими качествами как раз и обладал Стив. Почти все годы обучения он был лучшим учеником класса и являл пример усердия при посещении богослужений и литургий в гимназической капелле и в соборе святого Людвига. Поэтому никто не удивился, когда на выпускных торжествах ему вручили «При д’экселанс» — «Награду достойнейшему». Помимо грамоты, получил он и роскошный альбом с цветными видами самых знаменитых замков Франции. Но гораздо важней другое: высокая награда обеспечивала Стиву не менее высокую стипендию во французском университете.
Да, до этого момента все развивалось самым прекрасным образом. Но только до этого момента! После 1947 года началось стремительное падение Мирославова. Во-первых, ему не разрешили отбыть во Францию на учебу. Официальным мотивом отказа послужила необходимость пройти военную службу! И Стив оказался в казарме. Через два года его демобилизовали, но мир, где он оказался, к этому времени разительно переменился. Все богатства его семьи были конфискованы или национализированы — начали действовать революционные законы народной власти. Родителям, владевшим дотоле многими домами, оставили одну комнату, где они прозябали без каких-либо доходов. Впрочем, отец вскоре скончался от инфаркта — судя по всему, он не смог перенести столь решительной перемены в своем общественном положении.
Стив и его мать остались вдвоем. Жили они, правда, без прежнего довольства и блеска, но все же прилично, хотя и не работали. Возможно, им помогал кто-то из прежних друзей. Но все прежние друзья тоже находились в незавидном положении. Скорее всего госпожа Мария Мирославова где-то прятала шкатулку с драгоценностями, которые потихоньку сбывала. Так или иначе, но Стив поступил на юридический факультет Софийского университета. Скоро и здесь он оказался в числе первых студентов...
Второй сокрушительный удар в судьбе Мирославова последовал в 1952 году. При очередной чистке его исключили из университета как социально чуждого элемента и сына «бывших». Причем исключили перед самой летней сессией, когда он готовился сдать (как всегда, с блеском) экзамены. Можно представить, какая буря разразилась в душе молодого амбициозного Стива, какой бурлил в нем вулкан ненависти к новой власти.
Начался новый этан в его жизни. То ли не найдя более подходящего занятия, то ли из-за оскорбленного самолюбия и всем назло, но многообещающий молодой юрист переквалифицировался в чернорабочего. Несколько месяцев он работает возчиком, свозя кости из мясных лавок на фабрику, вырабатывающую клей. Затем довольно долго трудится землекопом — роет песок и гравий на берегах Марицы.
При раскрытии шпионско-диверсионной организация католических кюре в июле 1952 года были засечены какие-то связи Стефана Мирославова с отцом Павлом Джиджовым, священником и бывшим главой католическо-униатской семинарии при коллеже святого Августина. По архивам трудно было установить, насколько эти связи были серьезны, противозаконны, во всяком случае, на самом процессе Стив не фигурировал. Либо следователь проявил небрежность, либо Мирославов и впрямь не лез в политику.
Два года проходил он в чернорабочих и не предпринял ни одной попытки найти себе более подходящее занятие. Люди, знавшие его в те времена, вспоминали, что поначалу он был в страшном отчаянье и даже подумывал о самоубийстве. Но постепенно Стив успокоился — возможно, свыкся с новым своим положением, возможно, злоба перевесила в нем все остальные чувства, и он, стиснув зубы, замкнулся в себе, намеренно избирая работу потяжелей...
Так прозябал он вместе с матерью, без любимой и даже без случайных подруг, погруженный в одиночество и озлобленность. Пока в мае 1954 года не исчез. В одно прекрасное утро, как всегда, ушел из дома на работу, но там не появился. И с этих пор будто в воду канул. Пришлось порыться в архиве Пловдивского окружного управления. Там обнаружилось заявление Марии Мирославовой, чей сын исчез в среду, 7 мая. Заявительница просила милицию найти сына и установить, не случилось ли с ним несчастья. Как ни странно, заявление датировалось 14 мая, неделю спустя после пропажи человека. Почему озабоченная мать не подняла тревогу сразу на другой день? Такая забывчивость объяснялась легко. Мать и сынок сговорились, у сына была целая неделя для осуществления задуманного плана, и лишь затем — для оправдания матери — последовало заявление.
По данным архива госбезопасности и пограничных войск тоже нельзя было узнать что-то определенное. В первой половине мая 1954 года на границе было вроде бы спокойно, а имевшие место инциденты носили совершенно иной характер.
Так в биографии Стефана Мирославова образовался пропуск в целых 23 года. Невероятно, чтобы все эти годы он скрывался в Болгарии. Значит, сбежал за границу, допустим во Францию, чтобы с семилетним опозданием получить свою стипендию. Ясно, что он вращался за рубежом в эмигрантских кругах. Это давало следствию некоторые надежды...
Ковачев долго трудился над соответствующим запросом, сводя воедино все предположения и догадки, все фотографии резидента в разных позах и ракурсах, не только сегодняшние или из альбома коллежа, но и из семейного архива Мирославовых в Пловдиве, которые предоставила следствию смущенная дряхлая мать Стива...
Ответ на запрос наконец пришел. Назван он был справкой, что не соответствовало действительности. Толстый пакет с густо исписанными листками напоминал скорее научную монографию, рукопись кандидата наук. Судя по всему, над «справкой» трудился не один человек, и не одно дело в архиве было тщательно пересмотрено.
Первая, вступительная глава, названная «Идентификация», была целиком посвящена отождествлению Георгия Михайлова Петрова с личностью Стефана Йозефа Мирославова и с разными фигурами, подвизавшимися в период 1954—1975 годов в болгарской эмиграции и среди шпионов. Оказывается, через два месяца после исчезновения Стив появился в Риме под собственной фамилией. И здесь навсегда с ней распрощался. Бесспорно доказывалось, что сначала он был француз Анри Лекок, затем итальянец Филиппо Таламо, затем отец Джузеппе Паван и отец Пьетро Коффи, а возможно, и известный эмиссар Ватикана отец Густаво де Реджис.
Анри Лекоком он стал в Венеции, в спецшколе иезуитов, где готовили шпионов-радистов и шифровальщиков. Его явно предназначали для Болгарии, но он, как везде, оказался среди первых учеников, и наставники решили его использовать для других целей святого ордена.
Так Стив попал в стены новициата Иисусова общества в Галлоро, возле Ариччи, в 30 километрах от Рима. Сведения о его деятельности в этом иезуитском воспитательном учреждении отсутствовали. «Святые братья» умело хранят свои тайны. Но известно, какова главная задача новициатов — полностью стереть, уничтожить личность новобранца и заменить ее новой, искусственной. Судя по всему, операция прошла блестяще. Когда в 1957 году Стив под личиною Филиппо Таламо покинул новициат, он был уже другим существом.
Затем последовали годы учебы в иезуитском университете в Риме, на улице Карло Каэтано. Здесь он, разумеется, тоже блистал знаниями. Здесь же он, видимо, постригся в монахи и стал членом иезуитского ордена, поскольку на выпускной церемонии в 1961 году ректор коллегии отец Густаво Веттер вручал диплом не Стефану Мирославову, и не Анри Лекоку, и даже не Филиппо Таламо, а отцу Джузеппе Павану.
Далее явствовало, что он активно участвовал в деятельности комитета содействия беженцам из Болгарии. Затем следы исчезали. Было лишь известно, что он отбыл на тайную виллу иезуитского ордена в Альпах. Потом опять полная неизвестность. В начале семидесятых годов он подвизался под именем отца Пьетро Коффи на знаменитой вилле «Мальта» — известном гнезде иезуитских шпионов, опекаемом отцом Роберто Цюлигом...
Странным, даже непонятным выглядело то обстоятельство, что после двух с лишним десятилетий безоблачной жизни в Италии, когда Стиву было уже под пятьдесят, он решил вернуться в Болгарию, чтобы превратиться в техника Петрова. Если, разумеется, он руководствовался собственным желанием. Вышестоящие отцы-иезуиты умели блюсти железную дисциплину ордена и заставляли платить старые долги.
Заброска Стива в Болгарию ставила ряд важных вопросов.
Во-первых, что случилось с настоящим Георги Михайловым? Почему он согласился на «размен» с Мирославовым и ему отдал свой паспорт? И куда делся потом? Оказался на Западе? Или закопан среди диких зарослей в горах? Такие размены — один прибывает с иностранным паспортом и остается в Болгарии, а другой с этим же паспортом убывает на Запад, предварительно переклеив фото, — были известны. Но что могло склонить Георги Михайлова к измене родине?..
Другую загадку представляла личность Евлампии Босилковой. Она, несомненно, знала о нелегальной деятельности мужа. Без нее он не смог бы соорудить свои хитроумные тайники и пользоваться ими. Да и пресловутое дежурство в доме — не означало ли это, что она выполняла свою задачу на вверенном ей посту? Не следовало забывать, что индивидуальное строение, столь пригодное для шпионской деятельности, принадлежало тете Еве, что брак с нею дал возможность резиденту получить в столице и прописку и работу. Что подтолкнуло Еву? Только ли желание увядающей вдовушки раздобыть себе любою ценой супруга, пусть даже шпиона! Или же глубоко верующая, фанатичная сектантка получила соответствующее внушение — нет, прямое указание — от своего пастора?
Тогда сразу возникал вопрос: зачем протестантский пастор заставил свою послушную овечку коренным образом изменить жизнь, заключив брак с указанным ей чужим человеком? Притом католиком. Иезуитом. Какая сила смогла принудить извечных заклятых врагов — католиков и протестантов — объединиться в общей борьбе против коммунизма?..
Первый серьезный допрос был назначен на следующее утро. Под вечер, покончив с текущими делами, генерал Марков вызвал к себе для последних уточнений Ковачева и капитана Консулова. Было решено, что допрашивает полковник в присутствии капитана, а Марков будет слушать в своем кабинете.
— Ну, ребятки, как думаете начать поединок с этим типом? — спросил генерал. — Какую увертюру ему сыграете? Не забывайте, как он вышколен, какою пышет ненавистью к нам. Дуэль придется вести по всем правилам единоборства, пуская в ход самые хитроумные приемы.
— Я предлагаю, — поспешил высказаться полковник, — начать издалека, как будто все остальное нам известно. С какой-либо незначительной, но любопытной детали. Ну, скажем... Возможно ли монаху, и не какому-нибудь, а монаху-иезуиту, допустим, некоему Пьетро Коффи, жениться, и не просто жениться, а на протестантке?
— Ха-ха! И вы полагаете, сразу загоните его в угол? Тогда вы слабо знаете нравы «христова воинства», — оживился Консулов. — Хотя и нет такого злодеяния и коварства, на которые не решились бы иезуиты, все же их главные отличительные черты — подлость и лицемерие. Не знаю, что он ответит на ваш вопрос, но я уверен: резидент ничуть не смутится. Ибо непременно воспользуется одним хитрым иезуитским приемом, именуемым «мысленный уговор». Любой иезуит готов хулить даже господа бога, в то же время мысленно его восхваляя. Для них это не только допустимо, но и обязательно, ежели речь идет об интересах всего ордена. В данном случае он наверняка уже состряпал мысленный уговор, что на Еве женился мирянин Стефан Мирославов, а точнее, Георги Петров, и этот брак не имеет никакого касательства к духовному лицу — отцу Джузеппе Павану. Не забывайте также, что брак у них гражданский, сиречь не ниспосланный богом. Уверяю вас, я не напрасно провел время в библиотеке: успел кое-что вкусить от иезуитской морали.
— Хорошо, падре, будь по-вашему, — усмехнулся Ковачев. — Тогда начнем с другого конца... Зачем вы, товарищ Петров, представляетесь по телефону под фамилиями, начинающимися с корня «христ»? Христакиев... Христодоров... Христев... Христофоров. И так далее. Звоня вашим агентам, служите вы Иисусу Христу или призываете оного полюбоваться на деяния ваши? Неужели все это во имя Христа, во исполнение вашего любимого лозунга: «Ад майорем деи глориам» — «Для вящей славы господней»?!
ШТЕФАН МУРР
ГИБЛОЕ МЕСТО
РОМАН
© 1981 by Wilhelm Heyne Verlag, München
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт.
Конан Дойл
Вчетвером сгрудились они вокруг того места, где нога Сандры Робертс в последний раз коснулась земли. Место это ничем особенным не выделялось. Вот разве только след, оставленный пляжной босоножкой без каблука, след маленькой энергичной женской ноги, причем левой. Левой ногой сделала она шаг вперед, точно так же, как до того тысячу, две или три тысячи шагов, пройдя расстояние от пансиона «Клифтон» до этого злополучного места. Ее ничто не взволновало в этот миг, след был все тот же, прямой, целеустремленный, пролегающий вплотную к дюнам, поросшим сухой невысокой травой. Она не остановилась, не оглянулась, не сделала рывка в сторону, не бросилась бежать, не замедлила шагов. Просто след на этом месте оборвался, и вот уже десять часов, как она не возвращалась в «Клифтон», хотя для этого ей понадобилось бы всего лишь пятнадцать-двадцать минут.
Кеттерле не особенно удивился бы, если б ее нашли спящей, прикорнувшей где-нибудь в камышах, быть может, со сломанной ногой или потерявшей внезапно сознание. Он не удивился бы и в том случае, если б ее нашли мертвой, выброшенной приливом на один из длинных волнорезов или же наполовину занесенной песком в густых зарослях прибрежного камыша. Но вот чего он совсем не ждал, так это того, что ее столь четкий след, оставленный босоножкой, прервется вдруг просто так, словно какая-то неведомая сила оторвала Сандру Робертс от земли.
Когда они без труда обнаружили следы исчезнувшей женщины, уводившие на пляж прямо от ее окна, Кеттерле приказал всем идти вдоль следа друг за другом на некотором расстоянии — вот почему теперь, оглянувшись, он представил, будто Сандра Робертс, отправилась на прогулку в сопровождении четырех человек. Но это было не так. Во время прогулки она была одна, одна-одинешенька. Это был одинокий след, тот, по которому они сейчас шли, и когда в тридцати метрах впереди след просто исчез, Кеттерле показалось вначале, что у него галлюцинации. Нетронутые, ровные и девственные, простирались пески далее на северо-восток. Кеттерле невольно развел руками, Хорншу и женщины остановились, обе они говорили, перебивая друг друга, а Кеттерле в это время, засунув руки в карманы пальто, описывал широкую дугу, снова приведшую его к месту, где след обрывался.
Сомнений быть не могло, и старший комиссар полиции Готфрид Цезарь Кеттерле покачал головой. Затем осмотрелся. В сторону суши пологими волнами протянулись ровные песчаные дюны, на гребнях которых даже от слабого дуновения ветерка клонилась к земле сухая трава. Вообще-то комиссар любил неприхотливость и легкий незатихающий шепот камышей, но в этот миг шепот их показался ему издевательским.
Огромное свинцовое море устало катило тяжелые валы, над морем недвижно нависало небо, сплошь затянутое плотными перистыми облаками. Далеко впереди маяк, невысокий, но мощный, высвечивал изломанную линию горизонта. Летящий реактивный самолет заполнял небо изматывающим гулом, гул этот, однако, оборвался так же быстро, как и возник.
Кеттерле наклонился и еще раз внимательно посмотрел на след левой ноги Сандры Робертс, последний в ее жизни след.
— Вы верите в привидения, Хорншу?
И хотя Хорншу в привидения не верил, он почувствовал, как по спине его забегали мурашки.
— Все-таки тут есть что-то нелепое, — пробормотал он мгновение спустя.
Кеттерле решил не поддаваться тревожному настроению этого странного утреннего часа. Он внимательно оглядел девушку и женщину, безмолвно стоявших рядом и широко раскрытыми глазами наблюдавших за ним, и Хорншу.
— Если оставаться на почве реальности, — сказал комиссар, — следует предположить, что начиная с этого самого места следы Сандры Робертс были уничтожены. Уничтожены кем-то или чем-то. Займемся сначала «чем-то». Ветер, вода, как вы думаете?
Но почему именно на этом месте и дальше ветер должен был уничтожить следы? В тяжелой свинцовой духоте последних четырнадцати часов можно было рассчитывать лишь на внезапный, резкий и очень ограниченный порыв ветра. Однако в пользу подобной гипотезы ничего не говорило, к тому же и сильнейший шквал не смог бы полностью уничтожить следы. Где-то впереди они неизбежно обнаружились бы снова. Но продолжения следа не было.
Может, вода? И беглого взгляда комиссару было достаточно, чтоб убедиться, что линия прилива не доходила сюда по крайней мере с месяц.
— Итак, остается лишь «кто-то», — сказал он, и на миг показалось, будто его глухо и задумчиво произнесенные слова обращены непосредственно к безвинному отпечатку босоножки.
— Здесь мы тоже имеем две возможности, Хорншу, она сама или кто-то еще.
Хорншу хотел было что-то сказать, но комиссар продолжал:
— Не торопитесь, Хорншу. Если это была она сама, то и здесь мы имеем две возможности. Либо это настоящее самоубийство, либо его инсценировка.
Комиссар расстегнул пальто и пошарил в карманах. Он даже не успел захватить из дома сигары.
— Как выглядела дама? — спросил он неожиданно одну из стоявших рядом женщин.
— Трудно сказать. Она приехала вчера. В пятницу вечером она позвонила из Гамбурга и справилась, есть ли у нас свободные номера. Я ответила, что сейчас у нас проживает один только полковник и я могла бы предоставить ей отличную комнату на той стороне дома... Вы знаете, здесь, на Северном море, большинство комнат выходят окнами на море... Но вот вечный шум прибоя...
Похоже, она собралась углубиться в детальный разбор преимуществ и недостатков отдыха на Северном море. Однако комиссар прервал ее:
— Выходит, вы никогда прежде ее не видели? Я имею в виду до сих пор.
— Нет, никогда, — ответила женщина.
— Какую профессию она указала в гостиничном бланке?
— Никакую. Довольно изнеженная особа, видно с первого взгляда, уже по тому, как она заказывала ужин и справлялась насчет горячей воды. У нас на это чутье, можете поверить...
— Вы видели ее паспорт?
— Конечно, — ответила женщина, — он и сейчас у меня в столе. Если только она не прихватила его с собой.
Комиссар Кеттерле прикусил верхнюю губу.
— Так, — только и сказал он.
Странно, как это он сам не додумался. Очень важно ведь, взяла она паспорт или нет. Однако Сандра Робертс вылезла из окна, чтобы направиться к морю. Если бы перед этим ей потребовалось забрать из столика портье паспорт, она с таким же успехом могла выйти и через дверь.
— Когда вы обычно запираете двери? — спросил комиссар.
— Когда ты вчера заперла двери, Хайде?
Укоризненный взгляд пронзил девушку насквозь, словно женщина заранее знала, какой ответ получит.
— Вечно она забывает, — обратилась она, как бы извиняясь, к Кеттерле.
— Значит, опять забыла, Хайде? Лучше признайся.
Девушка только кивнула.
— Я должна с вечера вымыть кухню, собрать обувь для чистки, накрыть в столовой к завтраку, запереть на окнах ставни. Я не могу помнить обо всем.
— И вы не боитесь? — спросил он.
— Нет. А чего? — ответила девушка и не спеша убрала прядь светлых волос за ухо. — Я вообще ничего не боюсь.
Комиссар кивнул.
— А вы смелая, — сказал он. — Хорншу, сфотографируйте для нас эту загадку природы. И чем скорее, тем лучше. Пока Рёпке прибудет со своим саркофагом, следы успеет замести ветер. Попробуем сохранить их до прибытия технической группы.
Кеттерле заметил, что губы у женщины дрогнули.
— С саркофагом? — пробормотала она, словно только сейчас поняла, о чем идет речь.
Кеттерле улыбнулся.
— Нет, нет, совсем не то, что вы думаете. «Специальная машина отдела убийств» звучит длинновато. Между собой мы называем ее саркофагом. Она в самом деле так выглядит. Вот видите, Хорншу, нам следует быть осторожнее в выражениях, уголовная полиция и так не пользуется доброй славой!
Хорншу опустился на колени и постарался в хмуром утреннем свете запечатлеть на фотопленке последний след Сандры Робертс. Поднялся он, как заметил Кеттерле, уже с другим выражением лица.
— Ничего я тут не понимаю, — произнес Хорншу.
Кеттерле лишь пожал плечами.
— Важно разобраться, не сама ли она уничтожила след, — сказал он и еще раз внимательно, огляделся.
Внешний вид песка не давал оснований предполагать, будто со вчерашнего дня здесь поработали иные силы, кроме дующего с моря слабого ветерка.
— Стойте! — резко одернул он девушку, сделавшую несколько шагов вперед. — Вы испортите чутье собаке. Отойдите в сторону.
Кеттерле почувствовал нечто вроде облегчения, представив, как собачий нюх наверняка вернет эту чертовщину на почву реальности. Реальные, достоверные факты — они особенно бывают нужны, когда след человека уводит в пустоту. К тому же Готфрид Цезарь Кеттерле верил только в реальные факты.
— ...Если же это был кто-то другой, — неожиданно продолжил он свою мысль, — то у нас остается не две возможности, а только одна.
Женщины удивленно уставились на него.
— А почему, собственно, вы удивляетесь? — спросил комиссар. — Вы ведь тоже подумали о чем-то таком, иначе не позвонили бы в Гамбург. Обычно извещают местную полицию, и все.
— Это полковник, — сказала хозяйка, глядя на море, — он настоял. Мне бы и в голову не пришло. Наверное, так было правильно. Полковнику всюду чудятся подозрительные вещи. Он педантичен и недоверчив, но в этом случае, должно быть, он прав.
— Должно быть? — буркнул комиссар. — Должно быть — это хорошо, ха-ха. Поторопитесь, Хорншу, мы ведь не знаем, вдруг ветер усилится. Лучше уже сейчас кое-что предпринять.
Он взбежал, запыхавшись, на гребень дюны и осмотрелся вокруг. Неподалеку, в низине, примостился маленький домик, летнее бунгало или просто пляжная хибара. Домик казался необитаемым, ставни на окнах были закрыты.
— Чей это дом? — крикнул он сверху и показал рукой.
— Хозяева живут в Бремене. Он врач. Фамилия — Лютьенс. Они появляются здесь лишь в августе. В остальные месяцы дом сдают. Сейчас там никого нет. — Хозяйка поднялась вслед за Кеттерле на гребень дюны и взглянула в сторону домика.
— Да, он пуст. Нынче это стало модно — сдавать в аренду. Они портят нам сезон, а ведь съемщики при столь высоких ценах ничего не выигрывают. Они должны сами готовить еду, к тому же хозяева навешивают на них всякие работы по дому.
Она бодро направилась к дому, и снова комиссару бросился в глаза желтоватый оттенок ее кожи и усталый вид, так странно контрастировавший с оживленной деловитостью.
— Стойте! — крикнул ей комиссар. — Ходить только по моим следам. Хорншу, давай-ка снимем ставни с окон.
Широким полукругом они приближались к дому с задней стороны.
«Почему, собственно, я не разрешил ей подойти к дому? — спросил себя Кеттерле. — Как бы то ни было, надо учитывать все. Да и Рёпке скажет спасибо, если мы не оставим без внимания мельчайшие детали».
Дом был тих и явно негостеприимен. Комиссар обследовал ставни на окнах. Они были прочно закрыты изнутри на засовы, однако, расшатав створки, можно было отогнуть запорные крюки. Сквозь грязные стекла было видно, что в доме долго никто не жил. Кеттерле и Хорншу сняли две ставни с петель и понесли напрямик через дюны вниз — к месту, где кончался след Сандры Робертс.
— Вы видели когда-нибудь заграждения от снежных заносов, Хорншу?
Хорншу заграждения от снежных заносов видел и потому помогал комиссару со знанием дела. Они установили ставни «шалашиком». Всего притащили восемь тяжелых створок, прикрыв ими последние двенадцать метров следа Сандры Робертс. Мелкий песок равнодушно засыпал бы его при самом легком бризе.
Все это время Хайде недвижно стояла на гребне дюны и внимательно наблюдала за ними. Когда полицейские с двумя последними створками остановились рядом, чтобы отдышаться, она вдруг подняла руку и показала в сторону моря.
— Смотрите, море, — произнесла она.
Хорншу бросил взгляд на Кеттерле, потом на девушку.
— Ну и что? — сказал он. — Море как море.
Хайде загадочно улыбнулась.
— Не совсем. Когда начнется отлив, моря там уже не будет. Одни песчаные отмели, а между ними — протоки, течение в них страшное, да еще топи, водовороты.
Она поежилась, словно от холода, и ссутулилась.
Далеко впереди, за беспокойно бурлящей водой, Кеттерле разглядел плоские, размытые контуры острова. Много веков хранил он почти скрытые сейчас водяной дымкой развалины, древнее оборонительное сооружение, судя по всему.
Комиссар велел Хорншу находиться там, где обрывался след. Он решил не оставлять это гиблое место без присмотра. По дороге в «Клифтон» он сфотографировал еще несколько следов Сандры, где контур босоножки отпечатался в сыром песке особенно четко.
Обе женщины терпеливо дожидались, внимательно наблюдая за его действиями.
Поднявшись с колен и перемотав пленку, комиссар заметил вдалеке приближавшегося мужчину, который отчаянно размахивал руками.
Полковник, подумал он, наверняка сам полковник. Движется с военной точностью прямо по следу.
— Это вы комиссар? — крикнул тот еще издали. — Там звонят из уголовной полиции. Я решил позвать вас, не теряя времени. Ну как, удалось ее найти?
— Сойдите со следа! — рявкнул Кеттерле. — Кто звонит?
Полковник возмущенно выпрямился, а Кеттерле представил себе Рёпке, извергающего проклятия в телефонную трубку, ибо времени у него, как всегда, было в обрез.
— Человек назвался Рёпке, — сказал полковник, покосившись на напряженно-строгое лицо Кеттерле.
Комиссар сжал губы.
— Вы и вообразить не можете, что значит заставить Рёпке ждать, — быстро проговорил он и кинулся к «Клифтону».
Но вдруг другая мысль пришла ему в голову, и он резко обернулся.
— Я запрещаю вам толкаться на том месте и что-нибудь там трогать! — крикнул он полковнику.
Женщины одновременно принялись в чем-то убеждать полковника, но тот упорно продолжал глядеть в спину уходящему Кеттерле.
— Весьма самоуверенный тип, не правда ли? — спросил полковник фрау ван Хенгелер, когда Кеттерле отошел на приличное расстояние.
«Клифтон» прежде был мрачной скособоченной крестьянской усадьбой, каких много на этом участке побережья. Потом его перестроили, но соломенная крыша осталась до сих пор. Комиссар вошел через вполне современную стеклянную дверь. На столике портье лежала телефонная трубка.
— Алло, Рёпке?
— Долго заставляете ждать.
— Извините, Рёпке, тот человек просто идиот.
Комиссар оглянулся, но в холле никого не было.
— Дело не в этом, Кеттерле, почему вы так долго не звоните? Ведь вы должны были быть там около девяти, ну в половине десятого. Что-нибудь случилось?
— Выезжайте немедленно, Рёпке. Такого вы еще не видели.
— И это говорите вы?
Комиссару Кеттерле и в самом деле довелось кое-что повидать в жизни.
— От этой женщины не осталось и следа. Ну, кроме обычных следов ее ног. Но на самом интересном месте обрываются и они.
— Как это?
— А вот так. Когда выезжаете?
— Немедленно, — ответил Рёпке, — ведь это, как я понял, горит?
— Да, — сказал Кеттерле, — в самом деле горит. Прихватите собаку.
— Чую, дело непростое, — сказал Рёпке.
— Вот это уж точно. След обрывается, и все. Посреди нетронутого песка. Словно его перерезали.
— Буду часа через два.
— Чаще включайте сирену и мигалку. Дорога ведет через деревни. Чем быстрее приедете, тем лучше. Хотя бы потому, что может подняться ветер.
— Ясно, — сказал Рёпке. — Пока.
Кеттерле положил трубку и сквозь низкое окошко увидел, как к дому приближаются хозяйка и Хайде.
— Значит, полковник все-таки отправился туда? — буркнул он, когда женщины вошли в дом.
— Да он не простит себе, если не побывает на том месте. Он и так расстроился оттого, что принимал ванну, когда вы прибыли. Оставьте ему хоть это удовольствие. Должно же быть что-то у человека, когда не нужно больше командовать артиллерией. В последний раз он скомандовал «огонь» на Одере. Под Вриценом. Но вам предстоит еще услышать об этом.
Фрау ван Хенгелер вздохнула.
— Не очень-то все это хорошо для репутации «Клифтона», — добавила она и принялась сортировать немногочисленные письма, оставленные почтальоном на столике в ее отсутствие.
— Ну почему же, — сказал Кеттерле, внимательно взглянув на нее. — Вспомните, какую рекламу создают привидения старым замкам в Англии.
— Такое мне в голову не приходило, — сказала хозяйка, раскладывая письма по ящичкам.
Один конверт она протянула комиссару.
— Взгляните, вот эта телеграмма вас, наверное, заинтересует.
Комиссар сунул телеграмму в карман пальто. Сначала он хотел выяснить все, что можно выяснить в доме, а уже потом с помощью телеграммы начать знакомиться, так сказать, с самой Сандрой Робертс, с ее окружением, семьей и друзьями, с ее образом жизни и привычками. Ему необходимо было знать, в какой комнате она остановилась, что делала в тот вечер, что читала, что ела и, главное, что и много ли пила. Но перед этим нужно было уладить еще одно дело.
— Следует известить доктора Лютьенса в Бремене, что мы воспользовались его ставнями, — заметил он. — Не могли бы вы взять на себя этот труд? А кроме того, пригласить кого-нибудь из местной полиции. В нашей стране все должно проходить строго по инстанции.
— Это я хорошо знаю. Вы не представляете, сколько пришлось пережить, пока я не получила разрешение на перестройку дома и открытие «Клифтона». Должно быть, изучали мое происхождение до четвертого колена, но и после этого потребовалось личное вмешательство одного из членов ландрата. Сыграло свою роль и то, что мне весьма полезен здешний климат. А в конце концов все ведь устроилось прекрасно, правда?
В данный момент, однако, комиссар не разделял наивную радость хозяйки.
— Где ее комната? — спросил он.
— Первый этаж, последняя слева. Номер три. Хайде покажет.
Девушка была в кухне.
— Не беспокойтесь, найду сам. Вы там ничего не трогали?
— Боже сохрани, — сказала женщина. — Вы плохо знаете нашего полковника.
Комиссар мрачно усмехнулся.
— Уж не запер ли он ее?
— Нет, — ответила хозяйка. — Хотя намерение такое было. Но я решила, что мы не вправе делать даже этого.
Кеттерле с благодарностью взглянул на нее и покинул холл. Он миновал две кирпичные арки в деревенском стиле и вздрогнул, наткнувшись на фигуру святого в человеческий рост, который как-то уж очень неожиданно протягивал ему навстречу свою благословляющую руку. Пол в прихожей выложен был плитками красного песчаника. На старом сундуке слегка покачивался давно не чищенный самовар. В темном углу стояли огромные, почти черные часы. На длинной темного дерева полке тускло поблескивала старинная фризская утварь из латуни. Она тоже была давно не чищена. Перед дверью номер три Кеттерле вытащил носовой платок, положил его на выдержанную в стиле барокко, тоже давно не чищенную дверную ручку из матово поблескивающей латуни и осторожно нажал. В комнате царил полумрак, тяжелые клетчатые портьеры были сдвинуты. Это они заметили еще, когда рассматривали след под окном. Ставни были притворены, как и утром.
Комиссар включил свет и начал осматривать комнату. Постель и в самом деле была не тронута. Белье выглядело так, словно его только что выгладили и застелили. Сандра Робертс успела распаковать чемодан и забросить его на шкаф. Рядом с кроватью стояли домашние туфли на высокой танкетке. На ночном столике лежал раскрытый журнал. На нем стоял дорожный будильник в футляре из крокодиловой кожи. В шкафу висел очень дорогой шерстяной костюм в крупную клетку, даже с вешалки излучавший удивительную элегантность. Рядом пальто из верблюжьей шерсти, вверху на полке лежала модная темно-зеленая шляпа.
На столе лежала сумочка из крокодиловой кожи, рядом перчатки и ключи от машины.
Комиссар отворил дверь в ванную. Шторы были задвинуты и здесь. Над раковиной на стеклянной полочке Сандра Робертс разложила свои косметические принадлежности, мыло, шампунь. Одна из бумажных салфеток, какими обычно снимают косметику, была использована в валялась, скомканная, в унитазе. Да еще полотенце было небрежно брошено на никелированную вешалку.
Комиссар подошел к окну, раздвинул шторы, попробовал его открыть и тут вдруг увидел ужасное, невыносимо отталкивающее лицо.
Самым страшным в этом лице было выражение тупости, переходящей в полное безразличие к миру, и это в сочетании с непрерывными и беспорядочными движениями тела. Мужчина выпрямился и повернул голову в его сторону. Его поразительное уродство бросалось в глаза лишь тогда, когда наблюдатель уже как-то смирялся с тупостью и апатией на его лице.
Шорох за спиной заставил Кеттерле вздрогнуть.
— Это Кадулейт вас так напугал?
В дверях стояла Хайде с вычищенными ботинками в руках, и Кеттерле усмехнулся. Бросив еще один взгляд в окно, он понял, что Кадулейт моет автомашину. Для этого он выбрал мощеный участок двора между домом и сараями. Должно быть, там всегда мыли машины.
— Кадулейт — всего лишь несчастный уродец, — сказала Хайде и поставила вычищенные ботинки под дверь. — Люди часто пугаются его. А я вот не боюсь. У него тоже никого не осталось на свете. Он у нас и садовник и истопник, а еще присматривает за автомобилями и кое-что ремонтирует по дому. Он силен, как медведь и наивен как ребенок. Но не думайте, что он такой уж глупый.
— Так-так, — пробормотал Кеттерле. — Фрау ван Хенгелер дозвонилась до Бремена?
Девушка кивнула.
— Они хотят получить официальное уведомление, чтобы потребовать возмещения убытков.
— Возмещение убытков, — скривился Кеттерле. Он ненавидел людей, которые при любом ничтожном поводе думают только о собственной выгоде. — Возмещение убытков — если бы тут и поставить точку на этом деле! Когда вы вчера легли спать, Хайде? — спросил он и уселся в тяжелое голландское кресло, принадлежавшее к обстановке комнаты номер три.
— Десять минут двенадцатого, господин комиссар.
— Значит, около двенадцати, когда фрау ван Хенгелер постучала к Сандре Робертс, вы уже спали?
Хайде кивнула головой.
— А где вы спите?
Девушка показала в направлении сарая.
— Над гаражом. Там чердак расширен. Когда мы нанимаем официанта и повара, они тоже спят наверху. А теперь сезон закончен, и я там одна. Но я ничего не боюсь.
— А Кадулейт?
— Кадулейт спит в подвале. Рядом с котельной. Хотите посмотреть?
— Потом. Сандра Робертс не заказывала у вас завтрак?
— Нет. А я забыла спросить. Уходя спать, я предупредила об этом фрау ван Хенгелер, но она сказала, что так поздно беспокоить гостью неудобно. Проходя по двору, я заметила у госпожи Робертс свет. Я тогда еще вернулась и сказала об этом фрау ван Хенгелер. Она ответила, что, может, сама еще попробует постучаться к ней.
— А что делала госпожа Робертс весь вечер?
— Она приехала примерно в половине четвертого. Я помогла ей разгрузить машину и распаковать вещи. Потом она пошла на пляж. Она даже купалась, хотя вода сейчас всего четырнадцать градусов. Когда вернулась, ей захотелось есть, и в половине седьмого они сели ужинать.
— Кто это они?
— Фрау ван Хенгелер, полковник Шлиске и госпожа Робертс. Они ужинали в той комнате, где камин, при свечах. Это создает атмосферу, так говорит полковник. Но отчищать потом эти подсвечники ужасно. Госпожа Робертс была в восторге. Видно, ей у нас очень понравилось.
— А что на ней было надето, Хайде?
— После купания она надела светлые брюки, темно-зеленый свитер с огромным воротником и пляжные босоножки.
Комиссар кивнул.
— А что она делала после ужина?
— Выкурила пару сигарет, потом листала журнал, потом глядела, как полковник раскладывает пасьянс. В одиннадцатом часу она отправилась к себе в комнату и выставила мне туфли для чистки.
— Пляжные босоножки?
— Нет. Вот эти.
Хайде показала на туфли в ванной комнате.
— Быть может, здесь есть что-нибудь из вещей, бывших на госпоже Робертс после купания?
Девушка внимательно оглядела комнату. Потом покачала головой. Комиссар встал.
— Хорошо, Хайде, — сказал он, — большое спасибо.
— Это что, был допрос?
— Ну, если вы хотите это так называть...
В холле,за столиком портье стояла хозяйка. Она стянула с головы платок, и теперь ее короткая стрижка и маленькие жемчужины в ушах имели весьма благородный вид. Она явно не собиралась скрывать седину. Кеттерле даже показалось, что она подкрашивает волосы. Встречаются женщины, для которых это своего рода кокетство. Но фрау ван Хенгелер была явно не из таких. Да и вид у нее какой-то уж очень нездоровый, подумал комиссар.
— Вот ее паспорт, — хозяйка протянула комиссару документ вместе с заполненным гостиничным бланком. — Она его не забрала.
Впервые Кеттерле увидел лицо столь таинственно и внезапно исчезнувшей женщины.
— Фотография похожа?
Хозяйка пожала плечами.
— Пожалуй, да. Этот тип женщин всегда выглядит одинаково. Лично я не нахожу в них ничего особенного. Сплошная штукатурка. Но с первого взгляда впечатляет.
Комиссар просмотрел бланк. Елена Антония Александра Робертс. Александра подчеркнуто. Девичья фамилия просто Райс. Родилась 27 августа 1933 года в Кляйн-Видау, недалеко от Познани. Место жительства — Гамбург.
В паспорте перечислены приметы: волосы светлые, сложение среднее, рост 160 сантиметров, глаза голубые. И, естественно, особых примет нет.
Кеттерле сунул паспорт во внутренний карман пальто.
— А кто, собственно, выключил свет? — спросил он. — Вы ведь сказали, что в спальне еще горел свет, когда около двенадцати постучали к ней.
— Это Хайде сделала. По рассеянности или просто не подумав. Полковник устроил ей головомойку и хотел было снова включить. Но я решила, что хватит и того, что один раз выключатель уже трогали.
Кеттерле невольно рассмеялся. У этой странноватой дамы было явно больше здравого смысла, нежели у вышколенного в военных академиях замшелого полковника.
— И что же, она не ответила на ваш стук?
— Нет. Я постучала дважды. Потом подумала, должно быть, уснула, и вернулась к себе.
— А ключ все так же торчал снаружи?
— Да.
— И вы не открыли дверь, чтобы посмотреть, что случилось?
— Но, господин комиссар, — возмутилась хозяйка, — в нашем гостиничном деле...
— Да, да, конечно, — проговорил Кеттерле, — прежде всего скромность и уважение к постояльцам. В конце концов не могли же вы предположить такое.
Он помолчал.
— А вот и полковник, — сказал он, посмотрев в окно. — Не могли бы вы помочь мне, фрау ван Хенгелер? Попросите девушку сменить Хорншу на пляже! Сейчас он необходим мне здесь. Потом Рёпке привезет с собой достаточно народу. — Он взглянул на часы. — В половине первого они будут здесь. Если ничего не случится, конечно.
Хозяйка мгновение помедлила.
— Ну, если только полковник согласится в обед удовольствоваться яичницей...
Отставной вояка как раз вошел в холл.
— Не согласитесь ли вы сегодня в порядке исключения на весьма скромный ленч? — спросила его хозяйка.
— Разумеется, разумеется. Особые обстоятельства требуют особых мер, к тому же я не сомневаюсь, что вы восполните это хорошим ужином.
Полковник потер узловатые руки.
— Чисто сработано, — сказал он. — И весьма предусмотрительно вы обошлись со ставнями.
Он был в своей стихии.
Фрау ван Хенгелер отправилась на кухню. Полковник стоял у окна.
— Ну и что же вы думаете обо всей этой истории?
Больше всего в жизни комиссар Кеттерле ненавидел такие многозначительно-доверительные вопросы, задававшиеся обычно с видом, будто лишь случайность помешала вопрошающему самому вести следствие.
— А ничего, — отрезал он. — В котором часу вы вчера легли спать?
— Вы что, собираетесь меня допрашивать? — спросил полковник, одергивая пиджак и выпрямляясь во весь рост.
— Быть может, вам известно, где находится фрау Робертс? — резко спросил Кеттерле.
— Нет, как вы посмели...
— В таком случае вам придется отвечать на мои вопросы. Потому что мне поручено это выяснить, мне, а не вам.
— Но если у вас есть подозрения, неужели нельзя поделиться...
Комиссар вплотную подошел к отставному офицеру.
— Ведите себя разумно, прошу вас, — он принудил себя к дружелюбному, почти заклинающему тону. — У нас нет пока ни малейшего представления, что же на самом деле произошло. А уж до каких-то подозрений нам далеко так же, как до второго пришествия. И если вы действительно хотите в один прекрасный день узнать, что произошло, тогда потрудитесь отвечать на мои вопросы. Итак, в котором часу вчера вечером вы легли спать и где расположена ваша комната?
Комиссар знал действие на людей резкой и настойчивой своей манеры и потому нисколько не удивился, когда полковник беспрекословно начал давать показания.
Они сидели в оконной нише, и Кеттерле было видно, как Хайде вышла из пансиона в направлении пляжа. Полковник как раз доложил ему, что лег спать около одиннадцати. Его комната расположена в мансарде и выходит окнами на море, но ничего особенного он не заметил. Насколько ему помнится, госпожа Робертс ушла к себе чуть раньше. Потом он заснул, и лишь сегодня утром Вилли (Вилли — это фрау ван Хенгелер, Виллемина ван Хенгелер, если точнее) сообщила ему, что новая постоялица, очевидно, отправилась погулять и до сих пор не вернулась. Остальное комиссару известно.
Оба они глядели вслед уходящей девушке, которая все ускоряла шаги, завязывая на ходу платок на голове.
— Вилли нелегко с ней приходится, — сказал полковник без всякой видимой связи. — Она ленива, строптива и все делает наперекор. А сама Вилли очень больна.
Кеттерле только собирался сказать, что не разделяет такого мнения о Хайде, как вдруг послышалось прерывистое тарахтенье мопеда и вахмистр местной полиции, в форме, как и положено, свернул за угол дома.
— Прошу прощения, — быстро проговорил Кеттерле и распахнул входную дверь.
— Так это вы — комиссар из Гамбурга?
— Да. А вы — начальник местного полицейского поста?
— Так точно. Фрау ван Хенгелер просила меня прибыть как можно скорее.
Комиссар предъявил полицейскому удостоверение.
— Нас известили напрямую и особо обратили внимание на, то, что в данный момент нет ветра. Поэтому мы и выехали немедленно. Надеюсь, вы не чувствуете себя обойденным?
— Если честно, то я этому даже рад, господин комиссар. Как мне сказала Вилли...
— Вилли?
— Да. Здесь все ее так называют. Удалось вам установить что-нибудь?
— Пока ничего. Что вы обычно предпринимаете, когда разыскиваете здесь пропавшего?
Рука комиссара описала широкий полукруг над застывшим в неподвижности мелководьем, отдающим тяжелым свинцовым отливом.
— Обязательно сегодня? — спросил полицейский.
— Конечно, — кивнул Кеттерле. — И чем скорее, тем лучше.
— Как правило, собираются полицейские силы со всего округа. Подключаются рыбаки, ловцы креветок, иногда помогают крестьяне. Сейчас вода спадает, но уже через три-четыре часа здесь будет настоящая буря.
Не говорите ерунды, хотел было сказать Кеттерле, но вспомнил, как Хайде повязывала голову платком. Еще утром платка на ней не было.
— Видите на горизонте тонкую серую полоску? — спросил полицейский, выключив наконец мотор и установив мопед на подножку. — Вот это буря и есть. В районе Шарнхёрна начнется уже часов в шесть-семь.
Он громко откашлялся и поправил на себе форму.
— Должно быть, вы этого не знаете. При сильном северо-западном ветре прилив гонит воду в дюны. Конечно, отдельные отмели остаются, как правило, те, что сейчас покрыты водой, однако встречное течение на мелководье образует водовороты, и все мгновенно засасывается в трясину, под верхний слой песка. Случалось находить скелеты, которые согласно экспертизе пролежали в песках столетия. Эти пески сущий ад, особенно в шторм и туман.
Комиссару стало не по себе.
— Тогда лучше поторопиться, — сказал он. — Поговорите с начальником окружной полиции. Организуйте все, что надо. Мы ведь даже не знаем, покончила ли она с собой, или просто хотела исчезнуть, или была убита. Вопросы эти не могут оставаться без ответа. Подумайте о ее родных.
Полицейский помедлил.
— Вот если у Хайде будет время... — сказал он.
— У Хайде?
— Да. Она лучше всех знает, как ведут себя пески во время прилива и отлива. Она бродила в них месяцами. Ведь где-то здесь остался лежать ее отец. У Хайде на пески особое чутье. Однажды ее застиг внезапный шторм. Четырнадцать часов просидела она на единственной дюне, которая выдавалась над поверхностью воды, а на следующий день вернулась домой жива-невредима.
— Так-так, — сказал Кеттерле. — Ну что ж, хорошо, я поговорю с Хайде. Пока вы соберете всю вашу команду, прибудут эксперты из Гамбурга. К тому времени мы успеем осмотреть дом и пляж. А теперь приступайте. Если необходимо разрешение ландрата, я обеспечу его в течение нескольких минут.
— Нет, нет. Достаточно руководства округа. Потом я введу вас в курс дела.
Полицейский пошел в дом, а Кеттерле взглянул на часы. Было двадцать минут первого, небо становилось все темнее.
Наконец-то комиссар увидел подходящего Хорншу. Тому давно уже пора было появиться. Но Кеттерле послал ему на смену девушку, а девушка была удивительно красива. Кеттерле воспринял бы эту ситуацию с юмором, если б не знал, что часа через три-четыре начнется шторм. Они вошли в дом.
— Давайте-ка сейчас вчетвером осмотрим дом, сарай и окрестности, фрау ван Хенгелер, — сказал Кеттерле. — Потом приедет оперативная группа, они еще раз прочешут пляж и дюны, и, если все будет хорошо, операцию закончим до начала шторма.
— А на что вы рассчитываете, собираясь обыскивать дом? — прогремел голос полковника.
— Ни на что. Но разве вы, будучи командиром, упустили бы хоть малейший шанс на победу?
Комиссар умел разговаривать с полковником.
Хорншу отправился с Вилли к сараю, полковник Шлиске повел Кеттерле на чердак.
Без особого подъема, да, впрочем, и без успеха порылись они в сваленной под соломенной крышей рухляди, подвигали мебель, покрытую многолетней пылью, заглянули под затянутые паутиной балки.
Вдруг им показалось, что неимоверный порыв ветра поднял тяжелую соломенную крышу и понес куда-то вдаль. Кеттерле прислушался.
— Шторм, — сказал полковник. — Мы услышим это еще не раз, прежде чем он разыграется по-настоящему.
Из слухового окна Кеттерле видел Кадулейта, который продолжал мыть машину.
— Хорошо хоть, с моей он уже разделался, — пробурчал полковник, просунув взъерошенную голову в соседнее окошко.
— А это разве не ваша? — спросил Кеттерле.
— Нет, — ответил полковник, — эта принадлежит отелю. Пока они не могут позволить себе что-нибудь поновее. Подобный пансион начнет приносить реальный доход еще очень не скоро.
На верхнем этаже они открывали одну дверь за другой и осматривали все комнаты подряд. Отсюда был хорошо виден пляж.
Комиссар составил о полковнике верное представление. Офицеры на пенсии не расстаются обычно с полевым биноклем.
— У вас есть бинокль? — спросил Кеттерле.
— Конечно, — ответил полковник. — Цейсовский десятикратный, с ночным ви́дением. Заходите.
Они вошли в комнату. Кеттерле взял бинокль и навел на пляж. Девушка стояла неподвижно у самой кромки воды и смотрела куда-то за дюны. Потом она повернула голову и взглянула прямо в окуляр.
Комиссар смущенно опустил бинокль. Не могла же она увидеть его на таком расстоянии.
— Отличная штука, верно?
— Да, — сказал Кеттерле. — Отличная.
И после паузы спросил:
— А вам не приходилось слышать, что в этой местности встречаются люди со сверхъестественными способностями?
— Приходилось, — ответил полковник. — Здесь много болтают об этом. Пастухи, рыбаки, крестьяне. Но я не очень-то верю.
Комиссар промолчал.
И в этой комнате ему ничего не бросилось в глаза.
Позже он припоминал, как увидел из окошка приближающийся зеленый фургон оперативной группы, а впереди новый, тоже темно-зеленый, «опель-рекорд», принадлежавший отделу расследования убийств.
Едва все вышли из машины, он послал Гафке сменить Хайде.
Как в подвале, так и в котельной, и в каморке Кадулейта обыск не дал никаких результатов. Хорншу тоже не нашел никакой зацепки. Осмотрели даже автомашины в сарае, и вид у всех был довольно усталый.
Кеттерле поздоровался с коллегами.
— Лучше всего, Рёпке, сразу отправиться туда, где кончается след. Он ведь наиболее уязвим. В доме осмотритесь позже. Как только девушка появится, тронемся.
— Что за девушка?
— Хм, — пробурчал Кеттерле, — вам еще многому придется здесь удивляться.
— Да, — сказал Рёпке, — весьма странная хибара.
Комиссар прикусил верхнюю губу.
— И никаких конкретных данных, — сказал он. — Если только вы не найдете что-нибудь новое.
Они вышли на площадку перед домом. Небо походило теперь на огромную свинцово-серую сцену, пляж и дюны светились удивительным желтым светом.
Подошла Хайде.
— Мы сейчас поедем туда, Хайде, — сказал комиссар и показал в направлении, откуда только что вернулась девушка.
Последний отрезок пути она бежала и все еще не могла отдышаться. Рёпке покосился на нее и сразу полез в карман за сигаретами.
Хайде уставилась на незнакомых мужчин, на два автомобиля и собаку, рвавшуюся, высунув язык, с короткого поводка.
— На маленькой машине можно добраться туда по пляжу, — сказала она, подумав.
— А на большой?
Им требовалась вся аппаратура. Осветительные приборы, ультразвуковая и инфракрасная установки, штатив, рулетка. Вот только кабина для ведения допроса была не нужна. А что может понадобиться цинковый гроб, который тоже был в фургоне, об этом Кеттерле и не думал.
— На большой? Сухие пески — это просто порошок, песок вперемешку с водой — топь, зато отсыревший песок — твердый. Но придется в объезд.
Хайде показала рукой в сторону моря.
— Туда? — спросил Рёпке.
Хайде кивнула.
— Это невозможно, — сказал Рёпке. — Да знаете ли вы, дорогая, сколько стоит такой автомобиль?
— Не знаю. Но вам ведь это нужно. Или нет?
Криминалисты переглянулись, и Кеттерле чуть заметно подмигнул Рёпке.
— Ладно, под вашу ответственность, — мрачно сказал Рёпке. — Но поеду я сам.
Кеттерле расположил отряд полицейских под командой Хорншу вдоль берега и поставил перед ними задачу прочесать дюны от моря к суше.
— Ну, скажем, еще метров триста от места, где кончается след. Ясно?
Вилли, полковник и даже Кадулейт присоединились к поисковой группе. Вилли на каком-то странном языке — частично из жестов, частично из непонятных звуков — объяснила Кадулейту, что требуется.
Рёпке влез в кабину и включил мотор.
— Где эта наглая девка, черт подери? — крикнул он.
С другой стороны показалось лицо Хайде. Она бросила на сиденье туфлю Сандры Робертс.
— А как иначе вы объясните собаке, что она должна искать? — спросила она и залезла в кабину.
Кеттерле мрачно усмехнулся, влез вслед за ней и захлопнул дверцу.
— Сначала вниз, до места, где кончится дорога с твердым грунтом, — сказала Хайде, и Рёпке тронулся с места. — Теперь вот туда.
Дорога вела по склону пологой дюны, внизу песок казался намного темнее и тверже. Фургон трясло ужасно, но это было всего лишь начало. А затем они выехали прямо в открытое песчаное море.
— Газ, газ, еще прибавьте газ! — крикнула девушка. — А теперь сразу вправо, резко!
Рёпке покорно направил машину прямо в ручей, на дне которого пенилась темная вода. Ее как будто прибавлялось, но колеса пока цеплялись за грунт.
Снова начался подъем.
С уверенностью бредущего по карнизу лунатика Хайде вела фургон по каким-то совершенно непонятным кривым, через холмы, пологие песчаные склоны и тихие, наполненные водой омуты. Ручей, в который они только что въехали, похож был на ревущий поток, ибо отлив еще продолжался. Это было время самого быстрого течения.
— Где вы хотите выехать на берег? До того, как кончается след, или после?
— После, — сказал Кеттерле, крепко держась двумя руками.
— Тогда придется проехать по птичьему ручью. Но это только на первый взгляд страшно. Нельзя ни в коем случае останавливаться. Поезжайте. Чуть вправо, вот так. Прямо, а теперь дайте газ. И не бойтесь.
Она сидела, вся подавшись вперед, глаза у нее блестели.
— Газ, газ! — крикнула она, но Рёпке покачал головой.
Засасывающая трясина поднялась почти до самых крыльев. Но колеса по-прежнему цеплялись за грунт.
— Сейчас будет ровнее. Давайте же!
И в самом деле вода понизилась сначала до оси, потом до обода колеса, хотя разница уровней на первый взгляд была совсем незаметна.
— Сейчас свернете вправо, погодите, я скажу когда.
Пять минут спустя неуклюжий зеленый фургон стоял прямо поперек полосы сырого песка, полого уходящей на запад, в тридцати метрах от прислоненных друг к другу оконных ставень, из-за которых, словно огородное пугало, на них уставился своими выпученными безмятежно-голубыми глазами Гафке. За его спиной вздымались песчаные дюны, время от времени там мелькала голова или плечи кого-нибудь из поисковой группы. По большой дуге Кеттерле, Рёпке, Хайде и держащий собаку на поводке полицейский приближались к концу следа.
Рёпке подозвал к себе техников, отвечающих за дизельную установку и монтаж телекамеры.
Вскоре по песку протянулся черный, похожий на змею, кабель, штативы широко расставили свои прямые ноги, и искусно направленные прожектора залили все пространство ярким, почти дневным светом.
По небу тянулись теперь черные, рваные облака. Да и само небо тоже потемнело, стало темно-серым. Но здесь, внизу, пока не чувствовалось даже слабого ветерка. Горизонт виднелся тонкой коричневатой линией, но стоило приглядеться внимательно, и уже можно было различить хаотичное движение волн в открытом море.
Полицейские фотографировали, замеряли, обследовали каждый квадратный сантиметр, они зарисовывали и высвечивали все пространство деловито, точно и быстро, по раз навсегда усвоенной и оправдавшей себя системе.
Лишь после того, как съемки и измерения были произведены, Рёпке приказал полицейскому с собакой взять след. Они отошли на несколько десятков метров назад. Там проводник совершил с собакой ритуал, напоминавший почти что культовое действо. Он поднес туфлю Сандры Робертс к собачьему носу, потом описал ею несколько больших кругов, велел собаке взять след, произнося при этом странные заклинающие слова. Потом спустил собаку с поводка и отошел на несколько шагов в сторону.
Собака вытянула нос по следу, неуверенно протрусила до последнего отпечатка, остановилась, подняла голову и залаяла.
Тщетно пытался проводник ее расшевелить, чмокал языком, показывая на песок вокруг, прищелкивал кончиками пальцев. Все собравшиеся напряженно наблюдали за происходящим.
Однако усилия были напрасны.
Собака пробежала несколько метров вдоль пляжа к дюнам, потом к морю и в какой-то момент потеряла уверенность. Вернулась к месту, где обрывался след Сандры Робертс, замерла там и разразилась долгим и громким лаем.
— Она приняла решение, — сказал проводник, — согласно ее чутью след обрывается здесь, хотим мы в это верить или нет.
Комиссар Готфрид Цезарь Кеттерле молчал долго.
— А с собакой все в порядке? — спросил он затем.
Полицейский усмехнулся. В его усмешке чувствовалось оскорбленное достоинство.
— Она еще никого ни разу не подводила. Это лучшая наша собака. Здесь след и в самом деле обрывается.
— Такого просто не может быть, — сказал комиссар, переводя взгляд с одного на другого. — Согласитесь, с момента вознесения девы Марии никто еще не поднимался прямо с земли на небо. Чудес не бывает.
— Есть еще одна возможность, — сказал Рёпке. — Инфракрасная съемка могла бы показать уплотнение грунта, если след идет отсюда дальше, пусть даже на поверхности песка он незаметен, то есть сознательно уничтожен. Последнее слово пока еще не сказано. Впрочем, думаю, что если собака не взяла след, то маловероятно, что и инфракрасная съемка что-то даст. Придется нам постепенно привыкать к мысли, что в данном случае нельзя исключить чудо.
— Когда будут готовы снимки? — спросил Кеттерле.
Комиссар Рёпке взглянул на часы.
Было без пятнадцати два, еще пятнадцать минут займет возвращение к «Клифтону», это уже два, час работы там — три, два с половиной часа до Гамбурга — половина шестого.
— Если предупредить, что займем лабораторию, то сегодня в восемь, в половине девятого можно будет их уже посмотреть.
С северо-запада по пляжу приближалась поисковая группа во главе с Хорншу. Кеттерле не задавал вопросов: он и так знал, что следов Сандры Робертс они не обнаружили.
Тихое, таинственное шуршание и шепот стояли в воздухе, через несколько секунд они превратились в глубокий, протяжный вздох.
Хайде показала на трясину.
— Шторм приближается, — сказала она. — Лучше быстрее вернуться назад, пока вода не залила водостоки.
Полицейские начали поспешно убирать чувствительные приборы в автомобиль. Подошел Хорншу.
— Что-нибудь случилось?
Кеттерле молча взглянул на него.
— Собака тоже не смогла ничего сделать, — сказал он после паузы. Он по-прежнему отказывался верить в чудо.
Позже он отвел Хайде в сторону.
— А можно ли обыскать район мелководья еще раз?
Девушка взглянула на небо.
— Красиво сейчас, перед штормом, — сказала она. — Вы не находите? — Она крепко повязала платок. — Через два. часа совсем стемнеет. Протоки и русла наполнятся водой. Одна я еще смогла бы пройти. Но мужчины в сапогах не почувствуют колебаний песка. Они не знают, где сегодня песок без дна, а где — просто мелководье. И если они потеряют друг друга из виду...
— Значит, никак нельзя?
— Ну, если только Рикс прикажет. Я пойду с вами, но он должен это приказать. Я ведь не смогу никого уберечь.
Комиссар наблюдал, как местный полицейский, балансируя на своем мопеде, направился к ним прямо по песку. Вдруг он почувствовал, как у него с головы сорвало шляпу.
С одного-единственного мощного порыва, тут же превратившего воздух в кипящий поток, начался шторм. Камыши на пляже полегли, и словно чье-то дыхание разнеслось над охряными дюнами.
Воздух, казавшийся столь прозрачным поутру, был весь теперь пронизан рассеянным, стирающим контуры серым светом. Сверхъестественное в событиях этого дня отодвинулось на второй план.
Начался шторм.
И в одно мгновение следы Сандры Робертс исчезли. Так же, как и множество следов вокруг, оставленных другими людьми. Комиссару Кеттерле оставалось только удивляться, почему и после него не оставалось на песке никаких следов.
На обратном пути Вилли присоединилась к комиссару Кеттерле и полковнику. Для Хорншу, напротив, весьма соблазнительно было проехаться по мелководью вместе с Рёпке и девушкой. То есть, если уж быть честным, ничего соблазнительного в том, чтобы проехаться вместе с Рёпке, для него не было. Точно так же, как ничего соблазнительного не было для него и в мелководье.
Фрау ван Хенгелер была потрясена тем, сколько людей и техники привело в действие исчезновение Сандры Робертс. Полковника, напротив, все это наполняло глубоким удовлетворением.
— Это хорошо, что в наши дни во всем можно положиться на технику, — попытался он перекричать шторм. — Людям ведь свойственно ошибаться.
— Хорошо бы уже сейчас знать, ошибаюсь я или нет, — возразил Кеттерле. — А насколько можно полагаться на технику, мы еще увидим. На собаку, во всяком случае, нельзя.
Вилли ван Хенгелер пожала плечами.
— Кто знает? — пробормотала она. А потом произнесла: — В этой местности столько старых преданий об удивительных вещах. Попросите Хайде как-нибудь рассказать.
Далеко в песках они видели жутко раскачивающуюся крышу зеленого фургона, и Кеттерле представил себе, как девушка, подавшись вперед, с восторгом всматривается в надвигающийся шторм и выкрикивает: «Газ, прибавьте газ!» Отчаянная девушка. И странная.
— А сколько ей лет? — спросил он Вилли.
— Восемнадцать, — ответила она, приглядываясь к людям, ожидающим с подветренной стороны «Клифтона».
Вахмистру Риксу удалось собрать около сорока мужчин, но никто не хотел брать на себя ответственность и посылать их теперь в район песков. Комиссар предложил им до наступления темноты прочесать еще раз окрестности дома и деревню. Но сделал это без особого внутреннего убеждения.
— Что-то здесь произошло, — говорил он Хорншу, ритмично ударяя кулаком по ладони. — Но что? Допустим, инфракрасная съемка тоже ничего не даст. Тогда мы вообще с таким же успехом могли остаться дома.
Едва Рёпке въехал на своем фургоне на замощенный дворик между домом и сараем, как техники начали обследовать окна спальни Сандры Робертс и грунт под окном. Затем в обоих помещениях был высвечен каждый уголок и все сфотографировано. Наконец, специалисты по дактилоскопии с лупами и графитом тщательнейшим образом обследовали все гладкие поверхности, на которых могли остаться четкие следы человеческих рук.
Были изъяты сумочка, дорожный будильник и ключи от машины, принадлежавшей Сандре Робертс. Хорншу, стремясь найти хоть какую-нибудь зацепку, обыскал все карманы, чемодан, гостиничную папку для почтовой бумаги, даже боковые карманы и отделение для перчаток в ее автомашине, а потом сложил все вещи на пустой стол в комнате для завтрака.
Однако не нашли ничего, что хоть немного прояснило бы обстоятельства дела.
Кеттерле пожал плечами.
— Еще один момент, — сказал он. — Мы сняли все отпечатки пальцев в комнате фрау Робертс и на ее вещах. Среди них, естественно, есть отпечатки пальцев и тех, кто регулярно заходил в эту комнату по делам. Если бы мы знали, какие из них кому принадлежат, это весьма облегчило бы нам работу. Я не могу вынуждать вас к этому, но, если вы дадите сейчас отпечатки ваших пальцев, нам не потребуется позже вызывать вас в ходе следствия.
— Это вполне понятно, — сказала Вилли. — В эту комнату заходили я, Хайде и Кадулейт. Он недавно прочищал там засорившийся водопровод...
— Постойте, — вскипел вдруг полковник Шлиске. — Вы что, хотите, как преступники, приложить свои пальцы к копировальной бумаге? Но нужно немного думать и о человеческом достоинстве! Нет, мой дорогой, — обратился он к комиссару, — на это вы не имеете никакого права. Я во всяком случае... Моя честь офицера...
Он неожиданно умолк, взглянув на комиссара.
— Ваши отпечатки пальцев нам не нужны, — медленно проговорил Кеттерле, — при условии, конечно, что вы до этого никогда не переступали порога той комнаты, я предполагаю это с полной уверенностью, не так ли?
На лице полковника отразилась внутренняя борьба. Он и не пытался скрывать своей ненависти к этому мелкому полицейскому сыщику.
— Ну, если дело только во мне, — сказал он, помедлив, — то можете получить и мои тоже. Все-таки я жил в прошлом году в этих комнатах.
Шторм разыгрался не на шутку, ветер, завывая, налетал на стены дома, гнал облака пыли, песка и мусора, заметал их во двор между домом и сараем, заставлял старую соломенную крышу вздыхать и громко шуршать.
Кеттерле счел свою миссию в «Клифтоне» законченной. Рёпке сложил все имущество в свой «саркофаг» и около половины пятого покинул пансион. С наступлением темноты вернулся вконец измученный вахмистр Рикс и сообщил, как и следовало ожидать, о безрезультатности поисков. Потом он выпил две рюмки можжевеловой, пробормотал что-то насчет проклятой погоды и объявил, что остальные с удовольствием выпили бы по рюмочке не в столь благородных условиях, для них достаточно и простой деревенской пивной. Комиссар понял намек и выдал Риксу двадцать марок. Потом он попросил его составить донесение о пропавшей и начать официальный розыск. На этом пути, подумал Кеттерле, дело хотя и не скоро, но надежно обретет конец в запыленном архивном шкафу.
А затем стало вдруг нечего делать. Кеттерле и Хорншу принялись собираться. Когда они уже стояли в дверях, из кухни вышла Хайде и тронула комиссара за рукав.
— Я совсем забыла, — сказала она, — госпожа Робертс вчера, как только приехала, спросила, нет ли для нее телеграммы. Может, это для вас важно?
Комиссар чуть было не хлопнул себя по лбу. Вытащил из кармана пальто скомканный конверт, надорвал его и прочитал телеграмму, потом снова спрятал ее. На лице его не дрогнул ни один мускул.
— Не забывайте сообщать нам о любых деталях, — сказал он фрау ван Хенгелер, — даже если они покажутся вам несущественными.
Та сгорала от любопытства, но спросить ни о чем не посмела.
— Быть может, вы немного проследите за этим, — польстил Кеттерле полковничьему самолюбию, искусно уклонившись тем самым от прямого вопроса. Уж если офицерская честь плохо уживается с необходимостью давать отпечатки пальцев, то тем хуже уживается она с простым человеческим любопытством. Расчет комиссара был правильным.
— Разумеется, я буду присматривать здесь за всем, — произнес полковник Шлиске, придерживая дверь, через которую Кеттерле и Хорншу покинули «Клифтон».
Когда Хорншу на старом «фольксвагене», принадлежащем отделу номер один по расследованию убийств, выезжал со двора, свет его фар выхватил из темноты Кадулейта. Тот стоял на дороге и, подобно регулировщику, размахивал обеими руками, словно пропускал машины на оживленной магистрали. Потом он поднял руки вверх и разразился идиотским смехом, сильный ветер трепал его волосы, а лицо сохраняло прежнее тупое выражение.
— Я узнаю наконец, что было в телеграмме? — спросил Хорншу, когда они выехали из деревни.
Кеттерле поудобней устроился на сиденье.
— Не выйдет, — буркнул он.
— То есть как это?
— Не выйдет, Хорншу. Я не могу ничего изменить, это дословный текст телеграммы.
— «Не выйдет»?
— Да.
— А подпись?
— Никакой. Они помолчали.
— Ничего себе сюрпризы.
Комиссар еще не знал, что содержание телеграммы отнюдь не было последним сюрпризом столь богатого событиями дня.
— Мы ведь поедем через окружной центр, Хорншу?
— Да. Можно и так.
— Не можно, а нужно. Нужно раскопать все, что связано с этой телеграммой. До какого времени работает обычно почта?
— До семи.
Хорншу поднес руку с часами к светящемуся зеленоватым светом спидометру. Было около шести. На дороге темно, хоть глаз выколи. Порой выступали очертания кустов, деревьев, сильный ветер гнул их, раскачивая из стороны в сторону. Темный горизонт был окаймлен черной бахромой быстро несущихся, меняющих свои контуры облаков.
В глубине души комиссар Кеттерле был рад, что странный этот дом и странная местность остались позади. В привычном городском ландшафте площади Карла Мука, в выверенном ритме ежедневных служебных дел он надеялся на основании рисунков, протоколов, фотографий и результатов экспертизы быстрее докопаться до сути.
— Одно, во всяком случае, исключается, Хорншу, — сказал он, — то, что должно было бы напрашиваться сразу. Сандра Робертс не вознеслась живой на небо. — Он помолчал. — Скорее наоборот, так мне кажется. А кроме того, ясно, — сказал он после паузы, — что никто не звал ее на ночную прогулку. Она отправилась туда по собственной воле. Из ее комнаты телефона не слышно. Да и фрау ван Хенгелер была все время в комнате для гостей или в холле. Существует лишь одна возможность: кто-то по вымощенному дворику мог подойти к окошку ее ванной и что-то сообщить ей. Но что это за сообщение, заставившее молодую женщину одну отправиться среди ночи в незнакомые ей дюны?
Хорншу проезжал пустынную деревню. Ветер раскачивал фонари, круги света вырывали поочередно из темноты то справа, то слева скособоченные дома.
— Единственное, что меня настораживает, это то, что след был так хорошо виден. Словно она нарочно хотела оставить его нам, — сказал он. — Вспомните хотя бы, как он начинался на свежевзрыхленной земле под окном. И почему она вообще вылезла в окно?
— Это как раз я могу себе представить. Я бы тоже вылез в окно. Молодая, красивая, веселая, в наимоднейших брюках, а впереди — отпуск. Вместо того, чтобы блуждать по темному дому в поисках выключателей и дверных запоров... думаю, я вылез бы тоже. Быть может, в ней есть немного романтики.
— Все еще «есть»?
— У нас нет пока права говорить «было», Хорншу. Многое свидетельствует против этого. Мы сделали все, что смогли. Мы должны были бы найти ее, если б она погибла. Если, конечно, она, как назло, не угодила в какую-нибудь трясину. Одно только мне непонятно. Почему она стерла всю косметику? Как правило, женщины делают это перед тем, как улечься спать. В обычной ситуации такая женщина, как Сандра Робертс, даже ночью не отправится гулять ненакрашенной.
Комиссар погрузился в молчание.
— А спать она не ложилась. Постель была нетронутой. Это точно.
— И что значит «не выйдет»? — спросил Хорншу, медленно трясясь через железнодорожный переезд на окраине окружного центра. — Что не выйдет?
— Это мы выясним, — пробурчал Кеттерле, и в этот момент взгляд его остановился на почте.
Это была простая деревенская почта, телеграф находился на первом этаже.
Дежурная телеграфистка припомнила ту телеграмму. Да, можно установить, кто отправитель, пусть только господа предъявят свои удостоверения.
Кеттерле показал удостоверение, и телеграфистка принялась листать толстую тетрадь.
Телеграмма пришла из Гамбурга. Адрес отправителя не указан. Текст совпадает. «Не выйдет», без подписи.
— Можно установить, откуда была отправлена телеграмма?
— Для этого мне придется позвонить.
— Будьте любезны.
Они дожидались добрых десять минут. Телеграфистка связывалась с коллегами, с коммутаторами, телефонными подстанциями. Доносились непонятные термины. Наконец она положила трубку.
— Телеграмма была отправлена по телефону. Номер абонента 99-37-73. Владелец телефона Рихард Робертс.
Адрес...
— Гамбург, Ратенауштрассе, 11, — продолжил комиссар.
— Да, — недовольно подтвердила телеграфистка.
— Это жена Риха Робертса, которого противники зовут «толстяком», Хорншу. Дело теперь становится не только интересным, но и довольно щекотливым. Робертс был сенатором по финансовым вопросам, когда консерваторы стояли у власти. Девушка, когда была отправлена телеграмма?
— 25 октября в двадцать один час семь минут; первый раз я попробовала передать ее двадцать шестого октября в ноль часов две минуты. Никто мне не ответил. Поэтому я передала ее почтальону для доставки, а сегодня утром прочла ее содержание по телефону.
— Когда это было?
— В семь часов девять минут.
— И кому же вы передали содержание телеграммы?
— Телеграммы могут передаваться только лично адресату. Эта женщина сама подошла к телефону.
Как только они в девятом часу прибыли на площадь Карла Мука, комиссар закурил первую за весь день сигару. Понятно, он не удостоил даже взглядом гору поступившей почты на столе, лишь повесил в шкаф пальто. Потом вместе с Хорншу поднялся по слабо освещенной лестнице в демонстрационный зал отдела научно-технической экспертизы.
На третьем этаже они прошли мимо прикрытой двери диспетчерской, управляющей радиофицированными патрульными автомашинами. Кеттерле бросил взгляд на огромный светящийся план города, на то и дело вспыхивающие или гаснущие огоньки, что показывают состояние готовности оперативных полицейских машин двухмиллионного города.
«На Зивертсвег обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, — услышал он. — На Виттернштрассе украден уличный бак для мусора. Внимание, сто одиннадцатый, пожалуйста, на Виттернштрассе. Несчастный случай с небольшим материальным ущербом на Ревентловштрассе, Отмаршен, девяносто седьмой, где вы? Да, хорошо. Пожалуйста, Ревентловштрассе, угол с Капелленвег. На Кёнигштрассе, сорок, третий этаж, из квартиры слышен запах газа. Тринадцатый, Кёнигштрассе, сорок. Это все равно ваш маршрут. Сообщите результаты».
Комиссар завернул за угол. Так продолжалось весь день, все двадцать четыре часа, в первой половине дня вызовов меньше, вечером, как правило, больше, угон автомобилей, кражи со взломом, пока вся семья сидит у телевизора, позже воровство в погруженных в сон квартирах и, начиная с двух ночи, кровавые драки в порту и в Сантпаули[2]. Только между четырьмя и семью часами утра выдавалось иногда десять-двенадцать минут, когда в диспетчерской было тихо, что, разумеется, не значило, что в городе в это время ничего не происходит. Это были часы самоубийц. Не было практически ни одного дня, чтобы самое позднее в семь, в половине восьмого разносчик молока, газет, почтальонша или газовщик, снимающий показания счетчика, не заметили бы чего-нибудь такого, что показалось бы им странным. Иногда об этом извещали его, иногда Циммермана, шефа VII отдела, он занимался обнаруженными трупами и пропавшими без вести. Нынешним утром то были не разносчик молока и не почтальонша, которым что-то показалось странным, а отставной полковник по фамилии Шлиске, всегда проводивший свой отпуск в «Клифтоне» в начале или конце сезона по причине низких цен, и известили не Циммермана, а его самого.
— Там, кажется, все дело в каких-то следах, комиссар Кеттерле, — сказал начальник полицай-президиума Зибек в телефонную трубку. Кеттерле стоял еще в пижаме, в темной прихожей квартиры фрау Штольц. — Этот человек утверждает, что след пока отчетливо виден. Думаю, не следует давать повода для упрека нас в нерадивости. И разве вы на моем месте не сочли бы правильным...
И комиссар, вздохнув, тоже счел это правильным.
Из комнаты дежурных оперативников доносился смех и шелест сдаваемых карт. Кеттерле взглянул на часы. Каждый вечер они, полные оптимизма, усаживались играть либо в скат, либо в преферанс, и каждый вечер, самое позднее в девять, игра прекращалась сама собой, так как их по, двое, по трое посылали туда, где кто-то не оплатил свой ужин, услышал подозрительный шорох в подвале или обнаружил исчезновение собственного портфеля.
«Оперативная служба уголовной полиции, — прочитал Кеттерле на двери. — Начальник — старший комиссар Лумбек». Фамилия была написана на сменяемой табличке. Руководители отделов по расследованию убийств были освобождены от оперативного дежурства. Кеттерле искренне жалел об этом, он с удовольствием вспоминал вечера с молодыми коллегами в непритязательном, скудно обставленном помещении оперативного отдела. Они тогда часто и много смеялись, и смех у них был такой же, как слышится сейчас из-за двери.
В демонстрационном зале Рёпке уже разложил материалы. Фотограф был здесь, дактилоскопист как раз разворачивал экран.
— Ну? — спросил Кеттерле.
— А ничего особенного, — ответил Рёпке. — Сейчас сами увидите. Можно начинать?
Свет погас. Только тусклая настольная лампа осталась гореть рядом с проектором. Кеттерле и Хорншу уселись. Рёпке начал давать пояснения.
И хотя необходимо, чтобы руководитель оперативно-технической группы являлся человеком в высшей степени добросовестным, Кеттерле в глубине души нередко проклинал педантизм Рёпке, ведь даже в этом необычном случае тот не мог позволить себе отклониться от раз навсегда установленной схемы.
— Особенность данного дела заключается в том, — обстоятельно начал Рёпке, — что преступление не может быть пока доказано, поскольку не может быть установлена даже точная степень его вероятности, в лучшем случае оно остается всего лишь возможным, к тому же мы располагаем исключительно следом пропавшей без вести, следом, который внезапно обрывается. Начну по порядку. Первое — ручка входной двери. На ручке с внешней стороны имеются отпечатки пальцев фрау Виллемины ван Хенгелер, девушки Хайде, а также полковника Шлиске. Кроме того, имеются отпечатки пальцев некоего четвертого лица, я полагаю, что именно они принадлежат Сандре Робертс, так как точно такие же отпечатки имеются почти на всех ее личных вещах, а также на крышке отделения для перчаток в машине и на ручке дверцы. Странным образом эти отпечатки отсутствуют на рулевом колесе...
— Она просто ездит в перчатках, — проворчал комиссар, нетерпеливо ожидая продолжения.
— Вы полагаете, что и третье лицо тоже ездит в перчатках?
— Какое третье лицо?
Комиссар медленно обернулся и взглянул на Рёпке.
Тот рылся в своих бумагах.
— Во-первых, сумочка, во-вторых, дорожный будильник, в-третьих, губная помада, в-четвертых, пудреница, в-пятых, ключи от автомобиля...
— Что с ними? Да говорите же наконец, Рёпке!
— На всех этих предметах и еще на некоторых других имеются также отпечатки пальцев некоего третьего лица, которое не идентично ни с кем из перечисленных. В машине тоже. Даже на рычаге, которым регулируется положение сиденья. Их нет только на рулевом колесе.
Из темноты послышалось только «угу» и «так-так».
— Это могут быть отпечатки пальцев ее мужа. Проще всего предположить...
— Нет, Кеттерле, это не отпечатки пальцев ее мужа. Мне удалось добыть его отпечатки в бюро прописки. Хотя с тех пор прошло уже шестнадцать лет. Но они ведь не меняются.
На экране появилась сильно увеличенная фотография пересечения линий на указательном пальце человека.
— Это указательный палец Риха Робертса.
Рядом появилась другая увеличенная фотография.
— А это указательный палец третьего лица.
Даже дилетанту бросились бы в глаза различия. Кеттерле попросил Хорншу записать наиболее важные моменты.
— И прежде всего составьте список предметов, на которых найдены отпечатки пальцев, Хорншу.
— И никаких отпечатков на руле. Да вы и сами в это не верите, — сказал Хорншу.
— Н-да, — произнес Кеттерле и обернулся, поскольку входная дверь открылась и в нее проскользнула подвижная фигура начальника полицай-президиума Зибека.
— Я вам не помешаю, господа?
Лицо его было гладким, как у тюленя, и хитрым, как у таксы. Он распространял вокруг себя запах изысканного мужского одеколона и, усевшись, аккуратно расправил элегантную жилетку.
— Очевидно, руль просто вытерли, не так ли? — наклонился он к Кеттерле.
— Тогда были бы вытерты и некоторые другие предметы, — ответил комиссар. — Думаю, Рёпке прав. Третье лицо тоже могло ездить в перчатках, ведь то, что оно водило машину Сандры Робертс, кажется установленным фактом, правда?
— Если только оно не играло ради собственного удовольствия рычагом установки сиденья, — ответил Рёпке. — Дверная ручка изнутри, — продолжил он. — На ней также обнаружены отпечатки...
— Послушайте, Рёпке, — перебил его комиссар Кеттерле, — скоро девять. Может, вы не будете рассказывать нам о каждой извилине на всех ваших двадцати семи предметах...
— Сорока семи, — поправил Рёпке совершенно серьезно. — Мы работали над этим впятером с шести до половины девятого.
— Ну хорошо, на ваших сорока семи предметах. Но зачем так долго о каждом в отдельности? Вы что, не можете обобщить? Ваш доклад мы и так получим для изучения. Конечно, если господин начальник со мною согласен...
Кеттерле обернулся к Зибеку.
— Разумеется, — сказал Зибек. — К делу, комиссар Рёпке.
— Разрешите мне все-таки кратко остановиться на нашей системе расследования дела, — обиженно пробормотал Рёпке. — Мы пронумеровали и сфотографировали каждый отдельный предмет начиная с дверной ручки с внешней стороны под номером один и кончая пепельницей в левой задней дверце в автомашине Сандры Робертс под номером сорок семь. Отпечатки пальцев разных лиц мы обозначали римскими цифрами. Один — это Сандра Робертс, два — полковник Шлиске, три — Виллемина ван Хенгелер, четыре — девушка Хайде, пять — Кадулейт, шесть — третье лицо, семь — старший комиссар Кеттерле, восемь...
Зибек повернулся к Кеттерле.
— Так, — сказал он. — Надеюсь, вы не замешаны в этой истории?
— Увы, — тяжело вздохнул Кеттерле, — так где мой отпечаток, Рёпке?
Послышался шорох бумаг.
— Здесь, на оконной ручке с внутренней стороны, ванная комната, номер восемнадцать.
Проектор щелкнул, и удивленный Кеттерле увидел на экране безупречный отпечаток своего большого правого пальца.
— Кадулейт, — пробормотал он, — я просто забыл про носовой платок, когда закрывал окно. Вы не можете себе этого представить.
— Можем, — сказал Рёпке.
Проектор щелкнул еще раз, и Кадулейт, увеличенный до огромных размеров, уставился через плечо прямо в проекционный зал. Он все еще мыл машину.
— Тут я бы тоже забыл про носовой платок, — сказал Зибек. — Поехали дальше?
Затем последовали снимки из окна ванной комнаты, потом сделанные во дворе, в сарае. Машина, принадлежавшая Сандре Робертс, марка «карман-гиа», стояла с приспущенными передними баллонами, за ней последовала фотография следов на земле под окном.
— Отпечатки пальцев имеются также на оконной ручке и внутри, на оконном стекле, — пояснил Рёпке, и Кеттерле добавил:
— За день до этого Кадулейт разрыхлил почву в саду граблями.
Теперь они двигались по следу от дома к морю. На экране неожиданно появился однообразный и пугающе пустынный пейзаж, топкое песчаное мелководье, и над ним свинцовое небо. Снимки сменяли один другой, и Рёпке пояснял:
— След просматривается на расстоянии восемьсот двенадцать метров с четвертью. Он состоит из тысячи семисот четырнадцати отпечатков. Чтобы дойти до конца, я имею в виду до конца следа, фрау Робертс потребовалось — и это довольно точно — четырнадцать или пятнадцать минут. В общем-то, не вызывает сомнения и то, что отпечатки появились между одиннадцатью и часом ночи.
Аппарат щелкнул снова, и вдруг экран стал похож на шкуру леопарда.
— Инфракрасная съемка на том месте, где кончается след, — объяснил Рёпке и встал с указкой в руке рядом с экраном.
— Здесь внизу на снимке проходит видимый след. Вы видите его контур, точно как в натуре. Вот последний отпечаток.
Кеттерле наклонился вперед и слегка прищурил глаза.
— А?.. — спросил он.
— А пятна — это уплотнение частиц песка от шагов всех, кто проходил здесь перед последним штормом или последним приливом. Не представляется возможным выявить продолжение следа от последнего отпечатка в каком-либо определенном направлении. Вот это пятно можно было бы отнести к искомому следу, и это тоже, — указка передвинулась дальше, — но следующий отпечаток показывает, что человек шел назад. Значит, линия следа не продолжается, она здесь заканчивается. Съемка с высоты двенадцати-пятнадцати метров, возможно, слегка оттенила бы важные детали и помогла бы выявить определенное направление. Но и здесь мы существенно не продвинулись бы, поскольку все равно не смогли бы снимать следы фрагмент за фрагментом бог знает до каких пор, а тот, кто стер след, начиная с этого места, испортил и собаке чутье. Факт налицо. Либо это была она сама, либо кто-нибудь еще. Мне, во всяком случае, кажется, что это была она сама, так как если бы кто-нибудь нес или тащил тело, могу поклясться, мы бы увидели сильное давление на песок на снимке.
Комиссар Рёпке закрыл свою папку и выключил аппарат.
— Но тогда нельзя полностью исключить и того, что она сама в семь часов девять минут приняла адресованную ей телеграмму, так ведь? — обратился Зибек к комиссару. — Что удалось установить в этой связи?
— Фрау ван Хенгелер, когда я разговаривал с ней по телефону, была настолько потрясена, что несколько секунд вообще ничего не могла сказать, а затем попросила прислать все-таки в «Клифтон» полицейского. Она совершенно обезумела и успокоилась лишь, когда я сказал, что полковник в любом случае обеспечит им надежную защиту. Девушка заявила, что не верит ни одному моему слову. Она в то время чистила обувь в подвале и вообще ничего не заметила. Кадулейт работал в саду, а Вилли еще спала. Полковник спросил, не разыгрываю ли я его, заметив, что дело достаточно серьезное. Он поверил мне с трудом и в итоге не сумел найти никакого объяснения. Я попросил сотрудницу телеграфа им позвонить. Сначала к телефону подошла фрау ван Хенгелер, и я велел телеграфистке позвать к телефону Хайде. Таким образом, она услышала голоса обеих женщин из «Клифтона», но не смогла установить идентичность ни одного из них с тем голосом, что отвечал ей утром, ведь было произнесено всего три слова: «Да, у телефона». Таким образом, мы имеем две возможности: либо Робертс действительно в семь часов девять минут находилась у телефона, либо разговор вела одна из тех женщин. И если какая-то из них хочет, именно хочет, ввести нас в заблуждение по неизвестной пока причине, то мы никогда не узнаем, кто сегодня утром действительно произнес в трубку эти три слова: «Да, у телефона». Добавлю еще, что ни одна из женщин не ответила телеграфистке теми же словами. Вилли сказала: «Говорит Виллемина ван Хенгелер, пожалуйста, кто у телефона?», а Хайде спросила просто: «Кто это?»
— В конце концов, приходится учитывать и то, — заметил Хорншу, — что у всех обитателей «Клифтона» было достаточно времени и возможностей уничтожить любые следы, если б кто-то из них и в самом деле имел отношение к этому делу. Но у меня создалось впечатление, что никто не предпринимал ни малейшей попытки что-либо скрыть.
Рёпке включил свет.
— Господа, мы теряемся в предположениях, — сказал Зибек. — Пока что не случилось ничего, кроме исчезновения женщины. При загадочных обстоятельствах, тут уж ничего не поделаешь. А теперь необходимо выяснить, кто дал телеграмму с этим «не выйдет». Робертс уже знает об этой истории?
— Трудно сказать, — пожал плечами Кеттерле. — Родственников извещает местная полиция. В данном случае я ничего не имел против. Меня не привлекают сильные ощущения.
Зибек как раз собирался уйти. Он нервно стряхнул пепел с сигареты.
— Конечно, Ганновер с удовольствием навесит нам это дело, тем более что мы его уже начали. Сами понимаете. Они скажут, что мы уже познакомились с обстоятельствами, лучше знаем местность и так далее. И если вы собираетесь работать над ним и дальше...
Никто из криминалистов и не подозревал в ту минуту, что вопрос, кому вести дело, разрешится в ближайшее время сам собой.
— Я — человек любопытный, — пробурчал Кеттерле.
— Вам интересно, кто третье лицо? — спросил Зибек.
— Нет, — ответил Кеттерле, — интересно, почему все-таки она стерла косметику. Если вы ничего не имеете против, завтра утром я отправлюсь к Робертсу и задам ему парочку вопросов.
Как и каждое утро, сквозь сон она услышала голоса детей. Они что-то там вырезали или раскрашивали. Значит, было уже около семи. Раньше дети не просыпались.
Она нащупала выключатель. В тот же момент до нее донеслось жужжание электробритвы из ванной.
— Поставь чайник, пожалуйста.
Из ванной послышалось ворчание, потом жужжание бритвы прекратилось, и Ханс-Пауль прошаркал в кухню. Звякнула посуда, полилась вода из крана, затем на медленно раскаляющейся конфорке плиты зашипели капли.
И хотя вчера вечером она убрала всю квартиру, сегодня утром снова был кавардак, и вечером будет кавардак, он будет и завтра, и послезавтра, и через два месяца, и через три года. За год она успевала вымыть столько посуды, что, если поставить тарелки друг на друга, они превысили бы Эйфелеву башню, а общую длину сигарет, которые она при этом выкурила, ей вообще представить было страшно. И вот так проходила жизнь.
Да ты просто неряха, думала она, когда с омерзением откидывала каждый день одеяло, чтобы снова вступить в однообразную и нескончаемую будничную суету — и все это ради того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Ханс-Пауль терпеть не мог, когда она входила в ванную, если он там мылся или брился. Но тогда кому-то из них следовало раньше вставать, или же он сам должен был готовить завтрак. И поскольку ни то, ни другое его не устраивало, приходилось терпеть ее присутствие в тесной ванной комнате.
С тщательностью автомата Ханс-Пауль выбривал места, призванные оттенять овальную черную бороду, на лице его появлялись всевозможные гримасы, когда он подбривал усы. Собственно, так выглядели в момент бритья все мужчины, носившие бороду, но когда это наблюдаешь по утрам ежедневно, месяц за месяцем, год за годом, в конце концов становится противно, и самое ужасное, что и муж становится противным тоже.
Он с явным неудовольствием посторонился, когда она склонилась над раковиной и открыла воду.
Как и каждое утро, в ванной вдруг появились дети, и, как каждое утро, Зигрид пришлось внушать себе, что она не имеет права быть несправедливой ж детям только потому, что домашнее хозяйство отравляет ей жизнь.
— Одевайтесь, — сказала она. — Регина, накрывай на стол, не забудь соль и ложечки для яиц, моя хорошая.
Потом она прошла на кухню и убавила огонь конфорки, на которой грелся чайник. Когда чайник кипел, приходилось каждые полчаса протирать запотевшие стекла. Злость закипела в ней на обратном пути в ванную.
— И борода твоя не помогает, Ханс, — сказала она. — С бородой ты точно так же не преуспеваешь, как и без бороды. Сбрей ты наконец эти заросли, тогда у нас в жизни будет хоть какая-то перемена.
— Талантливых людей, Зигрид, гораздо больше, чем доходных мест. Выходит, ты согласилась бы лучше выйти замуж за непорядочного человека, не разбирающегося в средствах? Вроде твоего отца, например?
Все как обычно, как всегда. Она спокойно ждала продолжения, но его не последовало. Она услышала, что электробритва работает вхолостую, увидела подходящего к ней сзади Ханса-Пауля, и тут случилось то, чего давно уже не случалось.
Зажав жужжащую бритву в правой руке, он обнял ее за плечи.
— Я делаю все, что могу, Зигрид, — сказал он, — а если ты начнешь меня попрекать, ничего хорошего не будет.
Она почувствовала себя почти счастливой, когда он поцеловал ее в шею, но скорее проглотила бы язык, чем признала это.
— Быть может, все еще наладится. Если из затеи с издательством «Эмпедокл» что-нибудь выйдет, а я надеюсь, что выйдет, идея-то блестящая, я куплю тебе посудомоечную машину и гладильную установку. И тогда мы сходим куда-нибудь вместе, на Зюльберг или в рыбный ресторан в порту, хорошо?
Зигрид равнодушно кивнула. Но потом услышала какой-то необычный звук электробритвы и, оглянувшись, увидела только что проделанную прямую бледную полосу в черной бороде, которую она так ненавидела. Словно в их жизни начинался новый этап.
— Ханс, — сказала она, — ты уж не надрывайся особенно, ладно?
А это означало: ты ведь в принципе хороший парень, Ханс.
В первую пору брака она завидовала Эрике. Как бы то ни было, Реймар был уже старшим врачом, когда та с ним познакомилась, а вскоре стал заместителем главного врача. А потом, на следующий год или через год, он с помощью предоставленного тестем кредита открыл собственную практику и начал удалять богатым предпринимателям желудочные опухоли. Однако в финансовом плане дела «Реймаров», как она их всегда называла, тоже обстояли далеко не лучшим образом. Папа́ подбрасывал, правда, Реймарам время от времени кое-какие суммы, так как ничего не имел против самого Реймара. Но Эрика ведь и претензии предъявляла значительно большие, нежели она сама, а кроме того, на них ведь распространялось известное правило: больше доходы — больше и расходы, и на их примере это было видно особенно хорошо. В любом случае Эрика, как бы красиво она ни была одета и даже несмотря на «Фиат-1800», который они недавно приобрели, двадцать пятого числа каждого месяца точно так же сидела без единого пфеннига, как и она сама.
Зигрид умыла лицо, вытерлась, потом достала из шкафа пуловер, который не надевала уже больше года. Уж если Ханс-Пауль сбрил бороду, то и она не отстанет. Пусть и в самом деле в их доме будет хоть какая-то перемена, подумала она.
Она уже сделала детям бутерброды, когда Ханс-Пауль вышел к столу. Он казался каким-то чужим и выглядел мертвенно-бледным. Наверное, просто непривычно видеть его без бороды, подумала она.
— У папа́ был вчера тяжелый день, — сказал он, разбивая яйцо. — Недоварено. — Он укоризненно посмотрел на нее. — Ты же знаешь, я этого не люблю.
— Извини, — пробормотала она.
Надо же, как назло, именно сегодня. Теперь он из протеста отдаст яйцо Петеру, хотя прекрасно знает, что она тревожится, когда дети едят слишком много яиц. Но сегодня, казалось, он слишком был погружен в мысли о папа́.
— Матильда ничего не сможет сделать, случись что-нибудь, а его дражайшая путешествует.
Свою новообретенную тещу Ханс-Пауль называл обычно не иначе, как «дражайшая». Впрочем, в разговоре он обращался к ней просто по имени, в конце концов она была старше его всего на два года и к тому же никогда не зарабатывала на жизнь самостоятельно, в то время как он хотя бы предпринимал подобные попытки.
— Это немыслимо, что она себе позволяет, Зигрид. Ты не можешь этого отрицать. Представь, ты выходишь замуж за мужчину на сорок лет старше, выходишь явно ради наследства, так ты будешь за ним по крайней мере ухаживать, верно?
Медленно, без аппетита, он ковырялся в яйце.
— Иногда это выглядит так, Словно она сознательно решила отравить ему последние радости жизни.
То была обычная тема утренних бесед за завтраком. Зигрид эту болтовню ненавидела, привычное злословие по адресу Сандры Робертс все равно ничего не могло изменить в их жизни. Дочери Риха Робертса, скорее из внутреннего противоречия, заняли со временем более лояльную позицию по отношению к приемной матери, подвергавшейся постоянным и массированным атакам их мужей. Вот почему Зигрид промолчала.
— Какая же она все-таки дрянь, Зигрид, — сказал Ханс-Пауль и отобрал у Петера банку с мармеладом. — Достаточно, Петер. Впрочем, не удивительно, стоит вспомнить ее происхождение. Бедный папа́.
«Бедный папа́» прозвучало весьма неискренне. Зигрид хорошо знала, как надеялся Ханс-Пауль, к примеру, на то, что Рих Робертс оплатит хотя бы счет от зубного врача на сумму в триста пятьдесят марок; к зубному врачу ходила только она, вот почему Ханс-Пауль не желал иметь с этим счетом ничего общего.
— Нужно как-нибудь поговорить с папа́, — сказала она. — Чтоб он провел звонок в комнату Матильды. Впрочем, когда речь заходит о его болезни, он ничего не желает слушать.
— Еще бы, когда у семидесятилетнего старика тридцатилетняя жена, тут уж, хочешь не хочешь, станешь поддерживать видимость молодости и здоровья, — язвительно заметил Ханс-Пауль, — а то того гляди, тебя оставят в дураках.
Он зевнул, прикрыв рот рукой, в которой был нож с куском мармелада.
— Тебе нужно спать по ночам, а не работать, — сказала Зигрид. — Вчера ты лег в четыре, сегодня в два. И выглядишь все хуже.
— Зато проект для издательства «Эмпедокл» готов, Зигрид. Сегодня мы ляжем спать рано и вместе. — Он игриво подмигнул ей, и на его мертвенно-бледном лице это выглядело противоестественной гримасой.
Смешно, как борода меняет человека, подумала она, даже собственного мужа. И тут же вскочила, потому что зазвонил телефон.
Ханс-Пауль услышал из-за двери, как она несколько раз подряд произнесла «да». И положила трубку.
В кухню она вернулась побледневшей.
— Мы должны срочно поехать к папа́, Ханс. Что-то там случилось с Сандрой. Пришли двое из полиции.
— Так, — сказал Ханс-Пауль Брацелес, — так-так, значит, Сандра. — Он помолчал, комкая салфетку, и добавил: — Хорошенькое свинство.
Толен запаздывал. Доктор Брабендер особенно злился по этому поводу, когда намечал что-нибудь на утро вместе с Эрикой. В огромной больнице с, расширенным терапевтическим отделением ночное дежурство отнюдь не было удовольствием. Брабендер ненавидел тускло освещенные длинные коридоры, неумолимое подмигивание светового сигнала над дверьми палат, бесшумную походку дежурных сестер и затрудненное дыхание, тяжелые вздохи, храп, доносившиеся с больничных коек, когда в палаты открывались двери. Реймар Брабендер был человеком стерильной ясности. Он любил дневной свет так же, как любил признание пациентов и восхищение коллег. В сущности, ему это было необходимо.
В данном вопросе характер его не оставлял сомнений. Непременным условием всех его достижений было признание общественности. Он с удовольствием вспомнил про доклад, посвященный новым исследованиям функции селезенки, который сделал позавчера на конгрессе врачей в Бремене. Неуязвимый для критики, безупречно разработанный, основательно подтвержденный экспериментами, доказательный и научный, доклад встречен был аплодисментами и заслужил рекомендацию в печать.
Реймар распахнул дверь в четвертую палату. На второй койке около пяти утра начался кризис. Общее неудовлетворительное состояние коронарной системы. Он велел колоть строфантин. Женщине было семьдесят четыре года. В любой момент возможны были внезапные спазмы.
Сестра вышла ему навстречу.
— Пульс? — спросил он почти неслышно, так как женщина сидела выпрямившись в постели и внимательно смотрела на него.
— Девяносто пять, — озабоченно прошептала сестра, — и очень слабый.
Реймар Брабендер на ходу вставил в уши стетоскоп. Он положил женщине руку на редкие седые волосы и с профессиональной, призванной успокаивать, деловитостью врача спустил ночную рубашку с ее плеч.
Прослушивая, он прикрыл глаза, чтоб не видеть прямо перед собой ее испуганное лицо. Однако пришлось сделать усилие, чтобы не дать отразиться на своем лице тому, что он услышал.
Наконец он отодвинулся, и сестра поправила на больной ночную рубашку.
— Все мы должны когда-то умереть, не правда ли, доктор? — пробормотала женщина, и глаза ее блеснули.
Врач немного подумал, потом улыбнулся:
— Семьдесят четыре — это, конечно, не восемнадцать. Но у вас еще есть время.
— А я выйду отсюда, доктор? — спросила женщина более настойчиво.
Доктор Брабендер положил руки ей на плечи, поднимаясь с края постели.
— Только не сразу и не завтра, фрау Клазен, — ответил он и убрал стетоскоп.
— Я уже не выйду отсюда, доктор. Скажите мне это прямо, — взмолилась женщина.
— Фрау Клазен, и о чем только вы говорите?
Врач сделал вид, что сердится, но не всерьез. Ему было уже сорок пять. Но одному он так и не научился: излучать надежду там, где ее уже не оставалось. Последнее и высшее подтверждение искусства врачевать. Грань, где ремесло перерастает в человечность, в веру, в миф, неизвестно во что.
Он же был интеллигентен, хорошо справлялся со своими обязанностями и мог доходчиво объяснить другим, что от них требовалось.
— Я напишу профессору записку с просьбой посмотреть ее, — сказал он сестре, выходя из палаты. — А Толен пусть еще раз измерит давление и приложит результат.
— Что сказал вам доктор в коридоре? — услышал он голос больной, когда сестра вернулась в палату.
— Я должна присматривать, чтобы вы как можно меньше двигались, — ласково улыбнулась сестра и поправила подушку.
Брабендер прошел до конца коридора, часы над дверью частного отделения показывали двадцать минут девятого, и потому он обрадовался, увидев взбегающего вверх по лестнице Толена. Он передал коллеге все материалы и стянул с себя халат. Потом вымыл руки.
Вытираясь, он выглянул во двор, где стоял его красивый новый автомобиль. Идея принадлежала Эрике. Он вовсе этого не хотел, но возражать ей, когда она заявила, что, проработав шесть лет в должности старшего врача, он может наконец позволить себе не ездить в «фольксвагене», было трудно. Новый автомобиль был еще не оплачен.
— Пока, Толен, — сказал он и вышел из отделения.
Движение на утренних улицах волнами устремлялось к центру города. Поэтому поездка вдоль Альстера отнюдь не была удовольствием, пусть даже и на новом автомобиле. Обычно он предпочитал путь через Шваненвик и Адольфштрассе, чтобы в районе Кругкоппеля свернуть на набережную Альстера. Парковая аллея, где он жил, имела то преимущество, что иногда перед собственным домом можно было найти место для машины. Реймар Брабендер не стал загонять «Фиат-1800» в гараж. Свободный день он хотел использовать с Эрикой для покупок. Ей срочно требовались какие-то новые вещи.
Он удивился, когда она отворила ему дверь уже одетая.
— Я как чувствовала, Рей, — выпалила она, — только, пожалуйста, не волнуйся. С Сандрой что-то произошло. Только что звонил папа́.
На письменном столе Реймара зазвонил телефон.
— Вот опять. Это ужасно.
— Да, — услышал Реймар голос из другой комнаты, — все ясно, Зигрид. Да черт с ним, с вашим аккумулятором. Хорошо, через полчаса. Рею в конце концов тоже нужно позавтракать. Вы знаете подробности? Нет? Мы тоже. Тогда пока.
Реймар прошел в гостиную.
— Он звонил Хансу-Паулю тоже. Зигрид просила, чтобы мы заехали за ними. У них, как всегда, что-то с аккумулятором.
— А что случилось с Сандрой, Эрика? Но сначала успокойся, потом рассказывай. В конце концов, может, ничего плохого и не произошло.
— И все-таки, Рей, я боюсь, что стряслось в самом деле что-то плохое. Двое из полиции уже у папа́ и допрашивают его. Сандра пропала без вести... — Она начала всхлипывать. — Я всегда предполагала нечто подобное, Рей, сразу, как только она появилась в доме. Хоть бы он на ней не женился! Ведь в конце концов он и так мог проводить с ней время. А теперь это затрагивает всех нас.
«Нервная, неуравновешенная, — подумал Реймар, — да она форменная истеричка».
— А когда она пропала, Эрика? — спросил он. — И где?..
— Со вчерашней ночи. Она не вернулась с прогулки. Как это ужасно. Бедный папа́.
— Со вчерашней ночи, — пробормотал Реймар и прикусил губу, — так-так, со вчерашней ночи. А где, неизвестно?
— Где-то на море. Не знаю точно где. Но ведь это не так уж и важно. Что с тобой, Рей?
Он тяжело опустился в глубокое кресло и даже не положил ногу на ногу.
— Я должен тебе кое-что сказать, Эрика, — запинаясь, выдавил он, — до того, как они начнут задавать вопросы. На вчерашнюю ночь у меня нет алиби.
Она в недоумении уставилась на него, и только какое-то время спустя до нее дошло, что он этим хотел сказать.
— Но зачем тебе алиби, Рей, бога ради! Для чего?
Голос у нее стал резким и неприятным.
— Нам всем понадобится алиби, — пробормотал Реймар.
Он утратил свою спокойную уверенность. А уж если говорить правду, он был совершенно не в себе.
— Если полиция узнает о папином завещании, нам всем понадобится алиби. А она об этом узнает. И тогда останется только повеситься.
Комиссар Кеттерле обнаружил на своем письменном столе папку с докладом Рёпке о проведенных им расследованиях по делу Робертс и, кроме того, большой конверт с многочисленными фотографиями.
Вообще-то дел у него и без того хватало, тем не менее он еще раз перелистал все бумаги, высыпал фотографии на стол и начал их разглядывать. Все по очереди. И очень внимательно.
С двумя или тремя он подошел к окну и принялся рассматривать их через увеличительное стекло.
Потом он перевел взгляд вниз на оживленное движение, переливавшееся через площадь Карла Мука, и стал продумывать свой визит к Риху Робертсу, которого его недруги называли «толстяком».
Начало девятого он не счел слишком ранним часом, чтобы позвонить человеку, который в свои семьдесят лет каждое утро ездит верхом, занимается боксом и известен размеренным образом жизни всему городу.
Телефонную трубку сняла какая-то женщина, и Кеттерле понял, что разговаривает с экономкой.
— Квартира сенатора Робертса.
Кеттерле спросил, нельзя ли ему поговорить с господином Робертсом.
— Господин сенатор как раз завтракает. Это очень важно?
— Да, это очень важно, — сказал Кеттерле.
Робертс спокойно завтракал, значит, он все еще ничего не знал о случившемся.
— Тогда я переключу телефон, — сказала экономка, — минутку.
Минутка разрослась по крайней мере в целых две. «Быть может, они все-таки проведут настоящие поиски в этих гиблых песках», — подумал комиссар и взглянул на небо. Оно не было ни лазурным, ни мрачным, на нем не было грозовых туч, не было и прозрачных облаков, предвещающих хорошую погоду. Оно было просто серым. Как обычно в Гамбурге.
В трубке что-то щелкнуло.
— А с кем я говорю, простите? — начала теперь выяснять экономка.
Комиссар расправил плечи. В конце концов речь шла не о его жене.
— Уголовная полиция Гамбурга, комиссар Кеттерле, — резко ответил он.
— Хорошо, минутку.
Хорншу должен был бы теперь позвонить в «Клифтон» и выяснить, как там с погодой, подумал Кеттерле, но в этот момент ответил сенатор Робертс. Было слышно, как он что-то дожевывает.
— Ну? — это прозвучало как вопрос и как приказ.
— Ваша супруга дома? — спросил Кеттерле.
— А кто, собственно, говорит?
— Об этом я уже подробно сообщил вашей домоправительнице. Кеттерле, уголовная полиция.
— Чем могу быть полезен?
— Мне хотелось бы приехать к вам и поговорить, господин сенатор.
— А о чем?
— Лучше, если я скажу вам это при встрече.
— Так. И когда же вы хотите приехать?
— Немедленно.
Сенатор помолчал.
— Хорошо, — сказал он. — Тогда приезжайте немедленно. Вы знаете, где я живу?
— Да, Ратенауштрассе, Альстердорф.
— Точно, — сказал Робертс. — Жду вас.
Комиссар положил телефонную трубку и вызвал Хорншу. Достал из шкафа шляпу и пальто, приоткрыл дверь в канцелярию и крикнул:
— Я у сенатора Робертса, фройляйн Клингс, на случай, если меня будут спрашивать. Но соединяйте только для важных разговоров. Пошли, — кивнул он Хорншу, — едем к Робертсу.
Взяв пальто на руку, он следом за Хорншу покинул кабинет. Лифты были заняты, и они спустились по лестнице.
Обычно комиссар не упускал возможности поболтать с Хорншу о том или ином деле. Но на этот раз он молчал.
Оба знали, что след Сандры Робертс на том пустынном берегу затерялся не только в буквальном смысле.
Не было ни малейшей зацепки, которая могла бы повести дальше. Какая-то чертовщина.
— Наверное, крепкий орешек, — сказал Кеттерле в машине, когда они свернули на Миттельвег.
— А иначе он не стал бы сенатором, — ответил Хорншу, обгоняя трамвай. — Те, кто действует с оглядкой, сенаторами не становятся. В этом преимущество нашей чиновничьей жизни.
— То есть как это? — спросил Кеттерле.
— Достаточно выслуги лет и старания, — проворчал Хорншу. — Жестокость оказывается излишней.
— Вы слишком молоды для подобных констатаций, Хорншу, — недовольно пробурчал Кеттерле.
— И все-таки вы должны признать мою правоту.
Комиссар вздохнул. Он вспомнил Зибека, когда Хорншу въехал на мост через Альстер.
Вскоре после этого они свернули на Ратенауштрассе.
Дом поражал роскошью. Клинкерный кирпич, полукруглые лестницы по бокам. Гранитные колонны словно охраняли выходную дверь из мореного дуба с начищенными до блеска тяжелыми бронзовыми кольцами.
Засунув руки в карманы пальто, криминалисты поднялись по лестнице.
Хорншу оглядел портал.
— Прямо страшно звонить, — сказал он и нажал на сверкавшую медную кнопку звонка.
На двери не было таблички с фамилией. В Гамбурге и так знали, что здесь живет сенатор Робертс.
Одна половинка двери открылась словно сама по себе. До этого не было слышно ни единого звука. Экономка явно была старой школы. Ей было около пятидесяти, одета в длинное черное платье с передником и кружевной наколкой.
«Как в городском театре», — подумал Кеттерле. Сестра как-то пригласила его в театр по случаю своего пятидесятилетия.
С достоинством и церемонностью, выработанными долгими годами, экономка пригласила их войти.
— Господин сенатор ожидают только одного господина, — сказала она холодно и молча показала на вешалку.
В доме, где бывают судовладельцы, страховые маклеры, директора банков и почетные консулы, чиновникам уголовной полиции не помогают снять пальто.
Экономка вынула руку из кармана передника, только чтобы открыть покрытую белым лаком застекленную дверь в холл.
Обшитая темно-коричневыми панелями дубовая лестница вела на второй этаж. Здесь было все: старинный глобус, французские напольные часы, каждые полчаса отбивающие «бим-бом», флетнеровский медный чайник.
Приглушенный свет лился сквозь круглое окно, украшенное витражами. В глубине была открыта дверь в зимний сад, из которого можно было попасть прямо в парк.
Они пробирались через Исфаган завлекающих красок к двери, которую распахнула перед ними экономка.
Кеттерле, слегка смутившись, оглядел себя сверху донизу. На нем был не самый лучший его костюм. И даже если бы он знал, что сенатор Робертс не придает одежде ни малейшего значения, это не поколебало бы его представления, как следует являться в дом сенатора.
Сенатор вышел из-за письменного стола.
— Господин Кеттерле? Комиссар?
— Старший комиссар, господин сенатор.
Вопросительный взгляд в сторону Хорншу.
— Комиссар Хорншу.
Сенатор кивнул и указал на два тяжелых, обтянутых бархатом кресла.
— И в каком же отделе вы работаете, господин старший комиссар?
— Два дробь три, господин сенатор. Я начальник первого отдела расследования убийств.
Человек, через руки которого за всю его жизнь прошли миллиарды и из этих миллиардов миллионы остались при нем навсегда, даже при самых поразительных сообщениях не позволяет дрогнуть ни единому мускулу на лице.
Сенатор молчал всего две секунды.
— Садитесь, — сказал он.
И поскольку он снова замолчал, с абсолютным спокойствием рассматривая Кеттерле, комиссар спросил:
— Прежде чем я сообщу вам тревожную весть — знаете ли вы, где ваша жена?
— Нет, — ответил сенатор. — У меня нет привычки держать ее на привязи. Но почему вы спрашиваете?
Кеттерле уперся обеими руками в подлокотники кресла.
— Ваша супруга в ночь с субботы на воскресенье между двадцатью тремя и часом ночи при совершенно тихой, безветренной погоде совершила прогулку по пляжу, с которой не вернулась до сих пор.
Робертс не шевельнулся. Потом слегка вытянул свою могучую голову с белыми прядями волос и выдвинул вперед подбородок.
— Откуда вам это известно?
— Нас известили.
— Кто?
— Полковник в отставке по фамилии Шлиске, проживающий в пансионе на побережье.
— А ему это откуда известно?
— Вчера утром за завтраком в пансионе установили отсутствие фрау Робертс, и полковник счел разумным сразу позвонить в Гамбург.
— А какое отношение имеет к этому отдел расследования убийств? Моя жена обожает всевозможные причуды. Ей доставляет удовольствие ставить людей в тупик. Когда происходит нечто подобное, она веселится до смерти. Вы можете оказаться в этом деле в дураках, господин старший комиссар.
Кеттерле внимательно наблюдал за сенатором.
— Вчера мы были там с оперативно-технической группой, специальной машиной, собакой и девятью полицейскими. Местная полиция собрала сорок человек, чтобы обыскать песчаное мелководье. Для этого были все основания.
— Какие же?
— Фрау Робертс отправилась на прогулку вдоль пляжа. Была тихая, абсолютно безветренная погода, и следы остались хорошо видны на песке. Но в определенном месте...
К удивлению своему, комиссар заметил, что глаза у Риха Робертса остекленели. Он замолчал. Сенатор не шевельнулся. И все же комиссар почувствовал, как напряглось все его тело под белоснежной рубашкой.
— ...след уводил прямо в море и обрывался, — закончил сенатор начатую комиссаром фразу.
Кеттерле хорошо помнил потом, что в тот миг у него было ощущение, словно произнесенные им потом слова «если хотя бы было так», разворошили такой пласт в судьбе Риха Робертса, что даже сам факт исчезновения его жены казался теперь незначительным.
Молчание было тяжелым, почти невыносимым, часы в холле били, казалось, бесконечно. Но сдержанное поведение сенатора не позволяло полицейским обнаружить свое изумление.
— Ну и что же дали ваши расследования? — спросил этот крупный мужчина, не сделав больше никакого движения, мгновение спустя он заложил руку за лацкан пиджака.
— Ничего, — сказал Кеттерле. — Поэтому я и пришел к вам.
Сенатор несколько раз глубоко вздохнул. Последний вздох завершился еле слышным хрипом. Только теперь Кеттерле стало ясно, что этот гигант страдает сердечной недостаточностью, и он упрекнул себя за то, что безо всякой оглядки жестко выложил ему все факты.
— Что же вы собираетесь теперь предпринять?
— После того как мы выяснили, что местопребывание вашей жены было вам неизвестно, я полагаю также, что вы не отправляли ей телеграммы, господин сенатор.
Рих Робертс медленно покачал головой.
— Конечно, нет. Но почему вы спрашиваете об этом?
— В пансионе «Клифтон» вчера в первой половине дня была получена телеграмма, отправленная по телефону от абонента, — Кеттерле вытащил из кармана записку и прочел, — 99-37-73 в Гамбурге. Это ваш номер.
Сенатор молчал. Потом он с трудом оперся на подлокотники и наконец встал.
Он подошел к окну, раздвинул немного шторы, выглянул в сад.
— Моя жена была одна? — спросил он оттуда, не поворачивая головы.
— Разумеется, господин сенатор, — сказал Кеттерле, который только в этот момент по-настоящему ощутил, какое множество проблем, помимо тех, что имеют прямое касательство к полиции, вытаскивает на свет божий эта история.
— И что же было в телеграмме?
Робертс вернулся и уселся за свой тяжелый письменный стол.
— В телеграмме было два слова: «Не выйдет». И никакой подписи.
Робертс облокотился на письменный стол, положил подбородок на скрещенные руки.
— Куда не выйдет? — спросил он. — И кто? Кто этот второй? Или кто должен был быть вторым? Можете вы мне это объяснить?
Комиссар Кеттерле взглянул на Хорншу. Потом тяжело закинул ногу на ногу и снова взглянул на Робертса.
— До сих пор мы задавали себе вопрос так: «Что́ не выйдет?» Но признаю, его можно понять и по-другому.
— Поскольку вы тут говорили о прогулке, моя версия кажется мне более правильной, господин старший комиссар. Ну и что дальше? Вы намереваетесь вести расследование убийства или будете исходить из предположения, что моя жена жива? Сыграйте в судьбу, господин старший комиссар. Она в ваших руках.
— Она не в моих руках. Как только фрау Робертс объявится, необходимость в расследовании отпадет сама собой. Но пока этого не произошло, мы сделаем все, что в наших силах, и постараемся не упустить ни единой мелочи. Надеюсь, вы разрешите задать вам несколько вопросов, а потом познакомиться с людьми, которые близко общались с фрау Робертс. Я имею в виду прислугу в доме и членов вашей семьи...
— Значит, я должен пригласить сюда детей? У меня две дочери, от первого брака, понятно. Я могу связаться с ними по телефону. Или с их мужьями. К сожалению. По крайней мере, в одном случае, к сожалению.
Вот так и получилось, что телефон почти в одно и то же время зазвонил у Реймаров и у Ханса-Пауля, вызвав тем всеобщее замешательство.
— Но что он имел в виду? — прошептал Хорншу, пока сенатор говорил по телефону. — Откуда он мог знать, господи, о всей этой чертовщине со следом?
— Он расскажет сам, — сказал Кеттерле. — Значит, вы тоже заметили его ужас?
— Этого нельзя было не заметить, — тихо сказал Хорншу, когда Робертс уже возвращался.
— Что вы хотите узнать от меня? — спросил сенатор и остановился перед Кеттерле. — Предупреждаю, вопросы личного характера не вызывают у меня энтузиазма.
— Быть может, комиссар Хорншу немного осмотрится пока в доме? — спросил, помолчав, Кеттерле.
Сенатор понял.
— Значит, все-таки личные? Фрау Матильда на кухне, господин комиссар. Это прямо напротив.
Хорншу ушел.
— Ну, спрашивайте, — сказал Робертс, усевшись на свое место и разглядывая ландшафт Ван Дейка над камином.
Кеттерле проследил за его взглядом.
— Когда обычно ваша жена стирала с лица косметику? — спросил он, не глядя на Робертса.
Тот молчал.
— Послушайте, однако, — пробормотал сенатор наконец, и комиссар встретился с ним взглядом.
— Поверьте, у меня достаточно веские основания для этого вопроса. Иначе я не задал бы его вам, господин сенатор.
— А что вы вообще имеете в виду?
— Видите ли, женщины в том, что касается косметики, следуют раз навсегда установившейся привычке. Ваша супруга стирает косметику до того, как раздевается перед сном, или после?
Сенатор покачал головой с отсутствующим видом.
— Я не могу ответить на ваш вопрос, — пробормотал он затем, — я этого просто не знаю.
— Но вы же должны были... я полагаю, вам случалось...
Робертс взглянул на комиссара. Сенатор выглядел усталым и одряхлевшим.
— В тех случаях она всегда была безукоризненно накрашена. Что и требуется для пожилого мужчины. — Сенатор принялся рассматривать ногти на руках. — Тут я не могу вам помочь. Спрашивайте дальше.
— Когда вы женились на ней?
— Ровно шесть лет назад. Ей было тогда двадцать три, мне шестьдесят шесть.
— И еще один вопрос, господин сенатор. Ваше состояние ведь весьма значительно.
Робертс подтянул ноги ближе к столу.
— Оно значительно... В самом деле.
— Как распорядились вы им в завещании?
— Я, — сказал сенатор Робертс, — назначил согласно договору о наследовании мою законную жену единственной своей наследницей, с обязательством, однако, выплатить моим детям определенный им процент, который несколько превышает часть, полагающуюся им по закону. Я сделал это из деловых соображений, дабы моя жена с оставшимся неразделенным капиталом смогла и дальше вести мои дела, в доходах от которых должна участвовать также в известной мере и моя дочь Эрика от первого брака. Если вам нужен адрес моего адвоката...
— Благодарю, — сказал Кеттерле, вынув записную книжку и сделав несколько пометок.
— Достаточно ли суммы, остающейся на долю второй вашей дочери, для обеспеченной жизни?
— Нет, — ответил сенатор, — но так вопрос и не стоял.
Тон его ответа не позволил комиссару спросить о причине.
— А кому известно о вашем завещании?
— Никому. Моя жена тоже этого не знала.
— Ваш первый брак был расторгнут по закону?
— Да.
— Когда?
— Четырнадцать лет назад. Причиной была не Сандра, если вы это имеете в виду.
— Учтена ли в завещании каким-либо образом ваша первая жена, чтобы ваши дети могли на что-то рассчитывать и с этой стороны?
— Нет, — ответил сенатор, продолжая рассматривать голландский ландшафт над камином, — к тому же моя первая жена погибла 27 марта 1956 года. В последнее время она проживала в Виккерсе на Лонг-Айленд. Она спустилась из своего дома вниз на пляж. И там внезапно ее след оборвался.
— Вы что, всерьез полагаете, будто моя экономка, моя уборщица или мой шофер могут послать моей жене телеграмму загадочного содержания? — спросил сенатор после того, как комиссар выразил желание задать несколько вопросов прислуге. — Но если это так необходимо...
Он подошел к телефону.
Вместо Матильды в дверях появился Хорншу.
— Я уже побеседовал с ней, — сказал он, — она тоже не знала, куда собралась ехать фрау Робертс. Та просто объяснила, что не хочет несколько дней никого видеть и слышать.
— А как, собственно, она узнала о существовании «Клифтона», Хорншу? — задумчиво произнес Кеттерле. — Над этим вопросом мы ведь до сих пор не задумывались.
— Насколько я понимаю, — сказал Робертс, — мы получили рекламный проспект. Погодите-ка... Сандра нашла этот дом восхитительным. В отличие от меня ее всегда привлекала деревенская романтика, соломенные крыши... у этого дома ведь соломенная крыша? Верно? Ну вот видите, самая простая загадка в нашем деле. Если вам интересно, не исключено, что проспект у меня еще сохранился...
Комиссар покачал головой.
— Нет, нет, это не настолько важно. У вас есть шофер?
— Да. Новотни. Эмигрант. Очень старательный. К тому же он следит за садом, лодками, отоплением и прочими вещами.
— Кадулейт номер два, — пробормотал Хорншу.
— Он живет в доме?
— Нет, у него своя квартира поблизости. А в течение дня его можно застать в гараже. Там у него небольшая каморка. Лучше покончить с этим сразу же. Остальные должны сейчас подойти.
Сенатор Робертс приподнял безупречной чистоты манжет над своими часами. Тяжелый золотой браслет обтягивал покрытое волосами и совсем еще не дряблое запястье. Он остался сидеть за письменным столом, отвечая на вопросы комиссара, оттуда же он следил за беседой своего шофера с полицейскими.
— Да вы садитесь, Новотни, — подбодрил он водителя, который нерешительно стоял в центре комнаты, и Новотни неловко присел на краешек кресла.
На нем был комбинезон, в руках замасленная кепка. Но Кеттерле вполне мог представить, как респектабельно он смотрелся в своей прекрасной форменной одежде, со слегка тронутыми сединой пышными волосами и лицом, выражение которого весьма мало соответствовало седине.
— Чтобы сразу ввести вас в курс дела, Новотни... — начал было сенатор из-за своего стола, и шофер обратил на него внимательный взгляд.
Комиссар Кеттерле поднял руку и сделал из-за спины Новотни знак сенатору.
— Господин сенатор, позвольте, пожалуйста, задавать вопросы мне.
Рихард Робертс пожал плечами.
— Как вам будет угодно, — сказал он и откинулся в кресле. Огромный нож для разрезания книг выглядел в его могучих руках перочинным.
Кеттерле обратился к шоферу:
— Несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам, одобрены господином сенатором. Поэтому можете отвечать на них без колебаний, ясно?
— Конечно, — сказал шофер, пребывавший, очевидно, в полном неведении, о чем должна идти речь.
— Сколько автомашин имеется в доме?
— Три. «Кадиллак», «Мерседес-190 СЛ» и «карман-гиа» уважаемой госпожи.
— Вы обслуживаете все три?
— Да, все три.
— В чем состоит ваша работа?
— Я слежу за их внешним видом, мою, произвожу мелкий ремонт, регулярно отгоняю на техническую профилактику. Такие задачи у любого домашнего шофера.
— Вы водите все три?
Новотни кивнул.
— Да.
— Где находятся документы на автомобиль, когда вы сидите за рулем?
— В «кадиллаке» в правом боковом кармане, в двух других — в левом боковом кармане.
— И ни в одной — в отделении для перчаток?
— Нет. На этот счет имеется строгое указание господина сенатора. Отделение для перчаток в машине — это все равно что ящик его письменного стола.
— Иногда там остается письмо или какой-нибудь документ, — сказал Робертс, — и пришлось указать шоферу...
— Понятно, — сказал Кеттерле. — Положение сиденья водителя во всех машинах соответствует вашему росту?
Сенатор Робертс скривился и покачал головой.
— Уважаемая госпожа очень... — Новотни подыскивал нужное слово, чтобы выразиться с достаточным почтением, — изящна. И в большинстве случаев она выдвигала сиденье вперед до отказа.
— Благодарю, — сказал Кеттерле. — Вы водите машину в перчатках?
Кристоф Новотни ответил на этот вопрос не сразу, и Хорншу удивился, почему комиссар оставил его напоследок. Какое-то время шофер вглядывался в лицо Кеттерле с бо́льшим напряжением, чем до сих пор.
— К форменной одежде полагаются перчатки из серой замши, — ответил он наконец, — господин сенатор придают этому большое значение.
Кеттерле кивнул.
— И последний вопрос. Вы, конечно, тоже ничего не знаете о телеграмме, которая была отправлена отсюда вчера ночью по телефону? Текст ее: «Не выйдет», она была без подписи и адресована госпоже Сандре Робертс.
— Нет, — сказал шофер, — да и как бы мне пришло такое в голову? Когда была отправлена телеграмма?
Комиссар достал скомканную записку из кармана пиджака и назвал точное время.
— В девять часов семь минут.
— Ровно в девять господин сенатор позвонили мне на квартиру и сообщили, что я им больше не нужен.
Шофер взглянул в сторону сенатора, который как раз положил нож для разрезания книг на письменный стол.
— Верно, — сказал сенатор, — это было ровно в девять. По телевизору кончили передавать соревнования по теннису. Я помню точно.
Новотни встал и переложил кепку в другую руку. Комиссару бросилось в глаза, что, несмотря на все свое уважение к господам, в нем не было и следа приниженности.
— Господин сенатор, вы позволите мне вопрос?
— Да, Новотни.
— Неужели уважаемая госпожа попала в аварию? Я имею в виду — мне не хотелось бы упрекать себя в недостаточном уходе за машиной... Это просто немыслимо...
— В этом смысле вы можете быть совершенно спокойны, Новотни, авария не имеет никакого отношения к делу.
— И все-таки... Если господин сенатор мне доверяют...
Робертс устало махнул рукой.
— Хорошо, хорошо, Новотни. Радуйтесь, что вы ничего об этом не знаете.
Шофер опустил голову, повернулся и пошел к двери. Комиссар Кеттерле достал из нагрудного кармана шариковую ручку и сжал ее в самом низу двумя пальцами.
— Кстати, господин Новотни, — сказал он, когда шофер был уже у двери.
Новотни вздрогнул.
— Да?
— Не могли бы вы оставить мне свой адрес и номер телефона? На всякий случай.
Шофер вернулся, взял шариковую ручку, бумажку комиссара и, склонившись над столом, записал свои данные. Потом, подумав, вытащил из кармана тряпку и тщательно протер ручку.
— У меня руки в масле, — сказал он извиняющимся тоном. — Вы можете испачкать костюм.
Когда Новотни пересекал холл, доктор Реймар Брабендер как раз открывал входную дверь.
Шофер пробормотал приветствие и удивился, что молодые господа прямо в пальто и шляпах, не раздеваясь, прошли через холл.
— Папа́! — крикнула Эрика. — Папа́, что случилось? Это так ужасно!
Она быстро обняла отца, потом посмотрела на полицейских, которые при ее появлении встали. Сенатор позволил и Зигрид обнять себя, затем поздоровался с обоими зятьями коротким кивком головы. И только после этого представил их чиновникам.
— Хорошо, хоть ты наконец сбрил свою богемную бороду, Ханс-Пауль, — сказал он, когда все уселись. — Если бы ты еще избавился от своих богемных привычек...
Сенатор терпеть не мог рубашки без галстука, куртки английского образца и вельветовые джинсы, но больше всего он терпеть не мог самого этого человека за род деятельности, которая вместо ясных цифр выражалась непонятными оттенками красок на каких-то непонятных набросках.
— Не донимай ты его вечными упреками, папа́, — сказала Зигрид. — По крайней мере сейчас нам всем нужно держаться вместе.
Презрительный смешок Рихарда Робертса продемонстрировал, как отнесся он к этому заявлению, он-то хорошо знал, как воспринимали его дети Сандру Робертс.
Сенатор выказал весьма мало любезности, быстро введя их в курс дела:
— Вы должны это знать: ваша мать бесследно исчезла с лица земли на пляже Лонг-Айленд. Три месяца спустя ее тело обнаружили в устье реки Гудзон. Ваша мачеха точно так же, ночью, исчезла на пляже Северного моря, оставив после себя только след. До сих пор ее не нашли. Мне не хотелось бы три месяца пребывать в неведении относительно ее судьбы. У полиции нет никаких отправных данных. Поэтому прошу вас точно отвечать на вопросы, которые задаст старший комиссар Кеттерле. Хочу подчеркнуть, что в течение сорокапятиминутной беседы с ним старший комиссар завоевал мое полное доверие во всех отношениях.
Одним движением руки он отмахнулся от всего, что собирались сказать молодые люди.
— Задавайте вопросы, — обратился он к Кеттерле и откинулся в кресле, сцепив пальцы рук.
— Возможно, я не так уж много смогу узнать от вас, — комиссар обратился к доктору Брабендеру, — но скажите, все вы знали подробности случившегося на Лонг-Айленд?
— Да, — сказал Реймар. — Все. — Он был бледен и нервно выдернул из пачки сигарету. — За исключением папа́, — сказал он извиняюще и закурил. — Это ужасно, господин комиссар, и, должен признаться, зловеще. Какие силы могут быть заинтересованы в том, чтобы сломить папа́, убирая его жен?
— Ну, — сказал Кеттерле, — ваша теща к тому времени, как она утонула, уже не была женою господина сенатора. Это важный момент и, возможно, ключ к раскрытию тайны — если она вообще существует.
— А вы разве верите в случай?
Комиссар Кеттерле опустил голову. Потом взглянул, не отвечая, врачу прямо в глаза.
— Когда вы видели ее в последний раз?
И хотя комиссар подчеркнул слово «вы», от него не укрылось, как вздрогнул врач при этом естественном вопросе.
Доктор Брабендер взглянул на жену.
— Думаю, что в пятницу, две недели назад, на осеннем балу Альстер-клуба.
— И вы тоже, уважаемая госпожа?
— Да, — подтвердила Эрика, — мы вообще-то видимся редко.
— А вы? — спросил Кеттерле Ханса-Пауля и Зигрид.
— Они ненавидят Сандру! — крикнул сенатор из-за стола. — Да видели ли они ее когда-нибудь вообще?
— Папа́, — возразила Зигрид, — ты не прав.
Кеттерле слегка подался вперед.
— Это была взаимная неприязнь?
— Н-нет, не совсем, — пробормотал Робертс.
— А Ханс-Пауль даже находит ее симпатичной. Она ведь очень экстравагантна.
Комиссар взглянул в утомленное, бледное лицо Ханса-Пауля Брацелеса.
— Так, — сказал он. — Знал ли кто-нибудь из вас, куда отправилась фрау Робертс?
— Этого никто не знал.
— Знает ли кто-нибудь из вас пансион в дюнах под названием «Клифтон»?
— Минутку, — доктор Брабендер откашлялся. — Так это, произошло там?
— Да, — сказал Кеттерле. — Вы знаете этот пансион?
— Что-то слышал. Фризская крестьянская романтика с соломенными крышами и журчащим неподалеку ручейком, так?
— Примерно, — сказал Кеттерле, — но когда вы об этом слышали? Можете точно вспомнить?
Брабендер задумался. Размышляя, он механически крошил свою сигарету в пепельнице.
— Должно быть, она рассказывала об этом на клубном балу, но точно теперь сказать не могу.
— Однако это очень важно, господин доктор, — настаивал Кеттерле. — Для нас важно знать, действительно ли фрау Робертс держала свой план втайне. Если мы будем знать это наверняка, будет уже кое-что существенное. Так это в самом деле было на клубном балу?
— Кто бы вспомнил незначительную мелочь, — пробормотал Брабендер, — не случись теперь... Ужасно трудно припоминать мелочи, которые потом приобретают такое значение. Это могло быть и чуть раньше, могло быть... у вас, кажется, есть проспект этого пансиона, папа́?..
Сенатор кивнул.
— Совершенно верно.
— Вот видите, это могло быть и здесь. Я сейчас не помню.
— Но не после клубного бала? Исключено?
— Исключено.
Комиссар Кеттерле все еще сидел, слегка подавшись вперед.
— Скажите, доктор Брабендер, вы ведь являетесь старшим врачом в госпитале святого Георга, не так ли?
— Да, конечно, но какое это имеет...
— Никакого, вы правы. Недавно в приемной врача я читал одну из ваших статей.
Ханс-Пауль Брацелес откашлялся.
— А не могли бы вы объяснить, господин комиссар...
Кеттерле прервал его:
— Должен вам признаться, что пока мы ничего объяснить не можем. Абсолютно ничего. Нет вопросов, которых мы бы себе уже не поставили. И теперь просто не знаем, что делать дальше. Еще один вопрос: кому из вас доводилось ездить в автомобиле фрау Робертс?
— Доводилось, — сказал Реймар. — Мне.
— И когда в последний раз?
— Тоже в день клубного бала. Я отвез Сандру домой, так как...
— Она была пьяна, господин старший комиссар, — пробурчал Рихард Робертс. — Я уже говорил вам, Сандра была экстравагантна.
— Это... — хотел было спросить Кеттерле, но помолчал, переводя взгляд с одного на другого. — Это было частым явлением?
— Если говорить правду, господин комиссар, — сказал сенатор, — за шесть лет я ни разу не видел, чтобы она пила что-нибудь, кроме апельсинового сока, имбирного пива и от случая к случаю, если уж нельзя было отказаться, легкого коктейля. У вас есть еще вопросы?
— Последний, — сказал комиссар и поднялся. — Вы прибегали вчера к услугам своего шофера, господин сенатор?
— Ночью?
— Нет. Скажем — с субботнего вечера до вечера в воскресенье — или даже до утра понедельника?
— Вчера утром я собирался поехать во Флотбек на выездку лошадей. Но потом решил не делать этого, так как чувствовал себя не очень хорошо.
— А где находился Новотни все это время?
— Должно быть, дома. Я позвонил ему еще раз около десяти вечера, чтобы сказать, что в воскресенье он мне не понадобится. Тогда он спросил, можно ли ему пойти в кино после обеда. У вас есть еще вопросы?
— Благодарю вас, — сказал комиссар и принялся задумчиво застегивать пиджак. — Нет ли у вас в настоящее время каких-либо опасений? Я полагаю — мы могли бы выделить одного или двух полицейских...
Он умолк, взглянув на сенатора.
— Думаю, что справлюсь и сам, — сказал сенатор. — Известите меня, если что-нибудь выяснится. Я, естественно, обеспокоен. После всех ваших вопросов...
И все-таки у сенатора Рихарда Робертса осталось впечатление, что ни один из этих вопросов не был лишним.
В холле оба комиссара столкнулись с экономкой. Теперь она стала намного общительней.
— Ну разве это не ужасно, — сокрушалась она, пока гости надевали пальто. — Такая молодая дама, такая красивая и такая элегантная. — Она даже подала им шляпы. — И Новотни говорит, что это ужасно.
— Когда вы с ним говорили об этом, фрау Матильда?
— Еще до того, как вы его позвали. Да, до того, — сказала экономка, смешавшись.
Кеттерле секунду подержал шляпу в руке, прежде чем надеть ее.
— Так, — сказал он, — мне кажется, что на сегодняшний день вы оказали нам самую большую услугу в этом деле.
Комиссар пригласил Хорншу на обед в пивную папаши Хайнриксена. Это было, пожалуй, единственное заведение в Европе, где еще можно было за марку восемьдесят получить настоящий картофельный суп и жареные фрикадельки с хреном. Кеттерле нравился здешний полумрак, и зимой, когда его комната у фрау Штольц делалась холодной и неприветливой, он проводил здесь большинство вечеров.
— Ну, папаша, что слышно? — спросил он после того, как они спустились на три ступеньки вниз и раздвинули плюшевые занавески.
Папаша Хайнриксен, засучив рукава, протирал стойку.
— Здрасьте, господа, — сказал он, не прерывая работы. — Ничего нового, господин комиссар.. Вам две порции фрикаделек? — Немного пахло пивом и застоявшимся кухонным чадом.
— Точно, — сказал Кеттерле и снял пальто. Хорншу помог ему.
Они сели за столик в углу, и комиссар извлек сигару из нагрудного кармана. Прикурив, он взглянул на Хорншу.
— Толчем воду в ступе, — сказал Хорншу. — Интересно, продвинемся ли мы хоть на шаг.
— А мы уже продвинулись на один шаг, Хорншу, и если Рёпке проявит свое искусство, то на довольно большой.
Кеттерле затянулся сигарой, сунул руку в карман пиджака и, откинувшись назад, уставился в потолок.
Папаша Хайнриксен поставил на стол две кружки пива.
— Пока хватит?
— Вполне, — сказал Кеттерле. — Подумайте, Хорншу, из всех этих людей только двое не лгали. А почему?
— Кого вы имеете в виду?
Комиссар чуть не ткнул Хорншу в грудь сигарой.
— Ваша экономка и сенатор Рихард Робертс. Довольно внушительная личность, а?
— По как вы сделали такой вывод?
Комиссар вытащил руку из кармана, положил на стол листок бумаги и тщательно его расправил. Хорншу наклонился вперед.
— Что это?
— Четыре дробь семь, — сказал Кеттерле. — Рёпке же воплощенная систематизация, вы знаете!
Хорншу взглянул на комиссара.
— Вот, Хорншу, предмет номер четыре из объекта изучения семь. Номер семь — это сумочка крокодиловой кожи, принадлежащая Сандре Робертс, а предмет номер четыре — пропуск, который выдают в больницах посетителям после девяти вечера. Этот пропуск был выдан в прошлую пятницу. На нем написано: фрау Робертс к старшему врачу доктору Брабендеру.
Комиссар Хорншу застыл от изумления.
— Черт побери, — сказал он, — да ведь мы должны были немедленно забрать его с собою.
Комиссар ласково улыбнулся и освободил место на столе для наполненных доверху и источающих удивительный аромат тарелок с супом, которые поставил перед ними папаша Хайнриксен.
— Далеко не все можно с ходу обозначить как преступление, хотя и выглядит порой весьма похоже, Хорншу. Вы ведь заметили, как чувствителен Робертс ко всему, что касается его жены. Откуда мы знаем, что хотела Сандра Робертс от Брабендера? Быть может, что-то мучило ее, быть может, она была больна. Врачи — это люди, которым поверяют все. Возможно, у Брабендера есть довольно веская причина скрывать этот визит от своего тестя. Возможно. А может быть, и нет. С другой стороны, вспомните, что в этом деле подозрение падает на любого, кто оказывается заинтересованным в смерти Сандры Робертс. Интерес тут может быть различный, но вот финансовые интересы всех четырех молодых людей налицо.
Они начали есть суп.
— Однако мы должны искать еще одного человека, того, кто пять лет назад на Лонг-Айленд приложил руку к этой игре. Бывшая жена Робертса утонула, причем при столь же таинственных обстоятельствах. Это наводит на размышления, черт побери, и если серьезно все взвесить, получается абсурд. А может, она еще жива?
— Хорншу, — сказал Кеттерле, — я понимаю, что вы имеете в виду. Но подумайте как следует! Во-первых, она не была названа в завещании сенатора, во-вторых, какие претензии может предъявлять тот, кто официально считается давно умершим и к тому же пытается с помощью убийства реализовать права, которых вовсе не имеет. Нет, нет, даже если бы мы сочли возможной подобную мистификацию, здесь отсутствует сколько-нибудь значительный мотив. Это явно ложный путь.
— Это была просто мысль, — сказал Хорншу.
Комиссар вытер губы.
— Что бы еще ни произошло, я не позволю сбить себя с толку. Мы имеем дело только с реальными вещами. И для всего следует находить реальное объяснение. Вопрос только в том, как находить.
— Я нисколько не удивлюсь, если ее тоже обнаружат утонувшей, — пробормотал Хорншу. — Быть может, в устье Эльбы. Месяца через три.
Покончив с едой, они обсудили еще некоторые детали и даже нашли время обменяться мнением по поводу странного отравления рыбой в Фульсбюттеле, к тому времени имелись уже три смертельных исхода. Под стражу взят был крупный оптовый торговец рыбой.
Около двух они вернулись в полицейское управление, и комиссар сразу же пригласил Хорншу к себе в кабинет. Гора почты на его столе существенно выросла.
Первым делом Кеттерле вызвал Рёпке.
— Давайте-ка вместе просмотрим ваши списки, — сказал он, когда тот вошел в комнату.
Они уселись втроем за письменный стол, на котором между скоросшивателями, папками и отпечатанными материалами лежал доклад Рёпке из «Клифтона» и приложенные к нему фотоснимки.
— Очень хотелось бы знать, обнаружены ли отпечатки пальцев третьего лица на каком-нибудь предмете, принадлежавшем пансионату «Клифтон», — сказал комиссар и выпустил густое облако сигарного дыма.
Они сравнивали списки, отмечали галочкой цифры, рассматривали на свету фотоснимки.
— Вот, — сказал наконец Рёпке, — одиннадцать дробь шесть.
Он сравнил список отпечатков пальцев со списком предметов.
— Третье лицо, бесспорно, держало в руках стакан для зубной щетки из ванной комнаты.
Рёпке поискал еще один снимок.
— Снимок номер четыре, в половину натуральной величины, как раз относится сюда. Вот!
Кеттерле откинулся назад, рассматривая снимок туалетной полочки в номере три, на котором рядом с косметическими принадлежностями Сандры Робертс был ясно виден ни в чем не повинный стакан.
— Большой, указательный, средний и безымянный видны четко, — пробормотал Рёпке, отыскивая копии в пачке фотоснимков с отпечатками пальцев.
— Следовательно, приходится допустить, что некое третье лицо находилось в номере три в промежутке между последним мытьем данного стакана и нашей фотосъемкой, этот человек либо просто пил воду, либо чистил зубы, не так ли?
Кеттерле покачал снимком.
— Мы продвинемся еще дальше, Рёпке, лишь в том случае, если пойдем необычным путем. Правда, это запрещено, но вы ведь не попадетесь с поличным, я знаю.
Рёпке добродушно улыбнулся. Его еще никогда не ловили с поличным.
— Необходимо каким-то образом получить отпечатки пальцев Ханса-Пауля Брацелеса и господина старшего врача терапевтического отделения госпиталя святого Георга. Кто-то из ваших должен обследовать дверные ручки, почтовые ящики, дверцы автомашин, зеркала заднего обзора, попытаться что-нибудь найти.
Рёпке кивнул.
— Это можно будет сделать. Мы добивались результатов в таких случаях. — Он подумал. — Лучше всего подойдет Гафке. Он прошел обучение у нас в оперативно-технической группе, прекрасно умеет обходиться с подобными вещами, а самое главное, у него настолько идиотский вид, что никто не принимает его всерьез.
— Согласен, — одобрил Кеттерле. — Блестящая идея.
Он схватил телефонную трубку и набрал номер.
— Гафке, — сказал он, — передайте все, что вы наметили сделать сегодня после обеда, кому-нибудь другому и немедленно зайдите ко мне.
Уже через несколько минут выпученные безмятежно-голубые глаза Гафке показались в дверном проеме.
— Гафке, — сказал Кеттерле, — вы ведь умеете обращаться с графитом?
Гафке задумчиво кивнул.
— Хорошо. Вот два адреса. Через автомобильное управление узнайте типы и номера автомашин, которыми пользуются эти люди. Нам нужны отпечатки их пальцев.
— Но снимите их по возможности в таких местах, — добавил Рёпке, — к которым указанные лица прикасаются лично и к которым, как правило, не имеют доступа другие. Например, кнопки звонков не подходят для этой цели, а вот дверные ручки годятся.
Гафке кивнул.
— А если принесете нам хотя бы один отпечаток вот этого пальца, — комиссар Кеттерле показал на снимок указательного пальца третьего лица, — я предоставлю вам три дня отпуска. Надеюсь, вы справитесь.
Наблюдая, как Гафке с опущенными плечами и выпяченным кадыком шел к двери, никто никогда и мысли бы не допустил, что Гафке может с чем-то справиться. Но комиссару пришло в голову кое-что еще.
— Гафке, — сказал он и встал. — Погодите минутку...
Он несколько раз прошелся по комнате.
— Конечно, это может быть случайность, Хорншу, может, у него действительно руки были в масле, а может, и не только в масле. В таком случае это невероятная наглость. Черт побери, это была бы и в самом деле невероятная наглость...
Он пошарил в карманах пиджака и извлек записку, на которой был записан адрес и номер телефона Новотни.
— Это была бы невероятная наглость, — повторил он. — Но снимите их обязательно там. Сам он наверняка еще на Ратенауштрассе. Так что дома у него никто вам не помешает.
Гафке взял третью записку так же молча, как и предыдущие, и вышел из комнаты. Но потом снова приоткрыл дверь.
— К какому времени нужно все это? Среда устроит?
Кеттерле взглянул на часы.
— К половине четвертого, Гафке, — сказал он сухо. — Сейчас два. Вы можете взять такси за счет отдела.
Он попросил Рёпке сразу же известить его, если Гафке удастся добыть отпечатки.
— Я распоряжусь, чтобы все копии отпечатков немедленно присылали сюда. Ему я дам в помощь еще одного человека. Он начнет с шофера, — принялся руководить Рёпке.
Это была его специальность. Здесь он был мастер. И добивался обычно успеха. Он свято верил в систематизацию, Кеттерле — в интуицию. Работая вместе, они редко оставляли какое-нибудь преступление неразгаданным.
— Хорншу, — сказал комиссар, когда Рёпке ушел, — будьте готовы. В шесть, в половине седьмого мы еще раз отправимся в «Клифтон». Я должен выяснить насчет этого телефонного звонка и задать кое-кому парочку вопросов. Позвоните вахмистру Риксу, чтобы он тоже пришел. Но он не должен там ничего говорить. А за оставшееся время свяжитесь с полицейскими властями Виккерса на Лонг-Айленд и попросите переслать все материалы по делу... м-да... вы ведь даже не знаете, как ее тогда звали. Ну в таком случае выясните. Может быть, она звалась тогда еще миссис Робертс. А в-третьих, постарайтесь узнать как можно больше из прошлого Брацелеса, Брабендера, Новотни, Робертса и прежде всего самой Сандры Робертс. Бюро прописки, паспортные отделы, полиция, здравоохранение, органы социального обеспечения. Ну да вы сами знаете. Составьте себе подробный план. Вы ведь это умеете.
После того как Кеттерле загрузил Хорншу, он принялся наконец просматривать почту и подписывать распоряжения и донесения, продиктованные им раньше на магнитофон: просьбы о высылке материалов, протоколы допросов, заявления об отпуске, анонимные доносы, распоряжения о передаче дел в суд, пояснительные записки к материалам следствия.
Попалась даже одна бумага из дела Робертс.
Сухим официальным языком доктора Вильгельма Лютьенса, проживающего в Бремене, район Фегезак, извещали о том, что заявленные им в связи с проведенным в интересах общественной безопасности полицейским мероприятием претензии будут приняты... ущерба он не понесет... возмещение последует. Претензии по самому возмещению могут быть предъявлены в течение одной недели и так далее. Подпись Зибек, старший советник, начальник полицай-президиума города Гамбурга.
Письмо было написано в первом лице, что свойственно обычно письмам высоких властей и придает им тон самодовольного высокомерия, которое кажется, еще более смешным оттого, что подписавший письмо, как правило, никогда сам его не составляет.
«Остаток божьей милости, — подумал Кеттерле, скромно визируя письмо, — но если так пойдет дальше, то скоро я смогу говорить о себе во множественном числе... мы... высочество...»
А в остальном он был почти уверен, что доктор Лютьенс из Бремена, район Фегезак, в течение недели непременно заявит новые претензии. И именно вечером последнего дня предложенного ему срока. Он хорошо знал эту породу кляузников.
Они вместе склонились в лаборатории над негативами, на которых медленно вырисовывались лабиринты линий, которые Гафке снял с мусорного ведра Новотни, с крышки его почтового ящика, дверной ручки и замка. Они углубились в отпечатки пальцев мусорщиков, почтальона, газовщика, друзей, подружек, откладывая в сторону один негатив за другим после сравнения, пока вдруг не показались схожие извилины, изломы, закругления и прямые пересечения. Со всей тщательностью многолетнего опыта Рёпке и его ассистент сравнивали, измеряли и снова сравнивали.
Потом Рёпке поднял голову.
— Третье лицо, Кеттерле. Я уверен абсолютно. Вот, взгляните...
Правда, во многих местах отпечаток был смазан, прерывался или пропадал совсем. Но он во всех деталях точно совпадал с теми, которые согласно определению Рёпке принадлежали третьему лицу. Им удалось найти отпечаток пояснее. Снимок был настолько хорошим, что Кеттерле откинулся назад и пробормотал:
— Это и в самом деле один из немыслимейших случаев, с которым я когда-нибудь сталкивался...
Ему пришло в голову, что, может, он гоняется за химерой, не исключено ведь, что завтра Сандра Робертс объявится жива-невредима и будет смеяться до смерти, как выразился ее муж, она ведь всегда была, по его словам, экстравагантна. Но пять лет назад на пляже Лонг-Айленд исчезла другая женщина. Она не объявилась потом и не смеялась до смерти. Она утонула. И его не должно было сбить с толку это сходство случаев. Из тридцатилетнего опыта он знал, чего стоит пустая видимость и как далеко может она увести от фактов. Ему не оставалось ничего другого, как идти по следу, который появился.
Медленно и задумчиво спустился он на второй этаж и прошел в свой кабинет.
Потом позвонил Робертсу. К телефону подошла домоправительница.
— Вы можете переключить меня на гараж?
— Конечно, господин комиссар.
— Новотни еще там?
— Думаю, что да.
Кеттерле ждал.
— Гараж, — ответил Новотни.
— Кеттерле, — представился комиссар. — Мы познакомились сегодня утром.
— Слушаю вас, — сказал Новотни.
— Мне необходимо побеседовать с вами еще раз.
— Но о чем?
— Да вы это уже знаете. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам не в присутствии господина сенатора. У вас есть время?
— Вы хотите приехать сюда?
— Честно говоря, мне было бы удобнее где-нибудь в другом месте.
Новотни помолчал несколько секунд.
— Вы можете приехать ко мне. Господин сенатор сегодня во мне не нуждается. Я просто полирую «кадиллак». Но это я смогу сделать и вечером. У вас ведь есть мой адрес?
— Да, господин Новотни. Итак, через полчаса.
— Хорошо. Через полчаса.
Комиссар положил телефонную трубку на рычаг и долго еще держал на ней руку. Потом начал прохаживаться по кабинету, продумывая свою фантастическую идею. Если она окажется верной, он сделает огромный шаг вперед. Тогда через полчаса у него будет ключ к этому делу.
Впервые за свою многолетнюю службу Кеттерле испытал нечто вроде честолюбия.
Он взял такси.
Новотни жил в надстроенном получердачном этаже. Это было старое здание, расположенное по пути на Грос-Борстель. Комиссар поднялся вверх по старым, исхоженным ступенькам. Пахло сыростью и кошками. Но дверь в квартиру была по-современному покрыта лаком, и на ней висела табличка с надписью «Кристоф Новотни».
Шофер сразу открыл дверь. На нем была теперь куртка под замшу с вязаными рукавами и поясом. Из-под куртки виднелся расстегнутый воротник белой рубашки. Выглядел он очень неплохо, и подозрения комиссара усилились. Кеттерле был собран до предела, как всякий раз, когда, пробираясь сквозь лабиринт фактов и событий, должен был вот-вот наткнуться на собственно человеческую подоплеку дела.
Шофер явно вымылся и переоделся перед его приходом.
— А у вас здесь уютно.
Прихожая узкая, зато оклеена яркими обоями. Налево вход в крошечную кухню, рядом такая же маленькая душевая с туалетом. Комната побольше расположена в конце коридора и выходит окнами на север, высоко над крышами других домов. В комнате широкая кушетка, низкий столик, кресло с торшером и часть современной сборной стенки, не то комод, не то буфет. Рядом с вазой, в которой лежали пластиковые фрукты, красовалась фотография Кристофа Новотни в форме фельдфебеля дивизии «Великая Германия». На стенах висели репродукции с видами силезских городов Бриг, Эльс, Хиршберг, Швейднитц[3].
— Вы из силезских немцев?
— Присаживайтесь, — сказал Новотни. — Да, я из Швейднитца. Может, рюмку вермута?
Кеттерле поблагодарил и уселся в кресло. Шофер предложил ему сигарету. Комиссар, снова поблагодарив, отказался, наблюдая, как закуривает Новотни.
Потом шофер уселся на кушетку, застеленную оранжево-красным покрывалом, и в упор взглянул на гостя.
Комиссар и в самом деле плохо представлял, с чего начать. Новотни взял это на себя.
— Так что же, собственно, произошло в действительности? Господин сенатор сказали мне, что вы — комиссар. Из отдела расследования убийств.
«Не очень умно со стороны господина сенатора, — подумал Кеттерле. — Но в конце концов господин сенатор могли и не знать всего».
— Я был бы счастлив, если б мог уже сейчас сказать, что произошло в действительности. Вы представляете себе песчаное мелководье?
— Да, примерно, — сказал шофер. — Господин сенатор каждую зиму десять дней проводят в Санкт-Петер-Ординге. Я дважды бывал там с господами и совершал с господином сенатором длинные прогулки. Уважаемая госпожа слишком нежна для такой погоды. Она предпочитала сидеть у камина и читать, а не гулять подолгу, когда штормит.
— А вообще она любит гулять? Она кажется изнеженной, привыкшей к роскоши, такие женщины, сами знаете, предпочитают, чтобы их носили на руках.
— Ну нет, я бы этого не сказал, — пробормотал шофер. — В хорошую, сухую, а главное, в безветренную погоду она сопровождала господина сенатора всюду. Ее восхищало, что в свои годы он еще сохранил столько сил. Да и вообще ему не дашь семьдесят два, правда?
Тут комиссар согласился с шофером.
— Так что же все-таки случилось? — спросил тот.
— Фрау Робертс исчезла с лица земли. Бесследно, в буквальном смысле. Я и представить себе не мог, что такое возможно. Она любит природу северного побережья? Я имею в виду, нравился ли ей Санкт-Петер-Ординг или она ездила туда, только чтобы доставить удовольствие господину сенатору? И что вообще она за человек, предпочитает одиночество или, наоборот, ей необходимо общество?
— Там, в Санкт-Петере, она имела и то и другое. Уважаемая госпожа необычайно красивая женщина. Естественно, ей нравится, когда ею восхищаются. Они часто бывали в курзале, на танцах, и вечерами, соответственно, выходили тоже.
— А как вам кажется, это в ее духе — отправиться в одиночестве в пустынную грустную местность, где нет ни танцев, ни курзала и тому подобных вещей?
Шофер пожал плечами и затушил сигарету в пепельнице.
— Откуда мне знать? Должно быть, у нее были свои причины. Уважаемая госпожа экстравагантна. Но неуравновешенной она никогда не была. К тому же она принимает участие во многих коммерческих делах господина сенатора.
Кеттерле обратил внимание, что Новотни тут же закурил вторую сигарету.
— Вы слишком много курите, — сказал он, рассматривая зажигалку, которую шофер вертел в руках. Это была красивая узкая зажигалка, обтянутая темно-коричневой крокодиловой кожей.
— Симпатичная зажигалка, — сказал Кеттерле.
Новотни защелкнул верхнюю крышку и взглянул на нее с явной гордостью.
— Подарок уважаемой госпожи. Две недели назад в гостинице в Люнебурге она забыла сумочку и заметила это, лишь когда мы свернули на Ратенауштрассе. Я тотчас поехал обратно и привез ей сумочку. В знак благодарности она подарила мне эту зажигалку.
— А вы ездили с ней в Люнебург на «Карман-гиа»?
— Я в Люнебурге был вовсе не с нею, а с обоими господами. У господина сенатора были деловые переговоры с люнебургскими заводчиками. А я сопровождал уважаемую госпожу в музей. Мы были на «кадиллаке».
Комиссар помолчал мгновение, разглядывая поля собственной шляпы, которую держал на коленях.
— А вы сами никогда не были в пансионе «Клифтон»? На побережье в районе Куксхафена, там, где случилась эта загадочная история? — быстро спросил он.
— Нет, никогда.
Кеттерле положил шляпу на пол рядом с креслом, встал и принялся выхаживать по комнате взад и вперед.
— В самом деле не были?
— В самом деле. Нет. Да и какой смысл мне скрывать это?
— Да, верно, — сказал комиссар. — А скажите еще, уважаемая госпожа, она бывает замкнута, погружена в себя, молчалива или, напротив, открыта, доверчива, общительна?
Кеттерле остановился и взглянул на шофера сверху вниз. В этот момент на полке над кушеткой зазвонил будильник. Он показывал половину пятого. Новотни протянул руку и нажал кнопку звонка.
— Вы всегда встаете в это время? Нелегкая у вас работа, — сказал комиссар. — Да, так какое же впечатление сложилось у вас об уважаемой госпоже как человеке?
— Я нередко совершал длительные поездки с уважаемой госпожой. Прежде всего в мае прошлого года в Монтекатини, где господин сенатор проходил лечение. Уважаемая госпожа любит беседовать с людьми. У нее нет высокомерия или надменности по отношению к персоналу. Она создает иллюзию, будто вы на равных.
— Так-так, — пробормотал комиссар и снова принялся расхаживать по комнате.
— Но почему, собственно, вы задаете эти вопросы мне?
Кеттерле остановился.
— А кому же еще я должен их задавать, господин Новотни?
— Самому господину сенатору.
— У меня не создалось впечатления, будто господин сенатор проявлял особую чуткость по отношению к жене, господин Новотни. Тут уж я ничего не могу поделать: трудно поверить, чтоб подобный брак был особенно прочным.
— Об этом не мне судить, — сказал Новотни.
— Но вы разделяете мое мнение?
Шофер пожал плечами.
— А молодые господа? Они, вероятно, прекрасно знают все, о чем я могу только догадываться. Вашей уважаемой госпоже приходилось нелегко, господин Новотни. Выйти замуж за располагающего к себе, однако жесткого, как кремень, человека, иметь двух приемных дочерей, не намного моложе, чем она сама, да к тому же относящихся к ней по внутренним, однако вполне понятным причинам крайне неприязненно, совсем не иметь друзей, общаться разве что со снобами и денежными мешками из Альстер-клуба... Что ж тут удивительного, если временами у нее появлялась потребность раскрыть перед кем-то душу? Вот почему я и расспрашиваю вас, Новотни.
— И вы полагаете, что уважаемая госпожа раскрывала душу передо мной?
Новотни улыбнулся.
— Да.
Комиссар не улыбался.
— И что она, быть может, сказала мне причину, зачем отправилась на северное побережье?
— Да.
Засунув руки в карманы брюк, широко распахнув свое плотное пальто, Кеттерле стоял перед шофером и наблюдал, как тот закуривает третью сигарету.
— К сожалению, ничем не могу вам помочь. Свои личные дела уважаемая госпожа со мной никогда не обсуждала. В конце концов, я всего лишь шофер.
Комиссар снова уселся, однако теперь он сидел, весь подавшись вперед, зажав между колен кончики своих массивных пальцев.
— Господин Новотни, — сказал он дружески, однако не глядя шоферу в лицо, — я вынужден задать вам вопрос, который вполне может вызвать ваше возмущение. Она была беременна?
Рука шофера с сигаретой бессильно повисла.
— Господин комиссар, — выдавил он, — почему вы говорите «была»?..
Кеттерле поднял голову.
— Я сказал «была»? Должно быть, оговорился. Итак, беременна она, господин Новотни? Вы должны подтвердить, если это так. Пусть даже это будет для вас нелегко.
Новотни уставился прямо в пол. Казалось, он считал клеточки ковра. Комиссар буквально физически чувствовал это.
— Я ведь уже сказал, что уважаемая госпожа не обсуждала со мной своих проблем, — пробормотал шофер.
— А что же тогда она собиралась обсудить с вами в пансионе «Клифтон»?
— Не понимаю, что вы имеете в виду.
Новотни потянул было руку к пепельнице, чтоб стряхнуть с сигареты пепел. Но сделал это на полпути. Прямо на ковер. От комиссара не ускользнуло и это.
— Тем не менее, господин Новотни, — продолжал он. — Слушайте меня внимательно, вы находитесь в трудном положении. Вы договорились встретиться с нею в «Клифтоне». Но потом господин сенатор решил, что вы должны отвезти его в воскресенье во Флотбек. Тогда вы посылаете ей телеграмму. Следовательно, вы не едете в «Клифтон». Но там бесследно исчезает фрау Робертс.
— Я не договаривался с нею. Мы не сказали об этом ни слова. И я не посылал телеграммы. В то время я уже был здесь, в моей квартире. И все ваши подозрения...
Кеттерле поднялся в третий раз.
— У меня нет никаких подозрений. Но почему вы вдруг начали говорить «она» о госпоже и «мы» о вас обоих?..
— Это все от волнения, черт побери...
Шофер тоже встал. Их лица оказались совсем близко друг от друга...
— А разве вы на моем месте не потеряли бы самообладания?
— На вашем месте, — проворчал комиссар, — на вашем месте я лучше сказал бы правду.
Он вынул из кармана брюк руку со связкой ключей и покачал ими, как колокольчиком. Затем спрятал ключи.
— Речь идет вовсе не о вас, Новотни. Садитесь ближе, поговорим спокойно. Речь идет не о вас. Но если я собираюсь выяснить, о ком должна идти в данном случае речь, мне надо для начала знать, была ли она беременна.
— Вы снова сказали «была».
— Я убежден, что Сандры Робертс нет больше в живых. Вероятно, это поможет вам говорить правду. Думаете, я начал бы это расследование, если б допускал, что завтра она снова объявится и будет смеяться до смерти, как изволил выразиться господин сенатор? Я убежден, вы уже не сможете скомпрометировать вашу любимую. И если я, несмотря ни на что, ошибаюсь, даю вам слово, что никто никогда ничего не узнает. А теперь скажите, правильна ли моя догадка. Она ждала от вас ребенка?
Новотни рассматривал свои сильные, загорелые руки.
— Допустим, я сейчас скажу «да». Вы правы. Уважаемая госпожа позволила себе увлечься, я тоже. Последствия не заставили себя ждать... Я — маленький человек, господин комиссар. Но опасность такого мотива я тоже достаточно понимаю. Поэтому я не сказал бы вам ничего, даже если бы все было так... Докапывайтесь лучше сами. Я отказываюсь давать показания.
— Мы даже не нашли до сих пор ее труп, господин Новотни. Допустим, мы вообще не сможем его найти?
— Тогда вы не сможете разрабатывать вашу догадку дальше.
— Вот видите, — пробурчал Кеттерле. — Вы считаете, это говорит в вашу пользу?
Он снова принялся ходить взад и вперед.
— Попробую поставить себя на ваше место. Мне кажется — при условии, конечно, что это правда, — лучше признать беременность и дать нам возможность досконально проверить этот мотив, нежели навлекать на себя подозрение, будто сознательно что-то скрываешь. Поскольку вы решительно продолжаете утверждать, будто никогда не были в «Клифтоне» — а вы ведь продолжаете это утверждать...
— Да. Я никогда там не был.
— Хорошо, поскольку вы решительно продолжаете это утверждать, никто не сможет доказать обратное — как вы думаете?..
— Это исключено, господин комиссар.
— Гм, хорошо. Но чем повредит вам то, что вы признаете беременность? Вы можете даже спокойно признать, что это вы отправили ей телеграмму.
— К моменту подачи телеграммы я был уже в своей квартире, это подтвердил и господин сенатор...
Комиссар с удовлетворением откинулся назад и терпеливо говорил теперь, глядя в потолок.
— Вы — маленький человек, господин Новотни. Вам приходится много работать, и вы небогаты. Вы дали телеграмму отсюда и просили записать ее на номер телефона вашего шефа. Такое возможно. Служащие почты только в одном случае из тысячи делают выборочную проверку. Это, конечно, обман. Но он преследуется только по заявлению пострадавшего. А господин сенатор никогда не узнает об этом, если вы, конечно, скажете мне правду...
— Я не посылал телеграммы. И я не договаривался о встрече с уважаемой госпожой. — Волнение шофера росло. — И я никогда не был в этом... этом пансионе. Чего, собственно, вы от меня хотите? Вы и так уже выдавили из меня одну тайну...
— Это не тайна, Новотни. Это факт, лежащий на поверхности. По крайней мере, для меня.
— Так и удовлетворитесь этим, черт побери...
— Этим удовлетвориться я не могу, господин Новотни. Это не продвигает меня ни на шаг дальше. Но в конце концов я могу понять ваше молчание.
И снова Кеттерле принялся ходить по комнате взад и вперед. У окна он задержался. Начинало смеркаться, и закопченные сажей крыши постепенно утрачивали свои контуры. Из трубы напротив вырывался черный дым, который ветер тут же рвал в клочья.
— Вы можете помочь мне еще в одном пункте. Вопрос нескромный, но абсолютно безобидный. Вы можете, если собираетесь держаться подальше от этого дела, проигнорировать его вовсе. Но если вы ответите правду, то очень поможете мне, да и самому себе тоже. Когда Сандра Робертс обычно стирала косметику? До того, как раздевалась перед сном, или после?
Он обернулся. Кристоф Новотни видел только громадный силуэт перед сумеречным окном. Он набрал в легкие воздуха.
— Это было обычно последнее, что она делала перед сном. Она делала это уже в пижаме.
— Всегда?
— Всегда.
Силуэт приблизился к Новотни, наклонился, поднял с пола шляпу.
— Хорошо, господин Новотни. Этого я и боялся. Но это не могло быть иначе.
Дверь захлопнулась. Шофер уткнулся лицом в ладони. Потом поднялся, вышел на лестничную площадку и уставился из маленького окошка вслед комиссару, который пересекал улицу, высоко подняв воротник пальто.
Новотни вернулся в комнату и отодвинул в сторону дверцу встроенного шкафа. Достал оттуда фотографию Сандры Робертс и снова поставил ее на полку рядом «будильником.
Она сидела на низкой каменной ограде, курила и уголками глаз, которые почти закрывали длинные русые пряди, наблюдала за мужчиной, который внимательно смотрел на нее, медленно приглаживая рукой волосы на голове. Опять, опять и опять.
Хотя лежали волосы безупречно.
Несколькими перекрестками дальше комиссар нашел свободное такси и отправился прямо в госпиталь святого Георга.
В ординаторской терапевтического отделения он около двадцати пяти минут беседовал с доктором Реймаром Брабендером. В конце разговора он попросил врача заказать ему такси.
В самом начале седьмого он вышел из такси на площади Карла Мука, быстро прошел, через отделанный клинкером холл и поднялся на второй этаж. Хорншу был уже наготове, поджидая его в пальто и шляпе.
— Пока мы не уехали, запросите, пожалуйста, почтовое отделение, обслуживающее квартиру Новотни, обо всех телеграммах, которые, возможно, поступали на его имя, начиная с четверга, — сказал Кеттерле, бегло просматривая почту.
— С «Клифтоном» нет автоматической телефонной связи, — добавил он через несколько секунд, — так что можно проверить, не заказывали ли оттуда с ним телефонный разговор.
Хорншу вызвал Гафке, передал ему задание и закурил сигарету.
— Мы можем немедленно выехать, Хорншу.
Комиссар взял из нижнего ящика письменного стола карманный фонарь, достал папку из шкафа и распахнул дверь. Закрывая ее снаружи, он не предполагал, что не пройдет и семи часов, как он откроет ее снова.
— Мы заночуем там, Хорншу, — сказал он, — вы известили вахмистра?
— Конечно. Они провели сегодня операцию на песчаном мелководье, прочесали район примерно в двадцать пять квадратных километров.
— Ну и...
— Естественно, ничего. Рикс говорит, что пропавшего позавчера легко могло затянуть по такой погоде в ил. И тот факт, что они не смогли ее отыскать, еще не означает, что она все-таки там не погибла.
Комиссар кивнул:
— Я тоже так думаю.
Они уселись в машину, и Хорншу выехал со двора. Медленно, с остановками, тянулся по улицам густой поток машин. Они с трудом пробились к причалу и перед въездом в туннель простояли добрых десять минут.
— Все-таки лучше, чем по мосту через Эльбу, — проворчал Хорншу, пока лифт медленно уносил их в глубину.
Вокруг них стояли докеры, рабочие порта и судоверфи в фуражках и кожаных куртках, из карманов у многих торчали маленькие термосы. Они держали в руках велосипеды и стрекочущие мопеды. Кто ехал на смену, кто возвращался со смены. Выложенные кафелем туннели, извивающиеся подобно шлангам под гаванью, были наполнены неоновым светом и парами бензина, в их удушливом и голубоватом чаду терялся выезд на поверхность.
Улицы Штейнвердера тоже были забиты колоннами велосипедистов и владельцев мопедов. Лишь на той стороне реки Хорншу удалось немного прибавить скорость. Они проехали набережную Рейер и через Ретебрюкке подъехали к повороту «длинное ухо». Затем свернули на северо-запад в направлении Куксхафен — Штаде. Было уже темно, и движение за городской чертой было на столь оживленным.
— Ну и что же вам удалось выяснить? — спросил Хорншу. — Предприятие Гафке не дало больше никаких результатов.
— Да и не могло дать, Хорншу. Логически исключается. Третьим лицом является Кристоф Новотни. Это установлено абсолютно точно.
— Ну и?..
— Он находился в близких отношениях с Сандрой Робертс.
— Он был в «Клифтоне»?
— Сам он это отрицает.
— А телеграмму он давал?
— Он отрицает и это.
— Алиби?
Кеттерле вздохнул.
— У него такое же алиби, как у всех остальных, которые были в то время в постели или по крайней мере, утверждают, что это так. Я не знаю. Мы должны стремиться работать с безусловными доказательствами. Отрицательные доказательства дают в данном случае слишком мало, как, впрочем, и всегда.
— Вы полагаете, он причастен к этому делу?
— Так или иначе, он держал в руках стакан в «Клифтоне». Но главным является то, что Сандра Робертс никогда не стирала косметику, пока совсем не разденется ко сну.
— Вы, кажется, придаете этому моменту большое значение.
Кеттерле поудобнее устроился на сиденье и чуть приоткрыл окно.
— Да, — сказал он, — как это часто бывает в нашем деле, существуют две возможности. Либо Сандра Робертс решила отправиться на пляж после того, как совсем разделась и приготовилась лечь спать, — это малая вероятность. Либо после того, как она уже разделась, кто-то принудил ее отправиться на прогулку, и здесь вероятность значительно большая.
— В ее комнате был Новотни?
— Может, и так. А кроме того, она ждала от него ребенка.
— Не может быть!
— И тем не менее это так.
— Откуда вы знаете?
— От ее зятя, доктора Брабендера.
Хорншу бросил на комиссара быстрый взгляд, в мерцании приборов на распределительном щитке тот выглядел бледным и осунувшимся.
— Но тогда ведь не остается почти никаких сомнений?
— Увы, Хорншу. Есть еще два сомнительных момента. Видите ли, момент стирания косметики — это чрезвычайно важная исходная точка. Однако этот момент говорит отнюдь не против Новотни...
— Но послушайте...
— Нет, нет, Хорншу, не спешите, подумайте еще раз! Предположим, он был действительно замешан как-то в этом деле, разве тогда он выпалил бы, как из пушки, именно тот ответ, который больше всего изобличает его самого. К тому же, скажи он совсем другое, мы все равно не смогли бы это проверить.
Тут Хорншу пришлось обратить все внимание на дорогу. В западном направлении, как и они, двигались на коротком расстоянии друг от друга два тяжелых грузовика с прицепами. После обгона, впервые с момента выезда из Гамбурга, перед ними открылось пустое черное шоссе.
— И второй сомнительный момент, — пробурчал Кеттерле, — второй сомнительный момент, Хорншу, оказывается даже важнее. Дело в том, что он любил ее.
Тяжелое, затянутое тучами небо, придавило ночное побережье. Время от времени по обеим сторонам шоссе проплывали очертания сгорбленных крестьянских домов с четырехскатными крышами, отдельные деревья, потом снова начиналась равнина, черная и бесконечная.
Мигание маяка на горизонте подсказало, что они приближаются к морю. Они добрались до «Клифтона» около половины девятого. Помещения для гостей были еще освещены, в темноте как из-под земли выросла Хайде и спросила, есть ли у них чемоданы.
Залаяла собака, чуть подальше другая.
Они заметили мерцание пуговиц на униформе. Вахмистр Рикс подошел к ним и, прежде чем они вошли в дом, доложил комиссару во всех деталях об одной из самых больших поисковых операций, которые когда-либо проводились в этой местности.
— Существуют две возможности, господин комиссар. Либо она погибла не здесь, либо ее утащило под ил.
— И какую же возможность мы примем за наиболее вероятную? — обратился Кеттерле к Хорншу.
Хорншу пожал плечами.
В дверях стоял полковник.
— Ну что нового? — протрубил он, едва они вошли в холл. Хайде следовала за ним с двумя портфелями.
— Где господа будут жить? — спросила она Виллемину ван Хенгелер, вышедшую им навстречу из кухни с засученными рукавами пуловера.
— Добрый вечер, фрау ван Хенгелер, — сказал Кеттерле. — Вам не трудно будет предоставить мне третий номер?
— Нисколько, господин комиссар. Только там не застелена кровать. Хайде, будь добра, немедленно...
— Нет, нет. Оставьте все как есть. Не стоит хлопот. Положите мне только шерстяное одеяло. Завтра мы должны уехать очень рано.
— Как вам будет угодно, господин комиссар. Господин Хорншу может занять второй номер. Он рядом. Ну как, есть какая-нибудь надежда пролить свет на это дело? Вы позволите пригласить вас на бокал вина? Но, возможно, сначала вы захотите немного привести себя в порядок. Поездка, наверное, была утомительной.
Снова комиссар прошел под двумя арками в заднюю часть дома и снова испугался протянутой иссохшей руки деревянного святого. Хайде отперла третий номер. После того как он освободился, там сделали уборку, а вещи Сандры Робертс взяли с собой люди Рёпке. Кеттерле снял пальто и вымыл руки.
— Выходит, Хайде, пески не отдают то, что однажды заполучили?
Вытирая руки, он повернулся к девушке.
Та покачала головой.
— Все это было напрасно. Я и раньше знала.
— Почему? — спросил комиссар.
Она пожала плечами.
— Не могу сказать почему. Но я это чувствую. Ее уже здесь нет.
— Хайде, какую чушь вы несете! — возмутился комиссар. — Где же она тогда должна быть?
— Не знаю.
— Все это эмоции, Хайде. Вы что-то знаете или говорите просто так?
— Просто так, — сказала она и улыбнулась, — откуда я могу что-то знать. Последнее дерьмо в этом доме. Хотя раньше это была наша усадьба.
Она отворила дверь и пропустила комиссара вперед. Кеттерле снова увидел огромный старинный сундук и широкую фризскую полку с медной посудой. И снова бросились ему в глаза огромные, старые, почти черные напольные часы, стоявшие в едва освещенной нише, почти скрытой изгибом лестницы.
— Изумительная вещь, — сказал он и остановился.
— Да. Но с тех пор, как я себя помню, они уже не ходят, — сказала Хайде. — В детстве мы прятались внутри. Пока однажды мать не вытащила ключ, а потом его потеряла. С тех пор ключа больше нет.
— А где ваша мать, Хайде?
— Умерла. Она умерла вскоре после отца — когда стало ясно, что мы должны продать усадьбу. Она очень любила меня.
— И вам не хочется никуда отсюда уезжать?
Девушка покачала головой.
— Но почему?
— Другим не понять. Но это в самом деле так.
Комиссар кивнул и прошел вперед.
Хорншу с полковником и фрау ван Хенгелер уже сидели за столом, поставленным в одной из темных оконных ниш.
— Послушайте, комиссар, — встретил его полковник вопросом, — вы уже разобрались с телефонным звонком? Я подумал было, что вы собираетесь поймать нас за руку, но господин Хорншу сказал...
Комиссар сел за стол.
— Нет никаких сомнений в том, что Сандра Робертс разговаривала по этому телефону в воскресенье утром в восемь часов девять минут. Обе дамы заверили, что не слышали звонка. Какая причина у них скрывать, даже если они в самом деле приняли телеграмму...
Фрау ван Хенгелер покачала головой.
— Выходит, в это время она была еще жива, не верите же вы в привидения?
— А вы, значит, тоже убеждены в том, что она мертва? — спросил Кеттерле.
— Что вы! Да и кто еще в этом убежден? Кроме полковника?
— Хайде, к примеру...
— Это неправда, господин комиссар. Я знаю только, что здесь ее больше нет.
Фрау ван Хенгелер переводила взгляд с одного на другого. Хайде стояла возле кухонной двери. Полковник тщательно протирал очки.
— Хайде... — начала фрау ван Хенгелер с укором.
— Ах, оставьте, — перебил Кеттерле, — есть же люди, у которых чутье на такие вещи...
— Воображает, будто она ясновидящая, — сказала Вилли, — но ведь это полная чушь.
— Согласен, — сказал полковник.
Вахмистр Рикс промолчал. Но потом поднял голову и попросил девушку принести бокал сухого вина с сельтерской, разбавленного в большой пропорции.
— В этой телеграмме все загадка, — сказал Кеттерле, — отправитель, отправка, доставка. Знаете ли вы, что ее должны были передать первый раз в субботу ночью, в ноль часов две минуты?
— Почему же этого не случилось? — спросила фрау ван Хенгелер.
— Потому что никто не подошел к телефону, — сказал Кеттерле. — Разве никто не слышал звонка?
Все посмотрели друг на друга.
— Допустим, — сказал комиссар, — полковник ушел спать в одиннадцать, Хайде — в десять минут двенадцатого, но вы ведь в это время не спали. И тоже не слышали телефонного звонка?
— Нет, — сказала Вилли, — не припоминаю. Даже как-то странно. Но в конце концов, теперь-то мы знаем содержание телеграммы, а остальное, наверное, не так уж и важно.
— Вы правы, — сказал Кеттерле. — Это главный вопрос. И еще отправитель.
Вздохнув, он поднялся и побрел словно бы невзначай к кухне. Он закрыл за собой дверь в гостиную, когда увидел Хайде, мывшую посуду.
— А теперь, милая барышня, — сказал он и прислонился рядом с ней к кафельной стенке, — скажите честно, почему вчера утром вы выдали себя по телефону за Сандру Робертс?
Хайде взглянула на него и громко рассмеялась.
— Послушайте, — продолжал Кеттерле, — у нее был муж, приемные дети, люди, любившие ее и восхищавшиеся ею. Вы не можете себе представить, что означает для них ее исчезновение. Не знать ничего, только лишь, что след оборвался, да тут еще тебя дурачат явной бессмыслицей с телеграммой. Подумайте обо всем этом.
— А почему вы не спросите Вилли?
— Вилли? — переспросил комиссар. — Вилли достаточно взрослый человек, чтобы не делать этого или в крайнем случае признаться, что это сделала она. А вот вашу причину, Хайде, вашу причину мне очень хотелось бы узнать.
— Это была не я, — сказала Хайде и принялась тереть кастрюлю. — Как могло мне прийти такое в голову?
— Вот именно, — сказал Кеттерле, — подумайте об этом до завтрашнего утра.
Выходя из кухни, он поймал на себе брошенный через плечо взгляд Хайде.
Кеттерле попросил полковника помочь ему провести эксперимент с машиной.
— Мне хотелось бы проверить, можно ли из какой-нибудь комнаты услышать автомобиль, въезжающий ночью во двор.
— Вы полагаете, Новотни въехал на машине во двор?.. — пробормотал Хорншу.
Кеттерле пожал плечами.
— Это я и хотел бы выяснить, — сказал он.
Следующие двадцать минут они провели в комнатах Вилли, Хайде, полковника и Кадулейта, проверяя, что можно услышать, пока полковник на своей машине несколько раз въезжал во двор, добросовестно хлопал дверцей, запускал и глушил двигатель.
Кадулейт спал, завернувшись в одеяло. Его почти невозможно было узнать.
— Он целый день бродил с поисковой группой по пескам. Я отослала его спать, — сказала Вилли.
Комиссар кивнул. Они прошли в комнату Вилли, потом к полковнику В заключение поднялись на чердак сарая и попытались послушать из каморки Хайде. Это оказалась просто и современно обставленная комнатушка, лишенная романтической притягательности старых вещей, столь характерной для всего здания. На стене в рамке висела фотография тех времен, когда «Клифтон» был еще простой крестьянской усадьбой. При закрытых окнах ничего нельзя было услышать и отсюда, да и при открытых звук был не настолько громкий, чтобы разбудить спящего, хотя Хорншу, сменивший теперь полковника в качестве источника шума, прилагал большие усилия.
— Выходит, такое возможно, — сказала Вилли, когда все снова собрались в гостиной.
— Вполне возможно, — сказал Кеттерле. — А это для нас уже кое-что.
Хорншу наблюдал, как комиссар, допив пиво, поставил бокал на стол и принялся задумчиво барабанить влажными пальцами по картонной подставке.
— Скажите, — медленно спросил Кеттерле, ни на кого не глядя, — какому кругу лиц вы рассылаете обычно свои проспекты?
— То есть как? — переспросила Виллемина ван Хенгелер. — Вы думаете, она получила наш проспект?
— А разве вы ей его не посылали?
Женщина взглянула на комиссара с некоторым недоумением.
— Я не могу этого сказать по памяти. Нужно проверить.
Она слегка приподнялась в ожидании, что комиссар откажется от своей затеи.
Но Кеттерле только сказал:
— Это было бы очень мило с вашей стороны.
Тогда Виллемина, вздохнув, вышла в холл. Они слышали, как она копалась в ящике столика, искала списки. Она листала их на ходу, входя в гостиную.
— Естественно, я распространяла проспекты только в тех кругах, которые в состоянии оплатить свой отдых здесь, — сказала она. — Я выбрала из телефонных книг массу всевозможных обществ, союзов, клубов и прочего в том же духе, а потом попросила выслать мне списки их членов. Всю работу по отправке взяло на себя машинописное бюро в Куксхафене. У меня есть номер их телефона, если вы...
Кеттерле взглянул на часы.
— Слишком поздно для этого, — сказал он. — Среди ваших списков есть список членов Альстер-клуба?
— Да, — сказала Вилли, — я помню абсолютно точно. На этот клуб я возлагала большие надежды.
— Ну что ж, — сказал комиссар, — вы не ошиблись. Рихард и Сандра Робертс как раз являются членами Альстер-клуба. Когда вы разослали проспекты?
— Примерно три года назад, — пробормотала Вилли и отыскала в кипе брошюр список членов Альстер-клуба. — Вскоре после того, как мы открыли пансион.
Комиссар схватил тетрадку и пролистал ее. Хорншу заглянул ему через плечо.
Кеттерле перевернул страницу на букву Р, дважды пробежал ее глазами.
— Что-то не вижу, — сказал он, обращаясь к Хорншу. — Не могу отыскать здесь фамилию Робертс.
— Нет? — Вилли вытянула голову. — В таком случае они не получали проспекта. У машинописного бюро не было других материалов, кроме этого списка.
— И тем не менее у них есть проспект, — сказал Хорншу, засовывая руки в карманы пиджака. — Сенатор помнит его. И доктор Брабендер тоже.
Вилли пожала плечами.
— Во всяком случае, не от меня. Быть может, они получили его от друзей.
Комиссар вздохнул. Хоть бы это удалось выяснить!
— Друзей мы должны разыскать, Хорншу, — сказал ой. — Можете вы оставить нам списки, фрау ван Хенгелер?
— Конечно. Вы ведь их мне вернете?
— Да, — сказал комиссар, — в самое ближайшее время.
Он поднялся.
— На сегодня моя программа выполнена, — сказал он. — Сможете вы разбудить нас завтра в шесть?
Они пожелали друг другу спокойной ночи, и полковник выключил радио.
Постепенно в «Клифтоне» воцарилась тишина. Погас свет. Комиссар Кеттерле в полной темноте сидел в номере три на типично северонемецком стуле с высокой спинкой, и только огонек его сигары освещал временами небольшое пространство вокруг. Он сидел абсолютно неподвижно, прислушиваясь, как Хайде идет по двору к сараю. Ворота сарая захлопнулись.
Казалось, будто комиссар, недвижный, как древнее изваяние, собирается по тихому потрескиванию и скрипу старой мебели разгадать тайну Сандры Робертс. Через полчаса он тихо поднялся, достал из портфеля сильное увеличительное стекло и карманный фонарь, неуклюже опустился на колени и начал исследовать дюйм за дюймом. Почти час перемещался он со скоростью улитки по двум помещениям. Потом тяжело поднялся, отряхнул брюки и снял ботинки.
Он подошел к двери, бесшумно приотворил ее, прислушался и выскользнул в коридор. На полке слабо поблескивала медная посуда. Он крался вперед, вплотную прижимаясь к стенке. В темноте он нащупал пузатый корпус старых часов. Что-то тут было не так.
Он прижался к косяку двери, ведущей в кухню, и прислушался. Кто-то дышал рядом. Дыхание было непривычно громким в мертвой тишине дома.
— Я знала, что вы придете посмотреть, — сказала Хайде.
Кеттерле включил карманный фонарь. Она стояла против него, руки за спиной прижаты к стене, и глядела на него в упор. На ней была длинная ночная сорочка.
— Я догадалась, когда вы сегодня вечером остановились здесь. Никто не должен туда заглядывать. Никто. Даже вы.
— Я и в самом деле подумал об этом, — сказал комиссар хрипло. — Дайте мне ключ.
— Нет. Никто не должен туда заглядывать.
Она скользнула через коридор и прижалась спиной к часам.
— Это тайна, колдовство. Проклятие выйдет наружу, если их открыть.
— Дайте мне наконец ключ, — сказал Кеттерле, — и не сходите с ума. Никакого колдовства не бывает. Быстро, ключ!
Он боролся с девушкой, пытаясь разжать ее руки за спиной.
— Не будьте же истеричкой! Если вы сейчас не дадите мне ключ, завтра я прикажу взломать их. Дай ключ!
— Нет, нет, — задыхалась девушка. — Там внутри платья. Только платья.
— Платья, — пыхтел он. — Так-так, значит, платья!
Несмотря на ее сопротивление, он вставил ключ в замок и медленно потянул дверцу, к которой она все еще прислонялась. Она откинула голову назад, но потом вдруг Перестала сопротивляться.
Внутри корпуса Кеттерле увидел очертания женской фигуры.
Он направил туда фонарь.
Словно в шкафу, там висела старая фризская крестьянская одежда с кружевным корсажем, поясом, отделанным жемчугом, шейным платком и чепчиком. Весь корпус часов был обит изнутри красным бархатом.
Комиссар взглянул на девушку. Теперь он понял. Это была ее сокровищница. Праздничная одежда ее матери, может быть, даже бабки. Это был алтарь, куда приходила она со своим глухим протестом против судьбы, утверждение ее исконных прав на дом и землю, где она родилась. Только она одна знала об этом убежище. А он проявил жестокость по отношению к ней.
И все-таки что-то висело в воздухе.
Как протяжный стон, раздался в тишине телефонный звонок. Один. Второй.
Девушка сделала движение. Комиссар задержал ее.
— Погодите.
Звонок. Еще раз. И снова.
Через секунду он был у столика портье.
— Да? Да, я слушаю.
И тут во мраке гостиной Кеттерле услышал нечто такое, что даже у него, повидавшего на своем веку всякое, мурашки побежали по спине.
— Вы или ясновидящая, или чертовка, — пробормотал он, заметив девушку под аркой.
Потом его голос загремел на весь дом:
— Хорншу!
Сначала ему послышалось, будто телефон звонит в другой половине дома. Звонки, однако, не прекращались, ему даже показалось, что они становятся ближе. Он медленно и мучительно пробуждался от свинцового сна, вызванного таблеткой веронала, ощупью отыскивал настольную лампу, а телефон неумолимо трезвонил по-прежнему.
Часы на его ночном столике показывали точно четверть первого — сенатору Робертсу уже не придется потом вспоминать об этом.
— Да, — сказал он, недовольно кряхтя, — слушаю, ну что там?
Это был дежурный полицейский со 114-го участка, Рихард Робертс припомнил, что участок находится на набережной Альстера, двумя или тремя улицами дальше.
Раза два он заходил туда, чтобы продлить паспорт.
— Один лодочник обратил на это наше внимание, господин сенатор. Они проплывали мимо вашего земельного участка. Там у вас не все в порядке. У вас ведь есть лодочный сарай?..
— Да, конечно, у меня есть сарай для лодок. Ну и что с ним? Он заперт на замок. И почему вы будите меня из-за этого сарая среди ночи, черт побери?
Но полицейский продолжал настаивать, чтобы он сходил проверить сарай.
— Вы ведь знаете, какие бывают люди. Боятся оказаться замешанными и в то же время всегда готовы дать показания. Может, послать к вам кого-нибудь на помощь?
— Нет. Никого не надо. Это терпит до утра. Если будет что-нибудь касающееся полиции, я вам позвоню. Спокойной ночи.
Сенатор положил трубку, выключил свет и долго ворочался на постели. Но заснуть снова ему так и не удалось. Свинцовой тяжестью навалились на него события прошедшего дня и уже не отпустили. Он долго переворачивался с боку на бок, наконец нащупал рукой выключатель и, тяжело дыша, сел.
Он сунул ноги в домашние туфли, накинул на себя тяжелый велюровый халат и прошел через две гардеробные и ванную в спальню Сандры. Там он зажег свет. В помещении стоял запах ее духов, одна штора тихо шевелилась от ветра. Матильда оставила дверь на балкон открытой.
Сенатор Робертс пригладил рукой волосы. Так чего же он все-таки хотел? Кто-то ведь потревожил его... Ах, да, лодочный сарай. Смешно, при чем тут сарай?
Он прошел через комнату, сдвинул штору и выглянул в сад. Сквозь ветки деревьев он увидел канал, отражающиеся в нем фонари с другой стороны. Лодочный сарай выдавался на берегу черной массой. Выглядел он мирной совсем не угрожающе.
Сенатор снова прошел через ванную в свою спальню, взял из ночного столика ключи от сарая и вышел на галерею. Холл лежал перед ним мрачный и молчаливый. «Бим-бом», — пробили старинные французские часы, пока он спускался по лестнице. Сенатор бесшумно пересек холл. В зимнем саду он отворил дверь на террасу и оставил ее широко распахнутой, чтобы не захлопнулась. Потом сунул руки в карманы халата, сразу став похожим на глыбу гранита, и спустился к лодочному сараю по тропинке, галька тихо шуршала под его домашними туфлями.
У сарая были бревенчатые стены и массивная дверь, он вставил ключ в замок и повернул его. Все было в порядке.
Он отворил дверь. Внизу тихо и лениво плескалась вода. Вообще-то он намеревался просто заглянуть внутрь, но потом все-таки включил тусклое красноватое освещение. Пахло олифой, плесенью и тиной. Вдоль стен тянулись деревянные мостки. Впереди на фоне тускло поблескивающей воды выделялась решетка.
Мерно покачивались лодки.
А между ними покачивался на слабой волне, подобно морской лилии, венец золотистых волос, жутко растекшихся по поверхности воды. Венец обрамлял ее лицо. Глаза были широко раскрыты и смотрели прямо на него.
Рихард Робертс не опустил голову. Он только отвел взгляд и сразу почувствовал спазм в груди, словно должен был теперь дышать только сердцем. Он со скрежетом стиснул зубы.
«Нет, — крикнул он себе, — нет, только не это! Они как раз метили в твое сердце, толстяк! Но им такое не удастся. — Хотя сердце его и сжалось, как старая тряпка. — Я знаю, мне нельзя туда больше смотреть, нельзя! За что-нибудь ухватись, толстяк. Бревна, балки, все это так надежно и шероховато. А потом свежий ночной воздух. Шелест деревьев».
И далеко впереди свет в спальне Сандры.
Можно идти дальше. Спазмы немного отпускают. Но возвращаются, стоит только подумать об этом. Думай о лошадях, о машинах, о Санкт-Петере, об Эрике, о карьере Реймара.
Еще половина пути. Вот уже и красный бук.
Открытая дверь в зимний сад кажется черной дырой. И бесконечно далеко. Гранитная лестница словно гора, дверь темная, угрожающая. Но за ними тепло. Бим-бом. Бим-бом.
Наконец-то деревянная лестница. Перила вверху освещает светлый треугольник. Он падает из спальни. Лампа стоит на ночном столике. А рядом телефон.
Пошатываясь, он вошел в дверь, рухнул на край кровати, скрестил на груди сильные руки. Сто десять, промелькнуло в его беспорядочных мыслях.
Сто десять, один — один — ноль. Ту-у-ту-у-ту-у.
— ...зидиум Гамбург.
— 114-й полицейский участок! Номер? Какой его номер?
Если я услышу голос того полицейского, значит, я выжил. Он был такой надежный и уверенный, словно голос врача. Но что я должен ему сказать? Мне ведь нельзя думать об этом...
— ...полицейский участок номер...
— Это с вами я разговаривал?
Внизу стукнула дверь. Кто-то вошел в дом. Шаги на лестнице, осторожные, крадущиеся, коварные.
Комод в стиле барокко будто отражает лицо комиссара. Как же его звали? И голос у него тяжелый, приглушенный.
— ...Нет ли у вас в настоящее время каких-либо опасений?..
Вахмистр в пустом дежурном помещении вырвал из блокнота листок, чтобы записать необходимое. В телефонной трубке он услышал страшный стон.
— Алло? Алло? Говорите же!
Но сенатор Рихард Робертс больше ничего уже не мог сказать.
А теперь ему хотелось бы побыть со своими мыслями наедине, сказал сенатор Робертс детям в то утро, уже после того, как оба сотрудника полиции покинули дом. Если кто желает сообщить ему что-нибудь конфиденциально, пожалуйста! Нет? Ну тогда до свидания. Дело находится у старшего комиссара — как бишь его зовут — в прекрасных руках. И не остается ничего другого, как ждать.
Доктор Брабендер не разделял подобной точки зрения.
— Я считаю, необходимо что-то предпринять, — сказал он, когда вчетвером они уселись в его машину и он повез супругов Брацелес домой. — Вы заметили по его вопросам, что он отнюдь не намерен оставить нас в покое. Для таких людей изначально подозрителен каждый, у кого есть хоть какой-то мотив. А мотив, по логике тупых полицейских мозгов, есть у каждого из нас. Даже у женщин. Если исчезает некто, собиравшийся унаследовать много денег, стало быть, его убрали люди, не желавшие, чтобы он унаследовал много денег. Как правило, дальше подобного вывода фантазия полицейских комиссаров не идет...
— Прекрасно, — сказал Ханс-Пауль, — но что мы должны предпринять?
— Для начала продумать, как вести себя, когда нам станут задавать конкретные вопросы.
— Вот именно, — сказала Зигрид, — ведь он вообще не задавал нам конкретных вопросов.
— Но он займется этим, как только найдут Сандру Робертс. Можешь быть уверена. И надо же было случиться такому! Весьма неприятно, весьма.
Эрика упорно молчала. Она сидела впереди рядом с Реймаром, курила и размышляла о том, что сказал Реймар сегодня утром, когда разволновался насчет алиби. И то, что Ханс-Пауль, в течение двух лет упорно отказывавшийся сбрить бороду, сбрил ее именно сегодня, тоже казалось ей странным. Не было ли это как-то связано с происшедшим?
— По-моему, — сказал Ханс-Пауль, — самое ужасное в этом деле — полная аналогия с Юлией. Вы только представьте себе! Ведь тогда это должен быть один и тот же человек. Тут не может быть совпадения. Уже когда случилось это с Юлией, я был уверен, что это не простая случайность. И вот теперь...
— Весьма слабое утешение, что никого из нас не было в то время в Америке. Если бы ты находился там на учебе, а я на каком-нибудь конгрессе, мы бы сидели уже за решеткой. Впрочем, утешение действительно слабое, все ведь можно еще наверстать.
Некоторое время они молчали.
— Если полиция не выйдет на след, — решительно произнес затем доктор, — придется постараться нам. Представьте себе, что Сандру не найдут. Тогда поползут слухи. Представить невозможно, что это такое — жить под подозрением, будто ты тоже причастен к этой истории.
— Реймар прав, — сказала Зигрид, — нас будут избегать в обществе, шептаться за спиной, делать язвительные намеки. Вам необходимо что-то предпринять, Ханс-Пауль. Но что?
Брабендер остановил машину перед домом, где жили Ханс-Пауль с женой. Вплотную за светло-зеленым «фольксвагеном» с севшим аккумулятором.
— Лучше всего приходите к нам завтра к ленчу. К тому времени мы все немного отойдем и как следует подумаем.
Ханса-Пауля и его супругу это вполне устраивало. Они вышли из машины и исчезли в подъезде крупного блочного дома, возле которого орущие дети стреляли из рогаток в воздух канцелярскими скрепками.
— Ханс-Пауль, — сказала Зигрид на лестнице, схватив его за рукав, — Ханс-Пауль, почему именно сегодня ты сбрил бороду?
— Я хотел доставить тебе радость, Зигрид. Но лучше бы именно сегодня мне этого не делать.
— Ханс-Пауль, — спросила она, — а ты действительно был всю прошлую ночь в бюро?
Он высвободился.
— Не болтай глупостей, — сказал он. — Тем более здесь. Не хватало, чтоб об этом узнал весь подъезд.
За широким стеклом панорамного обзора с голубоватым отливом, в своем «Фиате-1800» Эрика закурила уже вторую сигарету с тех пор, как они уехали от папа́.
Реймар был бы полным идиотом, если бы рассчитывал, что она забудет его слова, сказанные утром в сильном волнении.
— Он вообще ничего не спросил про алиби, Рей. Выходит, это не имеет никакого значения? Теперь-то ты можешь сказать мне, что имел в виду.
— Видишь ли, Эрика, — сказал Реймар, — если человек всю ночь спит в Бремене в какой-то гостинице, у него нет алиби. Потому что с таким же успехом можно и не спать в номере, тебе понятно?
— Но ведь это же обычное дело.
Эрика вытащила из приборного щитка пепельницу и вытряхнула ее за окно.
— Выходит, ты из-за этого так терзался? А может, ты в самом деле не спал тогда в номере? Или просто в другом номере?
— Эрика!
— Реймар, твою честность никто не подвергает сомнению, но уже в субботу мне показалось, что, помимо того, что ты выпил, у тебя была и другая причина не возвращаться домой.
Реймар промолчал.
Эрике впервые пришла в голову подобная мысль, и она испугалась ее.
— Ты поставил не на ту лошадь, Реймар, — продолжала она в порыве отчаянной искренности. — Когда мы поженились, ты решил, что женился на богатой наследнице. Миллионы. Отцу под семьдесят. К тому же ты меня любил. Но еще больше ты любил свои грандиозные планы. Частная клиника по лечению неправильного обмена, какой-нибудь курорт или клиника на водах, а потом появилась Сандра, и из всего этого не вышло ничего.
А теперь ты даже не принимаешь меня всерьез, хотела добавить она. Но Реймар прервал ход ее мыслей, поставив машину на Парковой улице у края тротуара.
— Остается надеяться, — сказал он, — что комиссар полиции не станет размышлять подобным образом.
Она внимательно взглянула на него, выходя из машины.
— А где все-таки ты был на самом деле? — спросила она неуверенно, пока они поднимались по каменным ступенькам.
— Эрика, — сказал он, — давай не затрагивать эту тему до тех пор, пока вопрос не встанет со всей остротой. Конечно, я был в гостинице. Но доказать этого я не смогу. А теперь приготовь чего-нибудь поесть. Потом я посплю часок-другой. Около пяти я должен быть в клинике. На половину восьмого профессор Вольман назначил операцию, на которой я хочу присутствовать. Это может продлиться допоздна.
— Печень? — спросила Эрика с осознанием долга жены врача.
— Селезенка, — буркнул Реймар, открывая дверь в квартиру. — Печень не оперируют.
Оба они действительно поспали часа два, потом поднялись и выпили по чашке чая. В начале пятого доктор Брабендер отправился в клинику. Он едва успел застегнуть халат и стянуть тесемки у воротника, как позвонила дежурная сестра и сообщила, что явился некий господин по имени Готфрид Цезарь Кеттерле, который не желает сообщить, по какому он делу...
— Проводите этого господина ко мне, сестра, — сказал доктор, — все в порядке.
У него было три или четыре минуты, чтобы подумать, какие вопросы задаст ему комиссар. Трудно предположить, чтоб за это время что-нибудь изменилось. Следовательно, будут вопросы, которые комиссар не захотел задавать в присутствии папа́. Но доктор Брабендер и представить не мог, насколько уже приблизился к истине этот массивный полицейский с бульдожьим лицом.
— Извините, что отрываю вас от ваших обязанностей, господин доктор...
Брабендер показал на обтянутую клеенкой кушетку, а сам уселся на черный вращающийся стул за металлическим письменным столом, покрытым белым лаком, с гладкой черной доской. Механически захлопнул он крышку прибора для измерения давления, скрестил руки и взглянул на комиссара. Он старался убедить себя, будто этот полицейский чиновник самый обычный пациент.
— Я полагаю, — сказал пациент, положив шляпу рядом с собою, — что у вас сегодня утром были достаточно веские основания скрыть причину визита к вам Сандры Робертс в пятницу вечером на прошлой неделе.
Доктору Брабендеру почти что удалось продемонстрировать хладнокровие. У него ведь были четыре минуты, чтобы подготовиться ко всяким неожиданностям.
Он медленно кивнул головой.
— Да, — сказал он, — конечно.
— И как я понимаю, у вас не было пока желания обратиться к нам.
— Нет. Разумеется, нет.
Кеттерле кивнул.
— А можно все-таки узнать эту причину?
— Мне очень жаль, господин комиссар, но...
Комиссар снова кивнул.
— Понимаю. Профессиональная тайна.
— Да.
— Значит, у нее было дело, которое относится к сфере вашей врачебной деятельности?
— Да, это так.
Оба молча разглядывали друг друга поверх коробочек с пинцетами, пробирок с реактивами и рекламных шариковых ручек различных фармацевтических фирм.
Толен ворвался в комнату, кивнул на бегу комиссару, достал что-то из шкафа с лекарствами и снова исчез.
— Тогда позвольте мне задать вам два или три вопроса, на которые вы можете отвечать просто «нет», если сказанное не будет соответствовать истине.
Доктор Брабендер приподнял плечи.
— Я не могу воспрепятствовать вам в этом, господин комиссар, однако...
— Итак, господин доктор, речь шла о смертельном или чрезвычайно серьезном заболевании Сандры Робертс?
— Нет.
— О смертельном или чрезвычайно серьезном заболевании господина сенатора? Пожалуйста, отвечайте правду. О больном сердце господина сенатора мне известно. Речь шла об этом?
Не так уж сложно, подумал доктор, задав обычный вопрос папа́, узнать, что тот находится под наблюдением одного из известнейших кардиологов. И наверняка этот кардиолог, да и комиссар тоже, догадываются уже, что папа́ не питает к нему как к врачу никакого доверия.
— Нет, — сказал он после краткого размышления. — Тоже нет.
Но уже в следующий момент пожалел об этом. Надо было решиться, рискнуть.
— В таком случае речь могла идти только о беременности, господин доктор, — сказал комиссар.
Доктор Брабендер молча пожал плечами. Этот мужчина со слегка поседевшими волосами, внимательно глядевший на него сейчас своими серыми, с металлическим блеском глазами, под которыми залегли мешки, сумел уже довольно глубоко проникнуть в суть дела.
— Конечно, вы можете мне не отвечать. Вы можете просто слушать. Сандра Робертс не была создана для рождения детей. И она не хотела их. Она была слишком экстравагантна, эгоистична и слишком любила свою независимость. Она мечтала получить после смерти сенатора полную свободу действий, она не хотела никакой дополнительной ответственности и никаких обязанностей. Незадолго до бала в Альстер-клубе она вдруг поняла, что беременна, и напилась тогда до бесчувствия. Тогда же она доверилась вам. Ей необходимо было поговорить с вами об этом, но вы все оттягивали разговор. На прошлой неделе уклоняться дальше стало невозможно, и вы назначили прием на пятницу вечером, чтобы спокойно осмотреть...
Брабендер сделал протестующее движение.
— Господин доктор, позвольте уж мне продолжать, а вы пока хорошенько продумайте все, что мне скажете. Подумайте прежде всего о том, что скорее всего мы обнаружим труп. Итак, вы подтвердили беременность, и фрау Робертс принялась умолять вас помочь ей от нее избавиться.
Брабендер прервал комиссара:
— Допустим на минуту, что ваши фантазии соответствуют действительности, — и вы полагаете, что я не отбивался бы руками и ногами, лишь бы не быть втянутым в подобную историю? Вы в самом деле верите, что Сандра Робертс обратилась бы с этим именно ко мне?
Кеттерле подался вперед.
— Допустим на минуту, господин доктор, допустим, что я прав, в таком случае вы оказываетесь единственным человеком, к кому она могла бы обратиться с этим. Она прекрасно понимала, насколько всем вам перебежала дорогу. А тут еще ребенок, который автоматически становится единственным наследником, лишая тем самым вас даже части сенаторского состояния навсегда, вас и ваших детей! Вы должны, так полагала она, иметь максимальную заинтересованность в том, чтобы этот ребенок никогда не появился на свет. И если вы будете откровенны, такая заинтересованность у вас в самом деле была.
Комиссар заметил мелко поблескивающие капельки пота на висках доктора. Подобный поворот разговора Реймар успел продумать далеко не во всех деталях. Он встал, подошел к окну, посмотрел вниз на свой красивый новый автомобиль, в полировке которого отражались тусклые лампы дворового освещения.
— Если я вас правильно понял, — сказал он, отвернувшись к окну, — заинтересованность моя, чтобы этот ребенок никогда не родился, должна была быть настолько большой, что следовало предотвратить его рождение даже путем убийства, не так ли, если бы другая возможность была для меня слишком рискованной. Сделай я аборт, я оказался бы у нее в руках. Я правильно вас понял? А если завтра вы обнаружите труп? И ваше предположение подтвердится...
Врач почти физически ощутил на себе взгляд серых стальных глаз. Он резко обернулся.
— Да вы понимаете, какую чудовищную вещь позволили себе высказать?
Кеттерле пожал плечами. Однако затянул гайку еще на один оборот.
— Но допустим, мы ее действительно найдем?..
Врач снова замолчал. В коридоре слышны были голоса. Он глубоко вздохнул.
— Вы вынуждаете меня к нарушению профессиональной тайны, — сказал он затем. — Да, вы правы. И что вы собираетесь теперь предпринять?
Комиссар кивнул головой и встал.
— Ничего. Прошу прощения за этот разговор, господин доктор. Я просто должен был это знать. Иначе я ни на шаг не продвинулся бы дальше. А это, очевидно, не в ваших интересах. Не будете ли вы так любезны вызвать мне такси?
Когда комиссар вышел, Брабендер без сил опустился на кушетку и долго сидел так, упершись локтями в колени и рассматривая пол.
Через час с лишним он выпрямился. Потом вымыл руки. В коридоре он встретил дежурную медсестру.
— Я в операционной, сестра Ангела, у профессора. Не соединяйте меня ни с кем. И не вызывайте меня оттуда.
Внушающий доверие и производящий прекрасное впечатление, он прошагал по коридорам, спустился по лестнице вниз и, открыв вертящуюся дверь, исчез в подвале. В темном углу он сорвал с себя халат, скомкал его и вышел через черный вход во двор.
Через полчаса «Фиат-1800», принадлежащий Реймару Брабендеру, мчался по шоссе в направлении Бремена, далеко уже по ту сторону Хелленштедта. В это время суток ему потребовалось чуть меньше часа, чтобы достичь городской окраины. Он оставил машину в центре, быстро миновал кривые переулки и незаметно зашел в одно кафе. Пройдя через зал, в котором чопорные посетители молча поглощали ужин, он заглянул в бар.
Выпив там две или три порции виски, он вздохнул с облегчением, когда женщина, которую он поджидал, наконец появилась в дверях.
Они подсели к стойке. Он предложил ей двойную порцию коньяка марки «Капитан-лейтенант», потом еще одну, при этом он объяснял ей что-то шепотом довольно горячо, а она вертела в руках соломинку, которую затем поднесла к свече, чтобы дать ему прикурить.
— Это лишь для того, чтобы избежать неприятностей. Быть может, до этого вовсе не дойдет, понимаешь?
— А такой, как мне, все равно ничего не стоит, так ведь? — сказала она. — Судя по всему, для тебя эта история много значит, милый доктор.
— Да, много.
— Так сколько же?
Они снова пошептались, и в итоге женщина улыбнулась. Они выпили еще виски, и доктор Брабендер покинул бар.
Было половина одиннадцатого, когда вблизи Ротенбурга он съехал на полосу для стоянки и, заглушив мотор, погасил фары. Он выкурил одну за другой пять или шесть сигарет, пока сотни автомобилей, словно жужжащие насекомые из преисподней, проносились мимо него в обоих направлениях с горящими фарами.
Было около двенадцати, когда он, продумав наконец свой план, включил мотор и снова влился в транспортный поток, движущийся к Гамбургу.
Он незаметно въехал в больничный двор, в подвале натянул халат и прошел в коридор на первом этаже со спокойствием человека, который только что спустился посмотреть, не забыл ли он выключить фары.
— Слава богу, — сказал он в ординаторской дежурной сестре, заполнявшей истории болезней, — длинный был день...
Он спокойно снял халат, повесил его в шкаф, заглянул через плечо сестры, дав ей указания, затем надел пальто и вышел из больницы.
Как всегда, он поехал вдоль Альстера до Кругкоппеля, по затем свернул не влево на Харвестерхуде, а вправо, в сторону Альстердорфа.
Улицы в это время были тихими, почти без движения. Иногда за деревьями какого-нибудь сада мелькала водная гладь лениво текущего Альстера. На улице не было ни души.
Брабендер весьма удивился, когда еще за несколько десятков метров заметил в обеих спальнях свет. Он свернул за угол, поставил машину у портала с гранитными колоннами и быстро взбежал по каменной лестнице.
Прошло немало времени, пока он отыскал ключ и отпер входную дверь.
Она захлопнулась за ним, и стеклянная дверь в коридор тихо зазвенела.
В темном холле ему сразу бросился в глаза светлый четырехугольник распахнутой двери в зимний сад. Холл приобрел тревожный и угрожающий вид, когда он зажег верхний свет. Еще в темноте ему показалось, будто слышен чей-то голос. Но сейчас все было тихо. Тишину нарушали часы. Бим-бом.
Осмотревшись, он стал подниматься по лестнице. Он никогда еще не бывал в спальне сенатора и теперь раздумывал, какая же из дверей туда ведет. Наконец он остановился перед правой. Из комнаты доносился сдавленный и хриплый шепот.
Брабендер немного помедлил, затем постучал. Ответа не последовало, и он нажал ручку двери.
На дорогой дорожке возле кровати лицом вниз лежал сенатор Рихард Робертс, судорожно вцепившись руками в края ковра. Телефонная трубка свисала на пол с ночного столика, издавая странный, хриплый шепот.
— Алло, алло! Ответьте, пожалуйста! Нужно ли прислать нашего сотрудника?..
Через ванную комнату до парализованного страхом Брабендера донесся стук с шумом захлопнувшейся балконной двери в комнате Сандры Робертс.
— Тут что-то не так, Эрих, — услышал он голос в трубке. И снова громче: — Алло? — Затем тише: — Пошли туда патрульную машину! Тут что-то не так!
Не отдавая отчета в своих действиях, доктор выхватил из брюк носовой платок, быстро вытер им телефонную трубку и выскочил из комнаты. Дверная ручка изнутри. Дверная ручка снаружи. В спешке он слетел по лестнице в холл. Теперь дверь в коридор, внутренняя бронзовая ручка, потом внешняя. К входной двери он не прикасался.
В несколько прыжков Брабендер оказался у машины, захлопнул за собой дверцу и нажал на стартер. Двигатель не успел еще остыть и сразу не завелся. В безумном нетерпении он продолжал нажимать на газ. Двигатель провернулся на два-три такта и заглох, потом уже скрежетал один стартер. Он сжал губы. Пройдут минуты, пока он с помощью аккумулятора выкачает бензин из карбюратора. Нет, быстрее отсюда. Для начала он опустил стекло. И, ухватившись через окно за руль, доктор Реймар Брабендер начал с трудом толкать свой красивый новый автомобиль по дороге, освещенной слабыми кругами света фонарей на Ратенауштрассе. В ушах у него все еще стояло проклятое тарахтенье стартера. Но нет, тарахтенье приближалось. Это был уже не стартер.
То была сирена полицейской машины.
Обливаясь потом, врач сделал несколько неуверенных шагов, чтобы бежать. Если бы он сейчас поставил машину, сел в нее, закурил сигарету, это вовсе не бросилось бы в глаза полицейским из патрульной машины. Но он, ослепленный и отчаявшийся, растерянно уставился в горящие прямо перед ним фары.
Тускло поблескивающие полицейские звезды над козырьками фуражек, недоверчивые лица.
— Откуда вы приехали? Будьте добры, документы на машину. Удостоверение личности. Минутку терпения, господин доктор. Нет, нет, только до того момента, пока мы установим, что в доме все в порядке... Ах вот как, зять. И все-таки будьте добры... Что? Вы хотели только посмотреть, вы даже не были в этом доме, вот как... Конечно, только на несколько минут, господин доктор...
Между двумя полицейскими доктор Реймар Брабендер прошел обратно к порталу с колоннами.
— У меня есть ключ, — сказал он без выражения.
Дубовая дверь распахнулась.
На полу что-то белело.
Один из вахмистров поднял носовой платок и принялся рассматривать монограмму.
— Вы сказали Брабендер, господин доктор, первая буква Б?
Реймар кивнул.
— А как ваше имя, господин доктор?
— Реймар, — пробормотал врач. — Реймар, первая буква Р.
Когда комиссар Кеттерле после сумасшедшей гонки, продолжавшейся два часа шесть минут, остановился перед домом на Ратенауштрассе, было начало четвертого.
Улица представляла собой непривычное зрелище. Заняв добрую половину тротуара, стояли две, даже три полицейские машины, на одной из них все еще нервно мигал голубой свет. Комиссар приметил «опель-рекорд» отдела расследования убийств, автомобиль Зибека, который они из-за странного цвета прозвали «чайной колбасой», и еще автомобиль начальника второго уголовного отдела, которого вытащили прямо из постели.
Дома в этом районе были достаточно респектабельны, чтобы их обитатели не висели на окнах, как это было бы, к примеру, в Отензене, Вильгельмсбурге или Барнбеке, тем не менее несколько занавесок были сдвинуты в сторону.
Большие ворота в парк стояли распахнуты настежь, и они поняли, что Рёпке со своим «саркофагом» уже проследовал туда.
В пансионе «Клифтон» от всех волнений с фрау ван Хенгелер случился сердечный приступ, и она даже вызвала врача. Скорчившись от боли, она не в состоянии была даже выпрямиться. Хайде с большой неохотой оставила ее одну, однако комиссар настоял, чтобы она поехала с ними, да еще полковник Шлиске, который проснулся от шума и, конечно же, не мог упустить такого случая. В конце концов, он первый начал распутывать это дело.
Полковник с удовлетворением оглядел собравшиеся силы полиции и на приветствие вахмистра, стоявшего у дверей, ответил покровительственным кивком головы.
Хайде, напуганная и измученная, переводила взгляд с одного на другого.
— Труп наверху, — сказал полицейский и показал на дом.
— А женщина?
— Только что прибыл доктор Штёкель, господин комиссар. Думаю, она еще в лодочном сарае.
В холле Кеттерле, не раздумывая, подошел к двери рабочего кабинета умершего, отворил ее и включил свет.
— Устраивайтесь поудобнее, — сказал он своим спутникам, — все это может надолго затянуться. Нет, нет, к вам это относится тоже, полковник Шлиске. Здесь и без того достаточно людей, что слоняются без дела.
Затем он сунул руки в карманы и пересек вместе с Хорншу холл.
Нижняя часть сада была залита ярким светом, повсюду суетились люди, тащили всевозможные приборы, жестикулировали, разматывали серебристые ленты рулеток. Чуть ниже красного бука стояла группа, в которой Кеттерле приметил потрепанную тирольскую шляпу, могущую принадлежать только Зибеку: тот всегда надевал ее, когда лично отправлялся на место преступления.
— Много новостей, Кеттерле, — приветствовал он подходящего комиссара. — Ну, что вы на это скажете?
— Ужасно, — сказал Кеттерле. — Настоящая трагедия. Где Штёкель?
Зибек кивнул в сторону лодочного сарая.
— Внизу. Там есть что-то вроде комнатки для моторов. Ее туда отнесли.
Кеттерле, сопровождаемый Хорншу, быстро сбежал вниз по усыпанной галькой дорожке.
В комнатушке для моторов они ввернули в патрон стоваттную лампу. Справа доносился стук дизельного мотора оперативной машины.
Две деревянные скамейки были сдвинуты вместе, на них постелен брезент, и на нем лежала утопленница. Она как-то неловко скрючилась на правом боку, колени согнуты, правая рука между ними, вытянутая левая на бедре. Лицо повернуто влево, казалось, она беспомощно и удивленно всматривается через плечо в пустоту.
Только что начали фотографировать тело со всех сторон. Доктор Штёкель, неуклюжий и неповоротливый судебный врач с лицом монаха-бернардинца и крупными мясистыми ушами, мыл руки над железной раковиной. Он повернулся к Кеттерле.
— Утонула, — сказал он, протягивая руку за полотенцем, которое держал полицейский. — Более точно покажет, конечно, вскрытие. Внешних признаков травм или отравления не обнаружено.
— И когда? — спросил комиссар.
Штёкель задумчиво взглянул на утопленницу, продолжая вытирать руки.
— Перчатки, — сказал он затем и рывком натянул уродливые красные резиновые перчатки.
Потом он осмотрел ногти на пальцах женщины, попытался приподнять веки и посветил карманным фонариком в ноздри, потрогал губы.
— От сорока до сорока восьми часов назад. Ближе к сорока восьми, чем к сорока. Но абсолютно точно сказать невозможно.
Комиссар посчитал прошедшее время. Потом уставился на Хорншу. С Хорншу перевел взгляд на Рёпке.
— Сорок восемь часов было бы в субботу после трех ночи. Сорок часов — в воскресенье в одиннадцать утра. Когда она исчезла, Рёпке?
— В субботу ночью между одиннадцатью и часом.
— С какого времени она находится в воде, доктор?
— Примерно столько же, — сказал доктор Штёкель. — Вы что, думаете, до этого ее держали в холодильнике?
Комиссар не выносил грубоватого юмора судебных врачей.
— Вы полагаете, она утонула здесь? — Он показал на соседнее помещение для лодок.
Врач пожал плечами.
— Разве я господь бог? — буркнул он. — Завтра смогу дать более подробное объяснение.
— Где Новотни? — внезапно спросил Кеттерле. — Новотни никто не известил? Хорншу, позаботьтесь об этом. Еще известите доктора Брабендера и остальных молодых людей тоже. Вы знаете.
— Доктора Брабендера? — переспросил Рёпке. — Он в полицейском участке. Его задержал патруль, когда он пытался откатить свою машину подальше от этого дома. Он заявил, что в доме вообще не был, но, когда открыли дверь, напоролись прямо на носовой платок, которым он, должно быть, вытирал дверные ручки.
Комиссар снял шляпу и ладонью пригладил волосы.
— Смогли бы вы меня понять, — сказал он после некоторой паузы, — если б я отказался от этого дела?
Рёпке покачал головой.
— Что с Робертсом? — спросил Кеттерле врача.
— Инфаркт миокарда, — лаконично ответил доктор. — Более точно покажет, конечно, вскрытие...
— Да, да, знаю. Внешних признаков травм или отравления... — проворчал Кеттерле. — Как бы то ни было, я рад, что наваждение кончилось. На небо она в любом случае не вознеслась. А сейчас начинается работа. Вы можете установить, в какой воде она утонула, соленой или пресной?
— Завтра — да, сейчас — нет. К тому же я хотел бы еще несколько часиков поспать.
— Приступайте, Хорншу. Ведите сюда Хайде и полковника. Я не могу им не... Да что с вами?
Комиссар Хорншу, не двигаясь, уставился на утопленницу.
— Так нельзя утонуть, — сказал он затем. — Вы только взгляните на эту немыслимую судорогу. Разве так тонут? Ее связали и напоили как скотину. Взгляните же!
Кеттерле прикусил верхнюю губу.
— Вы можете вообразить жестокость, необходимую, чтоб совершить подобное? Присуща ли подобная жестокость кому-нибудь из наших подозреваемых? Мы еще поговорим об этом, Хорншу. А теперь приведите полковника и Хайде.
— В его суждении есть доля истины, — сказал доктор Штёкель, закуривая сигарету. — У утопленников трупное окоченение наступает в воде. Вода, как правило, расслабляет мышцы. В большинстве случаев у утопленников естественное положение тела. Связать?.. — пробормотал он затем. — Хм, без микроскопа найти следы невозможно, да и где в таком случае остались веревки? Я не криминалист, но мне это кажется маловероятным.
Комиссар Кеттерле задумчиво уставился на раковину в углу. В тот момент он еще не знал, что этот его взгляд станет поворотным пунктом в ходе дела, самого странного дела, какое ему когда-нибудь приходилось распутывать. Сейчас он думал совсем о другом.
— Существует подозрение, что она была беременна, — сказал он врачу, и тот кивнул.
Вскоре вернулся Хорншу с Хайде. Полковник шел следом.
Девушка взглянула на утопленницу и закрыла лицо руками.
— Это она. Она, она! — воскликнул полковник.
Он чуть было не сказал «как живая». Но вовремя прикусил язык.
— В этом у меня нет сомнений, полковник Шлиске. Но та ли на ней одежда, что была после купания? Все ли цело? От вашего показания зависит очень многое.
Он дал полицейскому знак, и тот закрыл лицо утопленницы.
— Хайде, осмотрите всю одежду. Сейчас это самое главное.
До девушки кое-что дошло. Она принялась внимательно рассматривать одежду.
— Да, — сказала она, — даже носочки и янтарное ожерелье. Вы не могли бы на минутку убрать полотенце? На ней еще были янтарные клипсы. Да, все так, как и было.
Комиссар кивнул.
— Вы будете удовлетворены, Хайде, если мы найдем того, кто совершил это зверское убийство?
Девушка взглянула на него и кивнула.
— А кто бы не был удовлетворен?
— Врач утверждает, что она умерла от сорока до сорока восьми часов назад, Хайде. Если бы она в воскресенье утром в семь часов девять минут разговаривала по телефону, мы сейчас должны были бы действовать совершенно иначе, чем если бы мы знали наверняка, что этого не было. Вы меня понимаете?
Она снова кивнула.
— Сначала вам было интересно, а потом вы испугались. Так ведь?
Хайде опять кивнула.
— Ну вот, видите, — сказал Кеттерле.
— Наш пансион не должен быть ей в радость, — пробормотала девушка.
— Кому, Сандре Робертс?
— Нет, фрау ван Хенгелер. Я просто хотела напугать ее.
Комиссар устало потер веки.
— История сама по себе достаточно страшна, — сказал он. — А вам бросилось что-нибудь в глаза, полковник?
Но полковнику ничего не бросилось в глаза, хотя внимание его, как и всех присутствующих, непременно должно было привлечь одно обстоятельство. И это обстоятельство впоследствии призвано было сыграть весьма важную роль.
— Подождите, пожалуйста, нас наверху в доме, — сказал комиссар, выходя вслед за Хайде и полковником из комнатушки. Засунув руки в карманы пальто, он остановился, осматриваясь, посреди сарая.
— Где она лежала, Рёпке?
Рёпке указал на пространство между лодкой с подвесным мотором и весельной шлюпкой.
— Дверь была заперта?
— Дверь была закрыта, но не заперта. Ключ торчал снаружи.
— А решетка спереди?
— Решетка была заперта. Висячий замок и цепь в неприкосновенности.
Комиссар кивнул.
— Возник еще один вопрос, — пробормотал он, — как Сандра Робертс с того места, где исчез ее след, попала в этот сарай? Попала она сюда живой или мертвой?
А еще он подумал, что если врач прав, то она, очевидно, уже находилась здесь, когда он вчера утром был в доме сенатора.
— Если бы мы тогда обыскали все помещения, — тихо сказал он. Потом, словно чего-то испугавшись, быстро прошел в комнатушку, где хранились моторы, и снял полотенце с лица Сандры Робертс.
Потому что услышал, как в саду Хорншу разговаривает с Новотни.
Шофер остановился в дверях, нервно покусывая нижнюю губу и переводя взгляд с утопленницы на Кёттерле.
— Мы все-таки нашли ее, господин Новотни. Неприятная новость, а? Что я еще собирался у вас спросить...
— Но она ведь была там, на побережье... — запинаясь, выдавил из себя шофер. — Как же она попала в сарай?
— Имеется один-единственный человек, который это знает, господин Новотни. И если мы его не найдем, он так и останется единственным. Но вот что я собирался у вас спросить. Лодочный сарай, как правило, запирается?
— Да, конечно. Спереди у него решетка, и еще дверь в парк.
— Где хранятся ключи?
— Ключи у господина сенатора в ящике ночного столика. Еще один ключ висит на доске в гараже, где висят все остальные ключи.
— От решетки тоже?
— Да. Это один и тот же ключ.
— А ключи от лодок?
— От лодок хранятся у меня. То есть ключ от баркаса с кабиной и еще от моторки. У весельной шлюпки нет замка. Господин сенатор никогда не ездит на лодке один.
Комиссар взглянул на Хорншу.
— Разве вы не сообщили ему, что господин сенатор умер? — спросил он. — Умер от сердечного приступа, увидев свою утонувшую жену.
Стальной взгляд комиссара вновь переместился на лицо Новотни, которое стало теперь бледным, как голландский сыр.
— Человек, у которого такое на совести, должен иметь железные нервы. Вам не кажется?
Новотни пошевелил губами.
— Это неправда, — пробормотал он, запинаясь и очень тихо. — Вы хотите взять меня на пушку.
— Хотите увидеть его? — спросил Кеттерле. — Кстати, когда вы в последний раз пользовались лодками, Новотни? Пригодны ли они для морских прогулок и какова их скорость?
— Я несколько недель уже не подходил к лодкам. В последний раз в сентябре. Тогда с господами мы отправились в Фирланден. А больше нет. «Крис» годится для морских прогулок вдоль побережья. Ее максимальная скорость 55 километров в час. На моторке нельзя выезжать дальше Глюксбурга. Но она дает скорость до 75 километров. При хорошей погоде, разумеется...
— Погода была хорошая, Новотни.
— Но лодки все это время были здесь.
— Кто может подтвердить?
— У господина сенатора есть...
— Господин сенатор мертв. Когда вы находились в последний раз здесь, в сарае?
— В пятницу вечером, около девяти. Обычно я проверяю сарай каждый вечер.
— А в субботу вечером не проверяли? И в воскресенье тоже, так ведь?
— Там было много волнений, господин комиссар. Все в самом деле пошло наперекосяк.
— Так-так, — пробормотал Кеттерле. — Хорншу, позаботьтесь о том, чтобы господин Новотни завтра, нет, скажем, послезавтра в половине десятого явился ко мне на официальный допрос. Вы все сфотографировали, Репке? Если задержка за мной, то можете увозить тело. Лучше всего прямо в институт, так ведь, доктор?
Штёкель что-то пробормотал себе под нос, из чего можно было заключить, что, судя по всему, ему придется заняться еще и стариком.
— Ну, это уже другая проблема, — сказал Кеттерле. — Вы идете с нами?
Один за другим они вышли из лодочного сарая, оставив там двух или трех полицейских, которые пытались с помощью брезента и нейлоновой веревки сделать из того, что когда-то было Сандрой Робертс, транспортабельный сверток.
Эрика Брабендер сидела в холле на мягкой голландской кушетке и непрерывно всхлипывала. Ханс-Пауль стоял рядом, похожий на школьника, не выучившего урока и не знавшего теперь, что отвечать. Зигрид копалась в своей сумочке, пытаясь отыскать для сестры бумажные салфетки.
Когда Эрика увидела комиссара, проходящего через зимний сад, она отпихнула Зигрид в сторону, вскочила и пошла ему навстречу.
— Что вы сделали с Реймаром? Реймар абсолютно не виновен. Реймар никогда даже в мыслях...
Кеттерле взглянул на залитое слезами лицо.
— Потом, — сказал он. — После, госпожа Брабендер. Я понимаю ваше волнение. Но сейчас, к сожалению, не могу вами заняться. Я приглашу вас позже наверх.
Он поднялся на второй этаж, за ним доктор Штёкель, высокий и худой, похожий на узкий солдатский шкафчик в казарме. Люди Рёпке были уже при деле. Начальник 114-го полицейского участка сидел за изящным столиком в стиле Шератена[4], на котором установил пишущую машинку, и допрашивал Матильду.
Сенатору закрыли глаза и положили на кровать. Тело его было прикрыто до подбородка, но даже после смерти мощная львиная голова поражала жесткой энергией и непреклонностью.
«Вы можете остаться в этом деле в дураках, господин старший комиссар», — вспомнил он его слова.
«Если бы я тогда прислал сюда полицейского, — подумал он, — сенатор не отправился бы один в лодочный сарай».
— Я проснулась, когда господин доктор с полицией уже были в доме, — рассказывала Матильда.
В этот момент вахмистр увидел комиссара и встал.
— Как все это было? — спросил Кеттерле и огляделся. Вахмистр доложил.
— Потом мы увидели мужчину, толкавшего свой автомобиль, — добавил он. — Мы задержали его. Он заявил, что приходится сенатору зятем и просто хотел его проведать. Но так как все в доме показалось ему спокойно, он не стал заходить. У него отказал мотор, и он как раз собирался толкнуть машину, чтобы она завелась. Прямо в прихожей мы наткнулись на носовой платок с его монограммой.
— И что он сказал после этого?
— Признался, что был в доме. Он нашел сенатора в приступе, услышал шорохи, услышал голос моего коллеги в телефонной будке. Тут он испугался и сломя голову побежал к своей машине. Носовой платок он, должно быть, потерял в спешке.
— Вы не спросили его, был ли он в лодочном сарае?
На мгновение полицейский смутился.
— Чего не было, того не было, — сказал он.
Уголки рта у комиссара полезли вверх.
— А ведь за это время он успел хорошо подготовиться, — сказал он. — Ну, что нового, доктор?
— Ничего, — ответил Штёкель. — Полагаю, что первое мое впечатление было правильным.
Кеттерле кивнул. Потом он прошел через гардеробную и ванную в спальню Сандры Робертс.
— Идите сюда с машинкой, вахмистр, — крикнул он оттуда, — и приводите сюда всех этих людей из холла! По одному.
И пока он дожидался, ему показалось, что небо над неподвижными верхушками деревьев светлеет.
События прошедшей ночи мгновенно превратили дело Робертс в дело номер один всего полицай-президиума. Зибек вынужден был лично передать подробное сообщение в прессу, а около восьми утра ему пришлось самому принять участие в импровизированной пресс-конференции.
После этого он связался с Интерполом, чтобы ускорить присылку материалов из Виккерса на Лонг-Айленд. В лаборатории научно-технического отдела уже с половины пятого работали над изучением данных, собранных в лодочном сарае и в доме умершего сенатора. С первыми утренними лучами вертолет службы контроля за движением сделал снимки с воздуха. Но их еще не успели проявить.
Доктор Реймар Брабендер около восьми часов утра был переведен из 114-го полицейского участка в следственную тюрьму на Зивекингплац.
И вот теперь, совершенно измотанные, с небритыми лицами серого цвета, все сидели в кабинете шефа на втором этаже. Чашки крепкого кофе дымились на круглом столе, пальто и шляпы в беспорядке лежали вокруг, голубоватый дым сигар и сигарет заполнял помещение.
— Вот увидите, Кеттерле, газеты припишут смерть сенатора нашей беспомощности, — сказал Зибек. — Он ведь пользовался широкой известностью, чуть ли не как Геринг в свое время. Он любил жизнь, но был жестоким человеком. И единственное, что нам остается, это как можно скорее покончить со всей этой историей.
— Если свести воедино все факты, возникают следующие вопросы, — сказал Кеттерле. — Первое: кто вынудил, ее отправиться на прогулку, которую она предприняла, уже приготовившись ко сну и стерев с лица всю косметику? С большой долей уверенности можно сказать, что прогулку эту она предприняла не по своей воле. Второе: как удалось этому человеку появиться на пляже, не оставив там никаких следов? Третье: что сделал этот человек с Сандрой Робертс, опять же не оставив никаких следов насилия? Четвертое: каким образом Сандра Робертс переместилась из округа Хадельн в лодочный сарай на Альстере? И пятое: переместилась она туда живой или мертвой? На последний вопрос доктор Штёкель, очевидно, даст ответ еще сегодня до полудня. Если ответ будет — «живой», значит, Сандру Робертс утопили в лодочном сарае, и тогда вполне возможно, что следы уничтожила она сама. По причине, которую мы пока не знаем. Она ведь была экстравагантна. Быть может, она хотела посмеяться над нами до смерти. Но что потом случилось с ней в сарае?
— Скупые факты, — сказал Зибек и поставил на стол чашку с кофе, оказавшимся для него слишком горячим. — Мотивы могли иметь Брабендер, Брацелес и Новотни, не так ли?
— Из всех троих, пожалуй, лишь у Брабендера есть надежное алиби. Во всяком случае, у него не было никаких опасений на сей счет. Подробности я узнаю сразу же после нашего совещания. Там, кажется, речь идет о каком-то деликатном деле, ну, допустим.
— А другие?
— У других все не так просто. Добавьте сюда еще отпечатки пальцев Новотни на стакане в «Клифтоне»...
— В таком случае, Кеттерле, чего вам еще надо?
— Простите, — сказал комиссар, — но разве отпечатки пальцев Новотни хоть в какой-то степени объясняют все остальные несуразности? Если я попытаюсь измотать, на допросе этого человека, то, возможно, через шесть часов он и признается: «Да, я был в ее комнате. Мы поговорили обо всем, потом я уехал домой и лег спать». Вы не хуже, чем я, знаете, господин начальник, что ни один прокурор не поддержит обвинение при таких слабых, да к тому же косвенных уликах. Да тут еще смерть сенатора. Какой смысл сейчас выяснять, от кого у нее ребенок? Новотни ничего не признал тогда, сейчас он тем более этого не сделает.
— Единственный, кого вы пока не взяли под лупу, это Брацелес, так ведь?
Комиссар Кеттерле откинулся назад и потер свои щетинистые щеки. Потом принялся разглядывать руку.
— Странно, что все версии, улики и зацепки доводят нас только до какого-то определенного пункта и там обрываются. Точно так же, как след. Нам необходимо чистосердечное признание. Иначе при таком положении вещей мы не добьемся обвинительного приговора. В лучшем случае нагоняя со стороны сената.
— А как вы собираетесь получить признание? — спросил Зибек.
— Вот тут мы вернулись к исходной точке, — пробурчал Кеттерле. — Я пока не знаю этого.
Все уставились на дверь, в которую вошел Рёпке. Он бросил на стол стопку материалов и заявил, что не нашел ни малейшей зацепки, по которой можно было бы заключить, каким образом Сандра Робертс попала в лодочный сарай.
— Она влетела туда на крыльях, — сказал он смиренно, — опустилась на воду и утонула. Естественно, многочисленные отпечатки ее пальцев на лодках. Шофера тоже. Но ведь это не удивительно. Сенатора тоже, и это не удивительно. А больше ничего.
Они помолчали. Наконец комиссар поднялся.
— Ну что ж, тогда я попробую вытянуть что-нибудь из своих овечек, — сказал он, взял пальто, шляпу и вышел из кабинета шефа. Хорншу придержал ему дверь.
Комиссару Кеттерле обычно помогало, когда с людьми, попадавшими в узкий круг его профессиональной деятельности, у него устанавливались своего рода товарищеские отношения.
— Садитесь, — сказал он доктору Брабендеру. — Хотите сигарету?
И подал фройляйн Клингс знак большим и указательным пальцами. Она уже знала, что это означает не одну, а две чашки кофе.
— Итак, не будем больше говорить о событиях сегодняшней ночи. Вы остаетесь при показании, что собирались сообщить сенатору о нашем разговоре вчера вечером. Это я могу понять. И то, что вы испугались, когда его нашли, — тем более после того, как я объяснил вам особую сложность вашего положения, — я тоже могу понять. Так что давайте останемся при этой версии. Кроме того, ее все равно нельзя опровергнуть. В настоящий момент установлено уже точно, что вы единственный человек, который побывал сегодня ночью на Ратенауштрассе! Вам придется привыкнуть к мысли, что смерть настигла вашего тестя в миг, когда он услышал ваши шаги на лестнице. Нами так же точно установлено, что в полицейский участок действительно позвонил какой-то лодочник, заметивший сквозь решетку утопленницу в сарае. Лодочника уже разыскали. Таким образом, я констатирую, что к этой стороне дела вы не имеете никакого отношения. Подчеркиваю, только к этой. А имеете ли вы отношение ко всей истории, зависеть будет от того, сумеете ли вы мне подтвердить минута в минуту, что были в ночь с субботы на воскресенье заняты другими делами.
Секретарша принесла кофе, потом вышла в канцелярию и, вернувшись, положила на стол перед Кеттерле конверт с фотографиями. А еще дневной выпуск гамбургской газеты, раскрытой и отчеркнутой на том месте, где сообщалось об убийстве. Комиссар быстро пробежал заметку, затем отложил газету и придвинул Брабендеру сахар и молоко.
— Позвольте высказать одну просьбу, господин комиссар, — сказал Брабендер. — Я готов собрать значительную сумму в качестве залога. Не могли бы вы отпустить меня? Даю вам слово...
Комиссар сделал движение рукой.
— После того как сегодня ночью в ноль часов тридцать минут вы стали одним из наследников сенатора Робертса, залог в обычных размерах вряд ли удержал бы вас от попытки исчезнуть в дальних странах, если бы вы этого захотели. И кроме того, практика внесения денежного залога в делах, связанных с убийством, не применяется.
Голова у Брабендера затряслась.
— Да, положение серьезное, — сказал Кеттерле, — однако, со своей стороны, даю вам слово, что двери тюрьмы распахнутся через десять минут после того, как мы проверим ваше алиби и сочтем его правдивым. Большего я не могу для вас сделать. Итак, в субботу утром, примерно около десяти, вы отправились в Бремен...
— Да. Я прибыл туда в одиннадцать. Конгресс заседал в здании медицинской палаты. Многочисленные коллеги могли бы подтвердить мое присутствие на всех докладах и рефератах, на дискуссии после обеденного перерыва, а также на совместном ужине.
Комиссар Кеттерле включил магнитофон.
— Не могли бы вы произвольно, на память, назвать несколько имен, ну, скажем, пять или шесть?
Доктор Брабендер сделал это без запинки, и Кеттерле выключил магнитофон.
— И до какого времени вы были с ними?
— До окончания ужина, примерно до восьми. Потом я отправился в отель. Я выпил пару рюмок шерри и не хотел в таком состоянии ехать в машине. Я заранее предусмотрительно заказал номер.
— Когда?
— В пятницу вечером.
— В какое время?
Брабендер хотел было ответить. Но промолчал.
— Ну? — настаивал Комиссар.
— Это могло быть примерно в половине десятого или без четверти десять.
— Хорошо. Что было дальше?
— Около половины десятого я еще раз вышел из отеля, вечер был прекрасный и безветренный. Я хотел выпить еще немного виски. Собирался отправиться прямо в кафе «Эспланада», но встретил по дороге одну знакомую. Мы выпили еще немного, а потом я проводил ее до дома. Там она сварила кофе, и мы немного поболтали.
— Когда вы возвратились в отель?
Брабендер внимательно разглядывал свои руки. Ему все это действительно было крайне неприятно.
— Было примерно половина седьмого утра, — сказал он.
— Кто эта дама?
Врач назвал фамилию и адрес. Комиссар Кеттерле взял несколько снимков со своего стола и разложил в ряд, не глядя.
— Ваша жена знает об этой связи?
— Нет, конечно, нет. Может быть... Я полагаю, что это настолько интимное дело...
— Послушайте, доктор Брабендер, — сказал комиссар, — вы часто встречаетесь с этой дамой?
— Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос, господин комиссар.
— Но это важно. Судите сами, вы предусмотрительно заказываете номер в отеле, потому что собираетесь остаться в Бремене на ночь, а потом случайно встречаете старую знакомую, которую провожаете до дома. Тут кое-что не согласуется, признайтесь. А ведь насколько разумнее было бы ограничить себя в алкоголе и спокойно отправиться вечером домой. Тем не менее вы предусмотрительно заказываете номер. Неужели все на самом деле было так?
— А вам очень необходимо узнать обо мне самые интимные вещи?
— В ваших же собственных интересах, доктор Брабендер.
Брабендер глубоко вдохнул пару раз и снова закурил сигарету.
— Это останется между нами?
— По возможности.
— И все-таки я надеюсь на вас. Конечно, это отдает дурным вкусом, но у меня было желание в тот вечер в Бремене немного развлечься. Это правда. Я знал ее поверхностно. В тот вечер она не работала, и все получилось само собой. Я, собственно, так и рассчитывал. Никто бы ничего не узнал. Я ведь не мог предположить, что в ту ночь исчезнет Сандра Робертс.
Брабендер казался растерянным, словно старшеклассник, которого впервые застигли в ночном заведении.
— Ну хорошо, — сказал Кеттерле к большому его облегчению, — мы проверим ваши показания. Где работает эта дама?
— Она обслуживает бар позади ресторана Рейнхардта. Добротное заведение для избранного круга с небольшим ассортиментом развлечений после десяти. Вполне серьезное, поэтому по субботам бар закрыт.
Брабендер наивно полагал, что хотя бы уровень заведения подправит то нелестное представление, что создалось о нем у комиссара. Кеттерле кивнул. Потом передал ему через стол пачку фотографий.
— Взгляните сюда.
Брабендер уставился на снимки мертвой Сандры Робертс, сделанные в лодочном сарае.
— Что вы на это скажете?
Брабендер был потрясен.
— Это ужасно, — прошептал он.
— Она утонула, — сказал комиссар.
— В это невозможно поверить, — сказал Брабендер, просмотрев всю пачку. Некоторые он задержал, сравнивая с остальными.
— Почему невозможно?
— Да взгляните на ее позу. Так не тонут. Во всяком случае, не тогда, когда все тело находится в воде.
Кеттерле задумчиво смотрел в течение нескольких секунд на Брабендера.
— Ваше мнение совпадает с мнением судебного врача, — сказал он и проверил, не остыл ли кофе. Потом снова отставил чашку и поискал другой снимок.
— А что вы на это скажете?
Темный угол, грубо приколоченная к бревенчатой стене раковина, окрашенная в черный цвет, с примитивным медным краном.
— Вы полагаете...
Комиссар пожал плечами.
— Можно ли представить такое?
Брабендер содрогнулся.
— По-моему, нет.
— И все-таки было нечто в этом роде. Ну, хорошо.
Кеттерле встал и нажал на кнопку звонка.
— Я распоряжусь сейчас доставить вас обратно. И тут же дам знать, как только мы проверим ваши показания.
В сопровождении вахмистра Брабендер покинул здание на площади Карла Мука. Как двое добрых друзей, они зашагали напрямик через парк к следственной тюрьме. Комиссар посмотрел им вслед, потом снова уселся за письменный стол, разложил фотоснимки перед собою в ряд и просидел над ними с четверть часа.
Время от времени он помешивал кофе, отпивал глоток и покачивал чашку, чтобы лучше растворился сахар.
С утра она занималась тем, что примеряла всю имеющуюся у нее одежду черного цвета. Она еще больше оттеняла мертвенную бледность лица. Примерно в половине двенадцатого она позвонила в полицай-президиум. Естественно, у нее было желание нажать сразу на все рычаги. Ей сказали, что комиссара Кеттерле в данный момент в президиуме нет. Быть может, она желает поговорить с комиссаром Хорншу? Но она велела соединить ее прямо с господином Зибеком.
— По этому вопросу я могу сообщить вам немногое, фрау Брабендер, — ответил Зибек. — Следствием руководит комиссар Кеттерле. Только он один может решить, выдать ли вам разрешение на посещение мужа. Насколько я в курсе, он как раз собирался проверить его алиби. И пока это не будет сделано, я не могу вам что-либо обещать.
Эрика прибегала к всевозможным доводам и клятвам, но он только вежливо и даже вполне искренне повторял:
— Я весьма сожалею, фрау Брабендер.
Теперь она сидела на софе, уставившись перед собой, и раздумывала, к кому бы ей еще обратиться. Ханс-Пауль отпадал. Он всегда держался особняком, и никаких влиятельных связей у него не было. Папа́, конечно, знал сенатора по вопросам юстиции, а также нынешнего сенатора по внутренним делам. Но оба они были социал-демократы, и Эрика могла представить, что сказал бы ей папа́. Для них это будет хороший предлог обратиться впоследствии к консерваторам с просьбой о каких-нибудь особых уступках. Социал-демократы относятся к консерваторам, быть может, с уважением, но уж ни в коем случае не с симпатией.
— Ведущееся расследование, деточка, — сказал бы папа́ в этом случае, — может иметь далеко уводящие последствия. В такой ситуации люди выглядят иногда нелепо.
Вот она и поставила бы себя в нелепое положение, предприняв подобный шаг.
Снова и снова размышляла она о том, откуда у Реймара такой страх перед возможной проверкой его алиби. Она слишком хорошо знала его склонность к точному расчету, чтобы поверить всерьез, будто он имеет какое-либо отношение к смерти Сандры Робертс. Но, с другой стороны, разве можно ручаться даже за близкого человека?
Его растерянность, когда она сообщила ему о звонке папа́, испугала ее. Она убеждала себя, что преувеличивает его реакцию, но это было не так. В минуты, когда она имела мужество трезво взглянуть на ситуацию, она точно припоминала, каким растерянным он тогда выглядел.
Поначалу у нее было намерение вообще не открывать, когда раздался звонок в дверь. Но, когда позвонили во второй раз, а потом и в третий, она встала, привычным движением поправила волосы перед зеркалом в коридоре и отворила дверь. Комиссар в плотном пальто какого-то неброского цвета почти полностью заполнил дверной проем. Сначала он что-то пробормотал о соболезновании.
— Я увидел, что внизу стоит ваш автомобиль, фрау Брабендер, — добавил он. — Вполне могу представить, что вы никого не хотите сейчас видеть, поэтому я и позволил себе позвонить несколько раз. Вы ведь еще ночью хотели со мной поговорить.
Он снял шляпу и положил ее на вешалку в прихожей. Потом расстегнул пальто. Эрика сделала было движение, чтобы помочь ему раздеться.
— Нет, нет, спасибо, — сказал Кеттерле и первый прошел в большую гостиную с цветами на окнах, выходивших в сад.
Они жили так, как живут люди среднего сословия. Мягкая мебель, журнальный столик, письменный стол, все среднего качества. Не дорогое, но и не дешевое, не уродливое, но и не красивое. У них был большой стереокомплекс под красное дерево. Доктор Брабендер наверняка любил Шумана и Моцарта, а его жена — оперные арии. «Аида», подумал Кеттерле, завораживающе прекрасные образы, а может, еще «Риголетто» или «Трубадур». Картины маслом в вычурных барочных рамах с искусственной патиной изображали рыбацкие лодки, вечер на море, облака, сквозь которые пробивалось солнце, А еще цветы. Картин было, пожалуй, чересчур много. Обеденный стол сделан под чиппендейль, у стульев спинки плетеные и округлые. Он сел напротив нее.
— Вы его уже допрашивали?
— Я только что разговаривал с ним, фрау Брабендер.
Кеттерле сложил руки на столе и принялся внимательно их разглядывать.
— А что, собственно, намеревался делать ваш муж вчера вечером?
— Он сказал, что приедет поздно. Профессор Вольман оперировал, и он собирался посмотреть. Это в самом деле так, поскольку, когда я в половине десятого позвонила в клинику, сестра Ангела ответила, что он просил не вызывать его из операционной. Что он хотел потом на Ратенауштрассе, я при всем желании не могу вам сказать, Со мной он об этом не говорил. А такое бывает редко.
— В самом деле?
— Да.
— А у вас самой есть какие-нибудь предположения на сей счет?
— Нет. Но разве сам он вам ничего не сказал?
— Кое-что.
— Почему же тогда вы спрашиваете меня?
— Это важно. Дело не в том, знаете ли вы причину, а в том, говорил ли он с вами об этом.
— Подобные нюансы мне понять трудно.
— В самом деле трудно, — сказал комиссар. — Представьте себе, он скрыл от меня, что в последний раз видел Сандру Робертс не на балу в Альстер-клубе, а в пятницу вечером.
Эрика нервно теребила кружевную скатерть, сквозь которую просвечивала полированная поверхность стола.
— Не верю, — сказала она, — нет ничего такого, что касалось бы Сандры и о чем Реймар не говорил бы со мной. Это исключено.
— Но он признался.
Она покачала головой.
— И чего же он от нее хотел? — спросила она неожиданно.
Вдруг ей вспомнились бесконечные вечера, которые Реймар проводил в клинике, ночные дежурства, операции, конгрессы, мужские вечеринки.
— Это она хотела от него помощи, — услышала Эрика. — Она ждала ребенка.
Эрика перестала теребить скатерть.
— Должно быть, для нее это была катастрофа, — сказала она тихо, без всякого выражения в голосе. — И почему только такое всегда случается с теми, кто ни в коем случае не хочет детей?
— Вот именно. Потому она и обратилась к вашему мужу.
— Ну, об этом он не имел права разговаривать и со мной. Такие вещи относятся к области профессиональной тайны.
Комиссар кивнул.
— Он соблюдает ее даже по отношению к вам?
— Естественно, — сказала Эрика. — Реймар чрезвычайно добросовестен и корректен. Особенно в таких вещах.
— Ну да, и тем не менее он собирался ночью поговорить об этом с вашим отцом. Возможно, он ничего не знал о шоке, который за несколько минут до этого испытал сенатор в лодочном сарае. Но в любом случае его шаги принесли сенатору смерть.
Эрика не начала всхлипывать, гримаса не исказила ее бледное прозрачное лицо. Но она не могла остановить слезы, покатившиеся вдруг по ее щекам.
— Это ужасно, — прошептала она, не предполагая, насколько тщательно оценивает комиссар в этот момент искренность ее потрясения.
— Вопрос звучит несколько странно, фрау Брабендер, — сказал он, — но существовали ли между вами и вашим отцом по-настоящему близкие, доверительные отношения?
Даже вытирая слезы, она следила за своими движениями, отличавшимися грациозной элегантностью, — следствие хорошего воспитания.
— Папа́, — сказала она, — папа́ придерживался всегда точки зрения, что семья не является основой любви. Он ценил тех, кто ему нравился, даже если они не принадлежали к семейному кругу. А тех, кто не нравился, он отвергал, даже если они были членами семьи. Разумеется, к самому себе он требовал от всех подобающего уважения.
— Следовательно, у него был тяжелый характер?
— У всех людей, которые разбогатели сами в результате жестоких усилий, тяжелый характер.
— А вашего мужа он ценил?
— Быть может, это звучит странно, но папа́ ценил ученость. Он даже сожалел, что люди, которые так много учились и так много знают, никогда не достигают в жизни чего-нибудь стоящего. Под этим он имел в виду миллионы. Но как бы то ни было, папа́ всегда утверждал, что наука — замечательная вещь. Правда, историю искусств и тому подобные вещи, чем занимался Ханс-Пауль, он считал глупостью, финтифлюшками, так он выражался.
— Выходит, он относился к вашему мужу не очень доброжелательно, однако ценил его.
— Да. Примерно так.
— Распространялись ли его представления о семье и любви и на жен?
— Сандра, — сказала Эрика и обхватила руками красивое колено, — Сандра была для него великолепным украшением. Представьте себе только, как выглядела она на скачках в новейших и безумных шляпках только что из Парижа, в норковом палантине, в куртке из крокодиловой кожи и тому подобных вещах! Если папа́ отправлялся в театр или на концерт, то только затем, чтобы показать Сандру. И каждый знал, что до этого она была секретаршей в приемной референта по культуре и происходит из очень простых слоев. Любил ли он ее — не знаю. Есть мужчины, которые полагают, что любят женщину, поскольку гордятся ее внешностью.
Комиссар именно так все и представлял. Иначе быть не могло. По его мнению, человек мог тратить свою жизнь либо на то, чтобы зарабатывать миллионы и потом купить на них красивую жену, либо любить по-настоящему одну или даже нескольких женщин, но зато отказаться от миллионов.
— Должно быть, из-за этого и расстроился его первый брак, фрау Брабендер?
— Мама, — сказала Эрика, — это было нечто совсем другое. Мама была из очень хорошей семьи, которая потеряла свое состояние во время кризиса в тридцатые годы. Но зато она открыла ему двери в деловые круги Америки, а это ему было необходимо. Мама была для него инструментом, чтобы достичь величия, Сандра — украшением добившегося всего человека. У папа́ все всегда было последовательно.
— Как вы думаете, вашу мать он тоже любил?
Она вздохнула.
— Вам лучше исходить из того, что папа́ вообще никого никогда не любил.
— И разумеется, неудовлетворенная материнская любовь сосредоточилась на вас двоих?
— Да, — сказала Эрика, — временами это бывало невыносимо. Но у нее все всегда шло от сердца.
— В таком случае ваши отношения с мачехой после новой женитьбы отца должны были быть весьма скверными?
— Мы обе были замужем, когда все произошло. Это затронуло нас лишь косвенно.
— Ну, не скажите, фрау Брабендер, — возразил Кеттерле, — огромное состояние, которое вдруг уплывает в другие руки, это ведь не из разряда тех вещей, что затрагивают лишь косвенно.
Эрика, задумчиво глядевшая в окно, вспомнила вдруг, что ее муж находится в следственной тюрьме, и обратила лицо к комиссару.
— Вы ведь говорили о любви, — сказала она. — Состояние — совсем другое дело. Все было, конечно, нелепо, но в этом весь папа́.
— Ваш отец утверждал, что никто не знал содержания его завещания.
Быстрая улыбка Эрики была почти торжествующей.
— Ему так казалось. Однако он заключил в свое время с мамой договор о наследстве, и расторжение его потребовало огромной юридической переписки. Естественно, мама первая по секрету ввела нас в курс дела.
— Ваш муж знал об этом?
— Разумеется. Тем самым улетучились его мечты открыть когда-нибудь большую частную клинику. Он ненавидел Сандру и как наследницу, и как человека.
— А почему вы так откровенно говорите об этом со мной?
— Потому что абсолютно убеждена: Реймар не имеет никакого отношения к ее смерти, господин комиссар. Если б я пыталась что-то скрыть, это только привело бы вас к ошибочным выводам.
Кеттерле кивнул.
— У вас есть дети? — спросил он неожиданно.
— Пока нет, — сказала Эрика, — но скоро это время настанет. Родители не должны быть слишком старыми для своих детей. Реймар уже начал собирать статьи по данному вопросу.
— Так-так, — сказал Кеттерле и принялся рассматривать медную подставку, из которой торчали бамбуковые рукоятки всевозможных совочков, лопаточек, грабель для ухода за домашними цветами.
— Ваш муж часто не бывает дома?
Инстинкт подсказал Эрике, что тут начинается главное.
— Не очень часто, — сказала она. — Иногда ему нужно на конгресс, иногда на заседание, чтобы встретиться со знаменитым хирургом. Примерно раз в квартал.
— А в Бремене он бывает регулярно?
— Нет. Сказать, что регулярно, нельзя. Он весьма боялся по поводу своего алиби. Если полиция узнает о завещании папа́, так ему казалось, всем нам необходимо алиби. И, естественно, у всех нас его нет, мы ведь были в собственной постели. Это же смешно, сказала я ему... Ни один человек и не должен находиться нигде, кроме собственной постели, и не только потому, что в этот момент кого-то убивали.
— Это проблема, которой занимаются полицейские всего мира со времен Хаммурапи, фрау Брабендер, — сказал Кеттерле. — Но если дело обстоит так, то эти постели, по крайней мере, должны быть очевидными, как божий день. В гостинице это выяснить намного легче, чем дома. Гараж, портье, телефонные разговоры, чистильщик обуви, официант, подавший утром в номер завтрак. Мы как раз проверяем его показания. Но пока они не подтвердятся, я не могу, к сожалению, его отпустить.
— А он рассказывал об этом? Я уж боялась... Я думала... все ведь возможно, вы понимаете?..
— Ах это, — пробормотал Кеттерле, — увы, бывает и такой вариант. Нам часто приходится сталкиваться с подобным. Конечно, вам это не доставило бы приятных минут.
Эрика встала и поправила складки на безупречно висящих гардинах. Потом бессильно опустила руки и выглянула в сад.
— Лучше уж что-нибудь в этом роде, чем вообще никакого алиби.
— А в принципе у вашего мужа есть склонность к супружеским изменам?
Она оглянулась.
— Еще когда мы только поженились, я заявила ему четко и ясно, что прочную интимную связь на стороне буду рассматривать как оскорбление и повод для развода. Но почему вы спрашиваете, если в данном случае все обстоит по-другому?
Кеттерле тоже встал.
— Прошу меня извинить, фрау Брабендер, — сказал он, — но это был личный интерес, я допускаю, что совершил бестактность. Скажите, а от кого, собственно, вы узнали об этом деле?
— От папа́, — сказала она. — Вы ведь были там, когда он звонил. Я сама подошла к телефону.
— А как воспринял известие ваш муж?
— Он был в ужасе и очень подавлен. Позже у меня даже создалось впечатление, будто он чего-то боится.
— Когда позже?
— Не сразу. Позже. Я не знаю, как это объяснить...
Комиссар повернулся к ней.
— Может, вы все-таки постараетесь вспомнить?..
Как часто слышала Эрика эту фразу в детективах, хороших и плохих! И вот теперь она тоже должна постараться вспомнить. Да возможно ли вообще такое? В течение десяти минут она напряженно рылась в памяти, перебирала сказанные тогда фразы.
— Да, — сказала она затем и распахнула дверь в прихожую, — думаю, что его испугало место, где она исчезла. Я в этом абсолютно уверена, господин комиссар.
Комиссар отказался пройти в операционную, где врачи судебно-медицинского института обычно проводили вскрытия. Вместе с Хорншу он дожидался в облицованной кафелем комнатке, служившей для написания отчетов, переодевания и мытья рук. Оба изучали надписи на рекламном календаре какой-то фармацевтической фирмы. Затем Кеттерле подробно осмотрел содержимое стеклянного шкафчика с пришедшим в негодность инструментом и наконец, широко расставив ноги, уселся в кожаное кресло возле письменного стола.
Но прошло еще добрых четверть часа, прежде чем доктор Штёкель наконец отворил дверь и сразу же направился к умывальнику. Один из санитаров стянул с него резиновые перчатки.
Комиссар бросил взгляд в распахнутую дверь. Накрытое простыней безукоризненной чистоты до самого подбородка, тело лежало на высоко поднятом операционном столе, потонув в зеленовато мигающем неоновом свете. Это был сенатор Рихард Робертс, которого его противники прозвали толстяком. Кто же из тех, что прозвали его толстяком, нанес этот удар, подумал Кеттерле. И самым плохим было то, что удары готовились в ближайшем окружении.
— Ею я занимался сегодня утром. Она, безусловно, утонула. Возможно, в лаборатории уже исследовали пробы воды из легких. А с Робертсом с самого начала все было ясно: сердечный приступ.
Он вытер руки и набрал номер телефона.
— В остальном вы были правы. Она была беременна, примерно на втором месяце, — сказал он, держа в руках телефонную трубку. — Алло? Штёкель. Уже готовы? Ну и как? Нет, скажите только главное. Полиция все равно потом получит отчет.
Несколько минут врач слушал, что ему говорили по телефону, изредка перебивая говорившего короткими вопросами или же непонятными «так-так» и «да-да». Потом положил трубку.
— Выходит, соли там нет, Кеттерле, — сказал он, — это установлено точно. Сомнения исключены. Соленая и пресная вода отличаются при анализе друг от друга как святая вода из кропильницы от ямайского рома. Вода в легких пресная. Частично она соответствует консистенции той воды, в которой мы ее обнаружили, однако имеются незначительные примеси соды и натрия. Все другие примеси вполне могут содержаться и в воде Альстера. Но сода и натрий могли выделиться только из остатков мыла.
— Значит, можно утверждать, что в воде, обнаруженной в легких, имеются остатки мыла? — спросил комиссар.
— В смысле юридического доказательства, нет. Вы должны это понять, Кеттерле. Достоверно лишь то, что исследованная субстанция содержит некую составную часть, которая одновременно является составной частью мыла, конкретнее, ядрового мыла.
Комиссар встал.
— Можно ли утверждать, что данная вода находилась в каком-то объемном сосуде, в котором имелись, пусть незначительные, остатки мыла? — спросил он.
— Не исключено, — сказал врач и с удовольствием закурил сигарету, извлеченную им из ящика письменного стола. — Однако в минимальных количествах сода и натрий могут появиться еще и оттого, что выше по реке стирали белье, как раз когда она наглоталась той же воды.
— Я не верю, что кто-то в верховьях Альстера стирает белье, — сказал Хорншу. — Мы можем спокойно исключить этот вариант.
— Допустим. Я тоже в это не верю. Думаю, вы можете с соответствующими оговорками исходить из того, что в любом случае здесь действительно замешана какая-то большая посудина с остатками мыла. Но я еще раз обращаю ваше внимание на то, что не отпадает и другой вариант: воды Альстера в момент, когда она утонула, были по неизвестным причинам насыщены частицами соды и натрия. Понятно, что в тех пробах воды из Альстера, которые мы взяли, эта насыщенность была бы уже недоказуема.
— И не доказана?
— Нет.
Комиссар, у которого за весь день так и не было времени побриться, взглянул на себя в зеркало.
— А что такое ядровое мыло? — спросил он врача, однако выглядело это так, будто он задает вопрос собственному отражению в зеркале.
— Ядровое мыло? Ну, химически объяснить это сложно. Ядровое мыло является твердым хозяйственным мылом в противоположность мылу жидкому или туалетному.
Кеттерле обернулся.
— Один совсем уж бредовый вопрос, доктор, — сказал он. — Вы случайно не помните, каким мылом мыли руки сегодня ночью в лодочном сарае?
Штёкель затянулся сигаретой, потом поднял ее вверх, чтобы видеть сквозь дым лицо комиссара.
— Это был кусок ядрового мыла, он лежал рядом с раковиной, — сказал он. — Помню абсолютно точно. Но в конце концов после этого я тщательно сполоснул руки, так что следы не могли остаться.
— А вы полагаете, что, кроме вас, там никто больше не моет рук?
— Значит, все-таки ее связали? — заметил Хорншу.
— Брабендер был в Бремене. При условии что его показания подтвердятся.
— А Новотни?
Кеттерле откашлялся.
— У Новотни сейчас самое надежное алиби в мире. Он был в «Клифтоне» и держал там в руке стакан.
— Но разве он не мог... Ведь каким-то образом, черт возьми, она должна была попасть с побережья сюда.
— Теперь я уже почти готов поверить, что Новотни прибыл в «Клифтон», когда ее там уже не было. Он подождал, а когда она не появилась, уехал обратно.
— А телеграмма?
— Телеграмма? Вспомните, что в Половине десятого вечера сенатор еще раз позвонил Новотни, чтобы сообщить, что не нуждается в нем в воскресенье. Стало быть, до этого Новотни рассчитывал, что в воскресенье может понадобиться сенатору. Вы помните, Сандра Робертс спрашивала о телеграмме, когда приехала в «Клифтон»?
— Каким же образом Новотни мог попасть в ее комнату?
— Через окно. Окно было открыто, когда я впервые увидел Кадулейта. Ему нужно было только вскарабкаться с вымощенного участка двора. И это вполне объяснимо, поскольку они встречались в большой тайне.
Комиссар подумал.
— Возможно, это было так, Хорншу, — сказал он после паузы, — сначала он дал телеграмму с отказом. Потом, узнав, что на следующий день не будет нужен сенатору, все-таки поехал. Но прибыл позже, чем она его ждала, ведь о телеграмме она еще ничего не знала. Поэтому она уже стерла всю косметику и собралась ложиться спать. По тут по вымощенному участку двора к окну подошел убийца и договорился с ней о встрече на пляже. Она снова оделась, пошла к тому месту и... Н-да, а что произошло потом, все еще покрыто глубоким мраком. Во всяком случае, это был кто-то, кого она знала. Кстати, Новотни мог побывать в ее комнате и после этого.
— Мог? И вы полагаете, что Новотни с ходу нашел нужное ему окно? Особенно если в комнате никого не было? — возразил Хорншу. — До сих пор я не верил в колдовство. Но вот уже в который раз любые наши разумные рассуждения обрываются на том месте, где обрывается след.
— Колдовства не бывает, — сказал врач, погасив сигарету.
— И тем не менее это так, — сказал Кеттерле, надевая шляпу. — Пришлите мне ваши отчеты, как только будут готовы.
Они уже прошли почти весь длинный коридор, когда доктор Штёкель снова открыл дверь.
— Санитару при вскрытии бросилось в глаза, что босоножки у нее были надеты не на ту ногу. Может, это для вас важно? — крикнул он вслед уходящим.
Комиссар оглянулся.
— Может быть, — сказал он. — Большое спасибо, доктор.
На улице он внезапно остановился. Хорншу обернулся.
— Но ведь когда она шла по пляжу, босоножки на ней были надеты правильно, — сказал комиссар и покачал головой. — Это же неоспоримый факт.
Из судебно-медицинского института они зашли пообедать в пивную Хайнриксена. Потом заглянули в парикмахерскую и, откинув головы на мягкие валики, по очереди побрились.
Дожидаясь своей очереди, Кеттерле пробежал в дневных газетах сообщения о таинственном убийстве. Большинство содержало самые немыслимые домыслы. Арест известного терапевта Реймара Брабендера всюду подавался крупным шрифтом.
«Врач подозревается в убийстве» — напечатано было аршинными буквами в десятипфенниговой «Бильд»[5], далее следовало:
«Семейная драма в доме сенатора. Рихард Робертс зверски убит. Прогнившие отношения в высших сферах. «Бильд» требует самого беспристрастного расследования, невзирая на лица и закулисные мотивы».
— Это еще счастье, что есть газеты, которые открыто пишут о таких вещах, — сказал парикмахер, натачивая на ремне бритву.
— Да, — сказал комиссар, — большое счастье. Пожалуйста, с теплой водой и без царапин.
Пока парикмахер намыливал ему лицо и быстрыми, нежными движениями водил бритвой по щекам, комиссар, закрыв глаза, размышлял.
Обычно бывало так: из всех многочисленных, разнонаправленных показаний и элементов следствия складывалась в итоге цельная картина, необходимо было лишь мысленно выбрать нужную дистанцию, создать нужное пространство обзора, и в этом пространстве уже не представляло труда выбрать нужное направление, а направление давало след. При заранее спланированных убийствах, естественно, не бывает свидетелей, так как план убийцы и нацелен главным образом на то, чтобы всех возможных свидетелей исключить. Точно так же не бывает, как правило, и прямых улик, обеспечивающих надежные доказательства. Но в деле Робертс он до сих пор не располагал даже косвенными уликами, дававшими хоть какую-нибудь зацепку. Сам момент убийства связан был здесь с таким клубком неопределенных предположений, что любое из них тут же отпадало вовсе, стоило лишь за него ухватиться.
Мотивы были у многих, однако стоило заняться конкретным человеком, и уже невозможно было отыскать в его характере жестокость, хладнокровную готовность к преступлению. По опыту своему комиссар знал, что общее количество совершенных убийств есть только минимальная часть всех тех убийств, что могли бы совершиться, если б не было сдерживающих физических или психических факторов, если б возможности были благоприятны и риск сведен до минимума. Если же отбросить в сторону мораль, то возможных убийств следовало предположить намного больше, чем совершалось в действительности.
Новотни? Кеттерле уже как-то привык к мысли, что шофер обожествлял красивую и при обычных обстоятельствах совершенно недосягаемую для него Сандру Робертс. Сам Новотни не знал, конечно, мнения комиссара, однако, и не зная его, он на всех допросах не бросил на нее ни малейшей тени. А может, напротив, он все точно рассчитал? Но если предположение комиссара правильно, тогда шофер и в самом деле должен был встретиться с ней в «Клифтоне», чтобы обсудить ситуацию, в которой оба оказались. Невероятно трудно и в то же время очень важно было понять, мог ли в таком человеке, как Новотни, для которого отношения с Сандрой Робертс были явно не престижным адюльтером, но какой-то крохой пусть даже очень горького счастья, мог ли в таком человеке страх перед последствиями оказаться настолько сильным, чтобы он решился на убийство, решился быстро и без колебаний. Кеттерле не мог в это поверить.
А Брабендер? Гибкий интеллект, настойчивый характер, весьма шаткие сословные представления о чести и морали, достаточная осмотрительность и изворотливость. Ради одной только надежды на миллионное наследство Брабендеру пришлось бы поставить на карту свою карьеру, собственное благополучие и счастье семьи, свою общественную репутацию, деятельность, которая приносила ему удовлетворение. Тут важно было решить: чему больше поддался бы врач в такой ситуации — собственному неуемному честолюбию и магической притягательности богатства или же доводам разума, всевозможным сдерживающим факторам и морали? А была ли у доктора Брабендера мораль? И если да, то какая? Сандра Робертс благоразумно скрыла от Брабендера, от кого ее ребенок. В противном случае она совершила бы самую большую ошибку в своей жизни. Кеттерле продумал все возможные мотивы Брабендера, в логике его рассуждений не было изъяна. Кроме самого важного, начального пункта. А не продумал ли все точно так же в свое время и сам Брабендер?
Еще Брацелес. Впечатление, которое произвел на комиссара этот молодой человек, было неясным. Семья жила в стесненных обстоятельствах, а тут рядом — огромное богатство да плюс постоянная язвительность коммерсанта Робертса по поводу художественных амбиций Ханса-Пауля. Обоих переполняла тайная зависть, и Ханс-Пауль, естественно, ненавидел Сандру. Он ненавидел и Робертса тоже. Кеттерле было интересно, что же он услышит от них теперь. Он пригласил супругов на четыре часа.
— По косой или по прямой? — спросил парикмахер.
Вопрос застал комиссара врасплох.
— Что?
— Виски, как прикажете ровнять виски, господин? — переспросил парикмахер.
— Прямые, — пробормотал Кеттерле и вытер полотенцем подбородок.
Потом парикмахер установил спинку кресла вертикально, и комиссар тяжело поднялся.
Обратно в президиум они шли пешком. Был прекрасный, довольно теплый еще осенний день, и оба наслаждались последними лучами октябрьского солнца.
Входя в кабинет Кеттерле, они продолжали громко и взволнованно разговаривать. Комиссар оборвал фразу на полуслове, заметив записку, которую Гафке положил на его письменный стол, придавив для большего значения сверху дыроколом.
Кеттерле вытянул из-под дырокола записку.
— Ага, — сказал он, прочитав ее, — и получаса не прошло, как вы, Хорншу, спрашивали меня, каким образом удалось Новотни сразу отыскать нужное окно. С ходу он бы его не нашел, тут вы, честно говоря, правы, — он протянул Хорншу записку, — в любом случае это было не просто так.
Хорншу прочитал.
— Нечасто сталкиваешься с подобным, — пробормотал он.
Кеттерле положил шляпу на письменный стол и открыл боковые дверцы.
— Но это вполне объяснимо в их ситуации. Прочтите еще раз вслух.
— «Первый этаж, юго-западный угол, направление сарая и пляжа», — прочитал Хорншу. — Отправлена в субботу в семнадцать часов двадцать минут по телефону из пивной «Белый всадник».
— Теперь вы не сомневаетесь, что речь идет именно об окне, которое Сандра Робертс хотела указать своему другу в телеграмме?
— Сомнений, конечно, нет, — сказал Хорншу. — Да, не каждому другу так облегчают жизнь.
— Но и не каждый друг оказывается в столь неприятной ситуации, — пробормотал комиссар. — Давайте все просчитаем...
Они перешли к большому круглому столу, на котором Хорншу разложил карту автомобильных дорог.
— От центра Гамбурга до Куксхафена сто сорок километров, добавьте небольшой отрезок через Дунен и Зеленбург до «Клифтона», итого сто шестьдесят. Если он выехал в половине десятого, то около двенадцати должен был быть на месте. Ведь он совершал не увеселительную прогулку. Во сколько фрау ван Хенгелер постучала к Сандре Робертс?
— Между одиннадцатью и двенадцатью, — сказал Хорншу, — все совпадает точно. Ваша догадка может оказаться верной.
— М-да, — пробурчал комиссар, — в такой же степени она может оказаться и неверной. А доктор Брабендер?
Снова они склонили головы над картой. На этот раз они замеряли километры в округе Вурстен. Между Бремерхафеном и Куксхафеном.
— Бремен — Куксхафен, — рассчитывал Хорншу, — сто двадцать километров проселочных дорог, на это ночью сильной машине требуется полтора часа. Предположим, он выехал в десять, тогда он мог быть там в половине двенадцатого. Считаем один час там, значит, из «Клифтона» в половине первого, тогда в три часа ночи он должен был вернуться в Гамбург.
Комиссар поднял голову.
— В три? А сколько часов предполагал доктор Штёкель? Мы это уже просчитывали. И в тот раз у нас получилось три часа ночи.
Он выпрямился.
— Но в таком случае доктор Брабендер должен был доставить Сандру Робертс из «Клифтона» в лодочный сарай живой?
— Значит, все-таки связанной?
— Раковина, — проговорил Кеттерле, — ядровое мыло. Хорншу, я не могу себе представить такое.
Взгляд его упал на газеты, разложенные на письменном столе.
— Ускорьте проверку показаний доктора Брабендера, в конце концов он многое теряет в результате ареста. А если видимость все-таки обманчива? Не хотелось бы подвергать государственную кассу риску возмещать нанесенный ущерб. Продублируйте телеграмму в Виккерс. Мне нужны наконец их материалы.
Комиссар не оставлял надежды извлечь из давно прошедших событий хоть какую-нибудь зацепку. Но здесь его ждало разочарование.
— Я хотел бы сегодня ночью выспаться, Хорншу, — сказал он. — Вытаскивайте меня, только если произойдет что-нибудь действительно важное.
Хорншу вышел из кабинета, а вскоре и из здания, ему предстояло отправиться на Ратенауштрассе, одиннадцать, где он собирался лично наблюдать за опечатыванием письменного стола и всей документации сенатора.
Комиссар закурил сигару и склонился над дневной почтой, вскоре после четырех ему позвонил дежурный у главного входа и сообщил, что некий господин Брацелес с супругой уже здесь, они утверждают, что их пригласил старший комиссар.
— Пропустите их ко мне, — сказал Кеттерле.
Он положил трубку и тут же набрал номер фройляйн Клингс.
— Сейчас ко мне придут мужчина и женщина, — сказал он. — Я хотел бы вначале побеседовать с женщиной.
Фройляйн Клингс пропустила в дверь Зигрид Брацелес. Та была сильно напугана, годы нелегкого замужества, вечная нехватка денег да двое рано появившихся детей приучили ее от всего происходящего ожидать поначалу худшего. Она была убеждена: для комиссара не осталось незамеченным, что ее Ханс-Пауль сбрил бороду наутро после убийства, и она собиралась представить дело так, будто сама просила его об этом в то утро и он пошел ей навстречу.
Поэтому она была поражена, когда комиссар, предложив ей сесть, начал совсем с другого. Это запутало ее окончательно, тем более что никакой видимой связи между его вопросами и смертью Сандры Робертс не было.
— Скажите, сколько вам было лет, когда развелись ваши родители, фрау Брацелес? — спросил он.
— Десять. Но почему вы спрашиваете?
— Развод, очевидно, явился тяжелым переживанием для вас и вашей сестры, не так ли?
Зигрид расправила юбку и поставила сумочку рядом со стулом на полу.
— Думаю, что да. Сейчас я уже не помню все в деталях, — сказала она. — Мама очень хорошо относилась к нам, помню, они вечно спорили с папа́, потому что...
— ...потому что ваш отец хотел воспитывать детей в строгости, он считал, что только строгость помогает выработать трудолюбие.
— Откуда вы знаете?
— Потому что, как правило, так бывает в любой семье.
— Да. И у нас сейчас тоже.
— Ваш муж также за строгость?
— Да, конечно, впрочем, только в некоторых вещах.
— А как воспринял супруг то обстоятельство, что сенатор Робертс не одобрил вашего замужества и отказал вам в материальной помощи?
Зигрид опустила глаза.
— Мы любили друг друга, и оба жили тогда книжными представлениями. Мы искренне верили, будто проявим характер и силу воли, если вопреки всему поженимся. Но Ханс-Пауль переоценил себя и недооценил жизненные обстоятельства. Он тогда только-только закончил учебу, и поначалу мы просто мечтали о комнатке, спокойном уголке, где могли бы быть счастливы. Мы были ко всему готовы — к нехватке денег, к ежедневным проблемам, раздорам с папа́. Но...
Тут она запнулась.
— Что но?
— Но обстоятельства оказались сильнее нас. Сразу пошли дети, стало больше забот и больше работы, на нас навалилась повседневность. Мы начали с таким подъемом и...
— И что же?
— Из всего этого ничего не вышло.
— Вы хотите сказать, фрау Брацелес, что ваш брак несчастлив?
Она пожала плечами.
— Ни то, ни другое. Порой у нас возникает чувство, будто все еще впереди, все возможно. Но ничего не получается. Сами подумайте, как может человек, который отнюдь не родился менеджером, заработать столько денег, чтобы навсегда вырвать семью из бедности? Ему и так приходится много работать, чтоб хотя бы держаться на плаву. Это ему удается. Он талантлив. Но он не может выбиться в люди. Он не умеет создать вокруг себя шумиху. А люди сейчас привыкли к рекламе. Они равняют наглость с подлинным талантом, а врожденную скромность с бездарностью.
— Значит, вы полагаете, что семейное счастье в той или, иной степени всегда зависит от денег?
Она утвердительно кивнула. Она слишком хорошо гнала эти проблемы, они обступали ее каждый день с утра до вечера, вся эта заново ложившаяся пыль, расшалившиеся дети, уборка, чистка овощей, готовка и снова мытье посуды, и снова готовка и уборка. Так каждый день.
— Нас с детства приучили к тому, что все необходимое в повседневной жизни делается само собой. Без разговоров, зато в срок.
— Стало быть, вы питали к отцу известную неприязнь? Впрочем, вчера ночью все это одним ударом изменилось в вашу пользу, так ведь?
Она подняла глаза.
— Как это?
— Ну, — сказал комиссар, — для вас теперь неприятности кончились.
— Об этом я пока не думала, — пробормотала Зигрид Брацелес. — Как-то мысли не дошли. Все так ужасно... Вы в самом деле правы, но...
Она оборвала себя на полуслове и грустно покачала головой.
— Вы думаете, все было бы по-другому, если б ваши родители не развелись?
— Нет, — сказала Зигрид, — мама все равно не смогла бы переубедить папа́. Никто никогда не мог ничего сделать против его воли. Он работал, делал деньги, и он диктовал. Из-за этого в конце концов и распался их брак.
— Он распался не по чьей-то конкретной вине?
— Нет, по обоюдному согласию. Мы остались с папа́, поскольку материальные предпосылки воспитания у него были намного лучше. Мама захотела вернуться в Америку. Там у ее семьи был старый запущенный дом на Лонг-Айленд. Папа́ распорядился привести его в порядок и затем выплачивал ей каждый месяц тысячу пятьсот марок. Он считал, что лучше, если мы будем воспитываться на родине. Судья предложил, чтобы один ребенок остался с матерью, другой — с отцом. Но мы не захотели разлучаться и таким образом остались здесь.
— А потом ваш отец женился на Сандре Робертс. Это произошло, когда вы еще не были знакомы с будущим мужем?
— Нет, уже были. Примерно с полгода.
— Выходит, неприязнь вашего мужа к Сандре Робертс проявилась уже потом, когда он понял, что вам жизненно важно получить большое наследство, а из-за Сандры Робертс это проблематично?
— Да. Понятно, он относился к ней не очень доброжелательно. Но для этого были...
Тут она вдруг сообразила, что их беседа была как-никак допросом, и замолчала.
— Прошу вас все-таки ответить, фрау Брацелес, мы ведь говорим о в общем-то естественных вещах, — сказал Кеттерле.
Однако, начиная с этого момента, ответы ее стали односложными, она ограничивалась лишь короткими «да» или «нет».
— И последний вопрос, — сказал наконец Кеттерле, — я даже не надеюсь, что вы сможете на него ответить. Вы случайно не знаете, каким мылом обычно мылась Сандра Робертс?
Некоторое время Зигрид раздумывала, какую же ловушку мог таить в себе этот на первый взгляд совершенно невинный вопрос. И решила, что никакой.
— Случайно знаю, — сказала она, — год или два назад Сандра настоятельно советовала мне мыть лицо только ядровым мылом. Оно открывает поры, — говорила она, — и хорошо очищает кожу.
— Так, — сказал комиссар. — Что ж, благодарю вас, фрау Брацелес. Пришлите ко мне на несколько минут вашего мужа.
Она встала, бросила на комиссара неуверенный взгляд и вышла из кабинета.
Когда вошел Ханс-Пауль, Кеттерле молча показал ему на стул и, откинувшись в кресле, несколько минут рассматривал его, не произнося ни слова.
— Когда вы в последний раз покупали новое платье жене, Брацелес? — спросил он затем и уселся поудобнее.
— В прошлом году, к рождеству, — ответил Ханс-Пауль, — и это было нам непросто.
Кеттерле кивнул. Словечко «нам» доказывало, что супружеские чувства у Ханса-Пауля все еще живы. Зигрид неправильно оценивала своего мужа. И Кеттерле понимал это. Но он понимал еще и другое. Для подобного сорта неуверенных в себе молодых людей стесненные обстоятельства были так же опасны, как и их противоположность. В конце концов такова система. Внезапно он осознал, что события трех последних дней повернули жизненные условия обеих пар ровно на сто восемьдесят градусов.
— Вы занимаетесь спортом? — спросил он Ханса-Пауля.
— Да.
— Каким?
— Парусным. С друзьями. А еще легкой атлетикой. Я состою в клубе. Но зачем вам это?
— Вы получили высшее образование?
— Да.
— Что вы изучали?
— Историю искусств, общую историю, театроведение. Я собирался стать театральным художником.
— Вы ненавидели Сандру Робертс?
— Папа́ изображал это именно так. Опровергнуть сей факт я не могу.
— А за что?
— Да вы все сами прекрасно понимаете, господин комиссар. Тут я ничего не могу изменить. Я потрясен жестокостью ее смерти. Но я не испытываю скорби. Ни в отношении ее, ни в отношении папа́.
— А кто, по-вашему, мог это сделать?
Ханс-Пауль пожал плечами.
— Подозрение автоматически падает на Реймара и меня. Думаете, мы не взвесили бы все заранее, если б когда-нибудь решились на такое? У нас были все основания неприязненно относиться к Сандре. Но у нас не было ни оснований, ни желания изгадить на все сто собственную жизнь.
— Значит, вы не можете ничего подсказать, даже из мелочей?
— Нет, — сказал Ханс-Пауль, — ничего. У нас точно так же не сходятся концы с концами, как у вас. Реймар даже выражал желание предпринять потом дополнительное расследование, по собственной инициативе. Для него эта история много значит, вы ведь понимаете...
— Понимаю, — сказал Кеттерле и встал. — Возьмите свою жену под руку и сходите поужинать в какой-нибудь маленький уютный ресторан.
Ханс-Пауль тоже поднялся.
— И вы не спрашиваете, где я был в субботу ночью?
— Нет.
— Но почему?
— Потому что в данный момент меня это не интересует.
— А почему я сбрил бороду именно в воскресенье утром?
— Примите искренние поздравления на сей счет, Брацелес, — сказал комиссар. — Борода наверняка вам не шла.
«Получить опечатанный пакет у начальника военной полиции, военно-воздушная база Бремен, адресат комиссар Кеттерле, уголовная полиция, Гамбург. Военно-воздушные силы США, транспортный штаб в Европе, строение семь, комната три, лейтенант Каллаген» —
таков был текст телеграммы, которую комиссар нашел на своем столе следующим утром, когда, как обычно, около восьми вошел в кабинет.
Он немедленно позвонил Хорншу. Им удалось перехватить Гафке во дворе, когда тот садился в машину, чтоб отправиться в Бремен на проверку алиби доктора Брабендера. Они вручили ему доверенность и телеграмму, строго-настрого наказав вернуться с донесением из Бремена и с материалами из Виккерса на Лонг-Айленд самое позднее к обеду.
Комиссар приказал, чтоб из хозяйственной части в кабинет доставили черную доску, ее все так и называли — «черная доска». Хорншу аккуратно прикрепил на ней кнопками в строгой последовательности все фотоснимки, сделанные Рёпке по делу Робертс.
Два из них неопровержимо доказывали, что санитар, подготавливавший в судебно-медицинском институте тело Сандры Робертс к вскрытию, был прав.
На Сандре Робертс были довольно стоптанные, неброские пляжные босоножки, закрытые спереди, на плоской пробковой подошве, с обшитым пластиком резиновым ремешком, выше пятки полосатым. Форма босоножек не позволяла сразу заметить разницу, однако подошвы демонстрировали это достаточно четко. Комиссар зафиксировал сей удивительный факт с той же невозмутимостью, с какой фиксировал прежде другие удивительные подробности этого дела.
Он как раз собирался поразмышлять обо всем, но тут зазвонил телефон. Господин по имени Кристоф Новотни явился на допрос.
— Все верно, — сказал комиссар. — Направьте его к фройляйн Клингс.
Он велел Хорншу стенографировать показания Новотни и едва успел раскурить свою первую утреннюю сигару, как шофер с фуражкой в руке вошел в комнату.
— Садитесь, Новотни, — сказал комиссар, — какие новости?
— Вы арестовали доктора Брабендера, — сказал Новотни. — Об этом пишут все газеты. Так чего же вы от меня хотите?
— Все верно, — сказал Кеттерле. — Только в отличие от вас доктор Брабендер представил безукоризненное алиби. А что он пока под арестом, на то имеются другие причины. Вообще уголовной полиции с арестами лучше не спешить. Когда люди сидят за решеткой, естественный ход событий останавливается, Новотни. Они сидят, их допрашивают, они изворачиваются, и положение дел на фронтах только обостряется. Я бы не стал его арестовывать, однако после того, что произошло, я не могу взять на себя ответственность, выпустив его на свободу. Для этого мне придется сначала проверить его алиби. И затем публично принести извинения, если его показания окажутся точными.
— Так, — сказал шофер, — а кто принесет извинения простому человеку вроде меня? Вы, очевидно, полагаете, что моя честь ценится дешевле? Можно здесь курить?
— Пожалуйста, — сказал комиссар и подвинул ему пепельницу.
Затем достал доклад доктора Штёкеля, раскрыл его на первой странице и дал прочесть шоферу после того, как тот закурил. Новотни читал внимательно. Дочитав до конца, он поднял глаза.
— В этом я ничего не понимаю. Тут ведь почти сплошь латынь.
— Ну, — сказал Кеттерле, — если сформулировать это в нескольких словах, Сандра Робертс ждала ребенка и была на втором месяце беременности. Я ведь вас предупреждал, Новотни. Вам следовало это признать до того, как нашли убитую. Ваши дела обстоят не самым благоприятным образом, Новотни...
— Но послушайте, — сказал шофер, — ребенок мог точно так же...
— Знаю, — сказал комиссар, — ребенок мог быть зачат и в законном браке вашей возлюбленной. Все ваши возражения я знаю. Но кто докажет? И допустим, алиби доктора Брабендера окажется безупречным, в чем я теперь нисколько не сомневаюсь...
— Господин комиссар, — сказал Новотни. — Вы обнаружили убитую в лодочном сарае. Но ведь после того, как она исчезла там, на побережье, кто-то должен был доставить ее сюда. И вы в самом деле верите, что я стал бы отрицать беременность, которую легко установить, если б мне в голову пришла эта безумная затея?
Кеттерле заметил, что Хорншу, продолжая писать, утвердительно кивнул за спиной Новотни.
— Бывают люди, — возразил он все же, — которые именно нагромождением не согласующихся друг с другом обстоятельств создают видимость, которую невозможно постигнуть. Почему мы решили, что тот, кто ее убил, и тот, кто доставил в лодочный сарай, одно и то же лицо? Второе ведь мог сделать и тот, кто целился в сенатора. Так как же все-таки быть, если вы совершили убийство и рассчитываете сейчас, что я сочту все ваши показания убедительными? Если б я и впрямь счел их таковыми, я отправил бы вас сейчас домой. Но сначала скажите мне, как попала Сандра Робертс с побережья в лодочный сарай, живой или мертвой?
— Я не могу этого сказать.
— И кто переменил босоножки на ее ногах?
— Откуда я это знаю?
— И что за странная судорога, в которой, судя по всему, и наступила смерть, Новотни? Хотите еще раз взглянуть на фотографии?
— Для меня достаточно тяжело было пережить это в сарае.
— Тут я вам верю, Новотни. Конечно же, вы не объясните нам и того, почему в легких вместо морской воды, как следовало бы ожидать, у нее обнаружили пресную воду, да еще со следами ядрового мыла.
— Нет.
— Но ведь госпожа Робертс обычно употребляла ядровое мыло, так ведь?
Комиссар поднялся и начал медленно кружить вокруг письменного стола.
— А какое мыло у вас в лодочном сарае, Новотни? Отвечайте же!
— Ядровое мыло.
Шофер поднял на Кеттерле глаза. Уста комиссара произносили чудовищные вещи.
— Я расскажу вам, что вы делали в субботу, Новотни. Вы договорились встретиться с Сандрой Робертс в «Клифтоне», чтоб обсудить тяжелое положение, в которое сами ее поставили. Вскоре после девяти вы отправили ей телеграмму: «Не выйдет». Но когда узнали, что в воскресенье не понадобитесь сенатору, вы все-таки поехали. А что случилось потом, известно вам одному. Возможно, для вас было не так уж неожиданно и страшно увиденное в лодочном сарае. Рассказывайте, что произошло на пляже. Она вам угрожала? Она испугалась? Выкладывайте, пока ваше упорное молчание не стало отягчающим обстоятельством.
Шофер выпрямился.
— Там я никогда не был. И ничего не могу рассказать.
Комиссар наклонился к Новотни и посмотрел ему в глаза.
— Имеются убедительные доказательства, что вы лжете, Новотни. Это вы понимаете? Долго так продолжаться не может, рано или поздно мышеловка захлопнется. Я даю вам последний шанс. Скажите правду.
— Тогда арестуйте меня, чтобы все это наконец кончилось.
Комиссар выпрямился.
— Хорошо, — сказал он. — Как вам будет угодно. Даю слово, что арестую вас при следующей нашей встрече. А она будет скоро.
Новотни поднялся.
— Почему вам так хочется столкнуть меня в пропасть, господин комиссар? Все ваши обвинения необоснованны. Я никогда не был в том пансионе. Я обращусь к адвокату. Мне угрожают.
— Вам известны подробности гибели первой жены сенатора?
Новотни обернулся.
— Да, — сказал он. — Господин сенатор как-то рассказывали об этом. Видите, я говорю правду. Скажи я, что этого не знаю, и никто не смог бы доказать обратное.
Комиссар кивнул.
Новотни вышел из кабинета.
— Позаботьтесь, чтоб за ним понаблюдали, — сказал Кеттерле Хорншу, не поворачивая головы от окна. — Лучше всего Тринкхут. Интересно, что он теперь предпримет.
Он внимательно следил, как внизу на стоянке Новотни усаживался в свой запыленный, купленный по случаю черный «Голиаф-1100».
Хорншу удивило, что Кеттерле так долго стоит у окна, судя по всему, Новотни давно уже отъехал. Не получив новых указаний, он тоже вышел из кабинета.
А у Кеттерле появилась идея. Задумавшись, он прошелся несколько раз медленно от окна к письменному столу, потом быстро вышел из кабинета и из коридорного окна выглянул во двор. Затем распахнул дверь в канцелярию.
— Фройляйн Клингс, — неожиданно спросил он, — какой у вас рост?
— Сто шестьдесят два, — ответила девушка.
— Прекрасно. Вы можете достать себе какой-нибудь халат, у уборщиц, телефонисток, в лаборатории или где-нибудь еще? Всего на несколько минут. И повяжите чем-нибудь волосы.
Девушка задвинула ящик стола с надкусанной булочкой, закрыла бутылку с какао.
— Прямо сейчас?
— Немедленно, — ответил комиссар. — Когда будете готовы, скажете.
Он вошел в кабинет и оттуда позвонил Хорншу.
— Загляните ко мне, Хорншу.
Когда фройляйн Клингс десять минут спустя появилась в кабинете в странном своем наряде, оба низко склонились над снимками.
— Пошли, — сказал Кеттерле.
Встречные сотрудники с удивлением смотрели им вслед. Они спустились по каменной лестнице, потом вышли во двор, прямо на мокрую от дождя булыжную мостовую.
Подойдя к темно-зеленому «опель-рекорду», собственности отдела расследования убийств, Хорншу открыл багажник, показал внутрь и сказал:
— Полезайте, фройляйн Клингс. Тут не очень уютно, но для нас это важно.
Девушка, из числа бойких исконных жительниц Гамбурга, не раздумывая, влезла в багажник.
— Теперь ложитесь на бок, — сказал комиссар, когда она с подогнутыми коленями и втянутой головой была уже там, — и представьте себе, что вы мертвы. Ни напряжений в теле, ни собственной воли, ни собственных мыслей.
— Во всем полагаюсь на вас, — сказала фройляйн Клингс, когда Хорншу и комиссар задвинули ее в багажник.
Кеттерле даже не удивился, когда оказалось, что угол, образованный ее ногами и телом, точно соответствует тому, что был на фотографиях мертвой Сандры Робертс. Левая рука секретарши свободно свисала вниз, вдоль кромки блестящего металла. Они положили руку на тело девушки, и она осталась лежать на бедре.
— А теперь поверните голову, фройляйн Клингс, так, так, еще немножко! Взгляните на меня через плечо. Вот так. Хорншу, быстрее за фотоаппаратом, ей там чертовски неудобно лежать.
Пока Хорншу бегал за камерой, комиссар заметил, как из многих окон уставились на них любопытные лица.
— Вы станете местной знаменитостью, фройляйн Клингс, — сказал он, — если потерпите еще хотя бы три минуты.
Хорншу сделал четыре-пять снимков с разных позиций, потом они разрешили девушке вылезть. Они прекрасно ее поняли, когда она тут же принялась стягивать с себя халат и платок.
— Остается надеяться, что она была мертва, когда лежала вот так в машине, — сказала фройляйн Клингс и откинула назад волосы.
— Хотелось бы верить, — пробормотал комиссар. — Очень хотелось бы верить. Но никто не сможет нам сказать, были ли в тот момент у нее правильно надеты на ногах босоножки.
Сразу после обеда Гафке предстал перед шефом. Толстенный пакет, который он доставил, находился в другом конце коридора у Хорншу, обладавшего со школы хотя и неполным, но все же достаточным, чтоб понять наиболее существенное, знанием английского языка.
— А у него неплохой вкус, господин комиссар, — сказал Гафке. — Довольно элегантная особа.
— Подрабатывает в баре, так ведь это называется, Гафке?
— В принципе да, но при этом уютная квартира, красиво обставленная. И дорогая. Видно, расходует с умом, что зарабатывает.
— И что же она сообщила?
Гафке вертел головой, отыскивая взглядом сигареты, которые комиссар держал для посетителей.
— Подтверждает данные доктора Брабендера слово в слово, — сказал он, закуривая. — С весьма незначительными сдвигами во времени. Могло быть половина десятого или без четверти, когда они встретились в кафе «Эспланада». К тому же она не помнит точно, когда он ушел. Она была немного...
Гафке сделал волнообразное движение рукой.
— Впрочем, это можно понять. Ночной портье подтверждает, что он позвонил в дверь в половине или без четверти семь, без шляпы и пальто. Выглядел слегка навеселе и был бледен после бессонной ночи. Он еще что-то там пошутил. Ночному портье показалось, что он из породы людей, что смущаются, встретив невольного свидетеля их ночных похождений. А поскольку они знают, что портье известно все...
— Хорошо, Гафке. А в «Эспланаде»? Он говорил, что они там еще немного выпили.
— Все верно. Я разыскал обслуживавшую их официантку. Она знает эту женщину, а доктора она описала вплоть до галстука. Сомнений нет.
— Машина?
— Машину он оставил в переулке. Портье не обращали на машину внимания. Разве что дневной портье вспомнил, что она вроде бы стояла на том же самом месте, когда около девяти он выносил ему к машине чемодан.
Комиссар выпустил густое облако сигарного дыма.
— А какое впечатление сложилось лично у вас, Гафке? Нет у вас ощущения, что тут что-то не так?
— Да в общем-то нет, господин комиссар. Алиби как алиби. Никаких противоречий, неясностей я не обнаружил. Создалось, правда, впечатление, что даму эту довольно часто посещают мужчины, но что тут докажешь?..
— Однако она не уличная девка?
— Ну что вы! На три порядка выше. Да вы знаете этот сорт.
Комиссар хорошо это знал.
— А бар Рейнхардта? — спросил он.
— Тоже совпадает. По субботам он в самом деле закрыт. Чуть было не позабыл об этом, — сказал Гафке.
— Хорошо, Гафке. Составьте для дела отчет в письменной форме. И позвоните в следственную тюрьму. Пусть они пришлют ко мне доктора Брабендера без сопровождения.
Комиссар Кеттерле не стал дожидаться, пока Гафке выйдет из кабинета. Он сразу бросился к Хорншу.
— Ну? — сказал он еще в дверях, кинув беглый взгляд на пол, куда упал пепел его сигары.
— Кажется, дело было не совсем так, как изображал Робертс. Федеральная полиция вмешалась лишь потому, что миссис Робертс пропала без вести в штате Нью-Йорк, а найдена была совсем в другом штате — Нью-Джерси. Вот и все. Они забеспокоились, когда на второй день молочник и почтальон одновременно сообщили, что молоко и газеты возле дома остались нетронутыми. Сначала они позвонили, потом выждали еще день, пока не взломали виллу. Дверь террасы, ведущей к морю, была распахнута, одно из стекол разбито. Но стекло могло разбиться и от сквозняка. Поскольку местный шериф — его фамилия Грей — с ходу предположил несчастный случай, они, чтобы это выяснить, привели ищейку. Она взяла след, который увел к морю. Однако след не доходил до воды, он обрывался — и для собаки тоже — в тридцати метрах от полосы прибоя. Вначале этим они и ограничились. Но потом у шерифа возникли сомнения, и он подключил уголовную полицию. Те исследовали весь пляж, в том числе с помощью инфракрасных лучей, и точно установили, что след обрывается именно там. Изменения в ходе следствия наглядно демонстрируют надписи на папке с делом. Посмотрите: «Розыск пропавшей без вести Робертс» — зачеркнуто, «Дело об убийстве Робертс» — тоже зачеркнуто. В конце концов остановились на «Смертельном случае Робертс». Тому, что след обрывался так неожиданно, федеральная полиция не придала значения. Через семьдесят девять дней, когда была обнаружена утопленница, они заявили, что объяснить это можно совокупностью всевозможных обстоятельств. И в конце концов остановились на общем предположении, что, отличаясь некоторой эксцентричностью характера, она отправилась ночью купаться, попала в сильное течение и утонула. Во всяком случае, в противоположность Сандре Робертс в легких у нее обнаружили соленую воду. Хотите взглянуть на снимки?
Хорншу протянул комиссару картонную папку с наклеенными фотографиями, и Кеттерле подошел к окну.
— Да, вид не очень привлекательный.
Комиссар вернулся к столу.
— Рыбы, течения, естественное разложение. Они все отразили в деле.
Кеттерле бегло кивнул и отложил фотографии в сторону.
— Кто устанавливал личность утопленницы?
Хорншу полистал дело.
— Какой-то дальний родственник из Братлборо, штат Вермонт, кажется, племянник, и еще священник общины. Но тут есть кое-что еще поинтереснее. Несколько писем от доктора Реймара Брабендера, в которых тот настоятельно интересуется деталями дела, каковые и были ему сообщены. Вот копии ответов. И что самое удивительное, переписка велась всего два года назад.
Хорншу вынул из скоросшивателя несколько документов и подал их Кеттерле.
— Похоже, сам Робертс не очень-то интересовался судьбой своей первой жены.
Комиссар взял письма и подошел с ними к окну.
— Несчастный случай, безусловно, — произнес он оттуда. — Однако после недавних событий встает вопрос: не следует ли и события давние рассматривать в другом свете? Не исключено, что доктору Брабендеру пришла в голову подобная же мысль. Однако самое удивительное, что нам он так ничего и не сообщил об этом. А ведь должен был предположить, что письма эти окажут нам большую услугу.
— В общем-то да, — сказал Хорншу. — Но может, он просто решил, что мы и без него получим все материалы.
— И тем не менее, — сказал комиссар мрачно. — Тем не менее это странно.
В дверь постучали.
— Войдите, — сказал Хорншу и поднял голову.
— Фройляйн сказала, что вы здесь, — сказал Реймар Брабендер, — извините, если помешал, но...
Он встретился с комиссаром взглядом и умолк.
— С вашим алиби все в порядке, — Кеттерле остался стоять у подоконника, опираясь на него обеими руками. В правой он держал бумаги, которые только что передал ему Хорншу. — Примите мои поздравления, господин доктор. Вы можете немедленно отправляться домой. У вас остались в тюрьме какие-нибудь вещи?
— Нет, ничего. Могу я позвонить жене?
Комиссар указал на телефон. И пока доктор Брабендер сообщал жене, что подозрения против него полностью отпали, Кеттерле, прислонившись спиной к окну, перелистывал письма. Одно за другим.
Он легко мог представить, как Эрика Брабендер на другом конце провода не может сдержать слез радости.
— Да, любимая, я потом тебе все объясню. Все, все. Где машина? Ну и оставь ее там, я возьму такси.
Врач положил трубку.
— Мне хотелось бы еще обсудить кое-что с вами, господин комиссар, — сказал он и принялся ходить по комнате взад-вперед, засунув руки в карманы.
Кеттерле опустил руку с письмами и внимательно взглянул на него.
— Видите ли, история эта бросает на меня тень.
— Не только на вас, господин доктор, — перебил его комиссар.
Врач остановился.
— Да, конечно, — сказал он, — и на Ханса-Пауля тоже. Но главным образом на меня.
Он снова принялся вышагивать по кабинету.
— Насколько я понимаю, вы не очень-то продвинулись вперед. И наверняка разделяете мое стремление сделать все, чтобы помочь разгадке тайны. Вы не будете против?..
— Вы хотите отправиться в «Клифтон», господин доктор?
Врач резко остановился.
— Да, — ответил он, пораженный. — А откуда вы знаете?
— Ну, — сказал комиссар, — у меня ведь тоже есть кое-какие догадки.
Он сложил письма, что были у него в руках, и передал их Реймару Брабендеру.
— Быть может, вам окажутся полезными некоторые данные отсюда, — сказал он, — если вы по рассеянности засунули куда-нибудь оригиналы.
К полудню следующего дня комиссар Кеттерле еще не подозревал, что уже к вечеру раскроет тайну смерти Сандры Робертс. Да ж вообще, если говорить правду, он вспомнил об этом деле, лишь когда, вернувшись с обеда в пивной папаши Хайнриксена, нашел на своем столе данные аэрофотосъемки дома и парка сенатора, сделанные службой безопасности движения с воздуха.
Он уселся и, потягивая кофе, принялся изучать сильно увеличенные снимки с тщательностью, которой мог бы позавидовать даже полковник Шлиске.
Через четверть часа он вызвал Хорншу.
Конверт, который тот ему передал, комиссар небрежно отложил в сторону.
— Взгляните-ка, — сказал он, когда Хорншу склонился над его плечом. — Дело проясняется.
Кончики пальцев Кеттерле переместились по фотографии влево.
— Что это такое?
— Мост через канал.
— А это?
— Я бы сказал, наклонная платформа, точнее, какие-то сходни, они ведут прямо от начала моста к пристани.
— А это?
— По-моему, трехколесный фургон с овощами или что-то в этом роде.
— Верно. Значит, по платформе можно ездить. А это что за крыша?
— Должно быть, крыша лодочного сарая.
— Верно, Хорншу. А это?
— Хм, причальная балка с крюками для лодок, спасательный круг, заграждение из жести, такое есть почти на всех причалах.
— Все верно, Хорншу. Именно здесь, на этой вдающейся в реку площадке, стоял автомобиль, в котором лежала мертвая Сандра Робертс. Чуть ли не в трех метрах от лодочного сарая. Шум, который произвело тело при падении в воду, мог быть не таким уж и сильным. И уж совсем нетрудно было подтолкнуть его длинным лодочным багром. Остается только один вопрос: зачем? Зачем доставили ее в лодочный сарай?
— И кто это сделал? — добавил Хорншу.
— Это, — пробормотал комиссар, — тесно связано одно с другим.
А потом все завертелось очень быстро.
Началось с того, что около четырех позвонил Тринкхут и доложил, что потерял контакт с Новотни. В половине четвертого Новотни сел в автомобиль и уехал. Тринкхут сопровождал его до перекрестка Фрухталлее — Эппендорфершоссе. Тут Новотни переехал перекресток на желтый свет. Ничего нельзя было поделать. Три минуты ему пришлось дожидаться, пока зажегся зеленый, а три минуты — это много.
— Ладно, Тринкхут. Тут ничего не сделаешь. Отправляйтесь к нему домой и дожидайтесь возвращения.
Он не успел договорить, как его прервала девушка с телефонной станции.
— Положите трубку, пожалуйста, положите трубку, срочный разговор с Бременом.
Комиссар вздохнул.
— Сегодня все как-то удивительно сходится. Верно?
Он снял трубку, и Хорншу наблюдал, как Кеттерле, откинувшись в кресле и прикусив верхнюю губу, поглаживал мизинцем уголки рта.
— По делу об убийстве Робертс, господин комиссар, — старался изо всех сил полицейский тринадцатого участка в Бремене. — Только что сюда явилась дама, — он назвал ее фамилию, — и вручила мне пять купюр по сто марок. Она заявила, что не желает иметь с этим делом ничего общего. Врач по фамилии Брабендер — он ведь уже сидит по этому делу, так?
— Так, — сказал комиссар. — Выкладывайте дальше.
— Так вот, врач подкупил ее, чтоб она подтвердила алиби, которое не соответствует действительности. Только что в парикмахерской она прочла газеты и узнала о причастности доктора к убийству. Она ни в коем случае не желает быть втянутой в подобную историю. Ей-то казалось, что речь идет просто о разводе. В действительности же доктор Брабендер позже с женой терапевта из Фегезака, доктора Лютьенса...
— Повторите, — сказал Кеттерле.
— Лютьенс из Фегезака, господин комиссар.
Чиновник еще расписывал с необычайным служебным рвением подробности, когда комиссар Кеттерле положил трубку. Скрестив руки за спиной, он прохаживался по комнате взад и вперед.
Наконец снова остановился у телефона и набрал номер.
— Ваш муж дома, фрау Брабендер?
— Нет. Он еще вчера уехал на побережье. Сказал, что вы дали согласие. Это правда?
— Если бы я только знал, — пробормотал Кеттерле, чем вновь вызвал у Эрики Брабендер необъяснимую тревогу.
Не присаживаясь, Кеттерле набрал еще один номер.
— Кеттерле. Добрый вечер, фрау Брацелес. Могу я поговорить с вашим мужем?
— Его нет, господин комиссар. Он уехал в автомобиле к тому пансиону на побережье. Реймар позвонил ему и сказал, что это срочно.
— Когда он выехал?
— Часа полтора назад. Но почему вы спрашиваете? Опять что-нибудь произошло?
— Чего хотел доктор Брабендер?
— Ханс-Пауль мне ничего не сказал. Но Реймар просил его приехать как можно скорее. Вообще-то Хансу-Паулю все это было некстати. Но Реймар был так взволнован...
— Послушайте, фрау Брацелес, а почему вы не поехали с ним? — спросил комиссар.
— У меня нет на это времени. Да и с кем оставить детей? К тому же Реймар требовал, чтобы Ханс-Пауль приехал один. Он привел Ханса-Пауля в полное расстройство, и тот немедленно выехал.
— Быть может, у вас есть какие-нибудь догадки, фрау Брацелес?
— Нет, абсолютно никаких.
Она запнулась. Ее внезапно пронзил страх, что комиссар оставил Ханса-Пауля на свободе затем только, чтобы следить за ним, а потом как-то втянуть в это дело.
— Послушайте, господин комиссар... — произнесла она, и ей стало еще страшнее оттого, что Кеттерле уже положил трубку.
— Хорншу, быстро одевайтесь, мы немедленно отправляемся в «Клифтон», пока там не случилось несчастье. Возьмите с собой лом, молоток, долото, ну все, что полагается. Лучше немного перестараться, чем потом остаться с носом.
— Вы собираетесь взломать летний домик Лютьенса?
— И его тоже, — сказал Кеттерле, надевая пальто. — А это что такое?
Он схватил конверт, который перед этим отложил в сторону.
— Проспект, — сказал Хорншу.
— Какой проспект?
— Проспект «Клифтона», который Гафке обнаружил в письменном столе сенатора Робертса.
Хорншу нисколько не удивился, когда Кеттерле уставился на него отсутствующим взглядом, а затем, не вынимая бумаги из конверта, схватился за лупу. Несмотря на спешку, он расшифровал содержание почтового штемпеля. Для этого ему потребовалось несколько секунд.
Потом он взглянул на Хорншу и сунул конверт в карман пальто.
— Вас это не поразило? — спросил Хорншу.
— Нет, — буркнул Кеттерле, — после того, что мне сказала жена Брацелеса, уже нет. Пошли, Хорншу, у нас не так много времени.
Туман начался сразу за Штаде. Он был таким плотным, что прерывистая разделительная полоса шоссе была видна впереди всего метров на двадцать. И тем не менее Хорншу ехал быстро. Он переключил фары на дальний свет, понимая, что каждый километр, который они проедут до наступления темноты, очень важен. Туман в песках особенно опасен из-за их коварства.
На этот раз меланхолический прибрежный пейзаж в тумане был вовсе неразличим. Иногда тускло угадывались мокрые, блестящие спины пятнистых коров, намечались размытые силуэты сгорбленных, корявых ив. Тополя с наполовину облетевшей листвой, росшие вдоль дороги, уходили верхушками в пустоту.
В шесть совсем стемнело, однако в половине седьмого автомобиль трясся уже по срезавшей путь проселочной дороге, а потом по грубой булыжной мостовой деревенской улицы.
Хорншу медленно ехал между домами. За двумя кирпичными постройками, принадлежавшими разным дворам, извилистая проселочная дорога свернула вправо.
— Попробуем здесь? К летнему домику можно ведь подъехать сзади, из-за дюн. Спереди там дороги нет.
— Попробуем, — сказал Кеттерле.
Казалось, дорога ведет в пустоту.
Но через полкилометра на ней появились песчаные заносы, и фары начали вырывать из темноты качающийся камыш на гребнях дюн.
Позади была темень, заполненная туманом. Через какое-то время Хорншу остановился.
— Должно быть, это здесь.
Он выглянул налево.
— Ничего, — сказал комиссар, — поезжайте медленно дальше. Думаете, сегодня мы встретим кого-нибудь с рюкзаком, из тех, что проводят здесь уик-энд? Подъедем к дому на машине.
Уже через несколько минут наезженный след и в самом деле отклонился влево. Он вел теперь между пологими дюнами. Запорошенные песком, обветшалые столбы, обломки голых, занесенных песчаной пылью ветвей высвечивались расходящимся светом фар, и вдруг показался дом с закрытыми ставнями, безучастно приютившийся в лощине.
Хорншу выключил свет и зажигание. Они вышли из машины. Из-за дюн доносился шум и грохот прибоя, далекий и ритмичный, похожий на громовые раскаты. Но за домом ветра не было.
Они обошли строение. У входа в кухню Кеттерле остановился.
— Взламывайте, Хорншу.
Освещаемый лишь лучиком карманного фонарика, Хорншу принялся за работу. Через несколько минут дверь выгнулась возле замка и отскочила с неприятным скрипом.
Маленькая прихожая вела в комнату, куда они в тот раз заглядывали через окно. С тех пор ничего не изменилось. Налево был вход в спальные комнатушки. На всех ручках лежал толстый слой пыли. К ним наверняка никто не прикасался с лета. В задней части дома помещалась кухня, там тоже налицо имелись признаки никем не нарушавшейся зимней спячки. В противоположной стене находилась дверь, через которую они проникли в пристройку. Это был сарай для инструментов, склад, гараж и помещение для стирки одновременно.
Задвинутые поперечной перекладиной ворота вели на дорогу. Пол был дощатый. Карманный фонарик Кеттерле выхватил из темноты большой деревянный чан, прислоненный к деревянной стенке. Прямо под медным краном.
Хорншу перевернул чан. Дно его было покрыто песком и пылью.
— Здесь никого не было уже несколько месяцев, — сказал он.
— Знаю, — пробормотал комиссар. — Все было иначе, чем мы предполагали, Хорншу.
В «Клифтоне» уже горел свет. Люстры выдержаны были в стиле фризских керосиновых ламп: большие молочно-белые шары под медными зонтиками, сквозь которые вверх тянулись прозрачные стеклянные цилиндры. Хайде сортировала на кухне белье и что-то штопала. Фрау ван Хенгелер намеревалась первого ноября закрыть пансион. Шли последние дни сезона, и полковник Шлиске стремился их максимально использовать. Еще утром он отправился в дальнюю прогулку, рассчитывая дойти до Дорумской впадины. Но неожиданно опустился туман, и Хайде предполагала, что обратно он вернется автобусом, прибывавшим в деревню пять минут восьмого. Больше никого не было, и Хайде испугалась, неожиданно увидев сквозь оконное стекло комиссара. Она пробежала сквозь арку в задней части дома и крикнула наверх, на второй этаж:
— Фрау ван Хенгелер, комиссар!
Они как раз вошли в холл, когда Хайде вернулась на место.
— Добрый вечер, Хайде, — сказал комиссар. — Что, в доме никого?
— Не совсем так, — сказала Хайде. — Фрау ван Хенгелер наверху. Полковник отправился к Дорумской впадине. Он, должно быть, сейчас подойдет.
— А новые гости?
— Какие новые гости?
— К вам ведь прибыли два господина из Гамбурга. Один вчера вечером, другой сегодня после полудня.
Хайде покачала головой.
— Нет. Ошибаетесь.
— Но, Хайде, именно потому мы и приехали сюда.
— Тем не менее вы ошибаетесь, господин комиссар. Мы никого больше не принимаем. Послезавтра пансион закрывается. Да, собственно, никто и не спрашивал комнату.
Кеттерле взглянул на Хорншу.
— В деревне есть гостиница?
— Да. «Белый всадник». Может, ваши друзья там?
— Друзья — это хорошо, — пробормотал Кеттерле. — Хорншу, а не прокатиться ли вам в гостиницу «Белый всадник»?
Но Хорншу больше не нужно было никуда уезжать. С ребристой клинкерной мостовой послышался звук шагов, стеклянная дверь распахнулась, и в дом вошел доктор Реймар Брабендер собственной персоной. На нем была тирольская шляпа с пером, концы шарфа торчали наружу, в руке сигарета. При виде комиссара он остолбенел, рука с сигаретой бессильно повисла. Вслед за доктором появился Брацелес.
— Вы? — спросил Реймар Брабендер.
— Да, я. Быстро мы подъехали, не так ли, доктор?
— Этого я предположить не мог, — пробормотал он.
— Я догадался, — сказал Кеттерле. — После того, как позвонил вашему свояку.
— Привет! Ну, как успехи, комиссар? — гаркнул красный, как рак, полковник Шлиске, стягивая с шеи шарф. — Весьма запутанное дельце, верно?
— Стало быть, вы благополучно добрались, полковник Шлиске? — сказал Кеттерле. — Это радует.
— Как бы там ни было, я прошагал тридцать километров, — проорал полковник, — а это способствует появлению аппетита. Послушайте, Вилли, уже четверть седьмого.
— Вы все будете здесь ужинать? — спросила Виллемина ван Хенгелер. — Боюсь, тогда придется еще раз топить плиту. Хайде...
— Думаю, кое у кого не будет в этот вечер аппетита, — сказал Кеттерле. — Добрый вечер, фрау ван Хенгелер. Извините, что мы опять доставляем вам хлопоты...
— Это в вашем духе, — сказал Ханс-Пауль Брацелес, расстегивая кожаный пояс своего толстого пальто. — И почему только вы во все суете нос? Реймар абсолютно вне подозрений.
— Вы так полагаете? — спросил комиссар. — А почему, вы думаете, мы проехали сто сорок километров по такому туману? Чтобы совать нос в чужие дела? Я понимаю ваше волнение, Брацелес. Но мы здесь для того, чтобы восстановить, как произошло убийство.
Брацелес заметил Хорншу, который стоял в дверях, держа руки в карманах. До него начало доходить. Полковник тоже кое-что понял.
— Все так серьезно? — спросил он, и взгляд его забегал по присутствующим.
— Кто эти господа? — спросила фрау ван Хенгелер, неприязненно рассматривая Брабендера и Брацелеса.
— Ах да, извините, — сказал Кеттерле, — я думал, вы уже встречались. Доктор Брабендер и Ханс-Пауль Брацелес, зятья покойного сенатора.
— Как это — восстановить? — спросил вдруг полковник Шлиске. Он сцепил замерзшие пальцы так, что суставы хрустнули.
— В воскресенье утром я уже объяснил вам, что, если в самом деле вы хотите узнать, что здесь произошло, отвечать на вопросы должны вы, а не я. Помните?
— Да, — сказал полковник обиженно.
— Так вот, если хотите осмотреть место преступления...
— Как, прямо сейчас, среди ночи? — спросила Вилли ван Хенгелер удивленно.
— Тысяча чертей, — сказал полковник и начал снова заматываться шарфом.
— Зачем вам шарф? — спросил комиссар. — Пошли.
Они проследовали через арки, мимо деревянного святого с протянутой рукой в заднюю часть дома.
Комната номер три не была заперта на ключ. Стремительно распахивая дверь, Кеттерле уже знал, что в комнате кто-то есть. Раздался шорох, сквозняк натянул портьеру.
— Оставайтесь на месте, Новотни. Это бесполезно, — услышали в коридоре голос комиссара.
Вспыхнул свет.
Новотни остановился как вкопанный возле двери в ванную, словно наткнувшись на невидимую стену.
— Если не ошибаюсь, вы ищете стакан с полочки?
Шофер обернулся и уставился на лица людей, втискивающихся в комнату. Его рассматривали с неприязнью.
Постельное белье было снято, матрацы сложены один на другой, опрокинутые стулья составлены на столе. Сезон кончался. Близилась зима с метелями, туманами, ранними сумерками.
— Вернувшись с купания, она надела брюки, пуловер, босоножки. А еще белые носочки и янтарное ожерелье. Возможно, она заново подкрасилась и привела в порядок ногти. Потом вышла к ужину, поболтала, поглядела, как полковник раскладывает пасьянс, выкурила пару сигарет и около десяти отправилась к себе. Она ведь ждала вас, Новотни, и хотела быть у окна, когда вы появитесь. В номере она выкурила еще сигарету, немного почитала, она ведь еще не получила вашей телеграммы. Но знала, что ваш приезд зависит от планов сенатора на воскресенье, поэтому по прибытии сразу же спросила про телеграмму. Около одиннадцати вас еще не было, тогда она приготовила себе ванну и разделась.
Комиссар отодвинул Новотни в сторону, прошел в ванную, включил свет. Оглянувшись, он увидел вокруг побледневшие лица, выдававшие сильное нервное напряжение.
— Перед зеркалом она стерла косметику, — комиссар наигранным жестом взял пачку косметических салфеток и снова положил их на полку, — бросила использованную салфетку в унитаз и позабыла слить воду. А может, собиралась сделать это позже, но уже не успела. Она легла в ванну, должно быть, перед этим она уронила в воду мыло или как раз начала мыться, когда вошел тот человек. Ибо остатки ядрового мыла в ее легких были весьма незначительны. Возможно, она решила подбавить воды или же пела, насвистывала что-нибудь, потому что наверняка не слышала, как вошел убийца.
— Но, господин комиссар, — сказал полковник, — ведь если она лежала в ванне, окно было прямо у нее перед глазами.
— Именно, — сказал комиссар. — Однако убийца появился не через окно. Убийца вошел в дверь. Она заметила это, лишь когда погас свет. Скорей всего она так и не увидела того, кто жестоко и хладнокровно погрузил ее голову в скользкую ванну и держал под водой, пока она не захлебнулась.
Кеттерле сделал паузу. Полковник Шлиске выдавил судорожную улыбку.
— Боюсь, фантазия у вас...
— Итак, Новотни, — перебил комиссар, — расскажите полковнику, что вы увидели, когда вскоре после двенадцати влезли в раскрытое окно. Свет горел?
— Я не знаю, о чем вы говорите, господин комиссар, — пролепетал шофер вне себя от страха. — Я уверял вас уже не раз.
— Господин Новотни, — сказал комиссар, — вы, значит, не хотите помочь нам до конца разобраться во всем?
Шофер молчал.
— Попробую помочь вам вспомнить, — пробормотал Кеттерле. — Понятно, вы чуть с ума не сошли от ужаса, когда влезли в темную комнату и увидели в ванной труп Сандры Робертс. Может, вам даже стало нехорошо, и тогда вы торопливо выпили воды. Из этого самого стакана.
Он показал на стеклянную полку над раковиной.
— Можно понять и то, что вы как можно скорее покинули пансион. От полиции ведь можно ждать любых неприятностей. И только одно мне пока неясно. Почему вы решили, что Сандра Робертс не уснула, а захлебнулась? Ведь иногда в ванной можно и просто задремать. Как вы догадались, что ее убили?
Новотни расправил плечи, будто ему предстояло сейчас скинуть тяжелую ношу. До него медленно начало доходить, что комиссар дал ему шанс. Он наклонил голову.
— В ванне не было воды, — выдавил он из себя. — Лицо у нее было запрокинуто назад, на нем мокрое полотенце. Это было так страшно! До сих пор мне снится эта картина, так жутко все было.
Наступила мертвая тишина.
— След, — проговорил вдруг Брабендер медленно и тихо, словно про себя. — Вы забыли о следе. Как же она тогда вышла на пляж, если...
— А она вообще не выходила на пляж, — негромко ответил комиссар.
— Так, — сказал полковник Шлиске. — А что же вы тогда фотографировали и изучали с применением новейших технических средств?
— След убийцы, полковник Шлиске, — ответил комиссар.
— Выходит, убийца отправился погулять на ногах убитой?
— Нет, — сказал Кеттерле, — просто в ее босоножках. Почему он это сделал, не знаю. Быть может, хотел провести мистическую параллель со смертью первой жены сенатора. Тогда пришлось бы нам искать преступника, так ему казалось, связанного как-то с тогдашними событиями. А его, естественно, мы никогда бы не нашли. И если б убийца не забыл про косметическую салфетку, возможно, мы действительно не нашли бы его. Впрочем, вернемся к событиям той ночи. Убийца выпустил воду из ванной, чтобы тело хоть немного обсохло к его возвращению, надел босоножки Сандры Робертс, быть может, даже ее носочки, вылез через окно ее спальни и оставил нам на удивление ясный след. На пляже, на том месте, где след оборвался, убийца снял босоножки и носки и взял их в руки, так что наша собака, естественно, потеряла след. Потеряла совсем. Вы были свидетелями. Возможно, у того человека была с собой доска или полотенце, метелка для смахивания пыли или что-то в этом роде, возможно, он просто сделал два-три длинных прыжка. Во всяком случае, ему удалось уничтожить дальнейшие следы своих ног, ведшие к воде. По воде, вдоль берега убийца вернулся в «Клифтон». Вы только представьте себе, — продолжал Кеттерле, бросив взгляд на затаивших дыхание слушателей, — каково было здесь, в ванной комнате, натягивать одежду на голое, еще влажное тело. Наверняка убийца проделал это в темноте и потому в состоянии сильнейшего нервного напряжения перепутал босоножки. Как много ненависти необходимо было вложить во все это, а потом еще спихнуть труп через подоконник прямо в багажник вплотную подогнанной к дому машины. Скрюченное положение, в котором убитая лежала в багажнике, она сохранила и после того, как ее бросили в воду у причала «Ратенауштрассе» в Альстердорфе, а потом еще подтолкнули длинным багром к лодочному сараю сенатора.
Комиссар отошел от кафельной стенки, к которой прислонялся все это время.
— Вот так оно было, — сказал он.
— Вы колдун, — пробормотал Брабендер и содрогнулся.
— Я вполне понимаю вас, господин доктор, — сказал Кеттерле. — Ваша любовная связь с женою доктора Лютьенса, вашего коллеги, никогда не выявилась бы, не будь этого убийства. Представляю, как вы испугались, узнав, где была убита Сандра Робертс. Уверен, что вы никогда не были в летнем домике семьи Лютьенс. Однако вы знали о его существовании. Да и вообще вы обо всем узнали раньше меня. Самое позднее, сегодня в три часа дня, когда позвонили Брацелесу.
Серые стальные глаза комиссара впились теперь в Брацелеса.
— Вы, Брацелес, знаете, кто убийца. Вы оба решили скрыть это от нас. Но номер не прошел. Так говорите.
Брацелес до боли закусил губу.
— Это ужасно, — пробормотал он. — Я не могу. Пощадите.
Ресницы его задрожали, и он провел рукой по шее, словно ворот вдруг стал ему тесен. Только теперь все заметили, как жарко в доме. Кадулейт наладил отопление по высшему разряду.
— Фрау ван Хенгелер, — спросил комиссар, — машинописное бюро в Куксхафене печатало только адреса на конвертах для ваших проспектов или занималось также рассылкой?
— Они выполняли всю работу, — сказала Виллемина ван Хенгелер. — Я не имела к этому отношения с тех пор, как передала им списки адресатов.
Кеттерле утвердительно кивнул.
— Итак, — сказал он, — убийцей является тот, кто выслал отсюда проспект непосредственно Сандре Робертс и кто в субботу в ноль часов две минуты не слышал звонка с телеграфа, хотя должен был слышать его.
Голос Брацелеса охрип от волнения:
— Мне кажется, в некоторых пунктах вы все-таки ошиблись, — выдавил он, запинаясь, и вытер пот со лба.
Всеобщее молчание свидетельствовало, что остальные думали так же.
Комиссар молча извлек из кармана конверт, найденный в письменном столе Рихарда Робертса, и передал его Брацелесу.
— Вы можете расшифровать почтовый штемпель, Брацелес?
Ханс-Пауль уставился на конверт, а затем беспомощно взглянул на фрау ван Хенгелер.
Ее тихий вздох нарушил тишину. Она тут же овладела собой. Но для этого ей пришлось за что-то ухватиться.
— Это здешний почтовый штемпель, — тихо проговорила она. — Комиссар не ошибся ни в чем.
Вид у нее был ужасный.
— Итак, вы признаете свою вину, миссис Робертс? — спросил комиссар, медленно поворачиваясь к ней всем телом.
Несмотря на блистательную речь защитника, суд присяжных отказался признать смягчающие вину обстоятельства. Присяжные не приняли во внимание и то, что Юлией Робертс двигали не корыстные интересы, но фанатичная, почти животная любовь к дочерям. Не растрогал их и тот факт, что в завещании Юлия Робертс назначила девушку Хайде единственной наследницей собственного ее имущества, прежде всего пансиона «Клифтон».
Медицинское заключение, подтверждавшее тяжелое заболевание убийцы, обрекавшее ее на скорую смерть, объяснило в какой-то мере смелость и безоглядность преступления, но, с другой стороны, высветило хладнокровие, с каким было задумано и осуществлено убийство, в еще более беспощадном свете.
Загадочное исчезновение обвиняемой 27 марта 1956 года лишь усилило догадку, что нынешнее преступление если не во всех деталях, то в основных своих контурах задумано было уже тогда. Ее исчезновение послужило впоследствии моделью убийства Сандры Робертс. Наиболее отягчающим обстоятельством присяжные сочли смерть ее бывшего мужа, сенатора Рихарда Робертса, хотя в итоге все-таки не стали указывать в приговоре, что смерть сенатора также входила в планы убийцы.
Приговор гласил: пожизненное тюремное заключение.
Юлия Робертс от обжалования отказалась.
По ходатайству доктора Брабендера ей разрешили отбывать заключение в тюремном госпитале. Она умерла на тринадцатой неделе после вынесения приговора.
МАТТИ ЮРЯНА ЙОЕНСУУ
СЛУЖАЩИЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
РОМАН
© 1976 Matti Yrjänä Joensuu
ГЛАВА 1
Харьюнпя, сотрудник отдела по борьбе с насилием, просыпался обычно в десять. Пробуждение для него было всегда мучительным делом — неважно, раньше или позже. Но если он спал дольше десяти, это уже вызывало головную боль, которая и сегодня давала о себе знать пульсацией в затылке. Посидев немного на краю кровати и потрогав затылок, он почти убедил себя, что не пойдет в бассейн, не говоря уже о пробежке. Физические упражнения были для него вообще занятием не из приятных, и, кроме того, он казался себе смешным, когда в спортивном костюме и шапочке, кисточка которой упрямо колотилась о голову, он семенил трусцой по центру Хельсинки. Поразмыслив немного для проформы, он окончательно решил провести весь день дома.
Уборка постели затянулась надолго, ибо Харьюнпя то и дело присаживался, поджав под себя сухопарые ноги, и пытался вспомнить сон, который он видел, а от сна в памяти осталось немного — лишь то, что он, выполняя служебные обязанности, ходил по пристанционным железнодорожным путям и собирал в пластмассовый мешок остатки человека, попавшего под поезд. Конца сна он так и не вспомнил. Харьюнпя встрепенулся и вновь принялся застилать постель, однако вскоре опять застыл на коленях с простыней в руках. Такое с ним случалось частенько.
Расправив наконец кое-как покрывало, Харьюнпя прошлепал босиком на кухню. При этом он вспомнил, что его пальцы оставляют следы на натертом до блеска полу, а это даст основание Элизе укоризненно вздохнуть и демонстративно взяться за банку с мастикой. Он отворил было окно, но тотчас захлопнул его, ибо в комнату влетел пучок волос величиной с ладонь. Харьюнпя бросил осуждающий взгляд сквозь стекло, отпуская про себя весьма нелестные выражения в адрес тех старух, которые с утра до ночи прилежно выбивают на балконе свои паласы, а в соседские квартиры летит всякая дрянь. Однако ему пришлось сдержать свое желание выкрикнуть какое-нибудь непотребство, ибо это бабье было акционерками, а он — всего лишь квартиросъемщиком.
Харьюнпя сварил кофе и съел приготовленную женой запеканку с сыром. Закурив сигарету, он расположился на полу и стал без особого энтузиазма просматривать газеты. Внимательно он читал лишь сообщения о смерти. Среди них попались и имена двух покойников, имевших отношение к делам, которые вел он сам. Эти две заметки он прочел внимательно, от начала и до конца, включая некролог и строфы псалма. Разделы новостей Харьюнпя просмотрел мельком — вернее, взглянул лишь на заголовки и, поскольку ничего интересного не обнаружил, сложил газету так, чтобы заняться изучением комиксов.
Затем Харьюнпя неторопливо подобрал с пола игрушки своей дочурки, в том числе семь обглоданных пряников, съел один из них, а остальные выбросил в мусорную корзинку. После некоторого колебания и внутренней борьбы он извлек из-под кровати пылесос. На уборку ушло не более десяти минут, так как закутки и пространство под мебелью остались нетронутыми. Ими он занимался, только когда Элиза делала ему замечание или если обнаруживал, что, Паулина сует в рот хлопья пыли, К половине второго Харьюнпя уже закончил уборку. Он вновь вспомнил, что сегодня у него ночное дежурство, и беспокойство впервые вызвало у него спазм в желудке, однако боль утихла, как только он закурил. Нервное напряжение все же давало о себе знать; у него пропал аппетит, и он не притрагивался к еде — только пил кофе, а это, в свою очередь, еще больше будоражило желудок.
Под вечер Харьюнпя провел часа два за чтением «Синухе Египтянина»[6]. Еще в молодости он сделал на страницах книги пометки; обложка ее была основательно замусолена, видимо, оттого, что он читал книжку регулярно раз в год. Затем с полчаса Харьюнпя наблюдал за своими птичками. Он сидел неподвижно, глядя на то, как они порхают. Это были маленькие зяблики, величиной с большой палец, с блестящим коричневым оперением, красным клювом и оранжевыми головками. Они поочередно полоскались в чайном блюдце, стоявшем на полу клетки, и от этого капли воды разлетались во все стороны, достигая лица Харьюнпя. Это вызвало у него улыбку. Он любил всяких пичуг с самого детства. Своих астрильд он приобрел только после женитьбы, ибо родители не разделяли его любви к домашним животным и птицам.
Время неотступно шло вперед. Харьюнпя не огорчало, что он бесцельно провел день, ибо в глубине души он знал, что по природе он лентяй и испытывает удовольствие от медлительной праздности. Видимо, поэтому он предпочитал сидеть дома, в одиночестве или с семьей, не чувствуя потребности в ином времяпрепровождении. Он читал или просто сидел, предоставляя своим мыслям свободно порхать с одного предмета на другой. Он прилежно играл с Паулиной, смотрел телевизор, а иногда мастерил миниатюрную модель паровоза, которую уже года два никак не мог закончить. Работы по дому Харьюнпя выполнял на основе принципа равноправия, хотя, с другой стороны, не мог бы утверждать, что органически не переносит их. Со временем привычка сделала свое дело, и он стал обращаться с кухонной щеткой свободнее, чем с пистолетом. Харьюнпя любил свой дом и семью — он даже сам не предполагал, как много они для него значат. Он наслаждался домашним покоем и ощущением безопасности и всячески оберегал свой очаг. Именно поэтому он относился к различным обстоятельствам своей частной жизни намеренно пассивно, воспринимая каждое мгновение таким, каким оно было, не пытаясь активно вмешиваться в естественный ход событий и не строя далеко идущих планов на будущее. Так он оберегал себя от ненужных эмоциональных нагрузок, ощущая свою защищенность от остального мира в лоне семьи и наслаждаясь каждым счастливым мгновением. Харьюнпя имел возможность не раз убедиться в том, что эти короткие, добрые мгновения могут оборваться на острие секунды, они могут оборваться у всей семьи и даже целого рода. Душевный покой Харьюнпя омрачали лишь некоторые дела на работе да ожидание ночного дежурства.
К работе Харьюнпя относился добросовестно. К тому обязывало еще с детства привитое чувство долга, которое, кстати, иногда вопреки собственным интересам доводило его до крайностей. Другим импульсом была боязнь неудачи. Ему пришлось познать ее, и он старался не допускать того, чтобы это стало постоянным кошмаром. Боязнь неудачи, однако, принесла свою пользу: он развил и отшлифовал свой незаурядный природный дар — способность все замечать и фиксировать. Но честолюбием и потребностью самоутверждения он не страдал и довольствовался своей ролью колесика — колесика в числе других, ему подобных. Работа уготовила ему роль молчаливого исполнителя, впрочем, Харьюнпя уже по своему характеру был таким. Однако его инертность и немногословность не являлись серьезным недостатком, ибо им сопутствовало одно важное человеческое качество — умение слушать. Он умел слушать, что говорят другие, поэтому его считали хорошим собеседником, хотя на самом деле он лишь время от времени издавал какой-нибудь звук или одобрительно мычал.
Харьюнпя было двадцать пять лет. Он родился и вырос в Хельсинки и соответственно возрасту был стройным, даже худощавым, с длинными и сухопарыми конечностями, на которых взбугренными связками проступали сосуды. Лицо у него было узкое, с ввалившимися щеками и торчащим, довольно крупным носом. Продолговатые ноздри. Небольшой подбородок. В сравнении с носом он выглядел таким маленьким, что, к великой досаде Харьюнпя, иногда казалось, будто у него лептосомия.
В школе какая-то девчонка, раздосадованная равнодушием Харьюнпя, выпалила ему в лицо, что из него, мол, выйдет маленькая канцелярская крыса, и только. Крысоподобным Харьюнпя себя никогда не ощущал, но мелким чиновником действительно стал. Тимо Юхани Харьюнпя был старшим констеблем и работал в первом сыскном отделении оперативного отдела Хельсинкского полицейского управления. Поскольку об это название можно было сломать любой язык, службу их называли отделом по борьбе с насилием, или короче, в обиходе — просто Насилием. Только начальство да газетчики иногда еще называли отдел группой по расследованию убийств. Харьюнпя был чиновником отдела но борьбе с насилием, а конкретно занимался расследованием всех видов смерти и всех последствий насилия, от чего, кстати, всякий нормальный человек считает себя застрахованным. Он и сам так считал, хотя знал, что иногда неотвратимо происходит иное.
Харьюнпя сварил кофе в синем эмалированном кофейнике, на этот раз кофе получился крепче обычного, и от него потянуло щекочущим ноздри ароматом. Опершись ладонями о плиту, Харьюнпя следил за тем, как вода превращается в кофе, проходя через фильтр. Только Элиза замечала, как волнуется муж накануне ночного дежурства, — от остальных он умел это скрывать. Он стыдился своего волнения, пока не обнаружил, что и более опытные его коллеги также стихают, готовясь к ночному дежурству. Это не было просто страхом, хотя Харьюнпя и трудно было классифицировать свое состояние как-то иначе. Оно складывалось из многих факторов. И не последнюю роль тут играла нереальная надежда, что ночь пройдет без происшествий или по крайней мере без покушений на жизнь и несчастных случаев с жертвами. Напряжение усиливалось также из-за необходимости принимать незамедлительные решения, чреватые непредсказуемыми сюрпризами и последствиями, ибо в спешке, от усталости или просто из-за глупости принятые решения позже, утром, зачастую оказывались непоправимой ошибкой. Кроме того, тебя не покидало сознание, что каждое твое действие или бездействие должно определяться законом или по крайней мере здравым смыслом, тогда как в предутренней суматохе проштудированные когда-то, годы назад, параграфы могли и не сохраниться в памяти с должной свежестью и точностью, и тогда в ночной сумятице возникали сомнения даже в собственном здравом рассудке.
И еще два обстоятельства отягощали душевный покой Харьюнпя: обычный гражданин может найти выход из кризисной ситуации, просто позвонив пожарному, врачу или в полицию, — человек с улицы тоже имеет возможность решить свои проблемы, в его распоряжении всегда есть официальная сила, которая тотчас берет всю ответственность на себя. В случае же с Харьюнпя дело обстояло иначе. Он сознавал, что предстоящей ночью станет частицей этой общественной силы, к которой люди прибегают в минуты несчастья, и на его плечи ляжет вся ответственность за дальнейшее развитие событий. А он будет один, он станет главной точкой и уже не сможет набрать номер «Скорой помощи», потому что этой «Скорой помощью» будет он сам. Однако наихудшее состояло не в этом. Харьюнпя понимал, что является частью общественной силы, но он понимал и то, что этой силы на самом-то деле вовсе не существует. Есть лишь несколько бюрократических учреждений и отряд людей, работающих в них, — мужчин и женщин, которым свойственны и усталость, и страх, и головные боли и которые с бо́льшим удовольствием сидели бы дома. Не было снайперов, не было оперативных работников высокого класса, — была лишь группа людей, незаметных, маленьких, таких, как сам Тимо Харьюнпя.
Ради самосохранения Харьюнпя старался не перенапрягаться. Действительно опасные ситуации возникали сравнительно редко, да и вовсе не обязательно, чтобы они совпали с его дежурством. Ситуации, требовавшие напряжения сил и чреватые опасностью, конечно, бывали, однако жизнь Харьюнпя находилась под угрозой всего лишь раз, когда ему пришлось извлекать кусок динамита изо рта слабоумного подростка. Естественно, он думал о возможных опасностях, но они казались ему далекими, нереальными, и он не утруждал себя более детальным предвидением их. Вот когда случится — тогда и разберемся. До сих пор он оказывался прав.
Кофе получился черный и отчаянно дымил, когда Харьюнпя переливал его в термос. Положить сахар заблаговременно он, как всегда, забыл и поэтому бросал его теперь в темную жидкость — восемь кусков подряд: жидкость всякий раз булькала и пенилась. Харьюнпя уже знал, что, если бросить семь кусков сахара, кофе выплеснется из термоса, и если бросить восьмой, на столе образуется лужица. Заканчивая операцию, он обернул пробку бумагой и только после этого закрыл термос. Затем он подошел к платяному шкафу и отворил его. Постоял с минуту, раскачиваясь на ногах и поглаживая нос. Выбор одежды для ночного дежурства всегда представлял проблему. Легкий костюм едва ли подойдет, если придется разыскивать на моторной лодке утопленника, замеченного в портовых водах с корабля; если же выбрать одежду потеплее, то непременно угодишь на расследование в какую-нибудь котельную — будешь выяснять, как дворник умудрился свалиться почти с родной лестницы и проломить себе череп. Харьюнпя решил на этот раз проблему более или менее удовлетворительно: начал с трусов и сетчатой майки, натянул затем плотные черные вельветовые джинсы и пуловер. Завершил он эту операцию пиджаком со множеством карманов. На ноги надел крепкие кожаные ботинки на толстой подошве, в которых при необходимости можно походить и по пожарищу. Одежда была уже слегка поношенной, однако, если не приглядываться, производила вполне приличное впечатление.
К поясу Харьюнпя приладил кожаную кобуру. Он взял оружие в руки, вынул магазин, вытащил патроны, опробовал механизм, убедился, что все в порядке, утопил магазин обратно в рукоятку и вложил оружие в кобуру. Револьвер был марки ФН, находившейся на вооружении финской полиции. В свое время это было вполне приличное оружие, однако сейчас револьвер был настолько затаскан и изношен, что хорошо, если при необходимости он вообще выстрелит. При удаче пуля полетит куда следует, но гильза может застрять в патроннике. Харьюнпя до сих пор становилось немного стыдно при воспоминании о посещении музея шведской уголовной полиции в Стокгольме. Там он встретился со своим старым приятелем — ФН, но на полке музея.
Немало говорилось у них о предстоящей замене оружия. Некоторые отделы действительно получили револьверы нового образца, однако большая их часть продолжала валяться на складе, а какие-то виды оружия вообще не закупили. Никто толком не знал, в чем дело. И поскольку год проходил за годом, а оружие оставалось прежним, многие работники уголовной и радиополиции сами приобрели новые образцы. Они действовали точно и безотказно, а главное — находились в одних руках. Харьюнпя тоже подумывал приобрести пистолет — не столько потому, что он был нужен, сколько по примеру других. Однако Харьюнпя столкнулся с определенным затруднением, из-за чего и откладывал осуществление своего замысла. В продаже были в основном 38-калиберные крупные пистолеты, стреляющие свинцовыми пулями, которые при попадании в человека вырывают добрый килограмм мяса и костей. Харьюнпя не боялся и не чуждался оружия, однако относился к нему с уважительной осторожностью. Он предпочел бы обзавестись пистолетом поменьше, который может просверлить безопасную дырку в ноге и остановить преступника. Об убийстве он и не помышлял, надеясь, что такая необходимость выпадет на долю других. Пока же ему не пришлось дать ни одного, даже предупредительного выстрела. Пистолет для него был скорее психологическим фактором, своего рода успокаивающим средством, когда приходилось, например, входить в темную незнакомую квартиру, где мог затаиться психопат с финкой в руке.
Харьюнпя предпочитал слезоточивый газ. Газовая фонтанирующая капсула была едва ли больше шариковой ручки, но легка и эффективна. С газом ассоциировалось также определенное чувство безопасности: он не отправит по оплошности человека на тот свет и не сделает его инвалидом на всю жизнь. Харьюнпя достал из верхнего ящика письменного стола черную газовую капсулу, пощелкал по ней перстнем и сунул в правый боковой карман пиджака.
Скрипнули стенные часы, как бы переведя дыхание, и через мгновение выдали три звонких удара с металлическим отзвуком. Харьюнпя положил термос в чемоданчик. На его подкладке из искусственного шелка образовался круг от постоянно вытекавшего из термоса кофе. В чемоданчик он положил также бумажные носовые платки, две пачки сигарет, коробку спичек и три порошка цитрованили. Неприятная пульсация в затылке прекратилась, но Харьюнпя опасался, что головная боль может вновь возникнуть ночью. В заключение он взял с книжной полки фарфорового слоненка величиной со спичечный коробок и сунул его в карман. Он никому не признался бы, что верит в талисманы, однако слоник еще в студенческие годы всегда был с ним, когда он пересдавал шведский язык, с которым крупно не ладил. А теперь слоненок отбывал с ним ночные дежурства.
Харьюнпя закурил сигарету. Он присел к письменному столу, взял лист бумаги. Перо раздумчиво поерзало в длинных белых пальцах, прежде чем прикоснуться к бумаге.
«Дорогая Элиза. Три маленьких и один большой поцелуй — чмок-чмок-чмок, а потом еще раз — крепко, крепко. В магазин я так и не успел сходить, но молока предостаточно, хватит даже на утро. Хлеба тоже. Я звякну вечерком, если случится минутка, но не обижайся, если не позвоню. Если обойдется без ЧП, в девятом часу буду дома. Если не дам о себе знать, не волнуйся: значит, закрутилось какое-то дело. (Надо, кстати, взять отгул за сверхурочные дежурства. Сейчас как раз подходящее время.) Всего вам наилучшего, береги себя и крошку Паулину. Ворох поцелуев вам, папины доченьки. Чмок-чмок. Ваш Тимппа».
Записку он прикрепил клейкой лентой к экрану телевизора.
В передней Харьюнпя натянул на себя плащ, а на голову — берет бутылочно-зеленого цвета. Берет он сдвинул набок, ибо это подчеркивало форму его головы. Затылок у него был удлиненным, а на месте соединения с шеей красовался изящный изгиб. Если бы пришлось вскрывать труп Харьюнпя, могло обнаружиться, что череп у него тоньше обычного, а возможно, и более упругий. Харьюнпя осмотрел свои карманы и вспомнил, что на прошлой неделе потерял одну из новых кожаных перчаток. Элизе он не осмелился сказать об этом и потому до сих пор хранил оставшуюся перчатку. Он взглянул на часы. Было двадцать минут четвертого. Времени осталось еще с избытком, ибо пешком от Катаянокка до Софиянкату было ровно семь минут. И все же он решил идти, ибо всегда боялся опоздать. Харьюнпя взял свою сумку на кухне, проверил, перекрыт ли газ, погасил свет и вышел из дома. Закрыв дверь и услышав, как щелкнул замок, он почувствовал облегчение. Он знал, что теперь уже не нужно больше ждать ночного дежурства. Оно началось, он был на пути к нему. В этот момент он принимал на себя ответственность. Напряжение, сковывавшее желудок, ослабевало с каждым шагом — Харьюнпя знал, что в четыре оно полностью исчезнет. Всегда было так.
ГЛАВА 2
В начале апреля вечер наступает рано, тесня день, но в тот понедельник, когда Харьюнпя шел на ночное дежурство, сумерки спустились быстрее обычного. С наступлением сумерек с моря неожиданно наполз густой серый туман. Он подступил к берегу украдкой, как серый волк, и окутал сначала Кайвопуисто, Эру и Улланлинну, а затем стал просачиваться в центр города. Позже, к полуночи, туман заполнил все, и автомагистрали, и крыши домов стали черно-влажными.
Сумерки сгустились и на Меримиехенкату, в квартире жестянщика Континена, который уже пятый год находился на пенсии. Их наступление ускорила узкая улица и каменная стена соседнего дома, поглощавшая еще горевший на небе свет. Темнота вообще-то была оправданна, ибо в той однокомнатной квартире, в угловом доме, на перекрестке Меримиехенкату и Фредерикинкату, царил хаос и беспорядок. Запустение воцарилось там еще лет семь назад — с того момента, когда жена Армаса Калеви Континена, окончательно отчаявшись, ушла из дома, взяв с собой тогда еще двенадцатилетнего сына. Обратно она не вернулась. Семья так и не возродилась, хотя Армас Калеви и питал такую надежду, особенно в последние годы.
Континен прибирал сам, да и то лишь от случая к случаю, в порыве редкого вдохновения. Но и тогда уборка обычно застревала на половине. По-настоящему же убирались здесь — или, вернее, делали вид, что убираются, — те потаскухи средних лет, которых он доставлял в свое обиталище из портовых или пристанционных прибежищ. Женщины задерживались на Меримиехенкату неделю-другую, иногда даже месяц, в зависимости от того, насколько хватало пенсионных денег Армаса и спиртного. Затем они исчезали. Каждая уносила что-нибудь на память: одна — часы с кукушкой, другая — поломанный утюг, а кто-то, за неимением ничего лучшего, — постельные простыни. После очередного исчезновения Континен сидел несколько дней притихший и опухший. А затем, как только проходило духовное и физическое похмелье, он отправлялся в ближайший бар, тяжело вздыхая, выпивал несколько кружек пива и приводил к себе домой новых собутыльников, размягченных вином пенсионеров, видавших, как и он, лучшие времена. Получив пенсию за следующий месяц, Континен покупал вместо похищенных вещей новые и опять отыскивал какую-нибудь женщину — хозяйку, как он ее называл. В такие периоды он вновь становился завидным парнем в глазах остальных собутыльников. Хозяек Континен вообще-то приглашал к себе больше для компании и приготовления пищи, потому что в последние годы баловаться с бабами он был почти не способен.
Армас Калеви Континен был типичным финном. Особенно в пенсионные годы водка одолела его настолько, что лишила даже основного достояния — плохого характера: сейчас он не стал бы даже истязать свою жену или сечь сына. У Континена выработался определенный стиль жизни — вечные поиски денег, выпивка, ссоры по пустякам с очередной избранницей; сюда же входили неизгладимые и потрясающие воспоминания военных лет, недостаток денег для уплаты налогов и тесная квартира, и потому с ним не должно было произойти ничего значительного или трагического, во всяком случае, такого, что могло появиться на страницах прессы, кроме, пожалуй, объявления о его смерти. Последнее время Континен пустился даже на мелкое мошенничество, приобщившись к отборной части жуликов. Его лицо стало пунцовым и морщинистым, волосы на макушке облысели, и он прикрывал ее маленькой по моде туристской шляпой с пером, выглядевшей на нем весьма комично. Живот у Континена выдавался далеко вперед, вываливаясь из давно потерявших линию териленовых брюк, а штанины напоминали две изрядно помятые трубы, которые заканчивались у щиколоток, так что кальсоны всегда красовались на виду.
Поскольку Армас Континен являлся исключительной личностью, он был еще и музыкант. Звук приобретенной пару десятков лет назад, вконец расстроенной и дребезжащей мандолины доносился иногда из его квартиры, когда, пребывая в хорошем расположении духа, Армас брал инструмент в руки, присаживался на подоконник у распахнутого настежь окна, и тогда «Весточка вечернего ветра», «Рождественская песнь Сильвии» или разудалая «Сякинярвен-полька» разносились по всей Меримиехенкату.
Кроме этих трех произведений, в его репертуар входил «Вальс забытых времен», и — что самое важное — он способен был этой мелодией вдохновить собравшихся в его закутке собутыльников, и те хором орали развеселую «Лед на Эландке» или что-нибудь в этом роде. Таким был жестянщик Армас Калеви, сын Ниило Континена, музыкант.
В тот понедельник темнота рано сгустилась и в обиталище Континена. Очертания обстановки и тени слились воедино, и их было уже невозможно различить. Только в прихожей горела лампа. В комнату свет проникал через полуоткрытую дверь, ничего не освещая. Скорее он придавал всему еще более мрачный вид. Лампа мощностью в тридцать ватт свисала прямо с провода, без абажура, но и о нее можно было обжечь пальцы, потому что она горела непрерывно семь суток подряд. В двери, из щели для почты, торчала газета. На полу скопилась целая куча почты, в основном газеты, но среди них были также счета и рекламные проспекты. На полях одного из них жирными буквами слова: «Доброго пути!» Узкий половик в прихожей сбился в кучу. Под вешалкой стояло две пары ботинок. За портьерой, отделявшей вход в туалет, слышалось монотонное бормотание капель, падавших из крана на дно раковины.
На кухне грязной горой высилась немытая посуда. Высохшие остатки пищи так прочно прилипли к ней, что все попытки отмыть их представлялись безнадежными. Самым разумным было выкинуть весь этот хлам в мусорный ящик. На плите стояла чугунная сковорода, огромная черная глыба, ко дну которой приросли три зажаренных яйца. На кухонном столе возле краюхи затвердевшего ржаного хлеба валялась яичная скорлупа, рядом — прогорклый маргарин. Здесь же лежала куча грязных пластмассовых пакетов. Никто не удосужился выбросить их. На таком фоне зловоние, заполнявшее кухню, даже как-то не очень ощущалось.
В комнате же, будь там немного посветлее, можно было обнаружить следы буйного разгула: кровать у дальней стены не убрана, простыни — все в пятнах, мебель — вкривь и вкось. Все осталось так, как было в момент окончания попойки. Один из стульев упал на бок и лежал на сбившемся в кучу ковре. На столе, возле окна, громоздились грязные стаканы, среди них валялась на боку бутылка. В центре этого беспорядка стояла, видимо рекламная, пепельница, украденная из какого-то бара, — она была до краев наполнена пеплом; спички и окурки валялись на столе и на полу. Столешница была вся в пятнах от вина. На полу, у отопительных батарей, выстроились бутылки. За занавеской на подоконнике виднелось какое-то растение в горшке. Оно так высохло, что теперь даже при большом желании нельзя было определить, что это такое. Растение зачахло уже несколько лет назад, но Континен все же иногда поливал его.
В комнате стоял дурной запах, который, несмотря на прикрытую дверь, проникал в переднюю, а оттуда и на лестничную клетку. Но на лестнице этот смрад чувствовался уже не так сильно, собственно, был едва различим, и, поскольку в воздухе вообще витали самые невероятные запахи, никто не обращал внимания на исходившее из квартиры Континена зловоние. Наиболее сильно этот тошнотворный запах ощущался у кровати — здесь он был сладковато-горьким, от него перехватывало дыхание. Источник зловония лежал на полу — это был владелец квартиры, жестянщик Армас Континен, или, вернее, его распростертый на спине труп, в котором миллионы бактерий прилежно совершали свою невидимую работу.
В Континене произошло много неприятных изменений. Неприятными они могли показаться случайному человеку — неприятными, но не страшными. Это было следствием естественных биологических процессов, которые происходят в каждом трупе.
На лбу Континена зияли четыре вертикальные раны. Сквозь них местами просвечивала лобная кость. Справа от головы, возле уха, валялась пустая бутылка. К ней приклеилась пара волос, крошечные язычки кожи и запекшаяся кровь. Непосвященный, безусловно, сказал бы, что череп Континену раскроили бутылкой. Медицинский же эксперт констатировал бы, что передняя часть черепа, лобная его кость, в нескольких местах сильно повреждена каким-то относительно небольшим предметом. Возможно, он добавил бы, что обнаруженная на месте преступления пивная бутылка могла являться тем предметом, которым наносились удары, особенно если сопоставить ее выпуклую поверхность и следы ударов на черепе.
Уличные фонари зажглись в тот вечер раньше обычного. Они автоматически включились, как только наступили рожденные туманом сумерки, и проникший с улицы свет залил комнату Континена безжизненной синевой. Мебель и труп выступили из темноты — они выглядели огромными и страшными. В комнате царила мертвая тишина. Даже часы, остановившись, умолкли.
ГЛАВА 3
Харьюнпя шел быстро. Он всегда так ходил независимо от того, торопился или нет. Эта привычка настолько вошла в его плоть и кровь, что он часто, сам не замечая, начинал бежать трусцой даже во время прогулок по городу с женой и дочкой, и тогда Элизе и Паулине в конце концов приходилось бежать за ним, с трудом переводя дыхание. Харьюнпя спустился вниз по Луотсикату, подошел к началу Сатамакату, миновал Орьятори и пошел через нижнюю часть Рахапая. Шел он быстро, почти скачками, — резиновые подошвы ботинок приглушали его шаги. Харьюнпя миновал переходной деревянный мост, ведущий на Кауппатори[7]. За Клиппа он увидел серую стену тумана, который уже одел своими кружевами верхнюю часть Кайвопуисто. Все остальное тоже было словно накрыто серым покрывалом: деревянное покрытие моста, железобетонные шпалы между рельсами, строения, люди, — весь мир казался единым серым монолитом. Только за Похейсранта небо слегка алело. Предвестье весны. Видение лишь мелькнуло и мгновенно исчезло, однако успело согреть ему душу.
Люди, занятые на обычной дневной работе, возвращались в это время домой и сновали по площади, придавая ей беспокойный вид. Харьюнпя автоматически, не давая себе в этом отчета, просеивал встречных взглядом. Ему достаточно было одного мгновения. Он видел черные, коричневые полуботинки, сапожки, меховые шапки, шарфы, необычную походку, бледные, мокрые и прыщавые лица, стеганые куртки и шерстяные перчатки. Харьюнпя не старался специально фиксировать все это в памяти. Из частей само собой складывалось целое. А он тем временем продолжал думать о своем. Он не пытался заложить все увиденное в активную память, да это было бы и невозможно. Вот так же он фиксировал неправильно припаркованные машины, полысевшие автопокрышки и пешеходов, бросавшихся на красный свет светофора. Харьюнпя успевал заметить вдавленных в мостовую полуприцепами горлинок и оторвавшиеся от одежды пуговицы, которые он тайком подбирал, а затем дома пополнял свою коллекцию, которую хранил в ящике из-под сигар Хофнера. Замеченные нарушения, однако, не раздражали Харьюнпя. Он лишь фиксировал их и переходил улицу где придется, если это было безопасно и не чревато осложнениями, то есть если поблизости не было полицейской автомашины.
Все это, правда, потребовало довольно длительной тренировки. Вначале, сообразуясь с наставлениями, получаемыми в процессе обучения полицейским наукам, он целеустремленно и скрупулезно наблюдал, что творится вокруг, крутя при этом головой, словно сидящая на ветке сова, и с какой-то гордостью рассказывал обо всем виденном Элизе. Терпения Элизы хватило на три месяца, после чего Харьюнпя уразумел, что ему следует помалкивать. Он по-прежнему продолжал свои наблюдения, но теперь клял недоумков-нарушителей только про себя. Наблюдения же он вел уже чисто автоматически, сам того не замечая и не испытывая никаких эмоций. Это привело к его нынешнему, необременительному состоянию, когда он лишь какой-то частицей своего существа воспринимал происходившие вокруг него события и факты. Только нечто по-настоящему интересное или выходящее за рамки. побуждало его встрепенуться и присмотреться повнимательнее.
Харьюнпя пересек Похейс-Эспланаду и Катаринанкату. Он прошел под колоннадой ратуши и свернул на Софиянкату. Только теперь он заметил, что не пытается угадать, какая ему предстоит ночь. Он остался даже доволен этим. Гадания казались ему плохим предзнаменованием, да и уж больно часто они не сбывались. Прежде чем свернуть с Софиянкату, Харьюнпя замедлил шаги, чтобы лучше расслышать сирену «скорой помощи», вышедшей из пожарного депо на Эроттаянкату. Выезд санитарной машины мог означать, что его дежурство уже началось с происшествия. Харьюнпя толкнул никогда не закрывавшуюся, вечно полураскрытую, обветшавшую дверь и исчез в глубинах своего заведения. Зажглись уличные фонари. Они мерцали сначала красновато-синими точками, затем разгорелись в бирюзово-синие огни. Вечерние сумерки спустились рано.
Харьюнпя миновал ведущие вверх ступени, не взглянув даже на черную доску, висевшую на стене. Пластмассовые буквы, расположенные на ней примерно в миллиметре друг от друга, гласили:
6. Гимнастический зал.
5. Отдел по борьбе с насилием. Начальник отдела. Подразделения I—III.
4. Отдел по борьбе с насилием. Подразделения IV—V.
3. Оплата официальных документов. Наблюдение за условно освобожденными.
2. Техническое отделение.
За четвертым разделом в скобках следовал перечень сотрудников отдела по борьбе с насилием. Там же сообщался — по крайней мере частично — распорядок предстоящего ночного дежурства. Сам Харьюнпя, однако, не воспринимал это как программу к действию и сейчас даже не обратил на список внимания. Ему казалось, что на доске объявлений и, как ни странно, в газетах помещается схожая информация. В некотором роде он был прав. И там и тут давались скупые, точные и деловые сообщения о каком-нибудь происшествии. Однако информация эта была в высшей степени поверхностной, она давала представление лишь о внешней стороне дела и оставляла основные факты и причины событий завуалированными, скрытыми. Обыватель читал утром за чашкой кофе, что кто-то лишил жизни некоего другого, ударив пуукко[8], и вот вам вся картина убийства. Кто-то был найден в бассейне, а еще кто-то попал под скорый поезд. Здесь же приводились результаты расследования. И внешне все совпадало, выглядело нормальным.
Харьюнпя не задумывался над тем, что ночью он был одним из тех немногих, а возможно, даже единственным, кто знал то, о чем умалчивали газеты и другие источники информации. А они не говорили о тоске и страхе, безнадежности и отчаянии, о крушении мира семьи погибшего... Харьюнпя, конечно же, понимал, что это грубый самообман, но сознавал также, что чем тщательнее умалчивать о смерти, тем ужаснее ударяет она по людям, по семейной жизни, которая казалась вечной. Смерть и неотступно следующее за ней горе неизбежно, незримо маячат перед каждым. Убаюкивание никого еще от этого не спасало.
Харьюнпя нажал кнопку лифта. Сверху донесся равномерно нараставший гул. Харьюнпя работал в четвертом подразделении, в функции которого входило расследование преступлений со смертельным исходом или связанных с покушением на убийство, расследование случаев грубого насилия, самоубийств, а также несчастных, смертельных случаев с неустановленными или сомнительными причинами. В задачи подразделения вклинивалось и многое другое, например телефонные звонки, нарушающие домашний покой. В отделе по борьбе с насилием имелись и подразделения, которые занимались исключительно расследованием случаев, естественной смерти, а также преступлений на сексуальной почве или пожаров. Ночному же дежурному приходилось брать на себя все эти дела. Он принимал самые первые, неотложные меры, а когда считал необходимым, вызывал оперативных работников или же расписывал дела, оставляя их до утра.
Лифт — металлическая коробка, наследие строительного бума торговых магазинов — едва полз вверх. На четвертом этаже Харьюнпя вышел из него и оказался в блеклом, бесцветном холле, в глубине которого находились квадратные клетушки, отделенные друг от друга армированной стеклянной перегородкой. Там и размещалось основное подразделение отдела по борьбе с насилием, или, как говорили в обиходе, — Насилие. В рабочее время именно туда поступала вся информация о происшествиях, оттуда направлялись сотрудники на место событий, там составляли графики отпусков и ночных дежурств, подсчитывали отработанные часы, решали сотни мелких дел, необходимых для эффективного и непрерывного функционирования отдела.
По левую сторону начинался длинный коридор без окон. Его пол неопределенного цвета периодически латали линолеумом. На стыке стены и потолка были вмонтированы осветительные трубки, они тихо мерцали, волнами выплескивая свет. Блеклые, бесцветные стены, достояние всех официальных государственных учреждений, носили на себе следы казенных ремонтов. Коридор напоминал длинную кишку. Он был угнетающе-мрачным, что вообще-то отвечало характеру отдела по борьбе с насилием. По обеим его сторонам размещались кабинеты инспекторов. Царившая в них гнетущая атмосфера усугублялась массивной мебелью и черными громоздкими телефонами, но и здесь ее оживлял личный вклад обладателей рабочих мест: на некоторых столах стояли цветы, на стенах висели иллюстрированные календари или часы, на папке досье была наклеена картинка или на полу, у стола, лежал домотканый половик.
Харьюнпя помедлил немного в холле. За стеклянной перегородкой канцелярии слышалась взволнованная речь:
— Нет! Я утверждаю, что дело не в брошюровке. Это отличные машины. Причина скорее... В других местах они же работают безупречно. А у нас отчего такое происходит? Скажи-ка мне, пожалуйста, отчего?
— В других местах нет таких толстенных протоколов.
— Н-н-н... да-а-а, но дело, видно, не в протоколах, а в их оформлении. В других-то местах машины все же действуют. Попробуй еще разок, все равно новые ты получишь только в будущем году. А брошюровочная проволока у тебя хоть нормальная?
— Ну конечно.
— Что? О чем это ты? Ах, о своей машине!
Голос явно принадлежал Ахониусу — одному из двух старших констеблей отдела. Этот бородатый, нервный, легко раздражающийся человек временами казался сущим воплощением язвы желудка. Он часто срывался на крик, и Харьюнпя только сейчас пришло в голову, что он просто туг на ухо. Второй собеседник — старший констебль отдела Тауно Коттонен — приближался уже к пенсионному возрасту, но был прямой противоположностью первому: как человек, умеющий логически мыслить, он всегда сохранял спокойствие. Коттонен для всех был просто Тауно — этот добродушный, покладистый медведь стал как бы отцом коллектива. Работа у него спорилась, шла вроде сама собой: он так просто и ловко действовал, что подчиненным казалось, будто они идут на сверхурочные ночные дежурства добровольно. Ахониус же брал, что называется, быка за рога, набрасывался на дело со всей решительностью, однако его напор и энергия скорее вызывали у людей неприязнь и неосознанный протест. Ахониус продолжал разглагольствовать насчет брошюровальной машины, и слова Тауно, безуспешно пытавшегося обратить все в шутку, тонули в словоизвержении его оппонента. Харьюнпя свернул в коридор.
На этаже чувствовалось, что близится конец рабочего дня. Некоторые комнаты были уже пусты, двери открыты, телефоны, как по команде, умолкли. Из находившегося в отделе кафетерия доносился неторопливый говор и смех. Харьюнпя услышал стук только одной пишущей машинки. В середине коридора сидела на скамейке пожилая женщина. Беззубые челюсти ее двигались как мельничные жернова, у ног покоилась связка пластмассовых мешочков. Она ожидала вызова на допрос. Для кого-то это означало задержку на работе, вытекающие отсюда проклятия и телефонный звонок домой с извинениями перед женой. Харьюнпя постучал в дверь, прежде чем войти.
Норри сидел за своим столом точно аршин проглотил. Он читал «Илта-Саномат» и лишь на миг оторвался от газеты, чтобы посмотреть, кто вошел. Вежливая, заученная улыбка приподняла уголки его рта.
— Ну, Тимотеус. Пришел, значит, ночевать, — произнес он. Это было чисто формальное приветствие, однако Харьюнпя был весь внимание. Он мгновенно оценил оттенок голоса шефа и не обнаружил ничего настораживающего. Норри, казалось, был доволен. Из чего Харьюнпя сделал вывод, что день прошел хорошо и допущенные невольно ошибки, вероятно, не выплыли наружу.
— Да. Есть такое намерение, — ответил он подчеркнуто спокойным тоном, который Элиза называла казенным.
Норри улыбнулся, покачал головой и вновь углубился в газету. Читая «Илта-Саномат», он неизменно делал вид, будто лишь просматривает ее, ибо всегда подчеркивал, что газетенка эта, пробавляющаяся рекламой, подобна мыльному пузырю. Харьюнпя расстегнул пиджак. Кабинет был маленьким, и поэтому в нем было тепло. В воздухе пахло лосьоном, которым Норри постоянно пользовался.
Норри был настоящий джентльмен — как по натуре, так и внешне. На нем всегда был спокойного цвета костюм и белая рубашка с золотыми запонками. Все его костюмы были от портного и напоминали модели пятидесятых годов. Звали его Вейкко Вяйно. Однако никто не называл его по имени, тем более с фамильярными вариациями, для всех он был Норри. Норри был одним из самых пожилых и опытных комиссаров отдела по борьбе с насилием; он пришел сюда старшим констеблем из Центральной уголовной полиции, пресытившись постоянными разъездами и командировками. Норри слыл опытным и даже способным криминалистом. Единственным отрицательным его качеством было лишь то, что он слишком уж неукоснительно придерживался некоторых своих убеждений и принципов, был консервативен и отрицательно относился к большинству нововведений. Он был всегда спокоен, даже невозмутим. Его настроение угадывалось лишь по еле уловимым изменениям в лице, интонациям, по затянувшемуся молчанию и стремительности движений. Норри мог быть весельчаком и своим парнем, когда хотел, но от него всегда потягивало врожденным высокомерием, что создавало в отношениях между ним и коллегами определенную напряженность, свойственную отношениям между учителем и учеником. В других подразделениях царила более непринужденная атмосфера, но соответственно и более распущенная.
Была у комиссара Норри одна настораживающая черта. Он либо проникался безграничной симпатией к своему товарищу, либо ни в какую его не воспринимал. Поэтому Харьюнпя всегда был настороже в присутствии Норри. Он неотступно исподволь наблюдал за своим шефом и пытался определить, к какой из этих групп тот относит его. Судя по тому, что Норри терпел его в своем подразделении, Харьюнпя полагал, что относится к избранной части стада. По крайней мере ему этого хотелось.
С минуту Харьюнпя смущенно постоял в ожидании. Но поскольку Норри продолжал молча читать газету, Харьюнпя решил, что по поводу ночного дежурства не последует никаких особых указаний, и двинулся к двери. Норри кашлянул.
— Если произойдет что-нибудь чрезвычайное, то... — буркнул он, не отрываясь от чтения, и умолк.
— Да, конечно, я позвоню, — сказал Харьюнпя, ибо уже прекрасно знал, что́ имел в виду Норри. С чувством облегчения он прикрыл за собой дверь: неразговорчивость Норри на этот раз не была признаком безразличия, скорее наоборот — доверия.
Смежную комнату занимало четвертое отделение. В ней сидели Харьюнпя, Хярьконен и Тупала, хотя Тупала вообще-то должен был находиться в кабинете старшего констебля Монтонена. Однако тот закуток был еще меньше этой семиметровой одиночки, поэтому они привыкли ютиться втроем. Когда Харьюнпя открыл дверь, Хярьконен сидел на углу стола и курил маленькую, смердящую навозом сигару.
— Здоро́во. — Дым повалил из ноздрей Хярьконена.
— Привет, — ответил Харьюнпя, принюхиваясь к атмосфере, царившей в комнате, и опуская свою сумку на пол. Берет свой он бросил на стол рядом с Хярьконеном[9].
— Ну что, Бык-Убивец? Кажется, нам на сегодня не досталось заварухи?
Хотя Харьюнпя вообще старался не доставлять неприятностей людям, он все же машинально сказал — Бык-Убивец. Хярьконен, понятно, не любил этой клички. Не только потому, что это была издевка над его фамилией, но и потому, что он был небольшого роста и хрупкого телосложения. Кто-то однажды пошутил так, и кличка закрепилась за ним навсегда. А это непомерно раздражало его. К несчастью, он был еще и человеком, начисто лишенным чувства юмора, неспособным понять шутку. Поэтому он часто выглядел просто смешным, хотя и не страдал отсутствием ума. Сознавая это, он хохотал над всякой шуткой, в том числе и над такими, которых не понимал или которые не заслуживали смеха. В таких случаях его реакция вызывала недоумение окружающих.
— Хе-хе, — попытался отреагировать Хярьконен на свое постылое прозвище. — Сегодня не наша очередь разбираться в заявлениях. Да, кроме того, ничего особенного сегодня и не произошло, только вот самоубийство — какой-то старик повесился, — добавил Хярьконен и слегка стряхнул пепел с сигары. Внезапно он встрепенулся, приподнял голову, глаза прищурились. На лице появилось интригующее выражение. — Слушай. Угадай-ка, отчего умер тот Леннберг! Не догадываешься? Так вот, чистая случайность... это выяснилось только сегодня при вскрытии. Я, по правде говоря, не успел туда, но прозектор позвонил сразу после вскрытия. — В голосе Хярьконена слышалось удовлетворение, он явно наслаждался этой минутой. Сделав две быстрые затяжки, он стряхнул несуществующий пепел и сказал с облегчением: — Так-то вот. Умер, значит, этот Леннберг, как ты думаешь, отчего... не догадываешься? От скоротечного воспаления поджелудочной железы.
Лейф-Густав Леннберг умер в вытрезвителе, тридцатипятилетний складской рабочий, родственники которого подняли скандал, утверждая, что он скончался от побоев в полиции. Случаи смерти в вытрезвителе вопреки бытовавшему мнению расследовались особенно тщательно, и потому Хярьконен и Харьюнпя внимательно следили за этим делом. На ягодице покойника обнаружили длинный кровоподтек, который могла оставить полицейская дубинка. Синяк, однако, не мог послужить причиной смерти, а откуда он взялся, Хярьконен установить не сумел. Помимо этого подтека, не выявилось ничего подтверждающего обвинение, хотя и были проведены дополнительные расследования, что, естественно, не вызвало радости у полицейских, которые вели дело. Оно, однако, беспокоило их, особенно Хярьконена, во время дежурства которого все и произошло.
— Брось! Воспаление поджелудочной железы? — В голосе Харьюнпя тоже послышался оттенок удовлетворения.
— Да-а, самое настоящее воспаление... Да и сразу это похоже было скорее на какую-то внутреннюю болезнь. Здравый смысл подсказывал, что другого и быть не могло. Вечно какая-нибудь дребедень лишает человека покоя. — Эта фраза была произнесена капризным тоном бывалого человека, пытающегося показать, что он осведомлен больше других.
— Вот дьявольщина, подумать только, если б, к примеру, у него была отбита печень или что-то в этом роде. Как тогда объяснишь, били ли его официальные лица до вытрезвителя или кто-то из алкашей невзначай наступил на него, когда он находился в каталажке в скотском состоянии? Господи помилуй. Как бы тогда? — Произнося это, Хярьконен распалялся все больше. Возможность того, что печень была повреждена еще до вытрезвителя, выглядела так привлекательно, что он уже планировал дальнейшее расследование дела.
— Да, пришлось бы покопаться... Ты действительно с самого начала считал... смерть от алкоголя или что-то в этом роде, — заметил Харьюнпя и, не удержавшись, улыбнулся. У Быка-Убивца была привычка в начале беседы или спора поочередно принимать точку зрения каждого из присутствующих, и таким образом он всегда оказывался прав. На этот раз Хярьконену действительно приятно было услышать такое от Харьюнпя. Он зажал кончик сигары в губах, чтобы не обжечь пальцев. Быстрыми затяжками наполнил воздух комнаты синим дымом, желая, видимо, все выжать из окурка. Еще раз взглянув на сигару, он только после этого отправил окурок в пепельницу.
— Да. Скоротечное воспаление поджелудочной железы, и... не вышло дела о покушении на жизнь. Завтра выпьем по этому поводу кофейку, я угощаю. Да, послушай, звонила какая-то Вилланен или Вилунен. Ты просил? Я назначил ей время. Она придет в понедельник в половине десятого.
— Вилланен? Какая... ах, да. Это мать той девчонки, что выбросилась из окна, — тихо произнес Харьюнпя. Ему вдруг стало не по себе. Эта женщина своими глазами видела, как покончила с собой ее шестнадцатилетняя дочь, выбросившись с седьмого этажа во двор в тот момент, когда мать возвращалась из магазина. Женщина была сломлена духовно. Харьюнпя сопровождал ее для опознания и выполнения других положенных формальностей. Он все время откладывал вызов этой женщины в отдел. — Хм. Да. Ну что ж, нужно потихоньку трогаться, — сказал он изменившимся голосом. — Да, скажи, ты будешь дома на случай, если что произойдет?
— У нас намечена сауна... но все равно звони, никуда не денешься. Буду дома. Хотя после бани не очень-то тянет на прогулку, хочется просто поваляться, понежиться. Хе-хе. Но ты уж постарайся отделаться от дерьмовых дел. Поножовщину квалифицируй естественной смертью, а все остальное передавай в районные участки, хе-хе. — Хярьконен был в игривом настроении. Тому была причина: ему не предстояло шестнадцать часов дежурства.
В тот момент, когда Харьюнпя нагнулся, чтобы поднять с пола свой чемоданчик, в двери появился Тауно Коттонен.
— Господин Харьюнпя. Смерть подстерегает вас, — произнес он нарочито серьезным голосом и растянул слово «смерть», так что оно прозвучало очень мрачно. Вид же у него был презабавный: он стоял на пороге — живот торчком, покачиваясь на ногах, как на качалке. Склонив голову набок и скривив рот, Коттонен ждал реакции Харьюнпя. А Харьюнпя раздумывал. Он попытался дать подходящий ответ, но не смог, ибо природная сдержанность мешала паясничать кроме как дома. И все же он удачно отреагировал, придав голосу естественно-удивленное выражение:
— Да ну? И что же, она ждет персонально меня или блуждает здесь поблизости?
— Смерть посетила госпожу... госпожу... — Коттонен вытащил из-за спины шпаргалку и прочел фамилию. — Смерть посетила госпожу Рахикайнен и ждет тебя сейчас на своем ложе. Я имею в виду, конечно, что госпожа Рахикайнен ждет.
Харьюнпя взял извлеченную на свет бумажку и посмотрел прежде всего на адрес. Держал он ее кончиками пальцев, будто она могла принести несчастье.
— Ну, я пошел. Врач там был?
— Только что. Пожарная служба сообщила об этом. «Скорая» тоже успела побывать. Кто-то из родственников на месте. Монтонену я еще не звонил. Наверняка естественный исход — старушка ведь, — добавил Коттонен уже без всякого намека на шутку. Взявшись за подтяжки на груди, он повернулся и исчез в коридоре. Харьюнпя долго слышал его удаляющиеся вздохи. Вновь взглянув на бумажку, Харьюнпя заметил, что госпожа Эдит Агнес Рахикайнен была того же года рождения, что и Коттонен.
Харьюнпя пошел в канцелярию. Взял необходимые бланки, пишущую машинку и портфель, напоминавший медицинскую сумку. Медицинских принадлежностей в сумке, однако, не было: когда на место происшествия прибывали представители Насилия, их обычно уже не требовалось. В сумке находилось то, что нужно для работы: резиновые перчатки разового пользования, пластмассовые мешочки, пробирки, кассетный фотоаппарат, карманный магнитофон и длинный термометр, которым при необходимости измеряли температуру тела покойного. Харьюнпя собрал всю эту поклажу, взял сумку и пошел. В обычной ситуации он воспользовался бы лифтом, но мысль об ожидавших его родственниках побудила Харьюнпя направиться прямо к лестнице. В тот момент, когда дверь захлопывалась за ним, он услышал возглас Ахониуса:
— Богатой тебе приключениями ночи!
Крикни это кто-нибудь другой, Харьюнпя воспринял бы пожелание как издевку, однако Ахониус никогда не прибегал к издевкам. Видно, пожелание было всерьез.
Харьюнпя зашагал к дежурным помещениям, расположенным на другой стороне Софиянкату. Он вручил поступившее сообщение дежурному и сказал, что отправляется на место происшествия. Взяв из настенного ящичка ключи от автомобиля, он расписался за них в книге выездов и вышел с черной сумкой под мышкой. Особой спешки сейчас уже не требовалось — критическое время миновало. Однако Харьюнпя сознавал, что должен подумать и о родственниках покойницы. Кроме того, он хотел как можно скорее довести дело до конца — до официального рапорта. Тогда одним делом будет меньше, а они ведь могут и посыпаться — этого опасается каждый работник Насилия во время ночного дежурства. Только свернув на Александеринкату, Харьюнпя заметил, что взял машину, дребезжащую от старости. Как всегда, выезжая в одиночку, он намеренно забыл включить радиосвязь. Таким образом, он был недостижим для дежурного, и никто не сможет помешать ему довести дело до конца, даже если внезапно возникнет что-то срочное.
ГЛАВА 4
Лестничные пролеты благоухали жареной салакой. Запах был сильный, но ненавязчивый, — в представлении Харьюнпя почему-то возник тушеный картофель с петрушкой. Замысловатые литые чугунные перила выделялись на фоне стены, по которой взапуски бежали одна за другой коричневые белки. Дому была присуща какая-то особая прелесть, и Харьюнпя попробовал вспомнить, как называется стиль этого строения, но безуспешно. Он следил за белками, поднимаясь по лестнице, длинные ноги его перемахивали сразу через две-три ступеньки. Лифта не было. А это означало, что парням Монтонена придется карабкаться с носилками на пятый этаж, затем, позаимствовав у эквилибристов ловкости, медленно спускаться с ношей, прикрытой черным одеялом. У Харьюнпя сперло дыхание. Хотелось закурить, но ведь курение стимулирует рак легких.
Еще на лестнице Харьюнпя почувствовал, что на пятом этаже кто-то стоит. Он оторвал взгляд от цепочки белок и увидел искаженное горем лицо. Маленький человечек с испуганными глазами, высунувшись из приоткрытой двери, смотрел в сторону лестницы. Глаза у него были влажные, и Харьюнпя без труда понял, что мужчина только что плакал. На дверном щитке он прочел: «Рахикайнен». Значит, Харьюнпя прибыл по назначению к своему клиенту.
На мужчине был поплиновый плащ, в руках он мял кепку, изрезанное морщинами лицо резко сужалось книзу. Нижняя часть лица между носом и выдававшимся вперед подбородком образовывала как бы полушарие, разделенное надвое губами. Лицо, тощая шея и маленький рост мужчины делали его похожим на беспомощную, перепуганную мартышку. Харьюнпя стало стыдно за такое сравнение, однако тут не было ни иронии, ни презрения — просто это первое, что приходило в голову, особенно при взгляде на торчавшие уши. Подойдя поближе, Харьюнпя заметил, что на виске мужчины пульсирует жилка.
— Добрый вечер...
— Из уголовной полиции? Мне сказали, что кто-то приедет... я — я Макконен. Туомас Макконен. Эдит... и я. Я хотел сказать, что Эдит — моя жена. Сейчас она... там, в квартире.
Рот маленького мужчины двигался быстро, подергиваясь. Он умолк и крепко сжал губы. Харьюнпя видел, что он хочет, но не может произнести заранее заготовленные фразы.
— Ну, а я — констебль уголовной полиции Тимо Харьюнпя, — сказал Харьюнпя бодрым тоном и пожал руку Макконена. Рука была сухой и холодной. — Доктор уже побывал здесь? Да. Может, пройдем в квартиру? — Харьюнпя пришлось чуть ли не втолкнуть мужчину в переднюю. С лестничной площадки послышался звук захлопнувшейся соседской двери. Макконен оперся о стену.
В передней стоял тяжелый запах инсектицида[10] и человеческого тела. На вешалке висели мужское зимнее пальто, женское демисезонное пальто и похожая на ссохшуюся рукавицу меховая шуба. На полке для шляп валялся дешевый парик, он напоминал какую-то морскую тварь — что-то вроде головоногого моллюска. Харьюнпя не обнаружил ничего заслуживающего внимания. Он отворил дверь в комнату и замер на пороге. Макконен по-прежнему стоял, привалясь к стене.
— Кхе-кхе. Нет. Она... не была... моей женой. Я имею в виду официально. И все же одиннадцать лет мы прожили вместе. Знаете ли, это...
— Да. Ясно. — Харьюнпя помог Макконену узаконить его свободный брак.
— Я отправился утром, как обычно, на работу. Эдит... покойная... проснулась как раз в тот момент. Да... — Макконен замолчал на мгновение. И хотя Харьюнпя смотрел в сторону, он почувствовал, что губы маленького человечка сжались в бледную полоску. — Когда я вернулся домой, то, то... сразу учуял что-то недоброе. Из комнаты Эдит — ни звука... я заглянул, и вот. Вот она. Покойница лежит, вся посинев, на кровати. Я знал... но не ожидал, что ей так плохо.
Пока Макконен говорил, Харьюнпя обвел взглядом комнату. По существу, он уже приступил к обследованию. Комната служила одновременно и спальней, и столовой, и гостиной и была до отказа забита старыми вещами, какие обычно принадлежат пожилым людям; вещи эти не всегда соответствуют друг другу, но с ними, очевидно, связаны дорогие воспоминания. У левой стены стоял стол, подле него — три стула. На столе — пустая кофейная чашка, хлебные крошки, на спинке одного из стульев висела белая нижняя юбка и цветастое хлопчатобумажное платье. Возле окна стоял комод, он казался слишком большим в этой маленькой квартирке. На кружевной скатерке комода расположилась группа маленьких фарфоровых зверюшек, а за ними — прилепленные клейкой лентой к стене почтовые открытки и оплаченные счета. Запыленная хрустальная люстра свисала с потолка. На стенах — аляповатые картины, приобретенные, очевидно, у базарных торговцев; на полу — неприбранный мусор. Харьюнпя переводил взгляд с одной вещи на другую.
Макконен вздохнул в передней. Харьюнпя повернул к нему голову.
— Она чем-нибудь болела?
— Нет. Или да. Да, конечно. Прошлой весной у нее отняли грудь. Рак. Вырезали напрочь. Этим утром... покойница... должна была ложиться в больницу. На обследование. Кажется, они сомневались... — Продолжая говорить, Макконен боязливо шагнул к Харьюнпя и, заглядывая через плечо, пробормотал: — Я не застал покойную... ох... ох... — Он сделал шажок назад и глубоко вздохнул.
— Вам лучше подождать там, в передней. Можете даже прикрыть дверь... Я должен осмотреть ее, — сказал Харьюнпя тоном приказания. Это помогло Макконену решиться остаться в передней. Харьюнпя быстро подошел к кровати, находившейся справа. Возле нее, на стене, висел пестрый гобелен, на котором трое мужчин гарцевали под звездным небом. Средний держал перед собой на коне вырывавшуюся женщину, крайний оглядывался через плечо. Он смотрел прямо в сторону двери, ведущей в прихожую, где слышались всхлипывания. Оставшись один, Туомас Макконен уже не пытался сдерживать рыданий. Харьюнпя подумал, что так оно даже лучше.
Кровать была покрыта кружевным одеялом ручной работы. На ней полусидя покоилась Эдит Агнес Рахикайнен. Спина покойной опиралась о стену, голова прислонена к белому боку скачущего на гобелене коня. Ноги свисали с края кровати, пятки едва касались пола. Руки лежали на кровати ладонями кверху. Харьюнпя взял оставленное врачом «Скорой помощи» медицинское свидетельство, быстро пробежал его глазами и сунул в боковой карман. Опустив сумку на пол и переведя дух, он вытащил из нее тонкие резиновые перчатки разового пользования. Посыпанные внутри тальком, они легко сели на руки.
Эдит Рахикайнен успела одеться только наполовину. Жизнь покинула тело еще утром, видимо, вскоре после ухода Макконена. На покойнице было только нижнее белье. Блестящий лифчик из бледно-розового материала — такой лифчик невольно вызывает улыбку, когда видишь его в витрине какого-нибудь магазинчика. На ногах — шелковые панталоны на резинке, доходящие до середины бескровных ляжек. Под панталонами — корсет из того же материала, что и лифчик. Резинки крепко держали коричневый чулок, натянутый на левую ногу, а правая свешивалась голая. В беспомощных пальцах — скомканный чулок.
Харьюнпя начал с исследования конечностей. Он чувствовал сквозь тонкую резину, что мышцы уже окоченели и застыли. Одеревенение ощущалось во всех суставах, но еще не было окончательным. С прекращением давления в сосудах кровь под действием земного притяжения застывает в подкожных образованиях, напоминая синяки. Они ярко выделялись, особенно на нижней части тела, на ногах и на руках; Харьюнпя попробовал надавить большим пальцем на отек — синюшность стала меньше, однако устранить ее полностью было уже невозможно. В тех местах, на которые он нажимал, оставались углубления. Харьюнпя решил, что смерть действительно наступила восемь-десять часов назад.
Упершись коленями в край кровати, он приступил к обследованию черепа. Никаких оснований для этого не было, но чувство долга всегда заставляло внимательно осмотреть уже обследованных врачом покойников. Это, кстати, помогало ему сохранять душевное спокойствие, так как гарантировало от возможных сюрпризов, иногда обнаруживающихся при вскрытии. Если он не доводил осмотра покойника до конца, его потом мучила мысль, что у человека, умершего, по его заключению, от сердечного заболевания, при вскрытии обнаружится пролом черепа или что-то в этом роде. Он сжал череп Рахикайнен руками и стал ощупывать его пальцами сантиметр за сантиметром. На голове почти не было волос, и Харьюнпя стало ясно, почему на вешалке валяется парик. С кожи, покрытой слоем перхоти, от давления пальцев стали отслаиваться пластины толщиной в ноготь. На голове не обнаружилось никакой травмы. Харьюнпя разогнулся и взглянул на кончики своих пальцев — кроме нескольких пластинок перхоти, на них не было ничего.
Дверь из передней приоткрылась, и в комнату заглянул Макконен. Вид у него был измученный — терпение его явно подходило к концу.
— Долго ли еще? Если... Может... может, я все же войду? Хоть побыть здесь. Как-никак мы жили вместе, — сказал он.
Харьюнпя молчал. Он почувствовал в голосе мужчины какой-то новый оттенок. Он знал, что этот человек борется сейчас со страхом перед трупом близкого человека, с одной стороны, а с другой — с любопытством, вызванным необычностью происшедшего, желанием увидеть покойницу. Те же причины привлекают обычно к месту происшествия посторонних, беззастенчиво разглядывающих останки жертвы. Макконен остановился в метре от кровати. Видно было, как пульсирует на его виске жилка. Он глотнул. Кадык подпрыгнул на тощей шее. Макконен поднял руку к лицу и вернулся в переднюю, прикрыв за собою дверь.
— Ох-хохо-ооо! — дико выкрикнул он.
— Мне понадобится еще несколько минут, — сказал Харьюнпя тихо, он не был уверен, что Макконен слышит его.
Харьюнпя взял покойную за плечи и придал ей лежачее положение. Он расстегнул крючки ее лифчика. Спина от соприкосновения со стеной стала белой. Он перевернул труп на бок. Плоская правая грудь Эдит Рахикайнен была прикрыта мешочком, а левую грудь пересекал шрам в направлении подмышки. Харьюнпя решил не раздевать покойную до конца. Он провозился добрых две минуты, прежде чем ему удалось отстегнуть сережки. Замки были необычные, а резиновые перчатки осложняли работу. Пальцы Рахикайнен затвердели и скрючились, однако Харьюнпя все же снял кольца после многочисленных и продолжительных усилий. Последними он снял ручные часы и сложил все вещицы на краю комода. Цепочка протянулась до фарфоровых зверей. Среди них был слон, правда, не такой, как у Харьюнпя, да и хобот у него отломался. Это навело Харьюнпя на мысль, что надо быть более внимательным к хоботу своей животины.
В комнате было жарко. Спина Харьюнпя затекла и покрылась потом. Он стянул с пальцев резиновые перчатки и выбросил в мусорную корзину. Переворошив оставшиеся после покойной вещи, он не нашел среди них ничего, что как-то объясняло причину смерти. Харьюнпя стряхнул тальк с рук, вытер их о свои вельветовые джинсы и вернулся к кровати. Взяв покрывало за край, он прикрыл им покойную. Нос, подбородок, колени и ступни ног бугорками приподнимали кружево покрывала. Затем Харьюнпя открыл окно. Постоял, глубоко втягивая в легкие воздух ранней весны, наполненный запахом тумана, машин и мокрого асфальта. Когда он снова повернулся лицом к комнате, в нос ему ударил запах инсектицида, старости и неуемного горя.
— Макконен! Господин Макконен? Могу я позвонить? Будьте любезны, подойдите сюда, поговорим о делах, — сказал Харьюнпя тоном приказания, однако постарался, чтобы это звучало повежливее. Макконен тотчас открыл дверь.
Взявшись за телефонную трубку, Харьюнпя почувствовал, что она вся жирная от многолетней грязи. Он вздрогнул, и желудок внезапно сжала спазма. Харьюнпя держал телефонную трубку кончиками пальцев, стараясь не касаться ею уха. Он вспомнил перхоть на голове покойной, и ему сразу захотелось домой, под душ или хотя бы присесть, но он стоял и крутил карандашом диск телефона.
В каком бы премерзком состоянии ни находился покойник, это не вызывало у Харьюнпя недомогания, однако при исследовании выделений, пота, мочи, крови или вещей, запачканных испражнениями, он задерживал дыхание, чувствуя, как в животе вдруг образуется пустота. Он не мог объяснить даже себе, в чем тут дело.
Харьюнпя позвонил еще раз, ибо номер похоронного бюро был занят. Он почувствовал, что пальцы его дрожат, и вынужден был взять трубку покрепче. Когда по телефону наконец ответили, он коротко назвал адрес и фамилию покойной. Затем Харьюнпя усадил Макконена у стола, спиной к покойной, и стал выяснять необходимые сведения короткими, точными, заученными вопросами. Ему приходилось то и дело возвращать Макконена к обстоятельствам смерти Рахикайнен, ибо, подобно многим родственникам, он избегал говорить о том, что предшествовало смерти, и сбивался в своем изложении на прошлые счастливые времена. По карточке страхования от болезни Харьюнпя выяснил номер, под которым значилась покойная в системе социального обеспечения, а в сумочке нашел рецепты, по которым установил фамилию лечащего врача.
— Так вот. Полиция занимается этим делом только потому, что закон обязывает установить причины смерти в тех случаях, когда смерть случилась неожиданно или неизвестны ее причины. Если же умерший лечился, то выяснение причин смерти происходит через врача. Он же выдает и свидетельство о смерти, необходимое для захоронения. Во всех остальных случаях полиция обращается в судебно-медицинскую экспертизу, которая производит вскрытие, устанавливает причину смерти, после чего составляется заключение, — пояснил Харьюнпя. — Так вот. Завтра утром наше подразделение, занимающееся установлением причин смертельных исходов, свяжется с этим врачом... доктором Песоненом и окончательно все выяснит. Если он скажет, что покойная была его пациенткой, то участие полиции на этом закончится. Я почти уверен, что так и произойдет. При всех обстоятельствах с вами свяжутся и проинформируют о результатах. Вот здесь перечислены фамилии и номера телефонов тех, кто будет дальше вести дело. Если у вас возникнет что-нибудь... — Харьюнпя протянул Макконену визитную карточку. Вслушиваясь в свой участливый голос, Харьюнпя отметил про себя, что он неплохой актер.
В квартире стояла тишина. Такая тишина, что тиканье настенных часов резало слух. Макконен молчал. Упершись локтями в колени, он теребил полученную карточку и даже не посмотрел, что там написано.
— Гм... Вам бы нужно снять всю одежду с покойной, — сказал Харьюнпя.
Макконен кивнул. По улице прогромыхал автобус, откуда-то издали послышался визг трамвая. Водопровод загрохотал на кухне. В соседней квартире засмеялась женщина.
— А как же... насчет этих... денег, — произнес Макконен, не поднимая головы. Его голос выражал неуверенность и удивление, будто он внезапно уснул среди дня и, пробудившись, не знал, вечер сейчас или утро.
— Денег? — не понял Харьюнпя. Он был не менее озадачен, чем Макконен.
— Да-да... Я хочу сказать, что у меня нет при себе денег... только в банке... но в банке есть. Не могу ли я оплатить это переводом?
— А что оплачивать-то? Мое посещение? Нет, конечно... то есть я хочу сказать, что это ничего не стоит. Ничего. За это платят налогоплательщики. — Последнюю фразу Харьюнпя произнес, чтобы загладить свое смущение. Однако она была столь неуместна, что он смутился еще больше и почувствовал необходимость дать некоторые пояснения. — Я только что звонил в похоронное бюро. Они скоро приедут за ней и отвезут в патологоанатомическое отделение уголовной полиции на Кутосуонтие. Это тоже... я хочу сказать, что полиция и в этом случае берет все расходы на себя. Другое дело похороны — вы можете воспользоваться услугами любого похоронного бюро, но за это вам уже придется платить. Если она была членом «Эланто»[11], тогда предусматривается скидка... вспомоществование. Позвоните туда.
— Да, да, конечно, — вздохнул Макконен. Краем ладони он сгреб хлебные крошки на столе в маленькую кучку, даже не взглянув при этом на Харьюнпя. Его глаза заблестели от слез: он понял, от чьей последней трапезы остались эти крошки. Слезы стояли в его глазах, пока он не моргнул. Тогда медленно, словно не решаясь, они потекли по морщинистой поверхности обезьяньих щек. И потом уже быстро заскользили вниз, к уголкам рта.
Харьюнпя листал свои заметки, но не прочел ни строчки из написанного. Он был подавлен, решив, что слезы Макконена вызваны его словами о захоронении. Разъяснения такого рода казались часто неуместными, слишком прозаическими, однако они были необходимы, к тому же это входило в прямые обязанности Харьюнпя.
— Они приедут наверняка через десять-пятнадцать минут, — сказал Харьюнпя, чтобы прервать молчание.
— Кто приедет? — подал наконец голос Макконен.
— Служащие из похоронного бюро.
— Да... да...
— А я... я думаю, что смогу побыть здесь с вами до тех пор. Возможно, так будет удобнее. — Харьюнпя хотелось закурить, он уже чувствовал вкус табака во рту, но не решился. За стеной вновь послышался женский смех, к нему примешалась мужская речь, но слов разобрать было невозможно. Водопроводные трубы на кухне урчали, и Харьюнпя подумал, что люди в других квартирах, наверно, готовят пищу, а некоторые уже моют посуду. Он взглянул на часы: было начало шестого.
— А у нее все же вроде спокойное выражение лица? — вопросительно произнес Макконен. И поднял голову. Он окончательно пришел в себя и смотрел теперь своими карими глазами прямо на Харьюнпя, у которого было такое чувство, точно его поймали за чем-то недозволенным. Он постарался не встречаться с Макконеном взглядом.
— Да. Едва ли она успела почувствовать страдание, — ответил Харьюнпя, избегая прямого ответа на вопрос, на который, собственно, и не ожидалось ответа. Он с таким же успехом мог и согласиться, сказав, что лицо у покойной невозмутимое, мирное. Но он не сделал этого. Кто-нибудь другой на его месте, возможно Хярьконен, стал бы объяснять, что выражение лица покойника никак не зависит от последних переживаний, оно не говорит ни о муках, ни об ужасе, ни о покое, потому что с наступлением смерти мышцы слабеют, а внутриклеточное давление исчезает. Поэтому лицо расслабляется, теряет всякое выражение.
Харьюнпя услышал мужские шаги на лестничной площадке. Он встал, но открыл дверь, только когда позвонили. Первым из одетых в траур мужчин был Ликанен. Безуспешно попытавшись сдуть в сторону падающие на глаза волосы, он отбросил их рукой назад.
— Ну и ну, — тихо прошептал он, чтобы не услышали родственники.
— Привет, — ответил Харьюнпя, понижая голос, ибо и он не хотел, чтобы Макконен ощутил встречу с казенными буднями. Он прижался к вешалке, чтобы пропустить пришедших, и почувствовал вдруг удушающее прикосновение меховой шубы к своему лицу. Закрывая дверь, Харьюнпя мельком увидел поднимавшуюся этажом ниже женщину и услышал ее любопытствующий шепот:
— Какой ужас! Что случилось? Не умер ли кто? Ой, какой ужас...
Служители опустили алюминиевые носилки у кровати госпожи Рахикайнен. Их движения были синхронно точны, почти как у автоматов. Ликанен сдвинул в сторону черное байковое одеяло, а второй служитель, которого Харьюнпя не знал, накрыл носилки пластмассовой пленкой. Ликанен резким движением снял покрывало с покойной и окинул взглядом труп, как бы прикидывая, сколько он весит. Харьюнпя взглянул на Макконена, который стоял в кухонном дверном проеме, уставившись на свою кепку. Один из пришедших ухватил госпожу Рахикайнен за тощие щиколотки. Ликанен тем временем выпрямил ее руки, заломленные за голову, и крепко взялся за посиневшие запястья. При этом мужчины переглянулись. Харьюнпя заметил, как губы Ликанена безмолвно произнесли: «Раз-два, взяли!» Эдит Агнес Рахикайнен легко переместилась на носилки. Ликанен развернул войлочное одеяло и прикрыл покойную. Умелыми, быстрыми движениями он аккуратно подоткнул концы под нее. Служители заняли свои места, нагнулись, крепко ухватившись за блестящие алюминиевые ручки — ноша поднялась. Харьюнпя открыл им дверь, и, как бы перепроверяя, Ликанен прошептал, когда проходил мимо:
— Рахикайнен Эдит?
Харьюнпя кивнул.
Харьюнпя застегнул пиджак и поднял с пола служебную сумку.
— Ну, вот. Я должен вам еще сказать, что поскольку она не получала гражданской пенсии[12], вы можете обратиться за пособием на похороны в ведомство по гражданским пенсиям. — Слова выходили толчками, наскакивали друг на друга и казались дикими. Харьюнпя прокашлялся.
— Да-да... я обращусь, я позвоню. Я буду ждать вашего звонка, вы сообщите мне о результатах, — произнес Макконен высоким голосом, в котором слышался страх за то, что боль вырвется наружу.
— Ну ладно. Пойду. До свидания. — Харьюнпя пожал сухую и холодную руку. — И... от себя лично... мои соболезнования... в вашем горе, — добавил он смущенно, ибо чувствовал, что эта пустая фраза всего лишь привычный стандарт и сказана даже ради некоторого самоуспокоения. Выходя в переднюю, он старался не думать, каково сейчас Макконену остаться одному в пустой квартире в обществе фарфоровых зверьков и всадников в тюрбанах. Харьюнпя не взглянул на шубу и парик, но мысленно увидел, как Макконен, давясь подступающими к горлу рыданиями, убирает их в платяной шкаф.
Харьюнпя спустился по ступенькам вниз. Он не бежал, а ступал на каждую ступеньку. Литые чугунные перила позвякивали от соприкосновения с носилками где-то там, внизу. Из квартиры доносились голоса. По радио передавали музыку, где-то постукивала посуда, где-то совсем близко плакал маленький ребенок. Все это были голоса жизни. Они повторялись так изо дня в день, такими же их слышала госпожа Рахикайнен, и такими же они останутся во веки веков.
Харьюнпя закурил только на третьем этаже. Именно в этот момент, на грани осознанных и неосознанных мыслей и чувств, возникло ощущение, что он еще молод и будет долго жить. На нижнем этаже он заметил, что первая белка на орнаменте, украшавшем стены, сидит в отличие от остальных и держит в лапах еловую шишку.
ГЛАВА 5
Дежурка уголовной полиции находится в доме на углу Александеринкату и Софиянкату. Она — на уровне тротуара, и поэтому звуки уличного движения, особенно грохот трамвайных вагонов на стыках, беспрепятственно проникают внутрь. Вход для посетителей со стороны Александеринкату. Первая дверь слева ведет в справочное бюро, окрашенное в слащавый розовый цвет; помещение делит надвое массивная изогнутая стойка. Она сделана с таким расчетом, чтобы о нее было удобно опереться, однако редкий посетитель осмеливался поставить на нее локти, потому что по другую сторону сидят дежурные.
На Александеринкату выходят также помещения старшего дежурного констебля и картотеки. А во двор выходят кабинет дежурного комиссара и приемная, где в ожидании своей очереди, среди клубов табачного дыма, пота и винных испарений сидят вызванные на допрос свидетели, а также мелкие преступники. Комнаты соединены между собой узкими запутанными коридорами. Каменные плиты, которыми выложены полы, изрядно износились; к тому же они на несколько сантиметров выше полов в комнатах. Все помещения страшно захламлены и замусорены, чего не в состоянии скрыть производимый время от времени дешевый ремонт. Кроме того, ряд помещений находится в смежных и соседних строениях, поэтому образовался неповторимый лабиринт из дверей и перегородок, который по своей запутанности и сложности мог поспорить с органами пищеварения крупного рогатого скота.
Кабинетом для личного состава подразделения служила комната площадью около тридцати квадратных метров. Ее окна выходили на Софиянкату; здесь уживались спешка и ожидание, сигаретный дым и запах пылающих в печи дров. В кабинете вечно царили шум и гам. Только в предрассветные часы тут слышался стрекот пары пишущих машинок, а в остальное время разговоры, смех, телефонные звонки, стук дверей, болтовня телевизора и шум уличного движения создавали такой грохот, что никого в отдельности невозможно было услышать. Дежурные работники сидели за письменными столами, расставленными вдоль стен, под окнами, и строчили на машинках свои донесения.
Ход расследования вырисовывается постепенно, шаг за шагом, обретая свое жесткое документальное воплощение иногда на двух, иногда на пяти страницах, после чего начинается длительное следствие, а затем и судебный процесс. Некоторые дела, доведенные в этой спешке до конца, попадают в Верховный суд, однако большинство — в папки без названий или с очень коротким — «темные».
Харьюнпя сидел за одним из столов в отделе по борьбе с насилием. Стол был последним в ряду; около него находилась дверь, ведущая в помещение для отдыха дежурных. Рядом было единственное открывающееся окно.
В отсутствие Харьюнпя поступила информация о новом происшествии, о чем ему своевременно сообщили по радио, но по вышеизложенным обстоятельствам это не достигло цели. Сообщение поступило из больницы Мейлахти. Покойник, мужчина, умер во время операции, когда ему удаляли опухоль с сердечной сумки. Все необходимые для заключения сведения Харьюнпя получил по телефону.
В спешке и шуме было трудно сосредоточиться. Ход мыслей Харьюнпя неоднократно прерывался, предложения получались тяжелые и неуклюжие, он измучился, стирая резинкой опечатки на всех пяти экземплярах своего рапорта. Печатая, он то и дело посматривал на специальный настенный телефон в ожидании звонка, в этом случае на передней панели загорится зеленый сигнал срочного вызова и дежурный сообщит об очередной поножовщине. Был понедельник, и город томился от послепраздничного похмелья. А это влекло за собой различные осложнения, и пара ножевых ударов представлялась вполне естественной. При каждом звонке Харьюнпя вздрагивал и поднимал голову, с минуту ждал, затем с облегчением продолжал свой рапорт, ибо вызывали кого-то другого. А кроме того, его тревожило что-то связанное со смертью Эдит Рахикайнен. Он не мог объяснить себе, что именно, но был уверен, что это не имело непосредственного отношения собственно к происшествию или к его расследованию.
Рапорты были готовы только в начале восьмого, что не делало чести Харьюнпя: слишком много времени у него ушло на два обычных документа. Он вытащил сигарету; по правде говоря, ему вовсе не хотелось курить, но он закурил, чтобы чем-то занять себя. Погасив спичку, Харьюнпя откинулся на стул, втянул дым глубоко в легкие и выпустил его через ноздри. Во время ночного дежурства он курил так много, что к утру язык немел и не ощущал вкуса. Полузакрыв глаза, Харьюнпя лениво прислушивался к шуму и гаму в комнате. Группа по расследованию краж жила в вечной спешке, и, хотя дежурило там всегда по три человека, они были вечно в разъездах. В разгар работы у «ворюг» один рапорт находился в пишущей машинке, четыре ждали своей очереди на столе, а потерпевший — иной раз и двое сразу — сидел в приемной. И вдобавок ко всему дежурный вызывал кого-нибудь на очередной выезд. Напряжение получалось несоразмерное, особенно если учесть, что у работников других подразделений часто выдавалось время посмотреть телевизор и даже поспать.
Нагрузка у «ворюг» была прежде всего физическая: спешка, беготня до одурения, быстрое расследование дела и переключение на следующее. В Насилии же нагрузка была иной — внешне почти незаметной, но постоянное напряжение не давало покоя даже дома, сказывалось на сне. Его порождала специфика работы: сбор клочьев человеческого тела на железнодорожных путях; год за годом освидетельствование покалеченных людей и трупов; общение с глубоко несчастными людьми и оказание им помощи. Это тягостное состояние постепенно становилось нормой. Особенно остро ощущалось оно после того, как человеку удавалось какое-то время побыть вне Насилия, хотя объяснить почему — невозможно; просто словно какая-то сила ослабляла свою хватку и влияние на мысли и все твое существо.
Харьюнпя часто пытался осмыслить это состояние. Поначалу ему казалось, что он единственный из сотрудников, кого подавляет это напряжение, и почти уверился, что избрал не тот жизненный путь. Однако со временем выяснилось, что и остальные работники испытывают то же самое. Просто каждый старался скрыть свое состояние, и это было естественно, ибо никто не хотел прослыть слабаком во мнении других. У каждого, кроме того, был свой способ преодоления этого напряжения. Почти каждый чем-то увлекался: один возился с автомобилем, другие занимались спортом или охотой, но большинство в головой уходило в семейную жизнь. Домашние дела настолько преобладали в мыслях сотрудников, что постороннего очень развлекли бы жаркие споры мужчин о достоинствах той или иной стиральной машины или детских пеленок. Исключение составляли те, кто оказывался неспособным подобрать ключ к разрядке. Со временем у них начиналась депрессия и они исчезали из Насилия.
Харьюнпя сомкнул было глаза, но тут же подумал, не позвонить ли домой. Звоня с работы, он почти ни о чем не мог говорить с Элизой, и беседа всегда сводилась к обмену пустыми фразами — «ну как там», «ну что там». В заключение Элиза диктовала ему длинный список продуктов, которые надо купить на рынке, а Харьюнпя ненавидел покупать продовольствие, потому что торговцам удавалось всучить ему товар но самой дорогой цене или продать гнилье. Харьюнпя не любил звонить с работы также и потому, что в полицейском телефонном центре — почти музейной редкости — переговоры переплетались и путались. Именно в тот самый момент, когда хотелось сказать жене что-то интимное и нежное, на линии слышался издевательский смешок или кто-то громко спрашивал, не нашлись ли наконец рождественские свечи, украденные с чердака Лофгрена. Единственно, что побуждало его звонить, — это желание услышать взволнованно-торопливые слова привета и дрожащие от напряжения пожелания доброй ночи Паулы. Харьюнпя сделал последнюю затяжку и сунул остатки сигареты в автомобильный поршень, служивший пепельницей. Тут же он вспомнил, что Элиза всегда осведомляется, спокойно ли проходит дежурство. Если он отвечал утвердительно, то в следующие полчаса обязательно случались по крайней мере две драки с поножовщиной. При мысли о поножовщине Харьюнпя пробрала дрожь. Он снова опустился на стул, получше загасил сигарету и огляделся по сторонам. Никто не смотрел на него. На панели дежурного телефона не светился сигнал. Страх исчез так же быстро, как и возник. Харьюнпя стало сначала неловко, но он тотчас убедил себя, что сможет провести любое расследование не хуже кого угодно. И успокоился, ибо знал, что так оно и будет.
Поднимаясь со стула, Харьюнпя подумал, что если уж чему-то неприятному суждено произойти, то оно произойдет. Он подумал также, что никакими пожеланиями не изменить естественного хода событий. Напрасно тревожить себя загодя, лучше принимать каждую минуту такой, какой она оказывается, и приступать к исполнению своих обязанностей, когда в этом возникнет необходимость. Под прикрытием письменного стола Харьюнпя приоткрыл портфель, сунул руку в его карман и кончиками пальцев нащупал фигурку фарфорового слоненка. Переложив маленькое коричневое создание в боковой карман пиджака, он почувствовал себя спокойней. Он все же решил позвонить домой: уж очень ему захотелось услышать голосок своей дочурки. Он быстро направился к дощатой кабине, где лучше было слышно и не так мешал кабинетный шум. Он спешил добраться до телефона прежде, чем раздастся очередной звонок и кто-нибудь спросит, можно ли принести задержанному Ниеменену сигарет и соленых орешков.
Однако Харьюнпя все же опоздал. Он, правда, успел поднять трубку и набрать номер, но в это время заработал дежурный телефон. Звонок у него был низкий, повелительный. Он хорошо был слышен в кабине, хотя Харьюнпя Плотно прикрыл за собой дверь. Он подождал минуту, лелея надежду, что вызов адресован «ворюгам». Он держал трубку в руке и чувствовал, что вызов адресован ему. Именно ему, потому что он собрался позвонить домой и сообщить, что вечер проходит спокойно.
— Насилие... слышишь, дежурный по Насилию? — В мегафоне звучал голос Хуско, дежурного по городу, неузнаваемый, с каким-то металлическим оттенком. — Насилие-е... Харьюнпя? Эй, где Харьюнпя?
С минуту Харьюнпя стоял не шевелясь. Затем бросил трубку на рычаг, носком ботинка отворил дверь и вылетел наружу, как чертик на пружинке. Он бросил взгляд на дежурный телефон — малоприятный аппарат, разделенный пластмассовыми кнопками на клетки; сбоку на аппарате мерцал зеленый сигнал тревоги.
— Да, Харьюнпя слушает. Что случилось? — Ему страшно было назвать свое имя. Он вслушивался в свой голос. Какой-то чужой, необычно твердый и суровый.
— Слушай. Давай сюда... на выезд. На Питкямяентие... происшествие. — Харьюнпя уловил в голосе Хусконена ту же собранность, которая делала и его голос странно чужим. — Да, слушай. Там произошел взрыв, в результате которого обвалился частный жилой дом.
Харьюнпя почувствовал, как все в нем сжалось. Он затаил дыхание. Взрыв. Харьюнпя как бы принюхивался к этому слову, еще не вполне понимая его значения. Он изучал его так же, как маленькая Паулина какую-нибудь новую вещь, о которой раньше ничего не знала. Взрыв. Внезапно до Харьюнпя дошло все, что связано с этим словом. Ужасный грохот, которого лучше не слышать.
— Эй, ты слышишь меня? Харьюнпя?
Харьюнпя вздрогнул. Ему показалось, что он стоит тут целую вечность, хотя на самом деле прошло всего две секунды.
— Да, едем, едем, — произнес он едва слышно, почему-то употребив глагол во множественном числе. Это как бы означало, что ответственность лежит не только на нем, за ним — его товарищи. Сигнал вызова погас. Клетчатая противная физиономия превратилась в обычный телефон, безжизненную машину. Харьюнпя посмотрел вокруг. Шум и гам по-прежнему продолжались. Он остался доволен: не было свидетелей той гаммы переживаний, которая могла отразиться на его лице.
Харьюнпя двинулся дальше застоявшимися ногами. Он дошел уже до двери комнаты ожидания, но тут остановился, повернул назад и вновь окунулся в суматоху рабочей комнаты.
— Турман, Турман, эй! — закричал он с порога сотруднику технического отделения, сидевшему в заднем углу комнаты. — Турман! Бери... Надевай пиджак! Вызов... был вызов... на выезд! — крикнул он и захлопнул дверь, не дожидаясь ответа. По коридору он пустился бегом, тем более что никто его не видел. Ворвавшись в комнату ожидания, он попытался на виду у посторонних людей сбавить скорость и перейти с бега на шаг, но уже не смог и промчался через все помещение вприпрыжку, смешно прихрамывая на левую ногу. К счастью, он не успел заметить любопытные взгляды, появившиеся на отупелых лицах посетителей.
Харьюнпя потянулся через стойку, за которой сидел дежурный, — тут уж он заставил себя успокоиться.
— Что... что там? — спросил он, не выдавая волнения.
— Звонил какой-то Кольйонен, дважды. Первый вызов прервался... он был так дьявольски взволнован, что забыл назвать адрес. Питкямяентие, пять, динамитным взрывом уничтожен жилой дом. Деревянный, частный. По крайней мере половина разрушена, заявил этот самый Кольйонен. — Хусконен старался говорить быстро, но находился во власти, пожалуй, еще большего напряжения, чем Харьюнпя.
— Есть жертвы?
— Жертвы? Я... еще... об этом сообщений не поступило. Но один ранен. Возьми-ка с собой парня из технического отделения, — сказал Хусконен как бы в утешение. Он потряхивал в замешательстве правой рукой, к указательному пальцу которой прилипли золотисто-желтые чешуйки копченой салаки. Перед ним на столе, под телефонным полицейским справочником, лежал пропитанный жиром бумажный кулек с копчушкой. Копченая салака оказала положительное действие на Харьюнпя. Он вдруг совсем успокоился. На мгновение он ощутил себя некой самостоятельной силой, чем-то вроде представителя официальной власти, который, обладая должной компетентностью и полномочиями, отправляется извлекать погибшую семью из-под обломков разрушенного дома.
— Ну, что ж. Надо идти. Туда, наверно, уже прибыла пожарная команда?
— Я... да, этот самый Кольйонен сказал, что позвонит пожарным. «Скорая помощь» уже в пути, — смущенно ответил Хусконен, так как в спешке забыл сделать все, что требуется в таких случаях. Он был человеком уже пожилым, и неожиданно возникшая ситуация часто вызывала у него спазм сосудов головного мозга, как при приступе болезни Паркинсона. — Сообщи по рации, если положение там окажется действительно сложным. Я позвоню Сутелину — может понадобиться его помощь, — добавил он, но Харьюнпя уже не слышал. Вторая дверь проходной громыхнула за ним.
Турман стоял в коридоре и медленно натягивал пиджак. То, что он молниеносно оказался в коридоре, произошло исключительно благодаря окрику Харьюнпя. Обычно Харьюнпя излагал суть дела спокойно и осторожно, будто чувствуя неловкость оттого, что вынужден тревожить других.
— Ну? Что за чудеса там приключились? — спросил Турман с минимальным любопытством в голосе. Это был рослый неуклюжий медведь, в руках которого кисточка для снятия отпечатков пальцев и фотокамера выглядели крошечными. Он считал делом чести сохранять на лице застывшее выражение скуки.
— Питкямяентие. Динамитным взрывом разрушена часть деревянного жилого дома. Сведений о жертвах не поступило, один ранен, — сообщил Харьюнпя таким спокойным голосом, будто говорил, что на улице идет дождь. Это принесло ему удовлетворение.
— Вот чертовщина. Неужели правда? Ну и ну. Пошли, — тихо пробурчал Турман, и но выражению его лица Харьюнпя понял, что и он в эту минуту предпочел бы сидеть дома. Харьюнпя взял из задней комнаты свой пиджак и сумку с набором инструментов.
Рысцой они пересекли двор. Харьюнпя бежал впереди, а Турман семенил короткими шажками за ним — ему мешала свешивавшаяся с плеча сумка с фотоинструментом.
— «Вольво»... возьми «вольво»! — крикнул Турман и распахнул ворота старой конюшни, где сейчас находился гараж.
Служащие технического отделения, в котором работал Турман, занимались своим делом у всех на глазах: снимали отпечатки пальцев, фотографировали место происшествия. Отделение располагало двумя машинами. Одна — обыкновенный полицейский фургон — «черный воронок», а вторая — более юркая и быстрая — «вольво». Автомобили ничем не отличались внешне от других полицейских машин, но внутри были укомплектованы дорогим и разнообразным оборудованием. В них имелось все, что может потребоваться на месте происшествия, начиная с порошка для выявления отпечатков и кончая миноискателем и пуленепробиваемым жилетом. Эти две машины были к тому же в уголовной полиции единственными снабженными световой и сиренной сигнализацией.
Турман уже включил мотор, когда Харьюнпя подсел к нему. Не найдя места для своей сумки, Харьюнпя заключил ее в объятия. Колеса автомобиля завыли и закрутились по бетонному покрытию гаража. Руль заскрипел под тяжестью больших волосатых рук Турмана, «вольво» выскочила наружу. Харьюнпя уперся ногами в пол. Он был почти уверен, что они врежутся в противоположную стену. Однако машина вовремя развернулась и, цепляясь колесами за каменное покрытие, выскочила на улицу. Турман был опытным водителем.
— Ха-ха-а! — победно вырвалось у него.
Автомобильные фары отразились в окнах столовой. Машина сделала вираж и выехала на Софиянкату.
— Рванем с шиком! Под органную музыку, — крикнул Турман.
Харьюнпя услышал шум электромоторов, и «мигалки» завращались на крыше. Турман долго выжимал газ на второй скорости. Задняя часть «вольво» стала раскачиваться, колеса скользили по трамвайным рельсам. На пересечении с Катаринанкату Турман сдвинул прерыватель в крайнее положение — из-под капота раздался вой. Сначала звук показался незнакомым. Только прислушавшись, Харьюнпя распознал резкий вой сирены — «тии-таа». Харьюнпя прижал сумку крепче к себе. Ему показалось, что от раздирающего воя сирены скорость стала еще больше. Турман держал мотор на больших оборотах, но ехал осторожно. Они удачно миновали Марианкату и углубились в Похейсранта.
Харьюнпя крепче упирался ногами в резиновый коврик, когда Турман прибавлял скорость. Он вслушивался в тоскливый и зловещий вопль сирены. Ее голос завораживал. Самое странное, что он разносился равномерно, не приближаясь и не удаляясь, как это бывает; когда стоишь на улице, провожая взглядом «скорую помощь». Звук то растекался, то взмывал вверх и снова снижался, режа слух, — Харьюнпя не мог понять, находится ли он внутри этого звука, вещавшего о чем-то недобром, или звук проник в него и угнездился в голове.
Харьюнпя всего несколько раз ездил на вызов срочно, по тревоге, однако он уже не впадал в состояние душевного опьянения, как это было при первых выездах. Он следил за лицами прохожих, поворачивавшихся в сторону «вольво», — они проносились мимо бледными пятнами. Он смотрел на тормозившие и уступавшие им дорогу автомобили, на молниеносные отражения в витринах нервно мигающих сигнальных огней. Харьюнпя вынужден был признаться, что получает наслаждение от бешеной гонки.
Без труда они выбрались на Хяментие, но на перекрестке с Мекелинкату их ждал красный свет. Перед светофором уже успел выстроиться приличный хвост, и Турману не оставалось ничего другого, как встать в конец.
— Вот чертовщина! Что, у них уши воском заложены, что ли? Эй, пропусти... не замечает! Дьявольщина! — Турман кричал, чтобы Харьюнпя понял его.
Очередь нервно задергалась. Вспыхнули тормозные огни. Кто-то подал сигнал. Турман с досадой поколотил ладонью по рулю «вольво».
— Он, видите ли, прочищает свой моторчик, ай-ай-ай, как он старательно его прочищает!. У него скоро пот рекой польет по затылку. Посмотри, как он ковыряется! — Турман пытался вложить в свои слова всю злость, которая переполняла его, однако от злости голос его дрожал, точно он плакал. Харьюнпя вдруг почувствовал всю нелепость положения: сидишь в неподвижном автомобиле, а он так адски воет, что звук рикошетом отскакивает от каменных стен. Харьюнпя просто не мог смотреть на людей, собравшихся на тротуаре. Без всякой нужды он открыл служебную сумку, будто ища в ней что-то. В руку попался термометр.
— Поехали. Не можем же мы киснуть здесь! Послушай! Я сейчас рвану через эту площадку у трамвайной остановки! Бандажи лопнут... ну и черт с ними, пусть потом присылают счет! Старший констебль Турман оплатит! — Баранка заскрипела в руках Турмана, когда он стал резко выворачивать передние колеса влево. Он прибавил газ. Каменный бордюр был высоким. Машина, покачиваясь, с трудом перевалила через него. Выхлопная труба «вольво» царапнула по площадке, и машина неуклюже плюхнулась на трамвайные рельсы уже по другую сторону. Турман прибавил скорость. Автомобиль сильно накренился, поворачивая на Мякелинкату.
— Понаставили везде эти дурацкие площадки, — не унимался Турман.
Харьюнпя молчал.
Движение на этой улице было небольшое, и они быстро помчались вперед. У Софийской рощи они обогнали санитарную машину.
— Смотри, смотри, — не сумел скрыть своего удовлетворения Турман. — Неужели хоть раз прибудут на место раньше пожарных? А за баранкой-то правильный мужик...
Санитарный автомобиль навел Харьюнпя на мысль о том, что ждет их на месте происшествия. Его зазнобило. Ему представилась детская кроватка, стиснутая потолочными балками, и высунувшаяся оттуда маленькая ручонка. У самого Харьюнпя руки были сухие, морщинистая кожа на них была туго натянута. Харьюнпя до смерти хотелось выйти из машины. Он вздохнул.
Начало расследования всегда было самым трудным для Харьюнпя. Возникновение незнакомой ситуации напоминало скользкую стену, которую он никак не мог преодолеть. Все тогда обрушивалось на него запутанным клубком: опрос потерпевших, беседа с брандмейстером, сбор свидетелей, осмотр погибших... Харьюнпя не мог решить, с чего начать. Он потерся лопатками о спинку сиденья и стал теребить кожаную ручку служебной сумки. Начинать всегда трудно. Именно здесь возникала опасность заклиниться, погрузиться в бестолковую суету, кидаться от одного к другому, лишь бы что-нибудь делать. Харьюнпя знал, что прежде всего следует спокойно осмотреться, оценить ситуацию и мысленно воссоздать, как все было. Однако вездесущие любопытные, безмолвно уставившиеся на него с глупым выражением лица, часто вынуждали его все же излишне суетиться и спешить. Ведь он же чувствовал их нетерпение, желание видеть, какие он предпринимает шаги.
На Тусулантие Харьюнпя краем глаза посмотрел на Турмана. Тот размеренно двигал челюстями, будто во рту у него была жевательная резинка. Но рот Турмана был пуст. Он разминал челюсти. Когда он сжимал зубы, на щеке образовывалась впадина. На ее краю при этом выпячивался пучок невыбритой щетины. Харьюнпя не без некоторого злорадства понял по выражению лица Турмана, что тот далек от своего традиционного спокойствия.
Они съехали с автострады близ Оулункюля, промчались по мосту и дальше — мимо торгового центра Сурсуо.
— Радио пока молчит. Может, запросить дополнительную информацию в местном участке?
— Нет, не надо. Они, возможно, и не знают ничего. Это третий район, он относится к Малми или Хаге. Да, кроме того, мы уже почти на месте. Скоро сами все увидим...
— Питкямяентие... где же... может, оттуда — прямо с конца?
— Да-а, пожалуй.
— Это, видно, и есть Питкямяентие. Какой номер? Пятый? — Турман вырубил указательным пальцем белый прерыватель на панели. Вопль сирены сразу оборвался. Наступила удивительная тишина. Она показалась такой же необычной, как и вопль сирены, когда они только двинулись в путь. Харьюнпя слышал теперь, как барабанили шины по дороге. Только мигалки на крыше продолжали вращаться. Об этом свидетельствовал шум электромотора и отблески на антенне. По обе стороны улицы тянулись коттеджи, кусты цветов, какая-то женщина прогуливала собаку. На Питкямяентие было тихо, слишком тихо, не видно любопытствующей человеческой массы или синих всполохов пожарных световых сигналов. Харьюнпя почувствовал, как запульсировала артерия на шее. Сомнение будто льдом сковало его мысли, он даже не успел их сформулировать, когда Турман высказал то, чего он опасался:
— Харьюнпя... черт возьми. А ты уверен, что это именно на Питкямяентие?
Харьюнпя стал поспешно обшаривать карманы. Но не нашел памятки. Он даже не был уверен, что захватил ее с собой.
— Да-а-а. Это должна быть Питкямяентие... — Голос его звучал слабо и несмело, в голову пришла мысль, что с таким же успехом это могла быть и Раппавуорентие.
— Номер один — вот он... остановись. Тот должен быть пятый. Но здесь ничего не горит. Да и следов от взрыва... Послушай, а если... — Турман остановил автомобиль. На улице никого не было. Они вышли из машины. Харьюнпя почувствовал, что все его тело одеревенело, он дышал коротко, прерывисто.
Турман вернулся в автомобиль и на некоторое время включил сирену. Дверь коттеджа отворилась. В светлом квадрате окна появились темные силуэты двух человек.
— Эй! Это здесь произошел взрыв?! — крикнул Харьюнпя, сложив руки рупором.
Люди не ответили. Они направились через грязный топкий двор к дорожке. Судя по звучанию их голосов, они, видимо, пререкались между собой. Харьюнпя сделал несколько шагов им навстречу. Передний — приземистый, коренастый, дородный мужчина. На ногах — клетчатые домашние войлочные туфли, дворовая глина уже успела измазать их.
— Здесь произошел взрыв? — повторил Харьюнпя.
— Взрыв? Да, черт возьми, рвануло! — сердито бросил мужчина. И взмахнул рукой в направлении шедшего рядом, одетого в комбинезон.
— Вот этот мерзавец и взорвал, да еще как. Все разлетелось вдребезги... все пропало. Ты мне за это заплатишь, Хонканиеми. Каждую Христову копейку заплатишь! — заявил мужчина человеку в комбинезоне.
У Харьюнпя не было уверенности, что он действительно взбешен — скорее гнев его был наигран.
— Ну, ну... Это вы Кольйонен? Вы звонили? — спросил Харьюнпя строго официально. Одновременно он почувствовал облегчение, поняв, что ничего трагического не произошло.
— Кольйонен? Конечно, Кольйонен — это я. Да, да. Не стоял бы я иначе во дворе дома Кольйонена. — Кольйонен повернулся в сторону дома и, сложив ладони рупором, совсем как Харьюнпя минутой раньше, крикнул: — Мать! А, мать! Мать, иди сюда! Санитарная машина пришла!
— Нет! Послушайте, это не... это полицейская машина. Санитарная машина в пути, — быстро произнес Харьюнпя. — А что вообще тут происходит? Жертв нет? Пошли в помещение, посмотрим. — Харьюнпя почувствовал вдруг злость. Он стал догадываться, что дело и выеденного яйца не стоит.
— Не надо, не надо. Ты, парень, на меня не дави, — заявил Кольйонен, явно ища предлога для ссоры, однако все же неуклюже заковылял по дорожке. Харьюнпя последовал за ним, мужчина в комбинезоне шел сзади. Турман остался разбираться со своими фотопринадлежностями, лежавшими на заднем сиденье.
— Жертв, значит, нет? — спросил Харьюнпя еще раз.
— Да нет. Вот от страха полумертвые, пожалуй, все. Ну и ну! Эта еловая голова рванула без предупреждения там в углу.
— Я... По оплошности, нечаянно. Заранее же не знаешь. Даже земли не выбросило. Там скала. Из-за нее так и тряхнуло, — сказал Хонканиеми в свою защиту.
— Выбросило землю или нет, раскошеливаться все равно придется. Это уж точно.
— Да чего уж там, я же не... да и вообще виноват взрывник.
— Давайте посмотрим прежде... — Харьюнпя понял, в чем дело, еще до того, как вошел внутрь. Чувство облегчения усилилось. Оно, словно теплый ветер, проникло в его мысли. Однако вместе с облегчением появилась и свербящая злость, ибо стало ясно, что и владевшее им недавно напряжение, и ожидание, и автомобильная гонка — все было без толку.
Мужчины поднялись по ступеням крыльца и вошли в прихожую, напоминавшую железнодорожный вагон. Снаружи послышались звуки сирены приближающейся санитарной машины. Харьюнпя показалось, что он слышит и вторую сирену, и тут же подумал — хорошо бы Хуско забыл вызвать пожарную команду. Грязные ботинки загромыхали по особняку. Все двери в прихожую были выбиты. Кольйонен промаршировал прямо к двери черного хода, но Харьюнпя заглянул из прихожей в комнаты. Одна дверь вела в гостиную. Перед ним была обычная гостиная, похожая на тысячи других финских гостиных, обставленных стандартной мебелью, которую торговцам удается наиболее успешно сбывать. В комнате главное место занимал телевизор. Везде царил полный порядок. Ничто не намекало на происшедший недавно взрыв.
На диване лежала немолодая женщина. На ней было пальто, на ногах — зимние ботинки. Нечесаные волосы, напоминали лошадиную гриву, в них виднелось несколько папильоток. Женщина прикрыла глаза, подняла плечи, и стянула на шее отвороты пальто. С минуту Харьюнпя вглядывался в нее, но не обнаружил ничего страшного. Женщина, несомненно, была напугана, а кроме того, была в ней подчеркнутая, инфантильная беспомощность, к которой взрослый человек прибегает лишь в критических ситуациях. Возле дивана, спиной к двери, сидела на корточках молодая женщина.
— Мама! Мамочка! — говорила она лежавшей на диване женщине, которую Харьюнпя принял за госпожу Кольйонен. — Глотни вот это, и порошок пройдет вместе с водой.
— Ой-ой... твоя мама умирает... ой-ой-ой... сейчас помру...
— Не надо. Мама, золотко, не надо... попробуй хоть. Все уже прошло. Больше нечего бояться. Мама, золотко... — Молодая женщина пыталась говорить сладким, примирительным тоном, однако стоявший у двери Харьюнпя различал нотки наболевшей обиды, отчего буквы «с», свистя, слетали с ее языка. Он подумал, что девушка, наверняка с удовольствием выплеснула бы содержимое стакана на синие пластмассовые папильотки пожилой женщины. Он громко кашлянул.
— Добрый вечер. Уголовная полиция. Что с ней?
Дочь Кольйонена поднялась на затекшие ноги и повернулась к Харьюнпя.
— Что с ней? — повторил еще раз Харьюнпя.
— Что? Что с ней? — повторила девушка, передразнивая Харьюнпя. — Сердечный приступ, конечно. Год назад был первый... хорошо, что все обошлось. А теперь вот это. Ой, господи боже мой...
— Санитарный автомобиль, наверно, уже во дворе. — Харьюнпя очень сомневался в достоверности сердечного приступа. — Обойдется и на этот раз, — добавил он участливым и одновременно раздосадованным тоном, только сейчас поняв, что госпожа Кольйонен и была той самой пострадавшей, упоминавшейся в вызове. Девушка вертела в руках стакан, разглядывая пузырики на поверхности воды.
— А, черт бы все это побрал, — вздохнула она, поднесла стакан к губам и опустошила несколькими глотками.
Харьюнпя прошел в прихожую. Кольйонен стоял в дверном проеме, выпятив живот, уперев руки в дверной косяк. При появлении Харьюнпя он быстро шагнул в сторону. Сдвинулся как занавес и протянул руку в сторону кухни.
— Посмотрите, будьте любезны! Сыщик, смотрите же: все вдребезги! Все вдребезги расколошматил!
Харьюнпя остановился на пороге. На кухне царил хаос: разбитая посуда, разорванные мешки с мукой, висящие на петлях двери, разлетевшиеся во все стороны изюминки и зубочистки. Однако все это выглядело сущей ерундой по сравнению с тем, к чему приготовил себя Харьюнпя, когда ехал сюда. Он разглядывал грязь, покрывавшую пол и мебель, пытаясь сохранять непроницаемое выражение лица. Окно не было выбито — камни даже не попали в жилое помещение. Ни на стенах, ни на потолке не было видно щелей или трещин. Противоречивые чувства одолевали Харьюнпя. Этот, по сути дела, безосновательный вызов так раздосадовал его, что ему захотелось пнуть изо всех сил банку с кофе, чтобы она ударилась о стенку, и сказать Кольйонену что-нибудь эдакое. Но он знал, что не способен на такое, да к тому же испытывал огромное облегчение от сознания, что отделался легким испугом, тогда как мог ведь весь остаток ночи разыскивать обуглившиеся трупы среди развалин. Он лишь мысленно наказал Кольйонена. Представил себе, как бы тот выглядел распростертым на кухонном полу, с волосами, полными муки и изюма.
— Ну ладно. Значит, это все? — безразлично спросил Харьюнпя.
— Все? Какого черта! Да разве этого... этого не достаточно? Господи помилуй! Человек поднимает на воздух чужой дом, а полиция спрашивает, все ли это! Ну и ну! А ну-ка... все сюда... куда это мир идет? Всё дерьмо! О, господи, помоги!
Турман и Харьюнпя возвращались в отдел молча. После долгих раздумий Харьюнпя решил все-таки взять это дело в производство, хотя возмещение убытков в результате взрыва и выяснение причин входило в компетенцию отдела по поддержанию порядка.
Обычно, возвращаясь с расследования, сотрудники пребывали в хорошем настроении, вызванном разрядкой нервного напряжения. Теперь же они ехали молча. У Харьюнпя было неприятное чувство, что его провели за нос. Ему стыдно было за свой напрасный страх. Стыдно и за суету, за спешку и излишний шум при отправлении. Стыдно и неловко, и он злился на себя, вспоминая, как они мчались через весь город под рев сирены. Харьюнпя избегал смотреть в глаза Турману. Он не мог знать, что настроение Турмана мало чем отличалось от его собственного. Турман попытался первым поставить точки над «и», но и то лишь в начале автострады.
— Ну и взрывчик был. Ха! Сведений о человеческих жертвах нет, — начал он.
Харьюнпя по интонации попытался определить, куда тот клонит, но не обнаружил издевки, по крайней мере в отношении себя.
— Да-а-а. Ну и ну... — протянул он.
— Однако одна жертва все же могла быть — тот мужик. Он меня здорово взбесил. Пришел советовать, что фотографировать, ну и зануда, — продолжал Турман, и Харьюнпя счел возможным согласиться с ним.
— Да, он и мне осточертел. Он, дьявол, и сам не понимал, что делает. Меня так и подмывало дать ему пинка, когда он метался и показывал: вон там и вон там еще макароны...
Они посидели с минуту молча, как бы прощупывая друг друга.
— Немножко лишнего сыграли на трубе...
— Да... но откуда мы тогда могли знать. Ложная тревога бывает даже у пожарных.
— Что и говорить. Уж лучше ехать открыто, с шиком — при сирене и огнях, чем втемную плестись вместе с остальными.
Турман был прав. Полиция пользовалась сигналами тревоги гораздо реже, чем того требовала необходимость. К сирене и световым сигналам относились стыдливо. Считалось, что включать их — мальчишечья суета, и поэтому даже в спешных случаях шли с погашенными огнями. Большинство аварий с полицейскими машинами происходило именно потому, что они лишь частично пользовались системой тревоги — включали малозаметную сигнальную лампу на крыше. Отсюда понятно, почему Турман и Харьюнпя так досадовали на себя.
Турман отогнал «вольво» в гараж, Харьюнпя не стал помогать ему. Он спешил войти в помещение.
ГЛАВА 6
Просмотрев вечерние сообщения, Харьюнпя пошел в свой отдел и присел к столу. Он прочел составленные им отчеты и с удовлетворением отметил, что в них не было ни одной ошибки. Расследование взрыва он оставил на конец. Придерживая рапорт кончиками пальцев, он трижды просмотрел его и, вспоминая это дело, почувствовал еще раз стыд. Хуско и дежурному комиссару он доложил о происшествии поверхностно и с облегчением вздохнул, когда ни тот, ни другой не стали расспрашивать о подробностях. Турман тоже помалкивал. Он не стал вопреки обыкновению рассказывать о головоломном маршруте, мгновенных разворотах и панике, которую он посеял среди водителей.
Вечер для Насилия был тихим. Харьюнпя выезжал всего на три вызова, но ни один из них не повлек за собой расследования. Харьюнпя решил посидеть еще некоторое время, а затем пойти прилечь. Обычно во время дежурства он дожидался закрытия ресторанов и, если ничего не случалось, отправлялся прикорнуть до шести-семи часов утра, когда, как правило, происходило два-три происшествия. Люди просыпаются обычно около шести, и заботливая жена, расталкивая супруга, вдруг ощущает отяжелевшее, неподатливое, холодное плечо. Испуганно проведя рукой по лицу мужа, она понимает, что смертельный холод уже сковал его. В другом случае взрослый сын находит мать во фланелевой пижаме уже закоченевшей на полу кухни или замечает торчащую из дверного проема ванной неподвижную ногу или руку, означающую начало долгих лет тоски и одиночества.
Харьюнпя выпустил рапорт из рук, только когда почувствовал, что бумага прилипла к его вспотевшим пальцам. Он встал и пошел вымыть руки. В ночные дежурства его особенно одолевала потребность тщательно мыть руки с мылом.
Что-то тревожило Харьюнпя. Он не видел никакой тому причины, лишь предчувствовал приближение чего-то угрожающего и, выглянув на улицу, заключил, что виной всему — густой туман, который обволок молочной пеленой собор Туомиокиркко. Харьюнпя попытался прикинуть, могут ли его вызвать на очередное происшествие до окончания дежурства. Он знал, что в море, у Хельсинки, в прибрежных водах наверняка плавает сейчас по крайней мере с десяток утопленников. Совершенно очевидно, что умершие есть и на суше, только об этом пока никто еще не знает и даже не догадывается. С минуту Харьюнпя смотрел на дежурный телефон — сигнальный свет не зажигался.
Харьюнпя внезапно поднялся и без всякой цели сделал несколько шагов. Ожидание становилось невыносимым хотя бы из-за неизвестности этого ожидания, а ждал он, собственно, чтобы ожидание продолжилось до утра, а с ним и окончание ожидания. Но иногда в нем пробуждалось и противоположное желание — да свершись же хоть что-нибудь и положи конец этому кажущемуся, обманчивому безделью. Сумятица в мыслях и заставила Харьюнпя встать. Он не в состоянии был ни смотреть телевизор, ни сосредоточиться на чтении, он мог лишь ждать и изводить себя, гадая, что в данную минуту происходит где-то там.
Детективная литература и полицейские фильмы уже не интересовали Харьюнпя. Он не ощущал неприязни к ним, но и не питал интереса. Ему случалось иногда смотреть телевизионные фильмы на полицейские сюжеты, но ничего общего с его работой они не имели. И все-таки его интриговало, когда Коломбо, или Кэннон, или какой-нибудь другой полицейский герой выковыривал складным ножом из ствола дерева застрявшую там пулю или обертывал орудие убийства носовым платком, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Поступая в полицию, Харьюнпя жил в воображаемом мире, созданном прочитанными книгами и фильмами, а реальная действительность оказалась иной, это он понял в течение первой же недели. Работа его состояла в основном из расследования дел с разных сторон, а также из вечного ожидания, предвосхищения событий, пребывания в малоприятной рабочей комнате и бесконечного заполнения бумаг и анкет.
Тем временем остальные подразделения работали вовсю. Стрекотали пишущие машинки, люди входили и выходили. Кто-то прокручивал магнитофон, только что изъятый у преступника, кто-то складывал в пластмассовый мешок вещи задержанного. Харьюнпя передвигал бумажки на столе, стремясь показать, что и он занят. Однако терпения на это у него хватило лишь на несколько минут. Вскоре он обнаружил, что сидит, опершись щекой на руку, и смотрит на фотографии, висящие под стенными часами. Их было три, все в темно-коричневых деревянных рамках, и если присмотреться, то было ясно, что это увеличенные служебные фотографии. В нижней части каждой стояли имя и фамилия, затем — маленький крестик и дата. Это были фотографии работников уголовной полиции Хельсинки, погибших при исполнении служебных обязанностей. Со дня смерти последнего прошло уже около двух десятков лет, и, по мнению Харьюнпя, подкрепленному статистикой, фотографии четвертого уже давным-давно следовало занять свое место. Харьюнпя вдруг представил на месте четвертой фотографии свою. Она хорошо бы вписалась здесь, ибо на служебной фотографии у него было такое же хмурое выражение лица, как и у остальных. Вот только рамка, пожалуй, будет другая, ибо дерева такого оттенка теперь уже не достать.
Харьюнпя уже раскаивался, что дал волю воображению: теперь, бросая взгляд на стену, он видел и себя в числе погибших. Энергично помассировав затекший затылок, он вышел из служебного кабинета. В проходной остался один-единственный посетитель — бородатый босяк с расквашенным носом, который, очевидно, ждал сотрудников отдела по ограблениям. Хотя окно наружу было открыто, в комнате все же чувствовался крепкий запах табачного дыма. Со двора доносился стук: кто-то колотил в дверь камеры.
Харьюнпя сел на скамейку позади Хуско. В дежурной комнате, где принимали сообщения о происшествиях, также царила спешка, но такого гама, как в служебных помещениях, здесь не было.
— Так, так. Значит, этот вызов со взрывом оказался вроде бы с гнильцой, — сказал Хуско как бы между прочим.
— Гм... Да... Совершенно верно... но все же пришлось произвести осмотр, — безразличным тоном ответил Харьюнпя. Ему не хотелось обсуждать этот случай.
— Я вообще-то намеревался проверить сообщение, но разговор оборвался... откуда ж было знать. Говорил ведь он вполне серьезно.
— Откуда же заранее знать. Мы ведь и находимся здесь для того, чтобы разбираться в таких делах, — отозвался Харьюнпя, ибо ему показалось, будто Хуско защищается от обвинения, которого никто ему не предъявлял, и потому чувствует себя неловко. А Хуско и в самом деле чувствовал необходимость покаяться, ибо он удовлетворился слишком поверхностными сведениями о взрыве.
— Хорошо хоть, я не вызвал туда еще и пожарную команду. А собирался, хе-хе. Когда произошел взрыв газа в квартире по улице Кёуденпуноя и на место выехал Кари Хяуринен... Уголовная полиция. Алло? Да? — произнес Хуско, сняв телефонную трубку. — Да. Да... в какой части города? Ага, и вы хотите сделать по этому поводу заявление. Да, так, что там? — Хуско надолго замолчал, потирая указательным пальцем висок. Харьюнпя слышал в трубке женский голос, доносившийся до него лишь как писк. — Да, цветочный перегной. Но послушайте, ведь это всегда... да-а-а. Нет, нет, конечно, но ведь в перегное всегда есть комья. Да, даже в первосортном... нет, нет, тут, насколько я понимаю, никакого обмана нет. Комки величиной со спичечную коробку? Но это же естественно. Конечно. Подумайте об этом спокойно, по крайней мере до утра. Да. Ничего... так, пожалуйста. До свидания. —Хуско положил трубку и вдруг резко крутанулся на своем вращающемся стуле. — Вот, что называется, божий дар с яичницей. Она собиралась сделать заявление о мошенничестве ввиду того, что в заказанном ею перегное для цветов есть комья. — Хуско тряхнул головой, на его лице появилась слабая улыбка. — Да-а-а, — с силой выдохнул он и стал перебирать копии заявлений.
Харьюнпя взглянул на поседевший затылок Хуско, на рукава его свитера. Локти протерлись почти насквозь. Харьюнпя вспомнил, что Хуско любит копчушку; что на рассвете он ложится прикорнуть на эту скамейку, на которой Харьюнпя сейчас сидит. Он почему-то постеснялся спросить у Хуско, почему тот больше не возобновляет разговора о взрыве. Харьюнпя тихо сидел на скамейке. Когда стрелка часов дошла до половины двенадцатого, он решил пойти прилечь, поднялся, потянулся и как-то неестественно зевнул.
— Да-а-а. А что, если пойти вздремнуть, — сказал он, видимо, для того, чтобы Хуско знал, где он и при необходимости мог вызвать его по телефону.
Рядом с Насилием находилось помещение, заставленное шкафами для одежды сотрудников. В дальнем его конце была дверь в комнату отдыха, там же находился санузел, где пахло мылом, туалетной бумагой и березовыми вениками, сложенными у стены под окнами. Харьюнпя прошел к постелям. Комната была длинной и узкой. Она была заставлена заимствованными у армии двухъярусными железными кроватями, лишь посредине оставался узкий проход. Из глубины доносилось легкое дыхание. Харьюнпя не стал зажигать электричество: через оконные шторы пробивался отсвет уличных фонарей, и в этом сумеречном свете он видел достаточно хорошо.
Харьюнпя сбросил с себя одежду. Он пытался не замечать специфического запаха, образовавшегося в комнате за многие десятки лет. Однако запах всегда присутствовал, поскольку окна никогда не открывались.
Харьюнпя сложил одежду у изголовья в таком порядке, чтобы можно было быстро одеться в темноте. Забрался под серое одеяло — деревянные доски под матрасом отчаянно заскрипели. Поворочавшись с минуту и так и не найдя удобного положения, он смирился с тем, что к утру поясница опять даст о себе знать. Лежа на спине, он разглядывал доски верхней кровати, но не смог в темноте различить сучков на них.
Двери приглушали и отдаляли шум в рабочей комнате, отчетливо слышалось лишь позвякиванье ограничителей пишущих машинок да телефонные звонки. Ручные часы тикали под самым ухом Харьюнпя. На Софиянкату хлопнула дверца автомобиля. Наверно, это дверца «воронка» — уж очень глухой был звук. Харьюнпя чувствовал усталость, но не мог уснуть. Он знал, что причиной тому — разыгравшиеся нервы, ожидание вызова по дежурному телефону, когда загорится зеленый сигнал и голос Хуско вопросительно произнесет: «Харьюнпя?» Обычно не успевал он лечь, как его вызывали. На этот раз было иначе. Харьюнпя ждал, сжимая пальцы ног, — они терлись друг о друга в жестких носках. Было как-то странно лежать в чужой кровати, дышать спертым воздухом. С таким же успехом кто-либо другой мог быть на его месте, а он — дома, в своей кровати, ощущая боком теплое тело жены, слыша, как дочка ударяет ручонкой о кровать, и видя на потолке полоски света, просачивающегося сквозь жалюзи. Вместо этого он лежит под казенным, дурно пахнущим одеялом и ждет, когда кто-нибудь помрет и телефон сообщит ему об этом.
А лежит он на этой дощатой кровати, потому что это кровать в полицейском учреждении, и затхлая комната — это комната полицейского учреждения, и сам он — полицейский. Да, полицейский, старший констебль, который никогда не собирался стать полицейским, в молодые гады даже и не помышлял об этом. Харьюнпя закончил прохождение воинской службы так поздно осенью, что поступать куда-либо учиться было уже поздно. Он проболтался с месяц в Бюро по найму и получил место в Бюро регистрации актов гражданского состояния. Бюро это находится в подчинении полицейского ведомства. Харьюнпя получил там место исполняющего обязанности младшего констебля. С полгода он занимался выдачей метрических свидетельств, затем познакомился с Элизой, безуспешно попытался поступить на юридический факультет, после чего продолжал выписывать свидетельства о рождении. Женившись, Харьюнпя почувствовал, что необходимо пробиваться в жизни, и по совету Элизы подал заявление на подготовительные курсы, по окончании которых его и приняли на работу в полицию. И вот однажды, январским слякотным днем, он оказался в полицейской форме на Техтаанкату, на посту возле здания Советского посольства. В школе Харьюнпя никогда не мечтал о том, чтобы кем-то стать. Максимум, что подсказывало воображение, — это профессия журналиста или свободного художника, который, почувствовав потребность в деньгах, может взять и продать свою картину.
Харьюнпя повернулся на живот. Он попробовал пальцами торец кровати — поверхность была шершавая. На прошлой неделе он сказал одному из своих школьных товарищей, что работает оператором в Центре по обработке информации. Он соврал не потому, что стыдился своей профессии, а потому, что уже не видел в ней ничего своеобразного или особенного, как это было еще несколько лет назад. Тогда он с удовольствием рассказывал всем, что работает в полиции, если кто-либо из знакомых просил, то с гордостью показывал свое официальное удостоверение — жалкую карточку в пластмассовой окантовке. Теперь же он сказал, что работает оператором в информационном центре. Это никого не интересовало, а вот если бы он назвался старшим констеблем, к нему бы сразу появилось настороженно-уважительное отношение, как к священнику, который неизменно окружен какой-то особой атмосферой святости.
Харьюнпя пытался заснуть или хотя бы погрузиться в дремотное состояние, когда уже не различишь, где действительность, а где сон. Он уткнулся лицом в подушку и почувствовал под щекой комки. Тогда он снова повернулся на спину и опять увидел свою фотографию в ряду фотографий погибших сотрудников. Он сжал руку в кулак и задержал дыхание. Попытался думать о чем-то другом. Подумал, как утром пойдет на рынок, глубоко вдохнет в себя запах моря и овощей, купит кусок мясного пирога и выпьет чашечку кофе со сливками. Без двадцати три Харьюнпя наконец забылся легким сном, пробуждаясь всякий раз, когда раздавался звонок дежурного телефона или кто-то в комнате начинал двигаться.
ГЛАВА 7
Харьюнпя быстро поднялся и сел. Он слишком поздно вспомнил, что над головой у него — кровать, и ударился, о ее дощатое дно. Черт возьми, до чего больно. Он стал быстро одеваться, боясь, как бы снова не задремать после вызова Хуско. Он тщетно пытался натянуть штаны — мешали ботинки, которые он сначала надел, да кроме того, он стоял на левой штанине. Темнота и сонная одурь еще больше осложняли дело. Выйдя из себя, Харьюнпя схватился за пояс, рванул вверх штаны, но они выскользнули из пальцев и съехали на щиколотки. Только тогда он присел на край кровати, снял ботинки и начал все сначала.
Поднеся руку к окну, он выждал, пока глаза не привыкли к брезжившему за окном свету. Было двадцать четыре минуты пятого. Для утренних происшествий слишком рано. Но Харьюнпя знал, что Хуско не будил людей в это время из-за мелких дел. Он уже не помнил, что сказал Хуско по телефону, ему запомнилось только, что дело имело отношение то ли к морю, то ли к матросу, или к Меримиехенкату, то есть Матросской улице.
Сигнал на телефоне вспыхнул, когда Харьюнпя пробирался в темноте к двери.
— Харьюнпя? Ты идешь?.. Постарайся проснуться, — сказал Хуско, в его голосе нельзя было различить ничего, кроме усталости.
— Да, иду, — тихо ответил Харьюнпя, но и этого было достаточно, чтобы разбудить других. Зашелестели простыни — люди под ними перевернулись на другой бок. Кто-то позевывал, из глубины доносилось почесывание. Харьюнпя вновь повернулся в сторону двери и задвигался быстрее. Он ударился боком о последнюю кровать и не догадался, что раздавшийся при этом хруст произошел от того, что маленький коричневый слоненок, находившийся в кармане его пиджака, сломался.
В рабочем кабинете сидел в одиночестве здоровяк Хухтанен из отдела по кражам, угловатый и тихий: он всякий раз краснел, когда начинал говорить. Упершись локтем в стол и положив голову на руку, Хухтанен смотрел на блестящие куски дверного стекла, лежавшие у его ног на полу. Видно было, что он составлял в уме рапорт в таком примерно плане: «...преступление, которое по полученным сведениям произошло между 01.00 и 03.20 часами, было совершено таким образом, что дверное стекло упомянутого магазина размером 70×150 см и толщиной 5 мм, находившееся на высоте 30 см от земли, было выжато из пазов каким-то металлическим предметом, очевидно, 20 мм шириной, покрытым синей краской, в результате чего...»
При появлении Харьюнпя Хухтанен поднял взгляд и опустил кисть руки. На его щеках возле ушей проступили красные пятнышки.
— Послушай, Харьюнпя. Как это называется... багет... багет, что ли? Как это точно называется? — повторил он рассеянно. Видимо, в этот ранний час происходит сбой в мыслях, когда самые обыденные и знакомые вещи оказываются вдруг неизвестными.
— Багет? Нет... обрамление. Обрамление, насколько я понимаю.
— Ну конечно. Обрамление... как же я сам... Спасибо. Обрамление, да. — Красные точки на лице Хухтанена превратились в пятна. Харьюнпя вышел. В пустой проходной он щелкнул пальцами и повернул обратно — совсем как вечером... Он распахнул дверь и просунул в неё голову.
— Эй, Хухтанен. И все же не то... это рама.
— Рама? Что? А... обрамление? Вот дьявольщина, рама, конечно...
Даже с порога Харьюнпя заметил, как краска расползлась по шее и затылку Хухтанена.
Хуско придвинул кресло к самой дежурной стойке. На спинке лежала подушка, на которой выделялась вмятина, оставленная его головой. Хуско сидел на самом краю. Очки он сдвинул на лоб. За окном грохотал поливомоечный фургон.
— Ну? — коротко, но не резко спросил Харьюнпя. И оперся о стойку. Хуско крутил в пальцах сигарету, другой рукой перебирал спички.
— Гм-м-м... тут, в сущности, несрочное дело... Звонил дворник из восьмого дома по Меримиехенкату. Рассказал, что его разбудил почтальон, который подозревает, что в одной из квартир — покойник. Заметил, что в дверном ящике квартиры полно почты. В этом еще нет ничего странного, но он уверяет, что из квартиры тянет смрадом.
— Да-а-а... маловато, на одних лишь этих основаниях... А почему дворник сам не пошел посмотреть?
— У него нет ключей. Нужно, видимо, взламывать дверь. Там живет некий Континен, человек веселого нрава. Он пенсионер и живет один, сообщил дворник; его тоже немного удивило, что этот весельчак не появляется уже несколько дней. Обычно он подолгу не пропадает, если только не заберут в вытрезвитель прямо с улицы. — Хуско говорил медленно, словно хотел показать, что на этот раз он ничего не забыл.
— Да. Видно, надо поехать туда, — сказал Харьюнпя явно без энтузиазма, потому что этак с месяц назад он проник в квартиру, где, как уверяли родственники, лежит бездыханным их дедушка. Покойник же оказался очень даже живым — правда, с похмелья, после трехнедельного запоя — и грозил подать в суд за нарушение домашнего покоя. Харьюнпя подошел к большой карте на стене и стал блуждать по ней пальцем в районе Пунавуори.
— Меримиехенкату, восемь... восемь. Куда она подевалась? А, вот она. Да. Отходит от Фредерикинкату. Мне придется взять с собой Турмана: придется, видно, взламывать дверь. Он в помещении?
— Да. Спит. Сообщений о кражах со взломом еще не поступало. Надо полагать, что скоро и они посыплются.
Харьюнпя внимательно, наверно, впервые в жизни так внимательно посмотрел на Хуско и увидел бесконечно уставшего, сильно потрепанного временем человека, в свитере с протертыми почти до дыр рукавами, в дешевых стеганых штанах; пальцы его, окрашенные никотином, мяли сигарету. Харьюнпя сглотнул. Он сомневался, что Хуско, выйдя на пенсию, проживет тот год, что обещан статистикой полицейским. Вероятнее всего, его, Харьюнпя, вызовут как-нибудь ночью расследовать происшествие в собственной дежурке. Харьюнпя переступил с ноги на ногу.
— Мы съездим туда. Вызови по-радио Ристо, если за это время случится что-то важное, — добавил он.
Харьюнпя позвонил в комнату отдыха по телефону из служебного кабинета; ему не хотелось идти в темноте будить Турмана. Он знал по опыту, что нужный человек будет лишь десятым, а если он зажжет свет, то с кроватей на него посыплется буря проклятий.
— Турман. На выход, — произнес он коротко, но ответа из комнаты не последовало. Он повторил вызов и расслышал на этот раз, как кто-то будил Турмана. Через минуту по телефону донеслось его бормотание, которое, видимо, означало, что он принял вызов. Харьюнпя надел пальто и водрузил на голову берет. Он проверил свою служебную сумку и удостоверился, что резиновых перчаток достаточно. Ожидая Турмана, Харьюнпя подумал, что едва ли он теперь успеет покофейничать. Он достал из сумки термос с кофе. Кофе был даже не теплым, а скорее холодным и ничем не пах. Надо было обернуть пробку пергаментом вместо туалетной бумаги, подумал Харьюнпя. Он налил темной жидкости в два картонных стакана и выпил один из них залпом. По мере того как кофе проходил через горло, он с удовлетворением констатировал, что не чувствует никакого волнения, пожалуй, лишь небольшое любопытство. Его спокойствие объяснялось тем, что приближалось утро, дежурство подходило к концу и, помимо этого происшествия, дел больше не возникнет, во всяком случае, серьезных. Невзирая на сильно развитое чувство долга, Харьюнпя подумал, что, если он задержится на Меримиехенкату, забота об утренних покойниках уже перейдет к дежурному отдела по борьбе с мошенничеством.
Турман выполз из комнаты отдыха, протирая глаза. Он прошелся, разминая спину и поясницу, расправляя плечи и покачивая бедрами, чтобы высвободить застрявшие между ягодицами кальсоны.
— Выпей кофе, — предложил Харьюнпя и объяснил, в чем дело.
— А, вот как. Вот как... Ох-хо-хо... Значит, покойник, — позевывая, произнес Турман. Он взял стаканчик с кофе, тотчас скрывшийся в его могучей ладони, и отхлебнул. — Тьфу! Тьфу, дьявольщина! Что это, кошачья моча, что ли? Тьфу, тьфу! — Турман выплюнул кофе в стаканчик и выбросил в мусорную корзину. — Тьфу! — плюнул он еще раз и будто в ознобе передернул плечами. Харьюнпя ничего не ответил, но почувствовал себя оскорбленным.
Турман снял ключи от «вольво» с дверного косяка. Следуя к выходу, они не обменялись ни словом. Утро было темным, воздух серым и влажным. Лобовое стекло тотчас затянуло испариной, хотя отопительная система и выдувала на него застоявшийся воздух с примесью моторной гари. Продавцы устанавливали навесы на затянутой туманом Кауппатори[13], по Эспланаде двигалось лишь несколько человек да два-три автомобиля. Город пробуждался. Харьюнпя открыл боковое стекло, и пронизывающий ветер заставил его еще не проснувшееся тело вздрогнуть от холода. Он попробовал убедить себя, что почтальон и дворник ошиблись и что человек по фамилии Континен находится в каком-нибудь санатории, а дурной запах исходил от остатков сгнившей пищи. Однако объяснение показалось неубедительным. Харьюнпя нехотя примирился с мыслью, что какое-то время придется быть в одной квартире с трупом. Его пробирал озноб, но сознание того, что по крайней мере через четыре часа он будет дома, в своей кровати, подбадривало его.
На протяжении пути, длившегося всего несколько минут, мужчины хранили молчание. В основном потому, что было раннее утро и оба они устали, но отчасти и потому, что Турман прикидывал, сумеет ли он без особого труда открыть дверь, а Харьюнпя возмущался тем, что Турман выплюнул кофе в стаканчик. Было без десяти пять, когда они проехали мимо здания полиции по надзору уличного движения и низкого деревянного строения лабораторий уголовной полиции. Автомобиль медленно пересек пустынную Фредерикинкату, и, еще не доехав до конца перекрестка, оба они, вытянув голову, принялись разглядывать номера домов.
Восьмерка стояла на первом доме слева — обветшалом каменном здании, верхняя часть которого исчезала в тумане.
— Вот здесь, — коротко буркнул Харьюнпя.
Турман зевнул в ответ. И остановил автомобиль как раз напротив подъезда. Они вышли из машины. Воздух был свежим — выхлопные газы еще не отравили его. Из водосточных труб скупо падали капли, а сгустившийся туман полз понизу. Сверху, над водосливами, слышалось голубиное воркование. Вообще же было тихо. Харьюнпя посмотрел вверх, в черные окна дома, и подумал, что за какой-то из этих рам, возможно, лежит мертвец.
— Я прихвачу с собой только фотокамеру. Поглядим сначала... потом, если понадобится, возьмем электропилу. Идет? — сказал Турман, проверяя, закрыты ли дверцы автомобиля.
— Да-а. Если понадобится. Возьмем позже, — ответил Харьюнпя.
Голоса у обоих звучали безразлично. Они пересекли улицу, и Харьюнпя заглянул в стоявший у подъезда крошечный «фиат». Автомобиль был желтый, с одним только сиденьем для водителя, все остальное пространство было заполнено кипами «Хельсингинсаномат»[14]. Из открытого окна доносился запах газетной бумаги и типографской краски.
— Интересно, этот автомобиль куплен, чтобы развозить газеты, или же газеты развозятся, чтобы оплатить автомобиль?
— Ха-ха-ха...
Дверь подъезда была распахнута настежь. Харьюнпя и его товарищ вошли под арку. Харьюнпя быстро шагнул в сторону и чуть не выронил служебную сумку. К подъезду вели четыре каменные ступеньки, двери были обиты проржавевшей жестью. В дверном проеме подъезда «С» стоял моложавого вида мужчина в спортивном костюме, на ногах — кроссовки, на голове лыжная шапочка. Харьюнпя и Турман направились к нему.
— Доброе утро. Вы дворник? — издали спросил Харьюнпя.
— Нет. Я старший сержант Каннисто. Пертти Каннисто. Это... я развожу газеты, поскольку нужно расплачиваться за автомобиль, который купил в рассрочку. Хе-хе. Государственное жалованье — сами понимаете. Это на третьем этаже. Вторая дверь слева. На дверной табличке увидите — Континен. — Каннисто произносил слова громко и четко, и Харьюнпя показалось, что старший сержант стесняется своих почтальонских обязанностей.
На лестнице было сыро. На стенах — грязные потеки, узкие трещины, сползающая лоскутами со стен краска. На нижней площадке стояла женщина в утреннем халате. Она стояла, сложив на груди руки, на изъеденном стиркой пальце болталось кольцо со связкой ключей.
— Доброе утро...
— Доброе утро. Я здесь дворничиха, — сказала женщина. Голос у нее был низкий и густой, почти бас. Некоторое время все четверо стояли, словно дожидаясь чего-то. Неподалеку раздалось кошачье мяуканье.
— Послушайте, может, я могу идти? — спросил Каннисто. — У меня три района... только на один подъезд уходит от пятнадцати секунд до минуты — в зависимости от количества газет. В этом подъезде получают всего семь газет, на это уходит обычно пятнадцать секунд, а я здесь уже полчаса. Пожалуй, я поеду — у меня ведь еще столько работы. Я ведь только считал своим долгом сообщить о возникшем у меня подозрении. Вообще-то я не вмешиваюсь в людские судьбы и дела, но долг остается долгом...
Харьюнпя занес в свою записную книжку сведения о Каннисто и уточнил примерно, с каких пор почту перестали вынимать из почтового ящика и когда появился запах. Вопросы были короткие, отрывистые. Харьюнпя успел уже подняться на несколько ступенек вслед за Турманом и дворничихой, когда Каннисто закричал ему вслед:
— Послушайте, если... если я вам понадоблюсь еще, то... не звоните мне на работу. Лучше домой. Это же... ненужные разговоры. Я ведь разношу почту, действительно только чтобы расплатиться за автомобиль. Жалованье...
— Все ясно, — сказал Харьюнпя, и Каннисто, приложив руку к лыжной шапочке, отдал ему честь. А через некоторое время Харьюнпя увидел из окна, как старший сержант вышел со двора быстрым, спортивным шагом.
Шагая через ступеньку, Харьюнпя догнал своего коллегу и дворничиху. Тем не менее он успел заметить, что ступени были из осыпавшегося тусклого камня. Они износились, их края сточились и закруглились, а на поверхности местами образовались впадины. Взгляд Харьюнпя уперся в резиновые сапоги, хлюпавшие на босых ногах дворничихи. На лестничной площадке он рассмотрел ее лицо — это было усталое лицо одинокой женщины. Несмотря на припухшие веки и дряблую кожу, видно было, что она несколько лет назад была удивительно красивой.
Ход мыслей Харьюнпя прервался, как только он почувствовал запах. Он различил его еще за четыре ступеньки до лестничной площадки. Он ждал этого запаха и сейчас, почувствовав его, ни на секунду не усомнился в его происхождении. Ошибки быть не могло. Теперь он уже не надеялся, что в квартире испорченные продукты. Турман и Харьюнпя обменялись быстрым взглядом. И каждый понял, что́ имел в виду другой. Они оповестили друг друга, что запах замечен и знаком. На лестничной клетке было три двери, они остановились у средней. Над щелью почтового ящика висела треснувшая табличка. Несмотря на трещину, на табличке можно было без труда прочесть: «Континен».
— Да-а-а, — произнесла дворничиха на редкость низким голосом. — Вроде бы... вроде бы здесь и в самом деле странный запах. В пятницу я подметала лестницу и почувствовала его еще тогда, но...
— Так у вас нет ключей?
— Нет... нет... у меня нет... он был немножко того... склонен к выпивке. Его приятели врывались ко мне и днем и ночью за ключами, даже среди ночи, и я... я около года назад сказала, что, мол, держите свои ключи у себя. Я не стану... и без него неприятностей хоть отбавляй.
Харьюнпя заметил у женщины стремление в чем-то оправдаться, но в чем, он не мог определить. Он мог побиться об заклад, что полицейский уличный контроль зимой подавал на нее жалобу за плохо посыпанные песком тротуары у дома. Затем он перебрал в голове разные статьи закона, но так и не вспомнил, есть ли такой закон, который обязывает дворника держать у себя ключи от квартир.
— Да, понимаю... ничего не поделаешь, — сказал он примирительно.
Харьюнпя присел на корточки перед дверью. Он протолкнул торчавшую в отверстии ящика газету и, придерживая пальцами щель, заглянул вовнутрь. Там горел свет. Он увидел пару ботинок, длинный половик, нижнюю часть висящего на вешалке костюма. Дверь в глубине коридора была закрыта. Она, очевидно, вела в комнату. Харьюнпя опустился на колени и сунул нос в щель. Запах явно ощущался. Он был одновременно сладковатым и горьким, кисловатым и приторным, но происходить он мог только от человеческого тела, ставшего ненужным с окончанием жизни и разлагающегося вследствие химических процессов и деятельности бактерий. Он побренчал дверным звонком и поднялся.
— Да, там труп. Никаких сомнений. Вот только дверь надо... Турман?
— Да пусти-ка. Попробуем, — сказал полицейский... — Неужели Турман да не откроет? Попробуем... неужели... ага... — бубнил себе под нос Турман, склонившись перед дверью. Он внимательно обследовал зазор дверного переплета, пробежал своими толстыми пальцами вдоль пазов и стал простукивать дверь суставами пальцев. Карманной лампой он осветил замок, — Та-ак, — сказал он и выпрямился. — Ну, эта пойдет... не волнуйся, Тимо, без особого труда пойдет, — сказал Турман, обращаясь к Харьюнпя, на самом деле он хорохорился перед женщиной, стоявшей у перил. Харьюнпя заметил, что она дрожит и сжимает перила обеими руками так, что кожа на запястьях побелела. Откуда-то снизу опять раздалось кошачье мяуканье. В остальных квартирах было тихо.
— Минутку, минутку... — Турман запустил пальцы во внутренний карман. Ткань пиджака выгнулась. Наконец кончиками пальцев он извлек замшевый мешочек длиной сантиметров в двадцать. Он опустил его на ладонь и удивительно ловко развязал ногтями нитку, стягивавшую горловину. Из мешочка выскользнули четыре стальных прута с кольцом на конце. Харьюнпя знал, что их изготовил ювелир — гнул, ковал и шлифовал, пока не получились орудия труда, которые в руках Турмана открывали почти все без исключения замки.
— Крючок или пика? — спросил Турман.
Харьюнпя не ответил. Он понял, что вопрос задан ради женщины, ибо он знал, что Турман не нуждается в советах посторонних. Он владел своим искусством в совершенстве.
— Крюк, конечно... здесь, смотри, нет даже ушка. — Тонкий стальной прут плавно, будто щупальце, проник в замочную скважину. Турман медленно двигал рукой. На его лице появилось сосредоточенное выражение, как будто он слушал голос, исходящий откуда-то изнутри.
Харьюнпя уже в силу необходимости почувствовал интерес к исходу операции и выжидал, затаив дыхание. Замок слегка скрипнул. Турман еще раз повернул рукой. Замок скрипнул вновь — на этот раз сильно. Турман схватился другой рукой за край именной таблички и потянул. Дверь открылась.
Харьюнпя ногой распахнул дверь настежь. В нос сильно ударил трупный запах. Харьюнпя тотчас подумал, что в данном случае, очевидно, произошла естественная смерть. Возможность самоубийства тоже промелькнула у него в голове, а мысль о насильственной смерти он прогнал, потому что именно ее и боялся.
У двери лежала куча почты — газеты, рекламные проспекты, счета. Харьюнпя не стал смотреть, от какого числа была самая нижняя газета. Он перемахнул через завал и остановился у края половика. Турман продолжал стоять у двери. Сзади слышалось его дыхание. Позвякивала связка ключей в руках дворничихи на лестничной клетке. Харьюнпя судорожно глотнул. Он понял, что Турман правильно поступает, оставаясь у двери, снаружи, и сразу повел себя осторожнее. Он постарался внимательно оглядеть вход в комнату, куда ему предстояло войти. Во рту было сухо.
— Эй! Есть там кто? Это полиция! — Безумная надежда на то, что в квартире все же есть живая душа, заставила Харьюнпя повысить голос. Он не желал вторично врываться в чужую спальню. Узкая прихожая заглотила его слова. Справа висела полиэтиленовая занавеска, за которой что-то мягко капало. Харьюнпя отдернул занавеску. За ней была темная уборная. Свет отражался от краев раковины и от бачка. Из крана капало. На стене висело зеркало без рамы, на вешалке — полотенце. Уборная была грязная. И пустая.
Турман продолжал стаять у двери — он не торопил Харьюнпя. Тот поднял руку и почти коснулся пальцами свисавшей с потолка голой лампочки. Она источала тепло. Стеклянная поверхность была сильно раскалена. Харьюнпя перевел дух, шагнул к закрытой двери и с удивлением услышал, как заскрипели подошвы его ботинок.
Тут Харьюнпя увидел, что палас у двери запутан и сбился в кучу. Это насторожило его: ведь каждый след, найденный в квартире, может пригодиться. Харьюнпя остановился перед закрытой дверью. Пальцы его инстинктивно скользнули вдоль ремня под пиджаком, пока он не почувствовал холодный металл рукоятки пистолета. Он передвинул кобуру вперед, хотя и не знал зачем, ибо едва ли кто-то мог броситься на него.
Харьюнпя взял карандаш и толкнул им дверь. Дверь тихонько открылась. Он увидел перед собой черный провал комнаты. Глаза быстро привыкли к темноте.
Сначала возник четырехугольник окна, затем обозначились вещи, находившиеся у двери. В темноте Харьюнпя различил стаканы, упавшую бутылку, поваленный стул, простыни на кровати. И наконец заметил у кровати, на полу, какой-то темный большой предмет, напоминавший человеческую фигуру. Он стал водить карандашом по стене в поисках выключателя. Мысли метались у него в голове. Очень хотелось верить в то, что это — естественная смерть, на втором плане маячила мысль, что если бы он был магистром государственного права или меркономом[15], ему не пришлось бы открывать такие вот двери, и, наконец, его посетило откровение: трупы никогда не смердят в фильмах и книгах. Когда карандаш наконец попал в выключатель, он вспомнил данные статистики: в Хельсинки полиции приходится иметь дело с полутора тысячью естественных смертей в год и только с тридцатью — насильственными.
Свет вспыхнул в комнате. Харьюнпя сощурился. Вокруг царил страшный беспорядок. Он увидел перевернутую мебель, окурки, неубранную кровать, выдвинутые ящики комода, скрученный ковер, упавший на пол телевизор. Он увидел брызги крови, веером разлетевшиеся по обоям, и лужу на линолеуме. Он увидел разорванную одежду покойного, его выпученные глаза, распухшую голову и зияющие раны на лбу.
Усталость навалилась на Харьюнпя. С минуту он чувствовал себя таким же безнадзорным и беззащитным, как двадцать лет назад, в первый день своего пребывания в школе. Как бы невзначай Харьюнпя оперся ладонью о дверной косяк. И повернул голову в сторону коридора.
— Он мертв, — произнес Харьюнпя осипшим голосом. — Убит.
ГЛАВА 8
Харьюнпя было очень не по себе. Волновался он главным образом оттого, что все дальнейшие шаги должны быть непременно правильными, и ему предстояло, не сходя с места, сейчас же решить, какие это должны быть шаги. С минуту он колебался, не знал, подойти ли ближе к трупу или вернуться на лестничную клетку к Турману. Он понимал, что им овладевает беспричинная, но опасная паника, и, чтобы справиться с ней, задержался на некоторое время в дверном проеме. Немного успокоившись, он принял, по его мнению, правильное решение и вернулся на лестничную клетку, стараясь по возможности не оставлять следов.
Дворничиха стояла, прикрыв рот рукой. Она прерывисто дышала, не спуская глаз с двери в переднюю Континена. И Харьюнпя понял, что уже совершил ошибку, сказав об убийстве в присутствии постороннего. Чувствуя, как нарастает раздражение, он крепко сжал пальцы. А тут еще Турман — стоит как пень и с этаким ироническим видом подбрасывает замшевый мешочек на ладони.
— Да, это так, он убит. Голова... или лоб разбиты. Все раскидано и перерыто, — тихо буркнул Турману Харьюнпя. Он вновь почувствовал неприятный привкус кофе в горле, вся усталость ночи разом навалилась на него — повернуться бы сейчас и уйти домой.
Харьюнпя и Турман обменялись быстрым, однако весьма красноречивым взглядом. И тому и другому было ясно, что, несмотря на проведенную без сна ночь, сейчас, в последние часы дежурства, придется заниматься скрупулезнейшим делом, продвигаясь сантиметр за сантиметром по квартире и поминутно возвращаясь к уже сделанному, когда каждое неосторожное прикосновение или неправильно истолкованное слово могут свести все на нет. Очевидно, поэтому они и медлили — каждый выжидал, чтобы решение принял другой. Собственно, принять его должен был Харьюнпя, однако Турман был старше и опытней, потому решать надлежало скорее ему.
— Ну... провидение тут нам едва ли поможет. Делать нечего — надо приступать к расследованию! — не очень уверенно сказал наконец Турман.
— Да, — ответил Харьюнпя и нагнулся было за сумкой, но, так и не дотянувшись до нее, снова выпрямился. — А может, все же подождать... да нет... или все же да. — Харьюнпя поднял руку в воздух, как бы призывая остановиться. По его лицу видно было, что он еще не все обдумал. — Сейчас рано. И действовать надо осторожно. Нечего спешить: он находится здесь ведь уже не один день, — продолжал он задумчиво, наставительным тоном. — Вдвоем нам не обойтись. Мы только запутаем следы. Нужны дополнительно люди... хотя бы на одну только писанину. Необходимо вызвать сюда Норри. И судебно-медицинского эксперта. И света нужно побольше — придется подождать, пока рассветет. — Харьюнпя опустил руку и посмотрел в глаза Турману. — Не надо нам пороть горячку. Я схожу позвоню. А ты начинай с передней и сделай как можно больше фотографий с коридора и комнаты — только придерживайся той же стороны, что и я. — Харьюнпя говорил теперь уверенно, тоном приказания.
Уголки рта у Турмана слегка приподнялись, веки почти совсем прикрыли глаза. Судя по замкнутому выражению его лица, Харьюнпя решил, что он либо обиделся на приказной тон, либо ничего не желает делать до получения инструкций от Норри. Не надо обращать внимания, каковы бы ни были причины такой реакции, подумал Харьюнпя, ибо знал, что принял единственно правильное решение. Главное сейчас — зафиксировать и правильно описать сотни мельчайших деталей в квартире. А двое уставших мужчин были не способны на это. Харьюнпя присел у порога и осторожно вытащил из-под кучи почты самую нижнюю газету. Она была помечена вторником прошлой недели.
— Мне нужно... нельзя ли позвонить от вас? — спросил Харьюнпя женщину, по-прежнему сжимавшую связку ключей. Глаза ее блестели от слез.
— Пожалуйста, — ответила дворничиха, явно смутившись. Харьюнпя показалось, что она напугана и не хочет впустить его к себе. — Что ж, пошли, — сердито буркнула она и легко и быстро побежала вниз по ступенькам. Резиновые сапоги болтались у нее на ногах и глухо чавкали.
Харьюнпя поспешил за ней. Он шагал сразу через две ступеньки и потому едва не натыкался на женщину сзади.
Он чувствовал, что должен побыстрее приступить к делу. Голова у него гудела. Десятки мыслей беспорядочно метались в ней, но ни одна не успевала созреть, так как на ее месте уже появлялась новая. Харьюнпя думал о том, что надо разыскать родственников Континена, опросить соседей, надо искать следы, надо поймать медицинского эксперта, разбудить Норри. Харьюнпя думал и о том, как провести опознание Континена, и о том, что он, Харьюнпя, опирался в квартире о дверной косяк и, следовательно, оставил там отпечатки, и о том, что обещал взять Паулину в два часа из детского сада, и о том, что надо как можно скорее собрать о Континене максимум сведений, чтобы приступить к расследованию.
Ключи из связки продолжали позвякивать в руке женщины, пока она вставляла один из них в замок. Уже слегка повернув его, она оглянулась на Харьюнпя, который беспокойно щелкал пальцами. Женщина открыла было рот, намереваясь что-то сказать, но, заметив его нетерпение, сомкнула губы и отперла замок. Харьюнпя подумал, что в квартире, наверно, спрятан перегонный аппарат или ворованный товар и женщина боится, как бы это не открылось. Но уже в следующий момент ему пришло в голову, что женщина может чего-то бояться и в связи с Континеном, лежавшим двумя этажами выше.
Она приоткрыла дверь, но лишь чуть-чуть, так что в щель с трудом можно было протиснуться. Семеня мелкими шажками, она прошла первой. Харьюнпя вошел вслед за ней, и в нос ему тотчас ударил острый запах аммиака. Женщина зажгла свет. Весь пол в передней был застлан пожелтевшими и сморщившимися от времени, изодранными газетами. Вид у женщины был совсем несчастный — она всем существом как бы просила прощения.
— Я... у меня кошки. Вас это не волнует? А люди всегда... стоит им только увидеть, сразу грозят пожаловаться в домоуправление. Я... я бы выпускала их гулять, но ведь нельзя.
— Да, что и говорить... Мне это в общем безразлично, — сказал смущенно Харьюнпя.
— Я так и подумала...
— Они, эти кошки, приятные животные. У меня самого была кошка — рыжая, как морковь, она сдохла на даче, когда соседка стала травить белок крысиным ядом. Эта соседка, старая бабка, ужасно пугалась, когда они затевали возню у нее на крыше, — пустился в объяснения Харьюнпя, внезапно обнаружив в себе задатки законченного лжеца: у его сестры действительно была кошка, но она рассталась с жизнью, попав под «пикап» в Маунула. — Вот так-то. Так где же у вас телефон? — Харьюнпя физически чувствовал, как неудержимо растет в нем жажда действовать, вызывая нестерпимый зуд в кончиках пальцев. Он чуть было не принялся заводить свои часы, хотя у них была автоматическая подзаводка. Часы показывали шесть минут шестого. Харьюнпя вслушался в себя. Если он еще промедлит со звонком или если Норри не ответит, эта ситуация может спровоцировать его и он переступит границу дозволенного. Он постарался успокоиться, сосредоточиться. В квартире жили по крайней мере пять кошек — все разномастные, они дремали, лениво потягивались и изгибались. На неубранной кровати распласталась белая кошка, поглаживая морду округлыми движениями лап. Телефон стоял на подоконнике. Возле него восседал пышный, в серую полоску кот, он зевал так прилежно, что его кроваво-красный язычок вываливался наружу. Харьюнпя схватил телефонную трубку и тут же снова положил ее на рычаг, ибо оказалось, что он не помнит домашнего телефона Норри. Переворошив все карманы в поисках записной книжки, он в конце концов нашел ее именно в том боковом кармане, с которого начал поиски. Женщина деликатно удалилась на кухню, но Харьюнпя чувствовал, что она подслушивает под дверью. Листки записной книжки путались у него в пальцах, он стряхнул на пол несколько фарфоровых осколков, застрявших между страницами, не подумав даже, откуда они взялись. Кот, не мигая, смотрел на Харьюнпя своими зелеными глазами.
Номер Норри был свободен — гудок пропищал уже трижды. Трубка успела вспотеть в руке Харьюнпя. Четвертый гудок. Харьюнпя начал подрыгивать ногой. Пятый гудок. Он попытался представить, как сонный и недовольный Норри вылезает из постели. Тут Харьюнпя пришло в голову, что надо будет тщательно осмотреть труп.
— Норри слушает... — ответил наконец Норри заспанным, тягучим, низким голосом. Это было на него не похоже: обычно он говорил четко и изысканно, как джентльмен.
— Это Харьюнпя, доброе утро. Да... извините, что бужу вас в такое время.
— Ничего. Все равно ведь скоро...
— Я звоню из квартиры дворника дома восемь по Меримиехенкату. Около сорока минут назад поступило сообщение, что в одной из квартир, похоже, что-то произошло. Почтальон заподозрил, — сообщил Харьюнпя. Он старался изложить обстановку так, чтобы Норри получил ясную картину о происшедшем. — Ну, мы выехали с Турманом, вошла в квартиру с помощью отмычки, без взлома... так что, если с дверью кто-то что и делал, это должно сохраняться. На полу в комнате обнаружили труп мужчины, процесс разложения идет уже по меньшей мере неделю. Судя по всему, это владелец квартиры, Континен. — Харьюнпя приблизил губы к самому микрофону трубки и понизил голос: — На лбу несколько проломов. Квартира в беспорядке, следы борьбы, местами все перерыто.
— Он жил один?
— Да.
— Преступник?
— Ни малейшего представления...
— Орудие убийства известно?
— Не-ет... я, во всяком случае, не заметил. Правда, в комнату я не входил. Остановился на пороге, но до трупа оставалось всего метра два, так что сомнений нет...
— Хорошо... хорошо, что не вошел... — По этому повтору Харьюнпя понял, что ему следовало все же войти в комнату. Однако голос Норри звучал серьезно, отнюдь не иронически. Это оставляло надежду, что Норри не вкладывал в сказанное двойного смысла.
— Что еще удалось выяснить? Ты что-нибудь уже сделал?
— Я... Сейчас ведь только начало шестого. Я сразу отправился звонить. Пока ни до чего не дотрагивались. Соседи еще спят, так что никого не допрашивали. Пострадавший — пенсионер. Склонен был к спиртному. Зазывал к себе компании. О близких пока ничего не знаю. Пьянка была и на этот раз... — Норри молча слушал на другом конце. Харьюнпя почувствовал, что теперь он уже окончательно очнулся и систематизирует в уме скудные сведения.
— И уже неделю как мертв?
— Да. Судя по почте. Газеты неделю никто не вынимал из ящика, дворник в пятницу почувствовал смрадный запах.
— А можно его опознать?
— Во всяком случае — не по лицу. Драгоценностей я не видел, да едва ли они и есть. Он, возможно, проходит по нашей картотеке или по картотеке Центральной уголовной полиции. С пальцев наверняка можно получить хорошие отпечатки.
— Ну ладно. В квартире ничего не трогай... впрочем, нет, занеси-ка туда термометр. Попытайся получить как можно больше внешней информации: компании, знакомства, сфера общения, ну да ты знаешь. Начни с дворника. Вызови врача-криминалиста, но так, чтобы к его прибытию я уже был там. Позвони Хярьконену. А я прихвачу Монтонена. Буду через полчаса. Если успеешь, начинай опрашивать соседей. Будем раскручивать. А других происшествий много?
— У меня самого пара вызовов да у Сутелина одно дело.
— И на том спасибо. Да... Харьюнпя... постарайся... не суетись, не мельтеши, особенно там. Хорошо? Ну, привет.
Харьюнпя присел на краешек стула и позволил себе на мгновение расслабиться. Ему стало легче от сознания, что он действовал правильно и верно наметил дальнейшие шаги. Стало легче еще и оттого, что в голосе Норри он уловил перемену — значит, первоначальная досада прошла, хорошо было и то, что Норри выразил готовность принять участие в малоприятной черновой работе. А Харьюнпя знал, что в полиции есть и такие старшие чины, которые, если обратиться к ним за советом, говорят: «Поступайте согласно закону и собственному разумению».
Харьюнпя взглянул на жирную физиономию кота и достал сигарету. Настроение у него изменилось к лучшему: разговор с Норри снял напряжение. Положив трубку, он почувствовал себя как в детстве — так ребенок признается в шалости отцу, а тот, даже не рассердившись, спокойно замечает, что всякое, мол, случается и тут уж ничего не поделаешь. Мысли Харьюнпя обрели ясность. Он понимал, что предстоят трудные, исполненные спешки дни, все отделение будет занято делом Континена, а остальные дела будут лежать в ящиках и дожидаться своего часа. Дни и ночи придется проводить на работе или на месте происшествия, так что домой удастся попасть лишь на несколько часов глубокой ночью. Харьюнпя не без злорадства подумал, как обидится теща, что его не будет послезавтра на дне ее рождения, и одновременно почувствовал удовлетворение оттого, что последующие ночные дежурства, хочешь не хочешь, перейдут к работникам других отделений.
Харьюнпя позвонил Хярьконену. Телефон успел звякнуть лишь дважды, как Бык-Убивец испуганно откликнулся:
— Хярьконен!
— Это Харьюнпя. Извини.
— Что случилось? Что произошло... сколько времени? Шестой час... В чем дело?
— Послушай, поднимайся-ка да берись за дело. Адрес: Меримиехенкату, восемь, подъезд «С». У нас тут дельце не из лучших. Норри на подходе вместе с Монтоненом.
— Что... серьезное дело? Понял. Я догадался, что это ты звонишь.
— Да. Постарайся проснуться. Я объясню все на месте.
— Да. Да. Сейчас еду. Что, совсем худо?
— Иначе бы не звонил. Ты что, думаешь, автор уже на привязи в Нокка[16].
— Фу ты черт... ну конечно. И что же, никакого запашка?
— Да пока нет. То есть, как сказать, запашок-то есть, но не от автора. Слушай, просыпайся.
— Да. Я сейчас приеду. Меримиехенкату, восемь. Ты там. Я еду. И никакого запашка... ну и ну.
Закончив разговор, Харьюнпя подумал; а что, если Хярьконен снова уснет, но вторично звонить не стал. Через коммутатор он уточнил местонахождение врача-криминалиста и, найдя его, обещал тотчас с нарочным послать ему в трех экземплярах заявку на обследование. Затем он позвонил в дежурку Хуско и доложил обстановку.
Кот поднял голову и посмотрел куда-то мимо Харьюнпя. Позади себя Харьюнпя услышал шуршание халата. Женщина обошла стул, повернулась и остановилась, привалившись к подоконнику. Она извлекла из кармана халата красную пачку сигарет и отправила одну в губы. Харьюнпя чувствовал, что настроение у женщины препаршивое. Наверно, и слезы уже на подходе, стоит подождать еще минуту, как она выплеснет все наружу.
— Я... я думала, что человек может спокойно... в своей квартире. Но этот запах. Я думала... У меня муж — в Кивеля[17], уже четвертый год. Он полностью парализован. Настанет день, и он тоже... — Слезы выступили у нее на глазах. Они появились быстро, внезапно и покатились вниз, впитываясь в халат и оставляя после себя темные пятна. — И... и у меня самой... это слышно по голосу: у меня рак горла.
Харьюнпя молчал, уставясь на свои ботинки с толстыми каучуковыми подошвами. Белая кошка подкралась к его ноге и осторожно потерлась об нее боком.
— Я лишь к тому, что... если меня когда-нибудь... найдут вот так. Не дайте увидеть меня такой... они все ненавидят меня. И постреляйте ко-ошек...
Женщина закрыла лицо руками и съежилась. Она плакала горько, взахлеб, плечи ее сотрясались от рыданий.
Мысли Харьюнпя смешались. Он сидел в потрепанном кресле и не замечал, как кошка скреблась о его ногу. Ему было глубоко безразлично, что двумя этажами выше произошло преступление. И неважно, раскроется оно когда-нибудь или нет, а ведь он должен был бы сейчас уже выуживать мельчайшие подробности у этой самой дворничихи. Харьюнпя устал. Он устал от покойников, плачущих людей, устал от самого себя и всего окружающего мира. Ему хотелось, чтобы была августовская ночь и чтобы он стоял на берегу, у своей дачи, и обнаженными ступнями и пальцами чувствовал всплески моря. Харьюнпя снова посмотрел на плачущую женщину. Обшлага халата обтрепаны, карман оттягивает связка ключей и пачка сигарет. На мгновение у Харьюнпя возникло желание обнять эту женщину за плечи и сказать ей что-нибудь. Сказать что-нибудь доброе, но он так и не раскрыл рта, и рука осталась лежать на колене. Наконец Харьюнпя удалось расшевелить свои мысли. Нехотя он проанализировал плач женщины. Да, конечно, тут сыграл роль момент, потрясение, вызванное случившимся, болезнь мужа и рак горла, однако было тут и еще что-то, чего он не знал. Поразмыслив немного, он понял, что это «что-то» имеет отношение к Континену и это необходимо извлечь на свет божий.
— Да, — произнес он наконец. — Смерти нечего бояться... Это... это так же естественно, как жизнь, это у всех у нас впереди. Знал ты человека — и вот его уже нет. — Харьюнпя выждал минуту. Женщина вытерла мокрое лицо рукавом капота, но продолжала всхлипывать. — Человек должен стремиться к тому, чтобы каждый миг его существования был озарен счастьем... хотя это... конечно... не всегда легко, — добавил Харьюнпя. При этом он почувствовал дьявольское искушение рассказать о неотступно терзающем его страхе — наступит день, и он получит траурное извещение, в котором будет стоять имя его отца, или матери, или кого-либо из близких. Он несколько раз кашлянул и укусил себя за щеку изнутри. Затем потер виски, не зная, как продолжить беседу. — Так вот. Вы ведь были с Континеном в близких отношениях? — Харьюнпя сказал это так, будто хотел лишь подтвердить уже известный факт.
Женщина откинула назад прядь волос. Она кивнула и вынула из кармана новую сигарету. Харьюнпя предложил огня, но сам не закурил. Он смотрел, как женщина затягивается сигаретой.
— Да, была. Год тому назад, а может — полгода. Но из этого ничего не вышло... муж-то у меня ведь в больнице, и люди сразу стали шептаться, — хрипло произнесла женщина. Пальцами одной руки она почесывала кошку, сидевшую на подоконнике. — Пытался он тогда, бедняга, отказаться даже от вина. Но эти вечные дружки на всех углах... они снова его втягивали. У нас начались ссоры. По своей природе он был хороший человек. Ведь он был старше меня, но не в том дело — хоть кто-то рядом. Он и музыку любил... у него были такие ловкие пальцы... — Харьюнпя заметил на лице женщины слабую улыбку. Он знал, что она была адресована прошлому, не ему. — И ничего из этого не вышло... длилось-то все это сущую ерунду. Вино всему причиной, — добавила женщина.
— Так. Ну... а в последнее время вы встречались? — Харьюнпя попытался придать лицу безразличное выражение, но его глаза неотступно следили за женщиной. Он наблюдал за ее лицом и одновременно фиксировал движение рук и ног. Он заметил, как дрогнула кожа на шее и на щеках, прежде чем женщина собралась с ответом.
— Нет. Мы не встречались более полугода. Я намеренно избегала его. Он, правда, пытался навещать меня, чтобы отвести душу, особенно когда бывал в плохом настроении. А он бывал в плохом настроении... когда... когда эти потаскухи бросали его... — Голос женщины зазвучал хрипло, жестко. — При этом тащили все подряд! Я знаю... кто-то из них побывал у него и теперь...
Харьюнпя тяжело оперся на спинку стула и вздохнул. Он знал, или, вернее, каким-то образом чувствовал, что женщина говорит правду. Он расслабился, настороженность исчезла. Вот младенец — ну как же он мог подозревать эту женщину в убийстве Континена? Посидев несколько секунд молча, он справился, с собой, раскрыл записную книжку и принялся за дело.
Через четверть часа Харьюнпя закончил допрос. И с удивлением обнаружил, что уже без четверти шесть. Время прошло быстро, но не бесполезно. В его записной книжке появились названия излюбленных пивных Континена, его точные данные, взятые из домовой книги, чем он занимался днем, обнаружились также сведения о прежней жене и сыне и их новый адрес. Харьюнпя нацарапал на клочке бумаги свой телефон и дал женщине.
— Так. А теперь мне нужно идти. Если вспомните еще что-нибудь или услышите от жильцов, буду весьма признателен за звонок, а кроме того... — Харьюнпя попытался припомнить, не забыл ли он чего-либо существенного, но ничего не припомнил. — Так. Там наверху нам потребуется еще часок. Мы вынуждены будем еще вас беспокоить. И как я уже просил, позвоните, если... До свидания. — Харьюнпя старался не наступить на кошек. — Между прочим, — сказал он, когда женщина уже стала отпирать дверь, — по правилам внутреннего городского распорядка кошек нельзя выпускать на улицу только ночью. Там не сказано, что их нельзя выпускать днем.
Дверь приоткрылась, и ему удалось наконец выбраться на лестничную клетку.
Турман покрыл слоем красного ферроксида дверь Континена. Ему удалось найти несколько отпечатков — правда, скорее мазков, но он все же скопировал их. Только на почтовой щели в двери были четкие отпечатки. Харьюнпя знал, что это его собственные.
— Вот и все, — сказал Турман и уложил лупу в футляр. — Ну и натерпелся я здесь. Сверху явился какой-то тип, который просто возликовал, узнав, что бедняга Континен отправился на небо — или куда там он попал. По его словам, лестничная площадка была вечно забита какими-то дружками. А еще этот Континен имел якобы обыкновение усаживаться летом на подоконнике и играть на мандолине. Жилец сказал еще, что последнее время здесь действительно стало тихо... Я записал его фамилию. Он водитель автобуса. Шел на работу, в форме.
— Ладно. Норри с ребятами должен подойти с минуты на минуту. Дворничиха знает обстановку, но ничего конкретного выяснить не удалось. Она сказала, что здесь у него регулярно бывали какие-то потаскушки. Но женщина едва ли способна на такое... а?
— Послушай, — начал Турман, — ты еще не слишком опытен в этих делах... не обижайся, ты иногда клюешь слишком легко и поспешно... так-то, а это совсем не простое дело. Да. Я побывал там внутри. В квартире. Нужно же когда-то войти туда, тем более что именно я занимаюсь поисками следов. Я просмотрел косыми лучами полы, но ничего особенного не обнаружил. За неделю все покрылось таким слоем пыли... но два кровавых отпечатка подошвы все же удалось найти, я окольцевал их мелом.
— Хорошо, — сказал Харьюнпя таким натянутым и вызывающим тоном, что даже осекся. Наконец он совладал с собой — не очень-то приятно выслушивать такие оскорбления — и признался, что Турман правильно поступил, занявшись делом. Харьюнпя с раздражением вспомнил свою боязнь неудачи и отсюда — излишнюю осторожность. Он выпустил воздух из легких и поднял взгляд. — Да. Я был немного... все произошло до того внезапно. В такую рань нужно все взвешивать дважды. Да, ты правильно поступил.
— Ладно уж. У него, между прочим, голова размозжена бутылкой.
— Бутылкой? Да ну... вот и назови теперь исполнителя трюка, — заметил Харьюнпя полушутя и тут впервые всерьез задумался об убийце. Ведь этот убийца, возможно, спит сейчас в соседней квартире, или спит в Турку или Порво. Харьюнпя не стал больше над этим раздумывать. — Ну ладно. Видно, пора мне будить соседей, — сказал он без особого восторга.
Снизу донесся стук двери. Харьюнпя перегнулся через перила, глядя в лестничный пролет. Он услышал шарканье ботинок — двое или трое человек переговаривались, и звуки их речи, отражаясь от стен, превращались в гул. По сухому отрывистому покашливанью Харьюнпя узнал в одном из них Норри. Он следил взглядом за рукой, опиравшейся на лестничные перила и рывками перемещавшейся вверх. Он узнал белоснежные манжеты и на них черные точки манжетных пуговиц. Только теперь он вспомнил, что термометр все еще лежит у него в сумке.
ГЛАВА 9
Было без десяти семь, когда Харьюнпя отправился домой. Он сидел рядом с сонным, только что извлеченным из постели водителем. К центру города ехало еще мало машин: время утреннего пика не наступило. Восходящее солнце позолотило поредевший туман, и от этого весь город окрасился в пастельные тона. Отопительная система в машине работала на полную мощность, усталость постепенно разливалась по телу Харьюнпя.
Он доложил все, что удалось узнать, прибывшему на место Норри. Излишне вдаваясь в детали, он упустил некоторые важные обстоятельства, путался в словах, а под конец сбился на рассказ о дворничихе, ее кошках и раке горла. Морщинки, собравшиеся на лбу Норри, заставили Харьюнпя быстро вернуться к делу. А Норри с завидной легкостью овладел положением. Он постоял молча — одна рука в кармане брюк, другая оттянула кончик верхней губы. И уже через полминуты дал каждому задание, сделав это с такой легкостью, будто выбрал в магазине самообслуживания нужные товары. И работа сразу пошла. Хярьконен и Тупала отправились опрашивать жильцов подъезда. Монтонен, Турман, врач-эксперт Маннер и сам Норри занялись осмотром трупа и квартиры.
Харьюнпя стоял не двигаясь, чувствуя, как разочарование и обида сдавили горло. Норри полностью его отстранил. Харьюнпя решил, что, видно, что-то он упустил. Его не утешала даже мысль, что скоро он будет дома, в своей кровати. Он продолжал стоять и смотреть, как тихий подъезд пробуждался к жизни. Звенели звонки в квартирах, шелестели записные книжки, слова рикошетом отскакивали от стен. Когда все разошлись по этажам, Норри подошел к Харьюнпя, и тот, всмотревшись в лицо начальника, не обнаружил на нем следов недовольства.
— Тимотеус, ты имеешь полное право поспать, но я был бы тебе признателен, если бы ты еще кое-что сделал, — сказал Норри.
Харьюнпя молча передернул плечами.
— С оповещением родственников можно не спешить, но если рассказ дворничихи о том, что сын Континена бывал здесь примерно раз в месяц, соответствует действительности, то там следует немедленно побывать. Ты понял? Он совсем еще... сколько бишь ему... скоро двадцать. Но случались и помоложе... так что лучше разобраться и с этим уже сейчас. Поговори с ним в этом плане... и если почувствуешь, что есть основания, то... Скажи, что в любом случае я сам свяжусь с ним позднее. — При этом Норри втянул верхнюю губу, а это было у него верным признаком серьезных раздумий. — Все-таки родной сын. Конечно, бывает и такое, хотя сомнительно. И все же посмотрим. Далее. Я договорился с Маннером, что вскрытие Континена произведут сегодня утром. Мы здесь провозимся до вечера, поэтому ты еще успеешь обратно. Зайди в отдел криминальной медицины, прихвати оттуда фотографа. И... возьми-ка на всякий случай эти отпечатки пальцев, забрось их в уголовную полицию, чтобы уже не было сомнений. И отправляйся домой. Ясно?
Прежде чем отправиться к месту назначения, Харьюнпя заехал в отдел. Несколько телефонных звонков и данные архива дали сведения о том, что Армас Калеви Континен продолжал состоять в браке, хотя и жил отдельно от жены уже семь лет. Со времени его последнего привода прошло полтора месяца; преступления его ограничивались кражами, а в последние годы главным образом мелким воровством. Сын Континена, Хейкки Калеви, не имел дела с уголовной полицией, но, по данным центральной картотеки, у парня были права на вождение машины и владение мелкокалиберной винтовкой.
Устроившись на переднем сиденье «саабы», Харьюнпя расслабился и почувствовал, как тепло разливается по телу. Губы его свело от излишнего курения, в затылке появилась знакомая пульсация. Не давая себе впасть в дремоту, он раздумывал о предстоящей встрече с родственниками Континена. Сообщить о смерти всегда нелегко, особенно если в убийстве подозреваются сами родственники, пусть даже чисто теоретически. Неприятнее всего то, что последующий ход событий заблаговременно известен во всех подробностях. Харьюнпя уже ясно представлял себе, как на лицах близких появится испуг, когда они услышат, что он из уголовной полиции. За потрясением последует любопытство, после того как выяснится, что претензий к ним нет. Однако озабоченность тотчас вернется. На этой стадии многие уже начинают понимать, в чем дело, хотя еще и не осмеливаются признаться себе в этом. Все последующее непредсказуемо и неожиданно: одни начинают тихо, беззвучно плакать, другие истерически визжат, третьи бросаются на колени.
Водитель Хартикайнен окончательно проснулся только в Кулосаари. Он сладко зевнул, разогнул локти и плотно уперся в спинку сиденья.
— Когда мы отправлялись, я пропустил мимо ушей... какое задание-то? Сообщить родственникам о смерти?
— Да, — буркнул Харьюнпя.
С минуту они молчали. В их направлении движения почти не было, зато в обратную сторону шел непрерывный поток машин.
— Так-так. Не собираешься ли ты в таком случае поступить как тот констебль? — спросил Хартикайнен.
— Как это?
— Да вот так. Констебль отправился сообщать жене, что ее муж умер; он позвонил у двери, и, когда женщина открыла, полицейский спросил, не она ли вдова Моттонен. Женщина ответила, что она действительно Моттонен, но никак не вдова, а констебль и говорит — давайте заключим пари, что вдова! — Хартикайнен весело крутанул баранку. Смех вырвался у него откуда-то из глубины груди, непосредственный и прямодушный.
Харьюнпя издал легкий вздох: ему не хотелось обижать Хартикайнена. Он слышал эту присказку уже десятки раз, однако она не рассмешила его даже в первый. Он искоса наблюдал за Хартикайненом — тот, захлебываясь от хохота, приоткрыл рот, выдохнул и вновь сложил губы трубочкой. Рот у него вздувался, будто пузырь из жевательной резинки. Пористый широкий нос словно был вылеплен из воска.
К своему великому удивлению, Харьюнпя вдруг почувствовал сильную и необъяснимую ненависть не только к Хартикайнену, но и ко всему роду людскому. Он почувствовал ненависть к людям за то, что они вообще существуют, убивают друг друга, умирают, оставляя после себя скорбящих родственников, — словом, порождают как своей жизнью, так и смертью скорбь и тоску. Он почувствовал ненависть к людям за то, что они живут так непостижимо легко и бездумно, не обращая ни на что внимания, — строчат себе на машинке или считают, ведут делопроизводство или раскатывают на государственной «саабе» цвета зеленого мха, меняя иногда в ней масло, проверяя давление в баллонах и рассказывая глупые истории. От возбуждения у него покраснели щеки и уши. Он ненавидел свою работу. Он ненавидел себя за то, что продолжал оставаться таким, каким был, — со всеми своими слабостями и недостатками.
Хартикайнен с шиком остановился у тротуара. Мотор «саабы» мурлыкал на холостом ходу.
— Идти мне с тобой? — спросил Хартикайнен, когда Харьюнпя стал выбираться из автомобиля; тон у него был дружеский, вовсе не совпадавший с настроением Харьюнпя.
— Нет. Не нужно, спасибо, — пробормотал Харьюнпя. Он с силой захлопнул за собой дверцу автомобиля, зная, что это рассердит Хартикайнена, отвечающего за машину. Затем пересек блестящую от влаги травяную полосу и направился к центру покрытого асфальтом двора. И только у подъезда Харьюнпя понял, как глупо он поступает, отправляясь один. Конечно же, спокойнее выполнить это, пусть ерундовое, дело вдвоем — если даже и не придется применять физическую силу, второй человек может стать незаменимым свидетелем.
Харьюнпя открыл дверь подъезда и вошел. На полу — мусор. На стенах нацарапаны чьи-то имена. Список жильцов не был прикрыт стеклом, и поэтому буквы в некоторых фамилиях кто-то переставил. И теперь в квартире № 1 полуподвального этажа жила Ж... а, в соседней — Зас... ка. Харьюнпя подумал, что, наверно, это доставило кому-то удовольствие, и тоже улыбнулся. Теперь он был уверен, что этот дом принадлежит муниципалитету.
Квартира Континенов находилась на последнем этаже, и потому фамилия значилась в самом верху списка жильцов. Почему-то мысли Харьюнпя вдруг перескочили с Континена на фотографии убитых полицейских, висевшие на стене в служебном помещении личного состава. На крайней правой был изображен полицейский из отдела по борьбе с насилием. Он отправился поговорить в одиночку с неким ученым мужем в области экономики, который рассылал клеветнические разоблачительные письма и страдал манией преследования. Харьюнпя представил себе, как констебль позвонил у двери. Экономический гений отворил дверь, однако, поскольку он страдал манией преследования, в руках у него оказался взведенный пистолет. Констебль был спортсменом, поэтому он, точно лев, сумел прыгнуть под ноги гению. И все же пуля вошла ему в мозг и застряла там.
На фотографии в центре был изображен полицейский, выехавший на место невинного с виду происшествия — ограбления со взломом на Миконкату. Едва он успел выйти из автомобиля, как сквозь витрину часового магазина вылетела свинцовая пуля, выпущенная из военного сорокапятикалиберного пистолета, и осколки ее разворотили ему живот. Он умер месяцем позже в больнице. Какая участь постигла третьего сотрудника, Харьюнпя не помнил, хотя ему наверняка рассказывали об этом. Вместо этого перед глазами его возникла картина, от которой он долго не мог избавиться. Он живо представил себе Хярьконена — вот он курит свою вонючую сигару в комнате для личного состава и рассказывает какому-то новичку, указывая на последнюю фотографию: это, мол, Харьюнпя, в общем-то неплохой малый, но и он допустил ошибку — отправился в одиночку к парнишке, который проломил пивной бутылкой голову своему папаше.
Харьюнпя замедлил шаг. Он не вошел в лифт, хотя тот и стоял внизу, а не спеша полез вверх по ступенькам. Хейкки Калеви, конечно, мог убить своего отца, но с таким же успехом это мог сделать и разносчик газет, старший сержант или сидящий сейчас внизу, в машине, Хартикайнен. Харьюнпя попытался вспомнить излюбленное выражение Норри: «Возможно, конечно, но все же не очевидно». Оно почему-то нравилось ему. «Возможно, конечно, но все же не очевидно». На третьем этаже Харьюнпя замедлил шаг, у дверцы лифта он вообще остановился, пытаясь лихорадочно определить, которое из слов Норри было главным — в о з м о ж н о или о ч е в и д н о. Решить этого он так и не смог.
Харьюнпя стоял не двигаясь. Он видел в своем воображении, как сын Континена ждет в передней, несколькими этажами выше, сжимая в руках мелкокалиберную винтовку. Дуло ружья отдает синевой и направлено прямо в дверь, на уровне живота. Руки у парня потные. На полу распечатанная сине-красная коробка с патронами.
Харьюнпя глубоко вздохнул. Прислонился к стенке шахты лифта и принялся шарить в боковом кармане пиджака, ища сигареты. Закурив, он решил, что надо взять с собой Хартикайнена. Однако после второй затяжки отказался от этого намерения, представив себе, как тот будет подначивать его все последующие месяцы. Харьюнпя заметил, что сигарета дрожит у него в руке, и на минуту смежил веки. Он знал, что со стороны выглядит смешно — этакий трус. Харьюнпя подумал о маленькой Паулине, о ее потешном левом ушке и золотистых кудряшках. Потом вспомнил вздувшийся лоб и распухшие губы Континена. Представил себе парня с мелкокалиберной винтовкой, а потом представил себе, как он сам лежит на полу лестничной площадки, где пахнет карболкой, и больше уже не стыдился ни себя, ни своего страха.
Так он стоял, смежив веки. И слушал доносящиеся из квартир голоса. В них преобладали сердитые интонации утренней спешки. Где-то дети спорили между собой. Гудели водопроводные трубы. Голоса вернули Харьюнпя к действительности. Усилием воли он попытался рассуждать здраво. Он понял, что стоя спит. В такие минуты воображение берет верх над здравым смыслом. Харьюнпя знал, что у Хейкки Калеви Континена есть разрешение на владение малокалиберной винтовкой, однако это еще вовсе не значит, что она у него есть. И кроме того, подросток не может знать, что в данный момент к нему направляется полицейский. У парня есть мать, которая, очевидно, в этот час дома. Харьюнпя решил, что едва ли подросток станет убивать полицейского на глазах собственной матери, а кроме того, он понимал, что, если бы у Норри были серьезные подозрения, он не послал бы к Хейкки Калеви одного-единственного, да еще полусонного работника.
Харьюнпя бросил сигарету на бетонную ступеньку, погасил ботинком дымящийся кончик и сунул его обратно в коробку. Он потер нос и стал быстро подниматься по лестнице. Подойдя к двери Континена, он постоял некоторое время неподвижно, чтобы дать успокоиться дыханию. Харьюнпя не стал вытаскивать оружие, лишь сунул руку в карман и кончиками пальцев дотронулся до жестяной капсулы со слезоточивым газом. Затем нажал на черную пуговку дверного звонка. Послышалось два сигнала — кнопка коснулась клеммы и отошла назад. По привычке Харьюнпя прижался к стене, рядом с дверью. И так же инстинктивно перенес центр тяжести тела на правую ногу, чтобы левую быстро просунуть в открывшуюся дверь.
Харьюнпя прижался головой к двери и прислушался. Из приемника явственно доносилась мелодия «Удалого сплавщика знают везде» в исполнении септета «Отава». Чашка звякнула о блюдце. Женский голос сказал отрывисто: «Пойди открой». Стул царапнул по полу, босые ноги засеменили по паласу к входной двери. Шаги остановились в передней. Вешалки ударились друг о друга, зашуршала материя. От прикосновения руки вздрогнул замок. Харьюнпя отодвинулся еще дальше от двери.
— Доброе утро. Вы... ты Хейкки Калеви Континен?
Перед Харьюнпя стоял длинный хилый парень. Он стянул с вешалки поплиновый плащ и придерживал его на поясе руками. Из-под полы виднелись прикрытые кальсонами длинные босые ноги. Волосы клочьями падали на шею, кожа на щеках воспалена, ноздри покрыты угрями. Парню скорее можно было дать пятнадцать, а не девятнадцать лет. За ним в глубине квартиры кто-то двигался.
— Да, ну и что...
— Я Тимо Харьюнпя из уголовной полиции, — сказал Харьюнпя и быстро сунул ему под нос свое удостоверение. — Могу я на минутку войти — поговорить нужно.
На лице парня появилось удивленное, испуганное выражение. Он посмотрел на свои ноги, оглянулся и распахнул настежь дверь.
— Да, конечно, — сказал он и улыбнулся.
Харьюнпя заметил, что зубы у него крепкие и белые. Вслед за парнем он вошел в переднюю, дверь за ними защелкнулась.
— Так. Твоего отца зовут Армас Калеви Континен?
— Да... но он здесь не живет. Он в разводе с мамой, мы с ней...
— Ясно. А где он живет?
— На улице Меримиехенкату. Почти у перекрестка с Фредерикинкату.
— Так... Ты видишься с ним? — спросил Харьюнпя и почувствовал, что женщина внимательно слушает их. Он постарался не обращать на это внимания и, придав лицу бесстрастное выражение, внимательно наблюдал за парнем.
— Да. Конечно. Конечно, я ходил... навещал его...
— Когда ты в последний раз видел отца?
— А что случилось-то... опять выкинул что-нибудь? Погодите, это было в конце февраля или в начале марта. Мама! Ты не помнишь, когда я в последний раз ходил проведывать отца? — крикнул парень через плечо и потрогал указательным пальцем один из прыщей.
Госпожа Континен вошла в переднюю так быстро, что, видимо, все это время она стояла за дверью.
Это была худощавая женщина лет пятидесяти с лишним, с бесконечно усталым от тяжелой физической или уж очень монотонной работы лицом. Она тоже была босиком, но в пестром хлопчатобумажном платье — сейчас она поспешно вытерла руки о бока. Харьюнпя с облегчением вздохнул — хоть эта не в исподнем.
— В чем дело? Хейкки, ты-то сам... ничего?..
— Оставь ты...
— Нет, нет, речь не о нем. Я — Харьюнпя, из уголовной полиции. Речь идет о вашем бывш... о вашем муже.
— Ах вот как. Ну заходите... Ты что же, Хейкки, стоишь в передней!
По жестам и интонациям Харьюнпя понял, кто здесь правит. Они вошли в квартиру, госпожа Континен шла впереди слегка вперевалку, парень следовал за ней, шурша поплином; шествие замыкал Харьюнпя, глубоко засунув руки в карманы куртки. Он отметил про себя, что Хейкки удивился его появлению, но не испугался и не занял оборонительной позиции. Харьюнпя был почти уверен, что убийцу следует искать в другом месте.
Квартира выглядела заурядной, обставленной без всякой фантазии. Обычная, стандартная квартира, в каких Харьюнпя приходилось не раз бывать. Мать и сын снова присели к столу, но никто из них не прикоснулся ни к кофе, ни к бутербродам. Харьюнпя остался стоять. Он чувствовал себя крайне неловко. Известие едва ли будет для них так уж тягостно, подумал он: ведь они ужо давно живут врозь, и все же слова вертелись у него в голове, не выстраиваясь в разумные предложения.
— Да, действительно, это было в начале марта, когда Хейкки в последний раз навещал... этого человека. Верно ведь? Здесь в то время как раз шел ремонт, и я сказала тебе, чтобы ты привез из города новую резиновую прокладку для душа... Да, точно. Это было около месяца назад. Ты... ты уверен, что больше с отцом не встречался?
— Да-а. После этого я его не видел, — ответил парень, и, вглядываясь в его глаза с белесыми ресницами, Харьюнпя почувствовал, что он говорит правду.
— Ну так... что же? — спросила госпожа Континен.
Харьюнпя вздохнул. Он чувствовал, что непозволительно тянет.
— Да видите ли... — Харьюнпя вынужден был перевести дух. — У меня, к сожалению, очень неприятное для вас известие. — Он выдержал короткую паузу, чтобы дать матери и парнишке время адаптироваться. Госпожа Континен уронила руки на стол. Хейкки сделал несколько глотательных движений. — В его квартире... найден... его нашли мертвым дома.
У Хейкки задергалось веко, и он уставился на мать. Его рука, придерживавшая плащ, упала, и полы плаща распахнулись. Госпожа Континен с минуту сидела неподвижно. Затем губы ее приоткрылись, она машинально отодвинула от себя чашку с кофе. Жидкость выплеснулась на блюдце. Одеревеневшими пальцами она взяла ложку и прижала ее к животу.
— Вот как... значит, ушел, — произнесла она слабым бесцветным голосом. По щекам ее медленно разлилась бледность. Ноздри расширились.
Харьюнпя перенес тяжесть тела на другую ногу. Он понял, что поступил неверно, вывалив все сразу, но дело было сделано. Он вспомнил, что видел в музее в Порво баночки, наполненные слезами, и подумал, что один сосуд наверняка мог бы наполниться за эту ночь. Мысль мелькнула и исчезла — тогда он не мог еще знать, что до возвращения домой ему самому понадобится банка для слез.
А через двадцать минут Харьюнпя снова дышал хлоркой, которой несло от ступенек подъезда. Глупо было Континенам целых семь лет прожить врозь без официального развода, а еще глупее то, что жена все эти семь лет тщетно ждала, когда муж позовет ее к себе. Харьюнпя даже не пытался понять ее — ему было просто жаль ссохшуюся госпожу Континен, которая жила этой несбыточной надеждой, изо дня в день строча на швейной фабрике одни и те же швы. Мать-одиночка растила дефективного сына, а тому и в голову не приходило, почему мать заставляет его ходить к отцу. Харьюнпя проклинал человеческое упрямство и слепоту, он пытался вызвать в себе неприязнь, чтобы не думать о дальнейшей судьбе госпожи Континен.
Харьюнпя сбежал вниз по ступенькам, касаясь плечом стены. Он не знал еще, как докажет Норри, что парень непричастен к убийству Континена. Норри не удовлетворится интуицией и рассуждениями, тем более что парень, навещая отца, заставал у него в квартире девок и потому имел все основания для возмущения и мести. Другой бы пошел на это, но не Хейкки Калеви с его белесыми глазами — где ему было знать, как мучительно его мать тянулась к своему пьянице-мужу.
ГЛАВА 10
Харьюнпя ждал, развалившись в кресле, в помещении для вскрытий судебно-медицинской экспертизы, глаза его отдыхали на сверкающих завитушках линолеума. На столе возле него шипел кофейник, с полки строил гримасы череп, почерневший от старости, а стеклянный глаз, утопленный в щель между кирпичами, неотступно следил за всем происходящим в помещении. Харьюнпя зевнул. Он устал, и ему хотелось спать, но он понимал, что не скоро заберется под одеяло. Он ждал, когда резекторы поднимут труп Континена из подвального помещения в зал для вскрытий и судебно-медицинский эксперт примется за работу.
Судебно-медицинская экспертиза была вполне пристойным заведением. Она скорее напоминала больницу, чем покойницкую: повсюду белизна, чистота, пластмасса, кафель, блестящая нержавеющая сталь. Погожий день сверкал за окном, мощная вентиляция удаляла без остатка запахи, а синеватый ультрафиолетовый свет истреблял оставшиеся бактерии.
Сёдерхольм, фотограф из технического отдела, молодой узколицый парень, пришедший в полицию совсем недавно, сидел на углу стола. Он молчал и каждые две минуты тяжело вздыхал. Харьюнпя тоже не ощущал потребности в беседе, к тому же он знал, каково сейчас Сёдерхольму, и потому ждал молча. Он прислушивался к бульканью воды в каком-то сосуде и шипению, с каким кто-то из резекторов рядом с коридором оттачивал ножи.
Харьюнпя попытался припомнить, все ли он сделал, когда заходил к себе в отдел. Он передал рапорт в канцелярию, возвратил пишущую машинку и объяснил Сутелину подробности так называемого дела со взрывом. Сутелин при этом внимательно разглядывал свои ногти и прилежно кивал, а в заключение сказал, что дело имеет отношение скорее к полиции, наблюдающей за порядком. Харьюнпя переписал начисто все материалы по делу Континена, на что у него ушло сорок пять минут. В начале девятого позвонил Норри и сообщил, что вскрытие начнется, как только Харьюнпя прибудет на место. И еще Норри мимоходом сказал, что в момент смерти Континена у него в квартире находилось двое — скорее всего мужчина и женщина. До телефона донеслось слабое кошачье мяуканье, из чего Харьюнпя заключил, что звонил Норри из квартиры дворничихи.
На мгновение Харьюнпя почувствовал искреннее удовольствие от того, что сидит вот так, расслабившись, глядит на желтый пол и слушает монотонное жужжание точильного станка. А в эти минуты Норри, Монтонен, Хярьконен и Тупала поспешно собирают сведения и, возможно, уже добыли нечто важное, что поможет раскрыть преступление. Веки Харьюнпя сомкнулись, голова медленно склонилась на грудь.
— Ну так что ж. Все господа на месте. Континен и Сипиля уже ждут в третьем зале.
Харьюнпя вздрогнул. И уставился с испуганным и глупым видом на появившегося в дверях резектора. Некоторое время он видел только резиновый, весь в пятнах колпак на вошедшем да его тоненькие мышиные ножки, выглядывавшие из-под длинного, до пят, фартука.
— Да. Ясное дело, пошли, — пробормотал Харьюнпя и быстро пришел в себя, узнав Янссона. Он понял, что спал всего минуту или две. — А как же быть с вашим кофе? Выключить его? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал нормально.
— Если нетрудно, поверните вон тот зеленый кран, я не сумею этого сделать, — сказал Янссон, кивком головы указав на свои руки в бледно-розовых резиновых перчатках. Он держал их приподнятыми в воздухе, опасаясь к чему-либо прикоснуться, и Харьюнпя различил сквозь перчатки родимые пятна на его коротких пальцах. Он повернул газовый кран.
Они пошли друг за другом по длинному коридору. У Янссона поверх ботинок были надеты толстые белые резиновые сапоги с глубоким вырезом, доходившим до пятки. Так он без труда мог надевать их точно шлепанцы. Харьюнпя наблюдал, как каблуки ботинок Янссона приподнимались при каждом шаге, в то время как подошвы сапог волочились по каменным плитам. Резиновый фартук шуршал и бился о ноги Янссона.
— Послушай, Тимо. А если... если я сделаю только основные снимки. Чтобы не сидеть там без толку до конца... у меня ведь еще и другие дела есть, — прошептал ему в ухо фотограф Сёдерхольм. Лицо у него было напряженное, бледное, и Харьюнпя понимал, чего он боится.
— Ладно. Нет проблем. Делай свои снимки и отправляйся на все четыре...
За несколько метров до входа в зал вскрытий Харьюнпя вдруг стало страшно: а что, если он грохнется в обморок? Страх напал на него с такой бешеной силой, что кожа похолодела. Он попытался глубже дышать, но это привело лишь к одышке. Он знал, что если с ним случится обморок, то это лишь от страха. Разум подсказывал, что он не может лишиться сознания хотя бы уже потому, что не посмеет потом показаться на глаза своим коллегам, во всяком случае, какое-то время. Кроме того, он присутствовал уже на десятках вскрытий, и только на первом у него отказали ноги, и он вынужден был опереться о стену. Харьюнпя принялся уверять себя, что ничего не произойдет, он не потеряет сознания. Он должен выдержать вскрытие, ибо это естественный акт, часть жизни и потому для страха нет оснований.
Они вошли в зал; Харьюнпя сжал обеими руками блокнот для заметок и почувствовал, как дрожат у него губы. Запах проник в ноздри. Мгновенно перед ним возникла квартира Континена. Тело лежало на столе для вскрытий. Харьюнпя лишь мимолетно взглянул на него и отвел взгляд от покойного. Сквозь щель в занавесках окна он заметил, что на улице уже светит солнце. Солнечный свет подействовал на него успокаивающе. К нему вернулась уверенность в себе. Он услышал, как Сёдерхольм щелкает фотокамерой. Снова взглянул на Континена и уже не почувствовал неприятных ощущений.
Ассистент Сипиля стоял у головы Континена. Он улыбался, но беззлобно, и Харьюнпя понял, что Сипиля заметил выражение его лица. Он сухо кашлянул. Сипиля поднял руку и нажал кнопку на микрофоне, свисавшем со светильника.
— Та-ак, — выдохнул Сипиля и стал сосредоточенно осматривать Континена. — Объект вскрытия ростом сто семьдесят два сантиметра, вес — восемьдесят девять килограммов, достаточно упитан, среднего возраста... точка... пункт... покойник...
Харьюнпя представил себе, как машинистка, находящаяся в совсем другом помещении, пристроила получше наушники и пальцы ее забегали по клавишам.
Впоследствии Харьюнпя понял, почему он едва не потерял сознание при первом вскрытии: он представил себе покойника живым человеком. Таким же, как он сам, — с волосами, ногтями, глазами, с нервами, восприимчивыми к боли. И так как с самого детства ему внушали, что человеку нельзя причинять зло, было ужасно видеть, как планомерно и искусно разрушают человеческое тело.
О том, что произошло с Континеном, можно было судить по вполне еще различимым следам кровоизлияния в мозг. Даже ударов, нанесенных в лоб, достаточно было бы для смертельного исхода. Теперь, при вскрытии, неожиданно выяснилось, что Континена не только избили, но еще и удушили.
Подошел Сёдерхольм — он был бледен и едва переводил дух. Харьюнпя чувствовал, что и сам выглядит не лучше.
— Тимо, я... я пойду. Больше не нужно... в отделе много работы... да и эту пленку надо проявить, — еле слышно прошептал Сёдерхольм: Харьюнпя понял его лишь по движению губ.
— Да, да, иди. Я и сам скоро... но я вызову автомобиль, поезжай.
Стоя в стороне, Харьюнпя почувствовал, как усталость сковывает его. Он следил за движениями рук Сипиля и Янссона, прислушивался к их переговорам вполголоса, и ему казалось, что все это он видит во сне. Невольно он подумал, как бы почувствовал себя убийца Континена, если бы очутился сейчас здесь, в этом смраде, и увидел, к чему привела вспышка ненависти и последовавшее за ней насилие.
А ведь и убийца когда-нибудь может очутиться на этом столе под ослепительным люминесцентным светом, да и он сам тоже, подумал Харьюнпя. И представил себе, как он лежит на этом столе. Увидел регистрационную запись на своем бедре, выведенную черным фломастером. — «Харьюнпя Т. Й.», и вслед за этим данные о его росте и весе: «184—72». Эта картина не заставила его содрогнуться. Лишь смутила своей очевидностью. Харьюнпя не боялся смерти. Жаль было бы только Элизу и Паулину, которые стали бы плакать и горевать, да и прожить на маленькое жалованье Элизы им было бы трудно. Кроме того, у Харьюнпя возникло чувство разочарования и горечи: вот он умрет, а в мире все будет по-прежнему и время будет вносить свои изменения, о которых он уже ничего не будет знать.
Тревога переполнила Харьюнпя. Ему вдруг почудилось, что сейчас, сию минуту, что-то происходит с Паулиной. Харьюнпя захотелось домой — немедленно. Он беспокойно заерзал на месте и тихо застонал. Только бы добраться до дому, а там он возьмет Паулину, укачает и положит спать возле себя. Хотя в зале не полагалось курить, так как врач должен различать несвойственные организму запахи, Харьюнпя извлек сигарету из пачки и сунул в рот. Руки его все еще так дрожали, что он раскурил сигарету только со второй спички. Страх, горе и нежность, смешанные с усталостью, привели Харьюнпя в такое волнение, что слезы навернулись на глаза. Он боялся моргнуть, и собравшаяся перед зрачком влага застилала ему зрение. Он смотрел как сквозь серую пелену, и блестящие инструменты распадались перед его глазами на сотни светлых точек.
Ассистент притворил за Харьюнпя дверь судебно-медицинской экспертизы так тихо, что он даже не услышал, как щелкнул замок. С минуту он постоял на месте, наслаждаясь солнечным светом и свежим воздухом. Он глубоко втягивал в себя кислород. Был всего лишь апрель, но уже по-весеннему, по-майски тепло. Воздух благоухал росой, возникавшей из тумана, и тучной землей, в дворовой траве пробивались нежные желтовато-зеленые цветы. Харьюнпя водрузил берет на голову, но не застегнул пиджака — было на удивление тепло. С Маннерхейминтие доносился шум уличного движения. Реактивный самолет прошипел где-то в стороне Пасила. Внимательно прислушавшись, Харьюнпя различил высоко в небе пение первого жаворонка.
Не спеша Харьюнпя направился к конечной трамвайной остановке «десятки». Правую руку он держал в кармане пиджака, в левой держал пестрый пластмассовый мешок. Песок поскрипывал под резиновыми подошвами его ботинок. Он мысленно прокрутил только что состоявшийся телефонный разговор.
«Гараж, Лаукама? Это Харьюнпя, привет...»
«Да?»
«Я нахожусь в судебно-медицинской экспертизе. Со мной был Сёдерхольм на машине, но его вызвали на другое дело. Я на вскрытии. Не мог бы ты прислать сюда кого-нибудь за мной?»
«А-а-а. Подожди минутку... послушай, здесь всего один автомобиль, и тот баз шофера. Если подождешь часок, то пришлю».
«Не нужно. За это время я доберусь и пешком. Я после ночного дежурства...»
«Ничего не поделаешь. Комиссар патрульной службы уехал куда-то с Лепоненом, а Витикка на объезде с курьером. Такие вот пироги. Подожди или добирайся трамвайчиком, а то и пешочком, хе-хе».
«Ну ладно, оставим это дело... Чтоб ты в дерьмо вляпался...» — добавил Харьюнпя, прежде чем бросить трубку, и только на улице понял, что девушка на коммутаторе в судебно-медицинской экспертизе слышала это. От стыда у него заломило затылок. Он обернулся и окинул взглядом здание, но никто не смотрел ему вслед.
Подходя к Маннерхейминтие, Харьюнпя уже не сердился на Лаукама. Не виноват он, что руководство уголовной полиции не может отстоять свои интересы и добиться, чтобы им выдали нужное количество машин. «Рейндж-роверов», длинноносых «вольво» и подобных им автомобилей было в достатке лишь в тех подразделениях, руководители которых умели льстить и ходили на нужные обеды. В уголовной же полиции жили потихоньку, не спеша. Там пользовались предельно заезженными «фольксвагенами» и «ладами», на ремонт которых тратили такие суммы, что на них можно было обновить весь автопарк. Примерно половина автомобилей стояла всегда на ремонте, так что с транспортом было туго.
Харьюнпя не стал добираться до перехода. Он отважно двинулся через Маннерхейминтие, но вынужден был остановиться на середине улицы, недооценив скорости приближавшегося автобуса. Он весь сжался, сунул даже руку в карман пиджака — так надежней, ближе к себе. Кончиками пальцев нащупал фарфорового слоника. Слоник изменился, словно бы стал меньше, фарфор загрубел и потрескался. Харьюнпя вдруг пришло в голову, что слоник умер у него в кармане, так ни разу и не побывав на свету. Мощная жестяная стена синего автобуса пронеслась мимо всего в полуметре от его лица. Харьюнпя чуть не задохнулся от выхлопных газов. Он помнил, что хоботок у слоненка, принадлежавшего Эдит Агнес Рахикайнен, был надломлен, а сама она умерла. Полуприцеп пронесся за его спиной, спереди пролетел другой автобус. Он вспомнил, во что может превратиться человеческое тело под двумя парами колес, и содрогнулся от своего легкомыслия. Смерть на дороге была, по его мнению, самой глупой и никчемной из всех смертей, ибо она была всего лишь следствием неразумного поведения человека на улице и допущенных им при этом мелких небрежностей.
Остановка в потоке транспорта произошла так внезапно, что Харьюнпя еще секунды две продолжал стоять посреди улицы с зажмуренными глазами. Почувствовав, что шум прекратился, он выдернул руки из карманов, перебежал через все полосы движения и, не оглядываясь, перелез через ограду трамвайной остановки. Переводя дух, он уже предвидел, как недоуменно уставятся на него прохожие. Он чувствовал их недоброжелательство и осуждение, он не смел оглянуться. Он даже попытался вообразить, что на остановке стоит убийца Континена — хотя бы вон тот мужчина с коричневой кожаной сумкой в руке, или та сильно накрашенная девица. На дальнейшее, однако, фантазии у него не хватило. Он знал, что убийцу нужно искать среди крепких здоровяков, живших на разные пособия, — среди тех, что шагают тебе навстречу и, поравнявшись, цедят сквозь зубы: «Жизнь или кошелек!»
Добравшись наконец до места и доставив содержимое сумки в Центральную уголовную полицию, в отдел по исследованию отпечатков пальцев, он заехал еще на Софиянкату и переписал на машинке рапорт о вскрытии, наделав кучу опечаток. Без четверти два Харьюнпя добрался наконец до своей квартиры. Он не прикоснулся к бутербродам, приготовленным для него Элизой, — только выпил два стакана молока. Он не смог заставить себя принять душ, не говоря уже о том, чтобы вычистить зубы. Сев на край кровати, он стянул с себя верхнюю одежду и даже носок с левой ноги — на большее его не хватило. Он рухнул на кровать, укрылся с головой одеялом и погрузился в тяжелый, близкий к беспамятству сон.
Проснулся Харьюнпя только в восемь вечера. Он проснулся оттого, что Паулина дергала его за нос. И это хорошо удавалось ее маленьким пальчикам.
ГЛАВА 11
В среду Харьюнпя пришел на работу раньше обычного. Было чуть больше семи, а рабочий день начинался без четверти восемь. Идя по узкому, точно кишка, коридору, Харьюнпя подумал, что даже с завязанными глазами отыскал бы. свое рабочее место. Он ощутил донесшийся из конца коридора аромат крепкого кофе. Значит, девушка-курьер была уже на месте.
Собственно, какая она девушка — Пауле было уже тридцать лет. Смешливая, с огненно-рыжими волосами, стройными ногами и невысокой крепкой грудью, Паула не была писаной красавицей, но какое-то своеобразное очарование в ней явно ощущалось. Поэтому, естественно, все мужчины из отдела по борьбе с насилием крутились вокруг нее.
— Доброе утро, — сказал Харьюнпя, вернее, не сказал, а чуть ли не пропел.
— Морнинг, морнинг, мальчик Тимо...
Если бы на месте Харьюнпя оказался кто-нибудь другой, он наверняка подхватил бы этот игривый тон, но Харьюнпя всегда было неимоверно трудно заговорить с посторонней женщиной на какую-либо иную тему, кроме работы. А кроме того, он был безусловно верен своей жене. Происходило это не из-за каких-то благородных принципов, а оттого, что ему было страшно даже подумать о скандале и неприятностях, следующих за разоблачением.
Харьюнпя налил им обоим крепкого кофе и положил в свою чашку много сахара. Паула листала «Ууси Суоми»[18], а Харьюнпя разглядывал ее колени.
Он вновь обрел душевное равновесие. Он был спокоен, задумчив и категорически не желал вспоминать того мужчину, который накануне плакал в судебно-медицинской экспертизе.
Открыв кабинет Норри своими ключами, Харьюнпя вошел в него, вытащил нижний ящик стола, где Норри обычно хранил самые трудные дела, и достал пластмассовую папку.
Она оказалась удивительно объемистой, хотя прошли всего сутки. Харьюнпя сел не в кресло Норри, ибо чувствовал, что тому не понравилось бы это, а на деревянную скамейку у стены. Раскрыл папку. Дело квалифицировалось как убийство. Это подтверждалось как самим фактом происшедшего, так и его жестокостью. Изложение обстоятельств было сухим и кратким — здесь для Харьюнпя не было ничего нового, кроме того, что из только что полученной Континеном пенсии не обнаружено ни марки и что телевизор был поставлен на пол, а не упал во время борьбы, как поначалу предположил Харьюнпя.
Норри и Монтонен допросили семерых человек: дворничиху, двоих соседей и четверых приятелей Континена. Однако допросы не дали ничего существенного. Они только подтвердили, что Армас Калеви Континен был убит в прошлый понедельник, предположительно во второй половине дня, скорее — ближе к вечеру. Нехотя Харьюнпя пролистал бумаги до конца. Чего тут только не было: имена и фамилии, номера телефонов, слухи, результаты опроса людей, подробный перечень вещей в квартире убитого. Даже содержание мусорного ведра вплоть до обгоревших спичек, и Харьюнпя посочувствовал тому, кто выполнял эту работу. На минуту он представил себе, как Норри, опустясь на корточки, разглядывает зловонные остатки, и эта картина позабавила его, ибо Норри во время еды заворачивал даже пончик в салфетку, чтобы не запачкать пальцев.
По количеству бумаг Харьюнпя понял, какую большую работу проделали Норри, Монтонен, Хярьконен и Тупала, — домой они попали, конечно, только после полуночи. Прочтя все документы, Харьюнпя пришел к выводу, что убийство Континена было еще одним типично финским преступлением — убийством на финский манер. Все имевшие к нему отношение — жертва, свидетели, окружение и, конечно, виновники преступления — принадлежали к малочисленным общественным группам. Это были люди, получавшие маленькую пенсию или мизерное жалованье, заросший волосами пьяный сброд, больные или слабоумные, мелкие мошенники или бродяги, снующие вокруг отделов социального обеспечения. Из тех, что собираются на углах, едят сосиски на вокзале и одним своим видом приводят в ужас консультантов-бизнесменов, чиновников и банковских барышень. Из них состоит клиентура отдела по борьбе с насилием, это бедолаги, которые, убив человека, сами удивляются: «Как же... как... как я ухитрился это сделать?» Однако данное убийство отличалось от убийств такого рода тем, что ему сопутствовало ограбление, убийц было двое, и орудие убийства — не пуукко.
Брови Харьюнпя приподнялись, когда он прочел, что стаканы и бутылки были отправлены прямо в Центральную уголовную полицию. Он поразмыслил над этим минуту и пришел к выводу, что Норри поступил разумно. Их собственный технический отдел проводил некоторые дела безукоризненно, там работали несколько хороших специалистов, однако горький опыт показал, что в серьезных случаях надежнее отправить вещественные доказательства прямиком высококвалифицированным профессионалам. Последним в деле лежало заключение Центральной уголовной полиции, удостоверяющее личность Континена.
Ни звука — только вдруг возникший запах одеколона возвестил о появлении Норри. Харьюнпя повернул голову и одновременно опустил брови. Норри стоял в дверях. На нем был костюм стального цвета, свежая рубашка. Галстук цвета красного вина с узкими жемчужно-серыми полосками. На замкнутом лице при внимательном изучении можно было обнаружить лишь легкое удивление, и по нему Харьюнпя сразу определил, что Норри не спал всю прошлую ночь.
— Доброе утро...
— Утро доброе, Тимотеус, — ответил Норри вполне довольным и, к удивлению Харьюнпя, даже бодрым тоном.
Через полчаса они все собрались у Норри, бумаги были разложены на столе, и Норри принялся составлять описание последнего дня Континена.
— Да-да. Снял деньги и зашел в «Алко»[19] на улице Пурсимиехенкату, взял две бутылки — «Коскенкорва» и «Сорбус»[20]. И вот здесь возникает промежуток до трех — что было в это время? — говорит Монтонен.
— Да. Он мог быть в это время и дома.
— Да, возможно... но это надо подтвердить.
— Нужно пройтись вновь, поискать свидетелей.
— Наверное. Хорошо, а как насчет орудия убийства? Я думаю...
— Не выдержит. Не выдержит пивная бутылка таких ударов — должна была вдребезги разбиться.
— Это не исключается. Полная разбилась бы наверняка...
— А не наоборот?
— Пустая или полная — один черт, дух вышибет наверняка.
— Никакого другого подходящего орудия убийства в квартире мы не обнаружили.
— Почему же они оставили его? Могли бы забрать с собой и бросить в море или в водосточную трубу.
— И барахлишко тоже?
— Их же было двое...
— Да, но вторая — женщина...
— Удар нанесен бутылкой. Вспомни волосы и кровь.
— Постойте. По-моему, хватит молоть ерунду, — бросил раздраженно Хярьконен.
Харьюнпя не участвовал в споре, это его не заинтересовало, а скорее надоело. Он стоял по-прежнему у окна, бесцельно разглядывая черные жестяные крыши, одетые шапкой дыма из трубы, и не прислушивался к разгоревшейся полемике. А она продолжалась — то снова разгоралась, то затихала.
Внезапно у Харьюнпя возникло чувство вины, ибо он на этот раз не чувствовал обычно пробуждающейся в таких случаях сопричастности и страстного ожидания. Это огорчило его. Он попытался следить за беседой.
— ...совершенно неизвестные, которых он случайно встретил.
— Я и не отрицаю, такое возможно, но тогда это послужит доказательством, если они будут задержаны и выяснится, что по крайней мере один из них участник убийства. По окуркам еще можно определить группу крови.
— Учти, что они сохли уже более недели.
— И все же можно...
— Можно, все можно. Может и преступник явиться сюда и сказать, что, мол, пристукнул я тут одного Континена, в его квартире.
— Или объявит об этом на смертном одре священнику...
— Конечно... Конечно, это так... скажи только, почему их все же никто не видел, если тебе все известно!
— Но-но. Я вовсе не утверждал, что знаю... ты просто плохо искал. Свидетель там же, где и преступник, как писал Алексис Киви.
— Киви!.. Никакой не Киви, а Хану Салама...
— Черта с два...
Спор вели в основном Хярьконен и Монтонен, который скорее подтрунивал над Быком-Убивцем, хотя последний, как обычно, этого не замечал. Тупала вставлял иногда слово-другое, в основном же он сидел молча и с улыбкой разглядывал свои сцепленные пальцы. Из коридора доносились живые голоса. Звонили телефоны, кто-то говорил. Ботинки выстукивали по половику, равномерно жужжал мотор лифта.
Норри сидел откинувшись в своем кресле. Он так и не закончил описание последнего дня Континена и теперь сидел, заложив руку за голову. Он неотрывно смотрел на противоположную стену, нижняя губа его при этом то отваливалась, то приподнималась — это напомнило Харьюнпя рыбу, всасывающую в себя пищу с морского подводного камня. Норри не следил за беседой. Она не представляла интереса и наполовину состояла из шуточек — собравшиеся просто проветривали себе мозги и лишь случайно могли выдать заслуживающую внимания идею. Харьюнпя видел, что Норри думает. Думает, полностью отключившись от обстановки своего кабинета, от нестерпимо жаркой батареи, от запаха своего одеколона, от Монтонена, Хярьконена, Тупала и Харьюнпя.
Наблюдая за Норри, Харьюнпя почувствовал легкую зависть. Он завидовал тому, что Норри способен так увлечься неразгаданным преступлением, в то время как ему оно представлялось докукой, от которой следует избавиться возможно скорее.
Некоторую неприязнь вызывала у Харьюнпя и способность Норри сосредоточиваться, ибо сам он на такое не был способен. Он знал, о чем думает Норри. Норри не строил теорий. Их ведь можно придумать сколько угодно, а толку — чуть. Поэтому Норри лишь перебирал в уме принятые меры, старался выяснить, что осталось несделанным, решить, что еще можно предпринять.
Эффективность или слабость оперативного работника зависят от того, в какой мере он способен использовать счастливый случай. В случае же неудачи весь труд на девяносто девять процентов пропадает. Эта неоспоримая истина была способна заранее притушить всякий энтузиазм. Харьюнпя следил за Норри и, видя, как его нижняя губа вновь пришла в движение, почувствовал уверенность в том, что этот человек способен устроить так, что ему выпадет счастливый случай. Если же этого не произойдет, значит, Норри со своими ребятами выполнил всю работу зазря. Харьюнпя вдруг вспомнил, что именно сегодня его теще исполняется пятьдесят лет.
— Наверное, следовало бы сегодня оповестить прессу? Хотя, правда, об убийстве пока ни слуху ни духу, — сказал Монтонен.
Харьюнпя заметил на лице Норри сомнение и досаду оттого, что его оторвали от раздумий.
— Хм... я подумаю об этом.
— Не торопитесь, ребята! После этого каждый третий звонок будет из какой-нибудь редакции. Они зажмут нас, — сказал Хярьконен, горько усмехнувшись, точно попал в такое положение, когда хуже некуда.
На лбу Норри прорезалось несколько морщин. Харьюнпя подумал, что Хярьконену лучше бы помолчать. Норри всегда умел сохранять спокойствие и владел собой, однако пресса делала его беспомощным. Конечно же, он с удовольствием прочел бы в газете что-нибудь вроде: «...по словам комиссара Вейкко Норри, ведущего расследование по делу...», однако у него, как и у других полицейских, преобладало чувство неприязни к прессе. Они были врагами. Газетчики вечно тяжело дышат в затылок и издевательски покусывают за пятки.
Норри быстро покончил с сомнениями, и его лицо снова приняло бесстрастное выражение.
— Возьми на себя, Саку, это дело с железнодорожным вокзалом... Тупала и Хярьконен должны непременно раздобыть этих Тамминена и Ристиля — они наверняка болтаются где-нибудь на ближайшем углу. Прихватите и бары. Харьюнпя... — Норри снял очки и посмотрел на Харьюнпя. — Ты останешься пока дежурить у телефона и перепишешь начисто последние допросы жильцов.
От разочарования и гнева кровь прилила к голове Харьюнпя. Ему с трудом удавалось сохранять рабочее настроение, хотелось побыстрее выбраться отсюда. Хотелось отправиться на поле боя — допрашивать людей, звонить в квартиры, предъявлять фото Континена. Хотелось оказаться на решающем для исхода дела участке. Харьюнпя почувствовал во рту привкус желчи. Он поднялся, собрал бумаги со стола Норри и едва не принялся насвистывать, чтобы показать, что ему все нипочем. Харьюнпя пошел к выходу из этой комнаты, пропитанной приторным запахом одеколона, и с неприязнью подумал о своем закутке, где по углам висит топорщащаяся одежда, а отопительные батареи либо нестерпимо раскалены, либо совсем холодные.
Харьюнпя закрутил кран батареи до отказа, хотя знал, что через полчаса его придется вновь открывать. Он уселся на скрипящее вращающееся кресло и уставился на клавиши своей пишущей машинки, буквы на которых едва можно было различить из-за скопившейся грязи.
Под валиком скопился слой резиновой крошки. Харьюнпя перевел взгляд на отрывной календарь, показывавший предыдущие сутки, и затем на дробовик, прислоненный к шкафу. Отец четверых детей, старшему из которых было менее десяти лет, застрелился из него. Он выстрелил себе под подбородок, и дробь вышла за ухом. Харьюнпя вспомнил, что оружие следовало давным-давно почистить, а теперь было уже поздно — кровь успела разъесть стволы.
Харьюнпя отчаянно захотелось почувствовать вкус сигареты, но он решил не закуривать, пока не перепишет начисто документы. Он взял бумаги — это были листки из блокнота, восемь штук. Разобрать округлый почерк Хярьконена не представляло труда. Это были заметки, связанные с допросом жителей того самого подъезда, где жил Континен, и Харьюнпя принялся быстро за работу.
— Подъезд «С» (Меримиехенкату, 8), квартира 27: нет информации;
— квартира 26: объединена с предыдущей квартирой;
— квартира 25: нет информации;
— квартира 24: нет дома, зайти еще раз;
— квартира 23: слышал крики, но не помнит время;
— квартира 22: нет информации;
— квартира 21: нет.
После «квартиры 21» Хярьконен написал только «нет», и, поколебавшись с секунду, Харьюнпя допечатал: «информации». Сомнения исчезли так быстро, что он даже не успел как следует этого осознать — только пальцы вздрогнули, приостановившись, и снова застучали, стремясь побыстрее покончить с делом. Обида и желание поскорее закурить сигарету настроили Харьюнпя на равнодушный лад. Выбив это слово, он превратил маленькую оплошность Хярьконена в ошибку, из-за которой и Норри, да и все они лишились редкой удачи.
Ранним утром предыдущего дня, в то время когда Харьюнпя отправился к родственникам Континена, Хярьконен получил от Норри указание опросить жителей верхних этажей подъезда. Работа шла медленно, так как многие были еще не одеты и не сразу открывали дверь. Хярьконен продвигался сверху вниз, отмечая в записной книжке номер квартиры и результаты опроса. При необходимости он производил более подробный опрос и договаривался о времени, когда можно будет побеседовать дополнительно. Откуда-то снизу вдруг послышался звук звонка — там действовал Тупала. Озноб, сопутствующий пробуждению, все еще тряс Хярьконена, так как слишком рано и внезапно его разбудили. Кроме того, ему ужасно хотелось выпить чашку кофе, и у него буквально засосало под ложечкой, когда он ощутил запах кофе, доносившийся из какой-то квартиры. Хярьконен заторопился: надо будет заскочить в ближайший бар и выпить кофе.
Хярьконен подошел к квартире номер двадцать два, предпоследней на этом этаже, над почтовым ящиком висела красиво обрамленная медная табличка с выдавленными на ней буквами: «К. Меллер». По тому, как были выдавлены буквы, Хярьконен решил, что в квартире проживает пожилой человек с плохим слухом. Именно поэтому он с силой нажал на звонок. Подождал минутку и позвонил снова — так же настойчиво, как и в предыдущий раз. Затем приложил ухо к двери, но шума шагов не послышалось. Для верности Хярьконен заглянул в дверной глазок, через который обычно можно различить тень, если человек стоит за дверью. Однако Хярьконен не обнаружил ничего, за стеклянной пуговкой была лишь темнота. Он двинулся к следующей двери. Это была квартира номер двадцать один. На табличке значилось: «Карппи».
Хярьконен стоял под дверью, пощелкивая пальцами по шариковой ручке. Он уже трижды нажимал на кнопку звонка, но и в этой квартире тоже не было слышно ни звука. Он погладил небритый подбородок, уже заросший щетиной, и не огорчился, что дверь не открывалась. Он привык, что людей не всегда удается застать сразу, а сейчас каждый откладывавшийся опрос приближал его к кофе. Но именно в тот момент, когда он собирался начертать в своей записной книжке против фамилии «Карппи» — «нет дома», он услышал скрип открывающейся двери в соседней квартире. Он успел написать лишь «нет», когда дверь с табличкой «К. Меллер» осторожно приотворилась. Хярьконен быстро шагнул к ней. Дверь оказалась на предохранительной цепочке, но он успел разглядеть усохшего старикашку за ней и склеротические пятна на его лысой макушке.
— Здравствуйте. Уголовная полиция...
— Что? Чего вы названиваете?
— Я...
— Здесь не разрешается побираться!
— Я и не побираюсь. Я из полиции и хочу спросить...
— Ха! Ничего я не подам. Убирайтесь отсюда!
— Послушайте. — Хярьконен демонстративно тяжело вздохнул и, не теряя спокойствия, извлек из нагрудного кармана полицейскую бляху. Но вместо того чтобы перейти на примирительный тон, он из-за спешки прибегнул к резкости. И это было роковой ошибкой. — Послушайте, что я вам скажу. Я полицейский, и...
— Вон! Вон! Вы аферист... пошел вон отсюда!
— Ну-ну... весь дом...
— Пошел вон! Жулик!
И старик в крайнем раздражении захлопнул дверь, так что Хярьконен едва успел отдернуть ногу. Он лишь заметил скрюченные пальцы на кнопке дверного замка, после чего дверь захлопнулась, язычок замка щелкнул.
— Пошел вон! Я позвоню в полицию! — продолжал кричать Меллер за дверью, но теперь слова звучали малоубедительно.
— Не имеет смысла. Я как раз из полиции. И я хотел узнать, не заметили ли вы чего-то необычного на прошлой неделе, — произнес Хярьконен в щель почтового ящика.
— Ничего я не знаю! Убирайся отсюда, жулик...
Хярьконен услышал, как захлопнулась внутренняя дверь. Слова проклятия были готовы сорваться с его губ, но он понимал, что неразумно кричать. Больше всего его огорчало то, что только вечером, уже дома, ему придет на ум что-нибудь дьявольски меткое, как раз подходящее к данному случаю. Рядом с номером «двадцать два» он написал карандашом: «нет информации» — слова эти отчетливо выделялись на странице. Хярьконен повернулся и стал спускаться по ступенькам.
А мадемуазель Карппи не торопилась, она поднялась из своего массивного кожаного кресла только после второго звонка, поправила волосы и осторожно, еле передвигая ноги, стала продвигаться в сторону передней. Первые шаги дались ей с большим трудом из-за ревматизма, который мучил ее особенно по утрам. Мадемуазель Карппи никогда не спешила к двери. За двадцать девять лет управления домом для приезжих, расположенным за национальным театром, она познала истину — кто очень хочет попасть в квартиру, всегда подождет две-три минуты. Кроме того, мадемуазель Карппи сейчас уже находилась на пенсии. Семь месяцев назад она оставила дом для приезжих на попечение дочери своей сестры и теперь считала себя вправе продвигаться к двери с такой скоростью, какая ей по вкусу. Звонки изрядно успели ей поднадоесть на ее последнем месте работы, заставляя то и дело вскакивать на ноги. Звонок прогрохотал в третий раз, пока мадемуазель Карппи пробиралась по темной передней. Настойчивость и нетерпеливость звонка пробудили в ней жажду мести. Она решила заставить посетителя в наказание подождать еще минуту. Немного наклонилась вперед и стала прислушиваться.
С лестничной клетки слышалась речь, но она звучала глухо, как эхо среди скал. Голос принадлежал старику Меллеру, он говорил что-то с гневом и страхом. Мадемуазель Карппи удалось различить только отдельные слова: «...побираться... полиция... ничего не подам... пошел вон отсюда». Сердце мадемуазель Карппи, страдающее от аритмии, заколотилось. Она отстегнула верхнюю пуговицу своей шерстяной кофты и порадовалась, что не бросилась открывать дверь. Зато старик Меллер имел теперь возможность дать отпор звонившему в дверь бродяге, а мадемуазель Карппи знала, что сквернослов-сосед мог сделать это отменно.
Работая в доме для приезжих, мадемуазель Карппи нередко испытывала неодолимое желание подслушать под дверьми. Старая слабость вновь взяла сейчас в ней верх, и она не смогла заставить себя сразу же уйти из прихожей. Ее лицо приняло напряженное, лисье выражение. Дверь Меллера захлопнулась. Послышалось какое-то неясное восклицание — во всяком случае, вновь была упомянута полиция. Застучали башмаки по ступеням. Затем послышался звонок этажом ниже, приглушенный разговор, звонок в следующую дверь. В ушах мадемуазель Карппи стало шуметь, и она уже была не в состоянии отличить посторонние звуки от обычного шума на лестнице. Она тяжело вздохнула, засеменила на своих больных ногах обратно в комнату и уселась в свое проваленное кресло. Его коричневая кожаная обивка успела уже остыть.
Мадемуазель Карппи стало бесконечно тоскливо. Она подумала о предстоящем длинном, пустом и бесполезном дне и не связала недавние звонки в квартиры с тем, что ей довелось пережить неделю назад, в понедельник. Ноги у нее, особенно правое колено и бедро, ломило тогда больше обычного. Она весь день не выходила из квартиры и размышляла, не вынести ли мусорное ведро, в котором пустая банка из-под селедки начинала изрядно попахивать. Около шести вечера она натянула на ноги домашние туфли в красную клетку, взяла ведро и отправилась во двор.
На третьем этаже она задержалась на минуту у двери пьяницы Континена. На этот раз Континен не играл на мандолине, что порадовало мадемуазель Карппи, ибо она ненавидела дребезжащие звуки, издаваемые инструментом. Вместо этого из квартиры доносились кряхтение, оханье, размеренный стук и пронзительный, визгливый женский голос, а также озадачивший ее шум.
Шум, что она слышала, происходил от ударов бутылкой, которой молотили по голове жестянщика Армаса Калеви Континена.
Мадемуазель Карппи вернулась на лестницу со всею быстротой, на какую были способны ее больные ноги: ей очень хотелось послушать еще немножко под дверью Континена. Опираясь на перила, она продвигалась вперед, но не успела добраться до середины третьего этажа, как дверь квартиры Континена с треском распахнулась. Навстречу ей выскочили мужчина и женщина. Женщину она не успела разглядеть — отметила лишь, что это была молодая блондинка, полногрудая и пухленькая. В руках у женщины был дорожный приемник.
Мужчину же мадемуазель Карппи рассмотрела хорошо. Она ужасно испугалась, когда увидела несущегося ей навстречу бородатого мужика. Лицо его было безумно, он задыхался. Она увидела одутловатые щеки, пухлую нижнюю губу, открытый рот, белесые брови и светлые глаза с точечками зрачков. Самым ужасным был момент, когда, как показалось мадемуазель Карппи, мужчина приостановился было подле нее, затем побежал дальше. Ведро выпало у нее из пальцев, она обеими руками вцепилась в перила и обернулась. Она успела заметить мощный затылок мужчины и выглядывавшие из ботинок красные носки.
Мадемуазель Карппи поднялась к себе, не смея уже задерживаться на третьем этаже. Упав в кресло, она припомнила, что видела этого мужчину где-то раньше. Особенно знакомыми показались нижняя припухлая губа и светлые глаза. Несмотря на боль, мадемуазель Карппи сновала по квартире, потирала свои усохшие руки и пыталась вспомнить, где же она видела этого мужчину. Без двадцати девять она наконец вспомнила, что толстогубый останавливался в ее доме для приезжих до того, как она ушла на пенсию.
Мадемуазель Карппи проворочалась в своей кровати до полуночи, но так и не смогла вспомнить имени мужчины. Оно досадно вертелось где-то у самых границ ее памяти и вот-вот должно было вынырнуть на поверхность. Однако этого так и не произошло. Имя забылось. Утешения ради она подумала, что, если бы пойти к дочери сестры и полистать списки гостей, она бы отыскала имя в течение нескольких минут. Мадемуазель Карппи взбила подушку, повернулась еще раз на другой бок и решила в наказание за свою забывчивость не ходить и не искать имя мужчины. Она уже на пенсии, и ее не должно волновать, как зовут того или иного оболтуса.
А сейчас, неделей позже, во вторник, мадемуазель Карппи сидела, поникнув, в своем кресле и уже не помнила того, что случилось на лестнице. Однако если бы кто-то стал ее расспрашивать, не случилось ли в последние дни каких-то необычных происшествий, она тотчас бы вспомнила этот случай. Она смогла бы подробно описать толстогубого вплоть до красных носков и, без сомнения, опознала бы его по картотеке уголовной полиции. Помогла бы она и установить его имя: данные на мужчину нашлись бы в гостевых списках за третье октября предыдущего года. Однако этого не случилось — никто ни о чем не спросил ее.
Но тот вторник все же стал вехой для мадемуазель Карппи, хотя и в связи с совсем другими обстоятельствами. В середине дня она заметила, что солнце разогнало ночную хмарь, воздух запах весной, а по мере подъема настроения стала меньше ощущаться и боль в конечностях. Во второй половине дня она внезапно решила пойти проведать подругу своей молодости некую Крапивскую, продавщицу птиц, также пенсионерку, жившую на улице Ууденмаанкату. Она набросила на шею лису, натянула на ноги почти совсем сношенные ботинки. Вид ботинок смущал ее, но она не могла обходиться без них, ибо в этих ботинках удобно чувствовали себя ее больные ноги.
На углу Фредерикинкату и Робертинкату случилось несколько мелочей, которые уже давно подготавливались, но сейчас это вылилось в целое происшествие. Каблуки ботинок, столь удобных для мадемуазель Карппи, почти совсем сносились, левый был шириной всего в три с половиной сантиметра. В свое время умники инженеры из ХГД[21] после долгих обсуждений, а может, и просто случайно решили, что ширина желоба трамвайного рельса должна быть три сантиметра пять миллиметров, что и было сделано. По чистой иронии судьбы мадемуазель Карппи наступила левой ногой именно на рельс. Каблук попал в желоб и накрепко застрял там. Мадемуазель Карппи сразу не поняла, что произошло. Она сделала следующий шаг и почувствовала, что нога не отрывается от земли. Она дернула ногу, и ботинок слетел с нее. Она сделала несколько торопливых скачков на больной правой ноге, потеряла равновесие и упала на землю. Бедром она ударилась о бордюрный камень тротуара, и вызванная прохожим карета «скорой помощи» отвезла ее в хирургическую больницу.
Перелом шейки бедра привел к двум операциям. Обе прошли удовлетворительно, однако старые кости срастались медленно. Она вынуждена была пролежать в кровати несколько месяцев, но ослабленный организм оказался не в состоянии перенести столь долгую неподвижность. Через пять месяцев и семнадцать суток мадемуазель Карппи умерла от внезапного кровоизлияния в легких.
Вторник оказался несчастливым и для Хярьконена. Закончив опрос соседей, он решил, что вполне успеет заскочить в бар на Пунавуоренкату. Он уже благополучно миновал дверь квартиры Континена на третьем этаже и продолжал путь вниз. В этот момент он услышал, как дверь этой квартиры открылась и голос Норри позвал его. Поскольку он уже освободился и разделался со своими заданиями, Норри попросил его помочь в обследовании квартиры Континена, и он приступил к изучению и составлению перечня всех предметов, оказавшихся в мешке с мусором. Свою первую чашку кофе Хярьконен выпил только в восемь вечера.
Харьюнпя не знал об этом ничего. Он вынул последний лист из машинки и, закончив работу раньше запланированного срока, закурил сигарету. Он курил с наслаждением, не думая о раке горла или легких и просматривая одновременно отпечатанный материал. Он остался доволен собой, ибо не нашел ни одной опечатки. Поднявшись, он потянулся всем своим длинным телом и вновь включил батарею. Из оконных щелей ощутимо поддувало, комната успела охладиться.
Утро тянулось томительно медленно. Харьюнпя переписал начисто проект предварительного заключения, составленного Норри, попытался с помощью увеличительного стекла найти что-нибудь существенное на снимках, сделанных в квартире Континена, и в заключение выступил в роли понятого, когда Норри допрашивал подвыпивших мужиков, доставленных на место Тупала и Хярьконеном. Мужики, однако, ничего не знали и не могли сказать ничего путного даже после того, как Норри, пробормотав что-то себе под нос, предложил одному, наиболее страдавшему с похмелья, пачку «Бакарди».
Вторая половина дня и вечер прошли немного приятнее. Харьюнпя вместе с Тупала выползли наконец на свет божий: они прочесали квартал перед Пунавуоренкату, заходили с фотографией Континена в магазинчики и бары, опросили жителей дома, находившегося напротив, но не узнали ничего полезного. Они не встретили ни одного человека, который бы сказал, что видел Армаса Калеви Континена в прошлый понедельник, не говоря уже о мужчине и женщине, видимо деливших с ним компанию. Незадолго до девяти вечера они вернулись в отдел слегка разочарованные с одеревеневшими ногами.
После совещания, длившегося значительно дольше, чем предыдущие, работники отдела отправились по домам. Сообщение о смерти Континена было дано в «Илта-Саномат». Оно было коротким и деловым — информационное сообщение, в конце которого значилось:
«Полиция просит всех что-либо знающих об этом деле позвонить в уголовную полицию, отдел по борьбе с насилием над личностью, телефон 12-831 или 663, или в ближайший полицейский участок».
Однако не последовало ни одного звонка. На совещании Норри был немногословен и суров. Временами он надолго замолкал, пристально разглядывая крышку стола, поглаживал виски и стремительно взмахивал рукой.
В лифте Харьюнпя наблюдал за выражением лица Норри. Чуть опущенные уголки губ говорили о каком-то беспокойстве, неудовлетворенности. Харьюнпя хорошо понимал, что для озабоченности были веские основания. Такое редко случалось, чтобы убийство оставалось до конца «темным» делом, да и объем работ, выполненных по делу Континена, должен был бы дать результаты, хотя бы слабые намеки на личность преступников. Создавалось впечатление, что на какой-то стадии расследования была допущена промашка. Эта мысль сверлила мозг Харьюнпя, пока лифт спускал его вниз, — он не мог знать, что и все остальные думали примерно о том же. Однако никто не осмеливался сказать об этом вслух. Харьюнпя быстро шагал в направлении Катаянокка. Воздух был свежим, небо — безоблачным. Над Суоменлинна[22] висел чистый серп луны.
ГЛАВА 12
Коусти Каарло Олави Каллинен считал обычным, когда его звали Олави, однако друзья сократили его имя до Олли.
В данный момент Каллинен сидел на нижней части двухъярусной кровати, упершись ладонями в колени. Руки у него были большие, весьма внушительных размеров, а сжатые в кулаки выглядели просто страшными глыбами из мяса, костей и суставов. Ладони казались гладкими подушками из мягкой ткани, пальцы торчали из нее ровными толстыми брусками, сужавшимися только в самом конце. Когда Каллинен сжимал свою лапу, суставы выпирали словно шипы.
Каллинен сидел, уставясь в черный бетонный пол, ибо он вызывал у Каллинена меньше неприязни, чем белые с грязными потеками стены. Всего десять минут назад Каллинен радовался тому, что остался хоть на часок один, но теперь уже раскаивался, Что не вышел вместе с остальными заключенными на прогулку. Сгустки размышлений и подробные картины происшедшего гнетуще действовали на его настроение, и внутри у него все замирало — так бывает в быстро летящем вниз лифте. В такие минуты он крепче стискивал руками колени. Пальцы сдавливали мышцы, вгрызались в сухожилия, доставали почти до костей. Тогда боль возвращала Каллинена к действительности. Ослабив хватку, он вскочил и удивленно огляделся по сторонам.
— Э-эх! — вырвалось у него. Он быстро провел своей лапищей по голове и пригладил волосы.
Поднявшись на цыпочки, он заглянул в расположенное под потолком окошко. Все его тело напряглось, на затылке выступили два мускула. В просветах железной решетки виднелся кусок неба, мохристый край тучи и две башни подъемного крана, одна из которых повернулась налево и исчезла. Иного Олли Каллинен и не ожидал увидеть. Он давно и в точности знал, что́ видно из окон третьего этажа с южной стороны восточного крыла Хельсинкской губернской тюрьмы. Каллинен прислушался. Из-за обитой железом двери доносился разговор тюремных служителей, кто-то из них позвякивал связкой ключей. Десятки голубей ворковали на карнизах. Из порта послышалось завывание дизельного паровоза, набиравшего скорость. Каллинен опустился на всю ступню и с минуту постоял неподвижно.
Коусти Каарло Олави Каллинен находился под следствием и был препровожден в Нокка до суда, перед которым должен был предстать по обвинению в четырех кражах и попытке воспользоваться без разрешения частной машиной. Предъявленные обвинения были безусловно серьезными, но не они заботили Каллинена. Это скорее даже веселило его. Он с удовольствием вспоминал, как во вторник вечером на прошлой неделе зашел к Рендлунду на Миконкату, стянул там хорошую отвертку, вскочил затем в автобус и вылез в Хааге[23]. Весь вечер он пил пиво в одном из местных баров, откуда, покачиваясь, вышел на улицу. Шоссе Юссилайнена показалось ему как раз подходящим местом: автомобилей хоть отбавляй, почти в каждом из них — стереомагнитофон и в дополнение к этой идиллии — рядом жилые дома. Каллинен начал с оранжевой «вольво». Он просунул отвертку между окном и ветровичком, повернул ее разок в нужном месте, и замок упал на пол автомобиля. Магнитофон был встроен в щиток, поэтому Каллинен не стал выдирать его, а вот черные колонки над задним сиденьем он сорвал запросто. Пластмассовое покрытие было, конечно, при этом нарушено, а ушки колонок остались на шурупах, но это не смутило его. Он знал, что такое случалось даже с его дружками-профессионалами по раздеванию автомобилей, хотя они пользовались при этом даже железными прутьями. С центральной консоли Каллинен сорвал еще футляр с магнитофонными пленками и бросил его в пластмассовый мешок следом за колонками. Выбравшись из «вольво», он окинул взглядом окна жилых домов, но не заметил ни одной любопытной физиономии.
Каллинен продолжал свое дело, продвигаясь вдоль стоявших в ряд автомобилей. Когда он пытался открыть окно старого «датсуна» через оконную щель, он так сильно нажал на стекло, что оно брызнуло тысячами осколков. Он и сейчас еще помнил, как они, точно ледышки, засверкали в воздухе. Не обращая внимания на раздавшийся сигнал тревоги, он влез в автомобиль, бросил свою дребезжащую сумку на заднее сиденье и принялся рыться в проводах под зажиганием. Он только успел завести мотор, как примчалась дежурная полицейская машина с синей мигалкой на крыше. Для пущей убедительности Каллинен пробежал несколько метров, пытаясь удрать, хотя это и было безнадежно.
Финал раскручивался с соблюдением всех положенных в таких случаях формальностей. Дежурная полицейская группа быстро оформила дело, и в четверг он был препровожден в Нокка. Обстоятельства, при которых был задержан преступник, не требовали дополнительного дознания, и Каллинена продержали лишь трое суток в затхлых камерах предварительного заключения в Центральном управлении уголовной полиции. Обвинения в том, что он в нетрезвом состоянии сидел за рулем, ему предъявить не могли, ибо он не успел тронуться с места. Каллинена главным образом веселило то, что он умудрился от всего отпереться. Не моргнув глазом он утверждал на каждом допросе, что какой-то незнакомый мужчина предложил ему отвести машину в автомастерскую в Эспо[24], потому что у нее разбилось стекло и зажигание было не в порядке. Что же до вещей на заднем сиденье, то он утверждал, что ничего не знает о них.
Коусти Каарло Олави Каллинен сидел на этот раз в тюрьме по автомобильному делу, хотя обычно он такими вещами не занимался. Он не любил автомобильных операций, да и вообще хлопот, связанных со взломом. Необходимая предварительная подготовка и страх быть задержанным пробуждали в нем почти непреодолимое беспокойство, да и добычей оказывался товар, превратить который в деньги можно было бы лишь через жадные посреднические руки. Кроме того, Каллинен растерял знакомство с лучшими людьми Хельсинки — укрывателями ворованного товара и его сбытчиками. Зато он знал, что есть спрос на автомобильные музыкальные принадлежности.
Каллинен прошелся в носках по черному бетонному полу и остановился у края кровати. Он дернул носом и неожиданно уставился на руку, будто впервые в жизни встретился с таким феноменом. Рука была важнейшим рабочим инструментом Каллинена, ибо призванием его были кражи. В уголовной полиции на Коусти Каарло Олави Каллинена имелось увесистое досье, и из перечисленных в нем преступлений около шестидесяти процентов составляли кражи и вымогательства, граничащие с кражами.
Многие обстоятельства повлияли на то, что Каллинен посвятил себя кражам. Пожалуй, решающим было то, что добычей оказывались деньги, спиртное или чеки и часы, которые можно было без посредников превратить в марки. Операцию не нужно планировать заранее, благоприятные обстоятельства возникают сами собой, и весь процесс — сплошная импровизация. Кроме того, работы всегда хватало. Закоулки железнодорожного вокзала всегда полны пьяных красномордых мужиков, которые только и ждут, чтобы кто-то получше распорядился их деньгами. Здесь же ошивается и деревенский люд — селяне с кошельками, раздутыми после торгов; в поисках запретных развлечений они готовы пуститься за первой попавшейся юбкой в Кайсаниемипуисто[25]. Олли и компания принимали меры к тому, чтобы их женщины первыми являлись к вокзалу. Финал несложно предугадать. За кустами парка свидетелей нет, валявшегося на земле легко принять за пьяного, удрать оттуда просто, а подсадной утке достаточно десятки. Вероятность попасть в тюрьму была невелика еще и потому, что, придя в себя, большинство сельских искателей приключений доставали кое-как на дорогу и, стыдясь происшедшего, отбывали в свой медвежий угол — Хаапамяки или Йоенсуу, не сообщив в полицию о случившемся.
Грабежи, сопровождавшиеся насилием, особенно привлекали Коусти Каарло Олави Каллинена.
Этого Каллинен не мог объяснить даже себе — ведь вообще-то причинить кому-то боль или страдания радости ему не доставляло. Единственным объяснением может, пожалуй, служить то, что, нанося удар, он чувствовал себя сильным, способным что-то совершить. Он не отдавал себе отчета в том, что, расправляясь с одним из тех, кто ходит на работу, смотрит телевизор, имеет дом, возможно, автомобиль и семью, он тем самым как бы расправлялся со всем обществом, которое всегда связывало его, пинало, швыряло, заключало в тюрьму, выбрасывало на обочину. Именно это общество карал Коусти Каарло Олави, расквашивая своим кулаком пьяную физиономию за чужую вину.
Мир, конечно же, обходился с Каллиненом жестоко. Вернее, он обошелся с ним жестоко всего один раз, но этот раз был решающим — он оставил ребенка без опеки и любви, ибо Каллинена — на его беду — произвела на свет женщина не первой молодости, которая кормилась тем, что торговала спиртным и собой. Ребенок рос в гнетущей атмосфере беззащитности, и по мере того как он креп и мужал, он стал считать порок и несправедливость чем-то естественным. В переходном возрасте он уже сам причинял обиды и страдания, и тут ничего нет удивительного, ибо он поступал в соответствии с единственным усвоенным им законом жизни. Внешний мир, общество ответили, однако, на его удары ударами, и порочный круг замкнулся еще прежде, чем Каллинену исполнилось девятнадцать лет.
Когда колени совсем одеревенели, Каллинен медленно опустился на корточки. Он пристально рассматривал дверные переплеты, деревянные панели и круглые болты железной обивки. С нижних этажей доносился стук тележек и посуды, возвещавший о приготовлениях к раздаче пищи. Настроение у Каллинена было подавленное, ему с трудом удавалось держать себя в руках. Это не было досадой на то, что он попал под замок. Досады Каллинен не испытывал уже много лет, да и оснований для этого не было, так как на сей раз он намеренно отправил себя в тюрьму. Даже неотвратимый приговор, который вынесут ему через неделю, и замерзшие ноги не волновали его, — подавленность была вызвана тем, что произошло на самом деле. Полиция же не имела об этом ни малейшего представления. Знал это только сам Каллинен. Он знал, что убил человека.
Каллинен продолжал сидеть на корточках, уставясь на стальные болты в двери, и все думал и думал о том, что произошло немногим больше двух недель тому назад. У него тогда кончились деньги, и он все утро проторчал на железнодорожной станции. Часа в два или в три его постоянная подсадная утка Карита Нюссонен прибежала и сообщила, что тут неподалеку ее поджидает один тип под хмельком — он-де просит ее зайти к нему. Ничего более подходящего и пожелать было нельзя. Каллинен отправился с Каритой.
Мужичок оказался лысый, полноватый. Он был в игривом состоянии, какое иной раз нападает на человека в подпитии, и сразу поверил Каллинену, объяснившему, что он брат Кариты, что уезжает пятичасовым поездом обратно в Тампере и просит приютить его на эту пару часов, так как он видит свою сестру очень редко и ему не хочется так неожиданно расставаться с ней. Мужичок не возражал и пригласил доброжелательно родственников к себе.
На трамвае они добрались до Виискулма и вошли в квартиру. Там было тепло и довольно уютно, но грязновато, что, однако, не оскорбило взгляда Каллинена. Хозяин щедро угощал из бутылок, играл на мандолине и рассказывал солдатские байки, а Каллинен и Карита подыгрывали, умело подзадоривая его и поддерживая таким образом у него хорошее настроение. Все шло очень хорошо, и Каллинен не собирался что-либо делать, пока хозяин сам не угаснет. Однако, когда хозяин как следует выпил, Каллинен почувствовал, что ему становится все труднее удержаться от искушения и не давать рукам воли. Карита тоже поняла ситуацию и отправилась на кухню под предлогом приготовить им что-нибудь поесть.
Каллинен продолжал сидеть на корточках на полу камеры. Ноги его одеревенели так, что их стало покалывать, однако он настолько погрузился в воспоминания, что не замечал ничего. Он и сейчас еще ощущал в носу запах яичницы и слышал шипение ее на сковородке. Хозяин начал проявлять беспокойство: он заметил, что часовая стрелка перевалила за пять. Каллинен, правда, уверял, что говорил о семичасовом поезде, но хозяин уже достаточно опьянел и все настойчивее выпроваживал Каллинена. Тому это не понравилось.
Все началось с неприятной случайности, всего лишь с толчка рукой в грудь. Хозяин встал перед Каллиненом, погрозил пальцем и сказал, что вызовет радиополицию, раз он сам не уходит. Каллинен отшвырнул его далеко от себя. Ударившись о стул, хозяин вместе с ним рухнул на пол, на спину. Каллинен увидел медленно опускающееся лицо, и что-то в нем вдруг взорвалось, словно соскочило с предохранителя. Ненависть, как пьяная волна, захлестнула его. Он даже не пытался ее заглушить, ибо находился под защитой стен и мог не бояться появления посторонних.
Каллинен перешагнул через низенький стол под звон падающих бутылок и стаканов. Он навалился на лежавшего на полу хозяина дома, вцепился своими лапами в его шею и стиснул ее. Он душил и приговаривал:
— Ага, позвонишь, мерзавец, позвонишь, мерзавец!..
Мужичок извивался под ним, пытаясь что-то сказать. Каллинен и сейчас ясно помнил, как родимое пятно на его щеке стало бледнеть, а кожа вокруг сначала покраснела, затем потемнела.
Каллинен резко поднялся. Сжал руки в кулаки — ногти врезались в ладони. Он учащенно дышал. Оглянувшись вокруг, он увидел обитую железом дверь, белые стены, стальные прутья в окошке под самым потолком. Прошло несколько секунд, прежде чем он узнал камеру и понял, где находится. Он поднял руку, поднес ко рту и принялся теребить свою припухшую нижнюю губу. Последние события того вечера он точно воспроизвести не мог. Все произошло сумбурно и быстро. Он схватил пустую пивную бутылку и ударил ею мужичка по лбу. На какое-то мгновение Карита вцепилась в его руку и повисла на ней, но тотчас отлетела обратно в кухонный закуток. Каллинен оставил хозяина в покое, только когда тот был уже недвижим. Он заметался по квартире, отворяя шкафы и ящики. Он был слишком возбужден и ничего не находил. В спешке он схватился было за телевизор, однако понял, что ящик слишком большой, и опустил его на пол. Портативный приемник он сунул в руки мечущейся и визжащей Карите и только после этого вдруг вспомнил, что нужно поискать бумажник хозяина. Пришлось почти совсем стащить с него брюки, прежде чем удалось добраться до заднего кармана.
Каллинен сделал несколько быстрых шагов и уперся в стену камеры. Он прижался лбом к штукатурке и почувствовал, какая она жесткая и холодная. То, что произошло в прошлый понедельник, было самым сильным его переживанием. Лихорадочное состояние длилось тогда у него почти час, и, когда оно наконец прошло, его еще некоторое время трясло как в лихорадке. Прежде чем выйти из квартиры, он погасил везде свет. Он вытолкал Кариту за дверь и выскочил на лестницу вслед за нею. Теперь, задним числом, он отчетливо помнил, что, видно, все еще находился в возбужденном состоянии, потому что едва не вцепился в горло поднимавшейся навстречу ему старухе. Он уже шагнул было к ней, однако в последнее мгновение овладел собой. Тогда он не подумал, что женщина может стать роковым для него свидетелем.
Каллинен глубоко вздохнул, отстраняясь от стены. Он провел пальцем по лбу, на котором бетон оставил замысловатый завиток, какой образуется, когда спишь, уткнувшись лицом в жесткое одеяло. Каллинену немного полегчало. Нетвердыми шагами он дошел до кровати, присел осторожно на край, чтобы не удариться затылком о верхнюю постель. Каллинена вовсе не угнетало то, что он убил человека. Нет, Каллинена мучило другое — страх перед долгим и жестоким наказанием, которое он, несомненно, понесет, если его обвинят в убийстве. Просидеть несколько лет в тюрьме он может, но мысль о том, что придется просидеть десяток лет, приводила его в ужас. И вот у него родилось решение самому сесть в тюрьму — авось удастся тогда избежать наказания за убийство.
Другим обстоятельством, угнетавшим Олли Каллинена, была неизвестность, ибо у него не было ни малейшего понятия о том, обнаружен ли труп, и если да, то как далеко эти гады из полиции продвинулись в расследовании дела. На следующий день после содеянного Каллинен дрожащими руками перебирал газеты, но никаких сообщений о том, что обнаружен труп, не нашел. С минуту он жил в надежде, что старик не умер, но, поразмыслив как следует и вспомнив его побуревшую физиономию, отказался от напрасных надежд.
Придя к выводу, что полиция не напала пока на его след, Каллинен внезапно принял решение исчезнуть. Надо выветриться из памяти людей, убраться от расспросов и из мест, где полиция может разыскивать человека по приметам, схожим с ним. Некоторое время он вынашивал мысль о том, чтобы уехать в другой город, но уже на вокзале ему вдруг пришло в голову, что вряд ли убийцу станут разыскивать в тюрьме. И хотя решение Каллинен принял весьма необычное, осуществить его удалось без сучка и задоринки. Тюрьма полностью отвечала всем требованиям укрытия. Правда, в то время полиция еще ничего не знала об убийстве Континена и, даже обнаружив труп, не могла приступить к розыску человека, похожего на Коусти Каарло Олави Каллинена, поскольку никто не мог описать внешность убийцы.
На решение Каллинена оказало влияние еще одно обстоятельство, в котором он не хотел признаться даже себе. Исправительные заведения являлись единственным обиталищем, где он хорошо знал завсегдатаев, нормы их поведения и обычаи, которые неукоснительно выполнял. Тюремное общество принимало его и одобряло, а он, в свою очередь, принимал тех, кто его окружал. К тому же это было сообщество, принадлежность к которому приносила ему удовлетворение. Он с наслаждением участвовал в интригах, творимых за спиной тюремной охраны, передаче информации от одного заключенного другому или в передаче запретных вещей из одной камеры в другую втайне от надзирателей.
Каллинен снова поднялся с пола. Он чувствовал холод бетона даже через носки, но не надевал ботинок. Он избегал своей обуви, хотя и удалил все остатки крови, забившиеся в швы. Понятия не имея о том, который идет час, Каллинен подошел к двери и прижался к ней ухом. Шума и гама, сопровождающего обычно возвращение собратьев в камеры, пока еще не было слышно, лишь охранники ходили по этажам. Снизу доносился слабый запах похлебки. Каллинен распрямил спину, опустил пятерню на стойку кровати и стал барабанить по ней пальцами. Он знал, что единственным уязвимым местом была Карита. Он отправил девицу домой на Магдалеенанкату и в тени забора схватил ее волосы, а другой рукой — за белую шею. Каллинен точно помнил, что сказал тогда перепуганной женщине:
«О’кей, а сейчас послушай меня внимательно. Я... ты знаешь, как может получиться. Так вот запомни раз и навсегда. Мы не были на квартире у того старика. Мы вообще не видели этого ублюдка. О’кей? Мы никогда, нигде с ним не были. О’кей? Ты знаешь, Олли не бросает слов на ветер. О’кей? — Он топтался на месте, продолжая сжимать теплую женскую шею, и только почувствовав, как горячая волна затмевает ему разум, отпустил ее. Оттолкнув от себя девицу, он сунул ей портативный приемник и сказал: — Пользуйся. Хе! — Затем добавил: — Пользуйся. Олли держит свое слово. Хе-хе, слушай музыку. Слушай и наматывай на ус». И Каллинен пошел со двора. Он опорожнил бутылку «Коскенкорва», вернулся в город и сумел получить койку в ночлежке на улице Пенгеркату.
Каллинен побарабанил пальцами по полой трубе. Он заставил себя успокоиться, решив, что полицейские не кинутся же сразу ни с того ни с сего допрашивать именно Кариту, одну из сотен тысяч. Кроме того, он был уверен, что девчонка просто инстинктивно будет отсиживаться дома. Несмотря на молодость, Карита уже прошла через несколько исправительных женских заведений и потому сумеет держать язык за зубами, если даже попадет в руки полиции. Каллинен крепко сжал пальцами трубу. Он повернул голову и вновь прислушался, но на этот раз внимательно и настороженно. Голуби продолжали ворковать на крыше. С этажей не доносилось ни звука. Он быстро подошел к спинке кровати, ухватился за ее ножку и поднял.
Каллинен приподнял кровать лишь настолько, чтобы просунуть палец в полую ножку. Палец его нащупал тонкий металлический предмет. Он прижал его кончиком пальца к внутренней стенке ножки и медленно потащил. А под ножку кровати подставил пригоршню — в нее упала ручка от столовой ложки. Каллинен опустил кровать, поднялся и отошел к стенному шкафу, в угол, невидимый из дверного глазка.
Каллинен погладил ручку ложки округлым средним пальцем. Это была ручка от обыкновенной столовой ложки из нержавеющей стали, сломанная как раз в месте прикрепления к ложке. Отличали ее лишь выдавленные в верхней части буквы «Губернская тюрьма» и то, что надлом был остро заточен. Ради этого Каллинен пожертвовал четырьмя прогулками. Сначала он затачивал ее о бетонный пол, равномерно и регулярно поворачивая и проверяя на свет. Затем он использовал металлические части кровати и двери, и теперь безобидная ручка от ложки превратилась в грозное оружие, острие которого напоминало хирургический скальпель.
Олли Каллинен точно и сам не знал, для чего он изготовил это оружие. В тюрьме у него не было оснований бояться кого-либо, не собирался он и бежать отсюда — для этого, не было оснований, к тому же это было просто бессмысленно. Единственное, что могло его к тому побудить, — это сознание, что у него есть стальное оружие, так он чувствовал себя в большей безопасности. Каллинен подумывал даже, что может и проглотить ручку, если пребывание в тюрьме покажется ему слишком уже долгим и однообразным. Это было старое и верное средство попасть в больницу, выбраться из тесной, гнетущей камеры, переменить обстановку. Каллинен проделывал этот трюк и раньше — правда, тогда он заглатывал маленькую ложечку, но он знал, что многие глотали и по нескольку ножей и ложек, так что одна ручка его не пугала.
Подследственный Коусти Каарло Олави Каллинен взял покрепче свой самодельный нож и срезал тоненькую полоску со своего толстого ногтя. Затем он крепко зажал ручку ложки в ладони, внезапно обернулся, занес руку и изо всей силы ударил по деревянной дверце шкафа. Дерево вздрогнуло. Шкаф вдавился в стену. Металлическое острие глубоко вошло в древесину. Каллинен разжал пальцы и оставил ручку торчать в шкафу.
Затем опустил руки, и они повисли вдоль тела. Он с силой выдохнул воздух, но продолжал неподвижно стоять. Неотрывно глядя на торчавший из дерева брусок металла, он почувствовал, как горячая волна стала подниматься в нем и вскоре заполнила все его существо. Акульи глаза Олли Каллинена сощурились, на лице появилась блаженная улыбка. Он вырвал ручку из крышки и кончиками пальцев обследовал дырку, оставшуюся в дереве. Коусти Каарло Олави Каллинен знал теперь, как он употребит свое оружие. Мысль была безумной и никудышной — осуществи он ее, ему же будет хуже, но если другого выхода не будет, тогда — не все ли равно.
Каллинен понимал: если полицейские придут допрашивать его в тюрьму, это может означать только одно. И если их будет даже пятеро, он все равно осуществит свое намерение. Он знал, что всадит свое оружие в затылок первого попавшегося в полицейской фуражке. Именно в затылок, только в затылок. Он знал, что ударит так сильно, что острие пройдет сквозь позвонки.
Каллинен вздрогнул. Из-за двери послышались голоса. Десятки ног стучали по металлическим ступеням, подошвы шаркали по бетону. Перекликались стражники. Он ясно различал отдельные фразы:
— Дистанцию! Эй, там, дистанция два метра! Ты что, чертова голова, не слышишь, что ли?
Прогулка закончилась, все возвращались в свои камеры. Каллинен быстро, несмотря на свой рост, присел, ухватился за ножку кровати, приподнял ее и сунул свое оружие обратно в полость ножки. Затем опустился на край кровати и, откинувшись навзничь, заложил свои лапищи за голову. Он зажмурил глаза и стал ждать. Звуки шагов приближались к двери, надзиратель зазвенел ключами. Скрип отворяемой двери разнесся по всему этажу. Каллинен по-прежнему лежал с закрытыми глазами, сдерживая дыхание. Он спал. Голуби ворковали на крыше. Буксир свистел в порту.
ГЛАВА 13
Первая половина четверга, можно прямо сказать для четвертого отделения отдела по борьбе с насилием прошла без всякой пользы, по сути дела — безрезультатно. Шутки прекратились, и даже Монтонен не подначивал больше Быка-Убивца, во всяком случае, преднамеренно. Харьюнпя заметил, что молчание Норри стало еще более глубоким, движения рук еще более неожиданными, а в голосе появились недовольные, требовательные интонации. Норри, по сути дела, не отходил от своего телефона, чтобы не пропустить телефонного звонка.
И все же совершенно безрезультатным утро назвать было нельзя. Они собрали довольно много интересных сведений — правда, теперь уже об убитом Континене, и, судя по этим сведениям, предполагаемыми преступниками были мужчина и женщина, но и только. Это был, конечно, жалкий факт, но никто из работников отделения не отпускал шуток на этот счет. Континена они знали теперь достаточно хорошо. Они знали, что он выпивал утром три бутылки «Лахти-Синего»[26] и лишь после этого у него наступало просветление. В начале месяца он опускал в игральный автомат одну монету в пятьдесят пенни, но, даже выиграв, не продолжал игры. Каждую вторую пятницу он посещал баню на Тарккаампуянкату и стригся в парикмахерской «Ритва» на Альбертинкату. Бороду свою он брил дома «Жилетом» старого образца. Курил «Арому» и «Красный Норд» и примерно раз в три месяца спьяну разбивал свои очки. Чинил их он сам. В течение нескольких лет Армас Калеви переписывался по крайней мере с двумя десятками женщин, и, судя по содержанию этих писем, контакты с ними устанавливались через газеты, отдел «частных объявлений». Норри, Монтонен, Хярьконен, Харьюнпя и Тупала знали еще десятки жизненных подробностей о Континене, однако ни одна из них не давала ключа к разгадке обстоятельств, при которых он погиб. И поэтому представления полиции об убийцах основывались на чистых предположениях.
Судя по оставленным следам, мужчина был сильный, очевидно мускулистый и кряжистый. О женщине полицейские узнали немного больше. Она пользовалась тушью для ресниц фирмы «Макс-Фактор» и перламутровой губной помадой. Об этом они узнали, обследуя туалет, где на полу обнаружили туалетную бумагу с пятнами краски. На бумаге остались также отпечатки ресниц, которые легли красивым завитком. Размер и четкость расположения ресниц дали основание предполагать, что следы оставлены накладными ресницами. Исходя из этого, и решили, что в квартире была женщина и скорее молодая, чем пожилая. Правда, какая-нибудь шестидесятилетняя старуха могла с таким же успехом пользоваться накладными ресницами, а туалетная бумага могла лежать на полу и до убийства, однако даже Монтонен побоялся высказать вслух эту шевелившуюся у всех на уме мысль, а когда на такие факты не обращают внимания, это тревожный симптом, при расследовании преступления это первое свидетельство усталости работников, первое признание возможности, что дело навсегда останется неразгаданным.
Харьюнпя прикидывал в уме, как дальше будет развиваться дело Континена, если Норри все же не улыбнется счастье. Он знал, что отделение может заниматься этим делом не более двух, максимум трех недель. Дальше возиться с одним делом просто невозможно хотя бы уже потому, что неизбежно возникнут новые, к тому же просто бессмысленно пытаться распутать дело, превратившееся в замкнутый круг, и заниматься им все равно что биться головой о стену. Все станет совсем иным, если у работников появится нить или, на худой конец, крохи информации, позволяющей построить план следствия. Сейчас же все их данные сводились к тому, что старика Континена прикончили у него на квартире два неизвестных лица. Харьюнпя уже мысленно видел, как Норри через месяц переложит пластмассовую папку с материалами дела во второй сверху ящик своего письменного стола, и ее будут иногда извлекать оттуда для внесения новых сведений или протоколов допросов. Дело вытаскивали бы также на свет божий для сравнения с каждым новым делом, связанным с покушением на человеческую жизнь, а где-то в конце нынешнего — начале следующего года Норри вынет папку, положит ее на стол, перелистает, причмокивая нижней губой, и уже навсегда положит его в свой шкаф. Когда-нибудь, лет через пять или десять, свежий, вновь испеченный констебль, направленный на работу в отдел по борьбе с насилием, подержит папку в руках, почитает отдельные отрывки, посмотрит фотографии и подумает: как же это у ребят осталось нераскрытым такое ясное, как божий день, дело?
Было без пяти два. Харьюнпя находился в кабинете Норри. Он сидел на табуретке, чистил распрямленной скрепкой у себя под ногтями и ждал, когда зазвонит телефон. Собственно, он не мог бы сказать, чьего звонка он ждет и что это должен быть за звонок, но когда обрывались нити расследования, то всякого рода внешние наводки, в том числе телефонные звонки, становились особенно важными для отделения. Норри обедал в столовой, Монтонен в городе опрашивал своих «дружков» из числа мелких преступников, а Хярьконен и Тупала находились в квартире на Маннерхейминтие, которую они уже трижды осматривали.
Настроение у Харьюнпя было так себе. Он не испытывал ублаготворения, но и не был слишком подавлен, а так — пребывал где-то на уровне унылой озабоченности. К этому следует добавить чувство вины, потому что вначале он ведь был настроен против этого дела и проявил безразличие, в связи с чем и чувствовал сейчас себя хотя бы частично виноватым в тупиковом состоянии расследования. Да и домой все это время он заскакивал лишь на несколько часов ночью, так что практически он общался с семьей только полчаса утром, причем полусонный, в спешке. Харьюнпя чистил ногти и удивлялся, откуда под ними берется грязь. А еще он думал — хоть бы дело наконец сдвинулось с мертвой точки, хоть бы довести его поскорей до конца. И тогда жизнь снова вошла бы в свой привычный ритм.
Зазвонил телефон. Харьюнпя вздрогнул. Отбросив скрепку, он кинулся к аппарату.
— Телефон комиссара Норри — Харьюнпя...
— Узнаю. Привет. Это Тьюрин из Цэ-у-пэ...[27].
— Привет, привет.
— А самого нет на месте?
— Нету. Он только что пошел есть, — ответил Харьюнпя.
— Ах вот как... А ты принимал участие в расследовании дела на Маннерхейминтие?
— Да, да, конечно, — с мгновенно пробудившимся интересом откликнулся Харьюнпя. Тьюрин был специалистом по отпечаткам пальцев в Центральной уголовной полиции, возможно, даже самым видным в Скандинавии, и Харьюнпя только сейчас вспомнил, что Норри отправил все вещи из квартиры Континена прямо к нему.
— Скажи, а что, это дело по-прежнему не просвечивается?
— Да, можно так сказать...
— Ну тогда садись покрепче на стул. Но не особенно ликуй; у меня пока нет для тебя камня мудрости, как и возможности выдать с ходу убийцу.
— Ну, ну, — заторопил Харьюнпя охрипшим от нетерпения голосом и схватился за ручку.
— Так вот. От бутылок и стаканов толку никакого — они были слишком перепачканы вином. Кое-какие смазанные следы есть, но их невозможно даже определить, не говоря уже о том, чтобы идентифицировать. И все же. Там на кухне была сковорода?
— Да, была...
— И там же — столовая ложка?
— Да, да.
— Ну так с той ложки я снял один отпечаток. Он достаточно четок. В общем — ясный отпечаток пальца. На нем хорошо различимы две дельты и две петли, следовательно, это пятерка, боковой карман... И... погоди немножко... да, точка трассирования вписывается в правое положение по отношению к внешнему терминусу. Что ты об этом скажешь?
— Ну да! Что ж, это, пожалуй, здорово... Чертовски здорово!
— Да! След-то хороший, но у вас же нет никого на подозрении. С чем его идентифицировать?
— Ах да...
— Вот-вот. Ты же знаешь, что нам необходимо иметь два отпечатка, чтобы достоверно установить их обладателя. Ну?
— Да, но ведь кто-то еще может быть задержан по этому делу, — пробормотал разочарованно Харьюнпя.
— Ты так полагаешь? Могу еще сказать, что этот отпечаток был на ручке ложки с внешней стороны. Ну что ты на это скажешь?
— Да я...
— Представь себе, что ты держишь ложку в руке.
— Да...
— Ну, так это наверняка отпечаток большого пальца. А?
— Да, черт возьми, так...
— Ну, ну. Могу и еще сказать кое-что — это, правда, лишь моя догадка, она может и не подтвердиться — ну, скорей всего это отпечаток той женщины. Палец относительно узкий и изящный.
— Брось...
— Да. Ну так какой же вывод мы отсюда сделаем?
— Мда...
— Конечно, что эти сведения заметно ограничивают круг людей, к которому может относиться преступник. Кроме того, есть по крайней мере теоретическая возможность откопать владельца отпечатков по картотеке. Правда, для такой работенки нужно подыскать какого-нибудь ненормального: хотя в картотеке женщин намного меньше, чем мужчин, однако их отпечатков там все-таки сотни тысяч и даже миллионы.
— Да, это так.
— Ну, так вот. Скажу тебе, что я намерен стать тем самым ненормальным, который попытается отыскать эти отпечатки, если, конечно, мне окажут помощь людьми и если вы очень мило попросите меня об этом.
— Да. Это было бы...
— Ну, конечно. Хорошо, я попытаюсь. Но учтите, что это может продлиться час, неделю, месяц или полгода. Кроме того, вся эта затея может пойти и насмарку, если та баба вообще не занесена в картотеку, а может и оказаться, что это мужские отпечатки. Хе-хе. Но я попытаюсь. Послушай, попроси, чтобы Норри позвонил мне, я хотел бы закрепить это дело у него самого. Ну?
— О’кей... и спасибо тебе...
Харьюнпя опустил трубку. Она выскользнула из его вспотевшей ладони. Он был до крайности возбужден. Новость воодушевила его, и он уже сделал два-три шага к двери, чтобы пойти в столовую и рассказать обо всем Норри, однако, поразмыслив немного, решил остаться у телефона. Трапеза была для Норри священнодействием, нарушить которое было бы святотатством, а кроме того, он не одобрял привнесение эмоций в работу, когда его подчиненные принимались говорить так быстро, что их не всегда можно было понять. И все же Харьюнпя не сиделось на месте — он ходил по комнате из угла в угол, дожидаясь начальника.
Харьюнпя обдумывал, как лучше преподнести остальным — и прежде всего Норри — обнадеживающую новость Тьюрина. Поразмыслив немного, он решил снова сесть на скамейку и, сохраняя внешнее спокойствие, продолжить чистку ногтей так, будто никакого телефонного звонка и не было. Детское желание сыграть важную роль было настолько сильно, что Харьюнпя уже придумал, как он скажет: «Ах да. Мы ведь, кажется, направили Тьюрину какие-то вещи? Так вот, чуть не забыл... он звонил недавно и сказал, что...» Харьюнпя не сомневался, что на лице Норри при этом отразится удовольствие. Из коридора донесся звук равномерных спокойных шагов. Только Норри мог идти так целеустремленно и достойно.
Харьюнпя не выдержал и тотчас выпалил Норри все, однако, к своему разочарованию, не заметил никакого изменения в выражении его лица.
— А-а-а... Это интересно, — только и сказал Норри и сел к столу. Позже, когда сотрудники вернулись с заданий и он созвал всех для обсуждения новых сведений, по его поведению Харьюнпя понял, что в его настроении произошло некоторое улучшение, но едва заметное. Звонок Тьюрина воодушевил всех, они тараторили, как дети на переменке в школьном дворе, и обмен мнениями получился оживленным и продолжительным. После совещания они никак не хотели расходиться, словно ждали, что вот сейчас раздастся новый телефонный звонок из Центральной уголовной полиции. Настроение было как в многодетной семье накануне рождества — все с большим нетерпением ждали развития событий и порой вдруг становились даже излишне оживленными, но чем дальше шло время, а телефон все молчал, тем реже проявлялось оживление. В четыре, когда кончается рабочий день в ЦУПе, они поднялись один за другим и под разными предлогами разошлись по своим кабинетам.
В четверг вечером четвертое отделение оставалось на сверхурочную работу — часа на два, не больше. Теперь у сотрудников было основание ждать осязаемых результатов, поэтому все остальное — и прежде всего бесцельный сбор сведений — казалось пустой тратой времени. Харьюнпя отправился домой уже в шесть. Это был первый за неделю вечер, когда он купал дочку и целовал в шею и ямочки под ключицей — жену.
В пятницу в четвертом отделении царило преисполненное надежд настроение. Все понимали, как мало у Тьюрина возможности найти женщину. Хорошо, если она занесена в картотеку, но вполне вероятно, что полиция никогда не брала у нее отпечатков пальцев. След на ручке ложки скорее всего был действительно отпечатком большого пальца, но он мог быть отпечатком и любого другого, а Тьюрин выбирал из тысяч и тысяч только отпечатки большого пальца. Кроме того, это, конечно, мог быть и отпечаток мужского пальца. Но только не пальца Армаса Калеви Континена. Это Тьюрин точно установил еще до своего звонка.
Хотя никто не был уверен в удаче, однако работники отделения ждали звонка от Тьюрина. Он стал для них чем-то вроде волшебной лампы Аладдина, которая в любую минуту могла подтолкнуть их к решению проблемы. У них пробудилась удивительная потребность гулять по коридору, замедляя шаги у кабинета Норри. В тех случаях, когда раздавался телефонный звонок, находившиеся в коридоре тотчас бросались к двери, мгновение прислушивались и с кислыми физиономиями разбредались по своим кабинетам. В поведение же Норри это ожидание не внесло никаких заметных изменений, разве что вопреки установленному порядку дня он отказался от обеда. Он не мог примириться с мыслью, что кто-то узнает о результате прежде»него. На дворе стояли погожие весенние дни. Яркая синь неба постепенно бледнела, по мере того, как дольше становился день. Первые озерные чайки кричали над Кауппатори; собравшийся за зиму на улицах песок вихрился, поднимаемый в воздух автомобилями. Из ЦУПа звонка не поступало.
Харьюнпя вспотел. Рубашка на спине стала насквозь мокрой, он уже трижды отключал отопительную батарею, но страдавший весенней простудой Хярьконен всякий раз вновь открывал ее. Воздух в комнате был синим от сигарного дыма, однако Харьюнпя не смел открыть окно. Он вместе с Хярьконеном составлял список лиц, которые в день убийства были доставлены в вытрезвители. Особое внимание они обращали на пьяниц, задержанных недалеко от места происшествия. Составление списков требовало кропотливого труда и было почти безнадежной затеей. В данный момент они находились на первоначальной стадии. Вторая, самая трудоемкая, была впереди: проверка наиболее подозрительных лиц по картотекам — это они оставили на субботу и воскресенье. Единственным утешением было то, что Монтонен и Тупала составляли аналогичный список на женщин.
Время приближалось к половине пятого. В отделе по борьбе с насилием стало заметно тише: люди разошлись по домам на уик-энд. Ночной оперативный дежурный вышел в другую половину здания, и только уборщица громыхала своими щетками в каком-то из коридорных аппендиксов. Харьюнпя услышал, как за тонкой перегородкой Норри переменил позу — заскрипели шарниры вращающегося кресла, заиграли пружины сиденья. Харьюнпя точно знал, как сидит сейчас Норри: ноги вытянуты под столом, откинутый назад торс упирается в спинку кресла, руки заложены за голову. Он неотрывно смотрит в стену, не замечая ее, и посасывает нижнюю губу, временами вытягивая ее вперед. Через стену ясно донесся телефонный звонок. На фоне приглушенных внешних шумов он был слышен так хорошо, что Харьюнпя и Хярьконен подняли головы и стали прислушиваться.
Норри заставил себя выждать и, лишь когда телефон прозвонил дважды, снял трубку. Стена заглатывала его слова — они доносились до Харьюнпя и Хярьконена лишь отдельными звуками.
— Послушай, это должен быть Тьюрин, — сказал Хярьконен.
— Да. Хотя это может быть и жена Норри...
— Нет. Его жена не звонит сюда. Он не любит этого...
— А-а-а...
Они понизили голос, сами того не замечая, и последние фразы произнесли уже почти шепотом. Оба они наклонили головы к стене, однако со стульев все же не поднялись. Харьюнпя услышал, как Норри засмеялся, коротко, сухо. Это было странно, и, поразмыслив немного, он пришел к выводу, что никогда раньше не слышал, чтобы Норри смеялся в связи с работой. Трубка стукнула о рычаг, кресло Норри громыхнуло. Несколько секунд было тихо, затем кресло громыхнуло еще раз, ножки заскрипели, царапая пол. Судя по звукам, Норри встал, открыл дверь, вышел в коридор.
Харьюнпя и Хярьконен продолжали сидеть — лишь головы повернули к двери, на лицах их читалось напряженное любопытство. Если бы Харьюнпя мог посмотреть на себя и на Хярьконена со стороны, ему бы, безусловно, стало смешно. Ручка опустилась вниз, дверь тихо отворилась, и Норри появился на пороге. Его лицо выражало удивление.
— Ну, чего это господа полицейские ждут с такими физиономиями?! Будто... будто труп Континена ввалился к вам в комнату. Вольно.
Оба полицейских смущенно рассмеялись.
— Звонил Тьюрин, — сказал бесстрастно Норри. И поднял руку так, что свет упал на верхнюю часть листа бумаги, который он держал. — Вот имя вашей убийцы.
Харьюнпя и Хярьконен поднялись и встали, в едином порыве склонившись к Норри, как старухи к бесплатному кофе, которым угощают в супермаркете. Хярьконен схватился за край листка.
— «Нюссонен, Карита Ирмели, родилась...» — читал он вслух, а Харьюнпя смотрел на Норри и видел, какое удовлетворение написано на его лице. Он улыбнулся впервые за много дней.
— Она мне кажется очень знакомой... эта Нюссонен. Где? Где мне приходилось иметь с ней дело раньше? Не скажете? Фамилия такая знакомая... — сказал Хярьконен, ударяя кулаком по ладони.
— А может, ты ошибаешься? Во всяком случае, она не возникала нигде в связи с этим делом.
— Может быть, может быть. И все же она где-то мелькала. Не привлекалась ли она свидетелем по делу с поножовщиной, когда «скорая помощь» все же привела в чувство этого Мутанена, у которого остановилось было сердце. Не помнишь, Норри?
— Не припоминаю. Ты можешь... хотя погоди-ка. Это не то дело. Нюссонен проходила у нас позапрошлой весной в качестве пострадавшей стороны. Помнишь, Нюссонен тогда валялась на площади перед сеймом. Рухнула там в пьяном состоянии...
— Ах да-да...
— Точно! Точно! Тогда еще были подозрения, что ее кто-то умышленно толкнул. Она, кажется, тогда неделю лежала без памяти? Сотрясение мозга или что-то в этом роде. Ну конечно, это была она.
— И, видно, неплохо оправилась.
— Я точно помню, как ребята из отдела по кражам благодарили господа бога. Она ведь была известной подсадной уткой или чем-то в этом роде.
— Да, но... Хярьконен, пойди в картотеку, возьми карточку на эту самую Кариту Ирмели. Познакомимся поближе. А список пропойц отложите пока в сторону.
Хярьконен вернулся уже через десять минут. Он держал раскрытую желтую картонную папку, и капли пота на его лбу говорили о том, что по ступенькам он бежал бегом.
— Это... это та самая красотка... Нюссонен Карита, — перевел дух Хярьконен.
Норри взял папку, положил ее перед собой на стол и принялся внимательно читать, начиная с первого листа. Хярьконен еле сдерживался, его так и распирало желание что-то предпринять, да и Харьюнпя почувствовал, как в нем пробуждается доселе неведомый охотничий пыл.
— Подсадная утка — это она. Я смотрел тот лист.
— Да, ну и что?
— У нее пара судимостей за самостоятельное ограбление. И надо же — еще оказание сопротивления должностному лицу, притом с применением силы. Это та самая фифа, которая отправила Холопайнена на пенсию. Я тогда служил еще в первом оперативном подразделении.
— А что это было за дело?
— Полицейский наряд вез в машине задержанных в вытрезвиловку, и эта самая Карита была тоже там, мы намеревались с ходу — раз-два — и передать ее в полицию по надзору[28], а она — раз-два — открыла свою сумочку и выхватила оттуда бритву... знаешь, такую, которой парикмахеры иногда еще бреют... и не успели ребята опомниться, как она набросилась на ближайшего. Им как раз и был тот самый Холопайнен — не помню, как его звали. Она — раз его по лицу, и — ото лба до щеки. Пришлось ему уйти на пенсию. Торгует теперь на рынке.
— Вот черт, — произнес тихо Харьюнпя. Почему-то он уже много лет испытывал страх перед колотыми и резаными ранами. Попасть под обстрел — с этим еще можно примириться, огнестрельная рана — она чище, пуля проникает в тебя с быстротой мысли и оставляет аккуратный след, а вот когда в твое тело погружается стальное острие, направляемое чужой рукой, — одна мысль об этом вызывала у Харьюнпя дрожь.
— Вот черт, — снова произнес он еле слышно. Если уж ему предстоит стать объектом нападения, то он хотел бы, чтобы все произошло внезапно и разом было кончено — не желает он сутками томиться, валяться с ножевой раной в больнице.
Норри сосредоточенно читал подборку материалов, водя пальцем по строкам. Он склонил голову к бумагам, и в свете, падавшем от лампы, его поредевшие волосы казались совсем светлыми. Харьюнпя и Хярьконен стояли у стола по стойке «смирно», будто во время какого-то торжества.
— Ей тогда еще не было двадцати, — прошептал Хярьконен. — И поэтому она не понесла наказания. Правда, ее приговорили выплачивать возмещение пострадавшему, но, как ты понимаешь, этот Холопайнен не получил от нее ни марки, ни единого пенни.
Харьюнпя молча слушал — лишь кивнул головой. Норри откашлялся — значит, собирается что-то сказать.
— Да, этой девке пальца в рот не клади. Все сходится к тому, что Континен где-то подцепил эту Нюссонен, а она потом впустила в квартиру своего приятеля. Так или примерно так все и должно было произойти, вот только кто этот приятель, — сказал Норри. Он перевернул страницу и нашел пункт — «ближайшее окружение и сообщники по преступлению». — Да... ну и компания здесь подобралась: Анне Сипиля, Осмо Винамяки, Кари Рантанен, Сату Хиилио, Леа Хелин, Олави Каллинен, Хейсо Майанен — как в добром церковном приходе. Вот этот Винамяки проходил у меня по делу с поножовщиной лет шесть тому назад. Поверьте мне, кто-то из перечисленных и навестил Континена вместе с ней, — сказал Норри. Его голос звучал ровно, серьезно, без всяких ноток победного торжества.
— Мда...
— Ну, ладно. Здесь помечен ее адрес — Магдалеенанкату... она жила там с матерью и сыном... проверьте через адресное бюро. Ее нужно доставить сюда сегодня же. Можете идти вдвоем, но лучше подождите, пока вернутся Монтонен и Тупала
— А может, ее и дома-то нет... зачем тогда идти за ней всей компанией... лучше, если кто-нибудь останется и начнет готовить фотографии, чтобы потом сразу приступить к розыску, — предложил Хярьконен.
Харьюнпя не стал возражать. Ему бы очень хотелось прихватить с собой хотя бы Тупала, но он не осмелился сказать об этом; а что, если Норри истолкует его слова как трусость. Ему хотелось наступить на ногу Хярьконену, чтобы заставить его замолчать, но вместо этого он быстрым движением потушил сигарету в пепельнице.
В коридоре Харьюнпя внезапно изменил направление и зашел в свой кабинет. Он вдруг почувствовал непреодолимое желание позвонить домой Элизе. Никакого дела у него к ней не было, не собирался он и рассказывать ей, что отправляется задерживать преступницу. Ему просто хотелось позвонить, услышать голоса Элизы и Паулины. Харьюнпя поднял трубку, набрал хорошо знакомый номер, однако телефон был занят. Он положил трубку на рычаг и отчетливо услышал, что Хярьконен в соседней комнате говорит с адресным бюро. Он попробовал еще раз и опять услышал в ответ те же самые «туу-туу-туу». С минуту он прислушивался к голосу за стеной, перебирая в уме слова, которые хотел сказать.
«Я... я только хотел сказать, что вы мне обе очень дороги», — беззвучно произнес он, двигая незаметно для себя губами. Однако в третий раз звонить не стал.
Харьюнпя и Хярьконен вышли в коридор одновременно.
— Она наверняка живет все еще там, на Магдалеенанкату. Это, кажется, район Паасила? Только бы не там, где маленькие пешеходные улочки со столетними деревянными домами. Где-то там был убит человек выстрелом из пистолета, громкое дело, им занималось отделение Нуутинена, — заметил Хярьконен.
Они набросили на себя пиджаки, помахали рукой Норри и отправились вниз по лестнице. Их ботинки стучали в такт по каменным ступеням. Харьюнпя повторил про себя слова Норри: «Если возникнет хоть малейшая необходимость, немедленно вызывайте подмогу. Никаких героических подвигов я не...» Норри не договорил, но Харьюнпя знал, что он имел в виду. Они спустились на первый этаж и вышли на улицу. Софиянкату они пересекли одновременно, руки в карманах, — группа по задержанию убийцы, в которой по крайней мере один из констеблей был уверен, что без труда доставит виновную в отдел.
ГЛАВА 14
Было начало шестого. Часы «пик» еще продолжались — была пятница. Автомобили превратили улицы в блестящую стальную ленту, пешеходы перекатывались через полосы движения, люди с сумками наводняли магазины, все торопились, все хотели побыстрее попасть домой. Временами казалось, что дальше ни за что не продвинуться. Автомобильная очередь в лучшем случае передвигалась на десять метров за раз, так что это больше походило на подергивания.
— На этих наших коробках все же должны быть установлены звуковые сигналы.
— Да, но сейчас у нас особой спешки нет.
— Как это нет — едем брать убийцу, а она, может, уже навострила лыжи в Швецию.
— Мда. Но у нее было для этого достаточно времени... к тому же сигнал в этой заварухе мало чем поможет.
— Да уж не до быстрой езды, но хоть бы как-нибудь продвигаться вперед, а то уж больно муторно...
— Да...
Харьюнпя подумал, что Элиза теперь уже, наверно, закончила свой телефонный разговор и приготовила еду себе и Паулине. Девочка, конечно, собрала все свои игрушки на полу в кухне и теребит теперь дверцу холодильника, топая ножкой по половику.
— Мама, открой. Мама, скорей, — твердила она обычно.
Харьюнпя подумал — хорошо бы, чтобы Элиза по ошибке приготовила трапезу на троих, правда, Элиза за неделю, наверное, уже привыкла к его отсутствию. Чего доброго, жена и дочь свыкнутся с тем, что в семье их только двое.
Автомобильная очередь дернулась вперед. Откуда-то сзади раздалась сирена «скорой помощи», но мигающих синих огней не было видно. Автомобиль свернул в другую сторону.
— Норри, видно, правильно поступил, направив все эти штучки прямо к Тьюрину, — произнес Харьюнпя.
— Н-д-ааа... так ведь это же обычное дело.
— Значит, хорошее обычное дело.
— Правильно...
— Это типично для Норри. Он умеет все так организовать, что результат получается какой надо.
— Н-д-ааа... но это не только его заслуга, а всего отдела.
— Что ж, может быть...
Некоторое время они сидели молча. У перекрестка Норденскельдинкату они прождали около четырех минут. А затем на перекрестке Хярьконен неожиданно свернул влево и въехал во двор одного из домов. Харьюнпя удивился. Хярьконен остановил машину, поставил ее на ручной тормоз, но мотор продолжал работать. Затем он повернулся в сторону Харьюнпя. Лицо у него было серьезным, и Харьюнпя сразу почувствовал, что он что-то затевает.
— Знаешь что? — сказал Хярьконен.
— Что?
— Послушай, черт подери. Подумай сам... как... откуда нам знать, может, они там вдвоем? С этим типом. На Магдалеенанкату. Может, они даже живут вместе? Черт подери...
— Брось... а ведь и правда...
— А мы идем туда только вдвоем.
— Это Норри, наверное, и имел в виду, когда сказал, что лучше бы нам подождать Монтонена и Тупала.
— Точно.
— Вернемся в отдел — вдвоем не поедем...
— Запросим по радио. Может, они еще в машине.
Харьюнпя взял в руку микрофон и некоторое время держал его в ладони, обдумывая, что сказать. Наконец он кашлянул и нажал клавишу указательным пальцем.
— Хела[29], говорит Ристо-шесть, — сказал он важным официальным тоном.
— Да, Хела слушает, что там у Ристо-шесть?
— Попробуй связаться с Монтоненом и Тупала. Они, наверно, где-то в районе Ристо. Если свяжешься, передай, чтобы немедленно ехали к зоопарку.
Харьюнпя задержал дыхание. Никак не удавалось унять дрожь в руке, державшей микрофон. Вместе с Хярьконеном они слушали, как дежурный трижды повторил их вызов. Ответа не последовало.
— Ристо-шесть. Вызывает Хела.
— Да. Ристо-шесть слушает, — ответил Харьюнпя.
— Монтонен и Тупала не отвечают.
— Да, слышали. Ясно. Спасибо.
— Хела дает отбой.
Харьюнпя сунул микрофон в зажим. Он был слегка взволнован, и поэтому микрофон не сразу попал на место. Закрепив его, наконец он вздохнул и повернулся к Хярьконену.
— Что будем делать? Поедем обратно в отдел?
— Погоди немножко...
— Чистое безумие — ехать туда вдвоем...
— Да-да. Но пройдет час, прежде чем мы доберемся до отдела, да час обратно. И подумай, с какой физиономией нас встретит Норри?!.. Ха! А что скажет Монтонен? Следующие полгода он всякий раз будет повторять, что мы сдрейфили. Нет, черт подери. Посмотри, есть там в ящике наручники?
Харьюнпя открыл ящик. Он вздохнул и вытащил пять перетянутых резинкой целлофановых мешочков. В них были наручники разового пользования, которые накладывают на запястье, а потом затягивают как удавочную петлю. Металлическое острие, торчащее снаружи, так сильно вонзается в ленту, что узел невозможно ослабить. Снять наручники можно, лишь разрезав их секатором. Харьюнпя извлек из связки пару наручников и сунул их в боковой карман своего пиджака.
— Ты это серьезно?.. — сказал он вопросительно. Ему не хотелось верить, что Хярьконен говорил всерьез, хотя прекрасно понимал, что другого выбора у них нет.
— Да. Мы хотя бы произведем осмотр места.
— Ну, хорошо, — согласился Харьюнпя.
«Лада» свернула на Магдалеенанкату. Песок бился о щитки колес. Руль сам вернулся на свое место, свободно скользя между ладоней Хярьконена. Не замедляя скорости, он в том же темпе продолжал путь. Затем кивнул головой влево.
— Вот этот дом.
Харьюнпя выглянул наружу и быстро окинул взглядом деревянный дом за кустами. Он казался мрачным и запущенным. Подробностей он не рассмотрел. Хярьконен доехал до конца улицы и на перекрестке повернул обратно. Ехал он теперь тихо.
— Подъедем вплотную к воротам. Если припаркуемся с той стороны, машину за кустами не будет видно, но она будет рядом на случай осложнений, — пояснил Хярьконен.
Харьюнпя лишь кивнул, ибо в горле у него пересохло. В его воображении вновь возникла картина приближающейся к лицу бритвы. Он заметил, что ручка у нее была жемчужного цвета. На ногтях пальцев, сжимавших ручку, лак сошел. Харьюнпя судорожно глотнул. Он вытер легкую испарину, выступившую на лбу, и взглянул на свою руку, как бы проверяя, нет ли на ней крови.
Они вылезли из автомобиля. Щелкнули дверцы — замок закрылся. На Магдалеенанкату было пусто. Улица эта находилась в стороне от оживленных городских магистралей. Сюда лишь издали доносились звуки автомобилей. Харьюнпя показалось, что он находится в глухой деревушке. Небо было здесь металлического цвета, на западе — желто-красного. Воздух — светлый, а земля — темная. Дома за деревьями и кустами казались большими, массивными. На верхушке дерева пел черный дрозд — голос его доносился оттуда как флейта. Из сырых канав пахло мхом и тиной. Был апрель. Однако казалось, что весна уже полностью вступила в свои права.
Харьюнпя расстегнул жилет и вытащил пистолет. Он сдвинул предохранитель, направил заряд в патронник и дослал его вперед. Большим пальцем снова поставил предохранитель на место и сунул руку вместе с оружием в боковой карман. Ручка пистолета скользила в его потной ладони. Он щелкнул пару раз предохранителем, но не взвел курка. Кладя оружие в карман, он не подумал, что теперь уже не успеет взвести его, случись в том спешная необходимость. Из кармана пиджака он вынул капсулу со слезоточивым газом, снял с нее колпачок и снова положил в, карман. Проверил также, на месте ли наручники, и взглянул после этого на Хярьконена.
— О’кей? Ну что, пойдем?
— Да. Не знаю, нужно ли разрабатывать какой-то план действий? Постучимся и отрекомендуемся знакомыми Кариты, спросим, дома ли она. Нужно учитывать и такую возможность, что ее нет дома, — сказал Хярьконен, и по тому, как он это сказал, было ясно, что на это он и надеется. Он сплюнул зажатый в губах окурок, растер его ногой и кивнул. Они свернули на посыпанную песком дорожку, ведущую во двор, не подумав, что сначала надо блокировать заднюю часть дома. В обычных условиях они наверняка хотя бы осмотрели выходы с тыльной стороны, прежде чем заходить в дом. Однако на сей раз по какой-то прихоти судьбы они забыли об этом.
Харьюнпя и Хярьконен шагали в ногу, и поэтому казалось, что гравий хрустит только под одной парой ботинок. Дом был удивительным творением из дерева, появившимся на смене столетий. Он был высокий и узкий, с жестяными карнизами, со множеством выступов и углов. Он напомнил Харьюнпя дома ужасов шведского газетного иллюстратора Арнольда. Из окон таких домов вылетают обычно летучие мыши, стены прорастают мхом и грибами, а в дверь проскальзывают ящерицы. Чем ближе они подходили к дому, тем выше и у́же он становился. В окнах нижнего этажа горел свет, расплывавшийся за шторами желтым пятном. Они остановились у входной двери и некоторое время стояли в нерешительности.
— Подожди здесь, я пойду загляну в окно, — прошептал Хярьконен. Он спрыгнул с деревянных ступенек и исчез.
Харьюнпя услышал лишь шорох кустов и пыхтение Хярьконена. Небо потемнело еще больше. Харьюнпя трясло от холода. Он осторожно нажал на дверь, но она была закрыта изнутри. Снова зашелестели ветки — вернулся Хярьконен.
— Это окно на кухню. Никого не видно, но внутри кто-то есть: слышно, как двигается.
— Тише...
— Да, — сказал Хярьконен и постучал костяшками пальцев в дверь. Стук показался Харьюнпя грохотом. Он эхом отдался в передней.
Они ждали. Изнутри — ни звука. Хярьконен перевел дыхание и постучал снова. Прошло еще несколько секунд. Харьюнпя расправил плечи и занес было руку для удара, но не успел и один раз стукнуть, как послышались шаги. Его рука так и застыла в воздухе. Он сосредоточенно смотрел на дверь и прислушивался к скрипу половиц.
Шаги приближались. Медленные и тяжелые. Настолько тяжелые, что полицейские переглянулись. И разом встали по обе стороны двери. Хярьконен вытащил из кармана пистолет. Положил большой палец на предохранитель. Они ждали, сдерживая дыхание. Черный дрозд испустил короткую трель. И замолк. Харьюнпя громко сглотнул слюну.
Дверь в переднюю открылась. Свет запрыгал сквозь щели выходной двери. Половицы громко заскрипели под ногами. Послышалось чье-то дыхание. Хярьконен поднял руку и постучал в дверь.
— Кто там? — спросили изнутри. Голос был усталый и скрипучий. Это был голос старой женщины.
Харьюнпя снял руку с газовой капсулы.
— Это мать Кариты, — прошептал он на ухо Хярьконену.
— Здесь...
— Здесь двое друзей Кариты. Она дома?
— Нет. Чего вам нужно?
— Мы... да поговорить бы надо. Когда она придет?
— Не знаю.
— А-а... где она?
— Что... вы что, из полиции? Да?
— ...Да. Мы из уголовной полиции... чего уж тут. У нас дело к Карите Нюссонен. Будьте добры, откройте дверь. Так будет удобнее разговаривать.
Старуха с минуту молчала. Она потопталась на месте, затем подошла к двери — скрипнул засов и сдвинулся с места. Харьюнпя выхватил руку с оружием из кармана и распахнул дверь. Женщина, державшаяся за дверную ручку, вылетела вместе с дверью на ступеньки.
— Черт бы вас побрал! — крикнула она пронзительным, испуганным голосом. Быстро перебирая ногами, чтобы сохранить равновесие, она поспешила обратно в переднюю. Хярьконен и Харьюнпя последовали за ней.
Передняя была нетопленой и темной. Здесь пахло обувью, верхней одеждой и сыростью. Половицы жалобно стонали под ногами полицейских. Старуха прижала обе руки к груди. Она была небольшого роста, но невероятно полная.
— Извините за слишком поспешное вторжение... наперед-то ведь не знаешь...
— Ну... чего вам нужно?
Они прошли на кухню — там было тепло и грязно. Свисавшая с потолка лампа скупо освещала комнату. На полу — игрушки и растрепанная иллюстрированная книжка. Женщина покорно повернулась к пришельцам, и Харьюнпя впервые смог разглядеть ее лицо. Это было морщинистое, восковое лицо старухи. В общем-то оно было даже доброе, однако наведенные брови и густо намазанные кроваво-красные губы делали его карикатурным. Харьюнпя смешался. Он увидел, что Хярьконен, продолжая держать руку в кармане, беспокойно оглядывается вокруг. С края шкафа свисал жестяной крюк, в мойке стояли пузырьки с лекарством. В воздухе пахло рыбным пирогом.
— Так где же Карита?
— Да. Нам бы нужно поговорить с ней.
— Ха. Что это она опять натворила? Она... да она почти месяц безвыходно сидела дома. Не могла она ничего сделать.
— Вот как.
— То-то и оно. Она должна подъехать с нами на Алексинкату, выяснить кое-какие дела.
— Во-от, значит, как. Потому-то за ней и охотятся, что она ничего не сделала? Ну и ну! Вы что же, так никогда и не оставите человека в покое? А?..
Старуха присела к столу. Она сделала это медленно, видимо опасаясь боли в ногах, но, почувствовав под собой табуретку, быстро опустилась на нее всем телом. Харьюнпя прислушался. Тишина. Однако это не успокаивало, ибо дом казался враждебным ящиком, в который они попали. Харьюнпя подвигал пальцами в кармане пиджака, распределяя их на колпачке газового баллона.
— Нам ни к чему напрасно препираться. Вы накрыли стол на троих. Карита с мальчиком на втором этаже?
— Ха. Пойдите посмотрите. Пойдите посмотрите... Убирались бы вы отсюда.
— Ну... кто тут жениховался с Каритой в последнее время? Что за тип живет здесь?
— С чего вы взяли, что здесь живет мужчина? Я по крайней мере ничего не знаю. Лахтинен и Маунула живут в другом конце дома, если вы их имеете в виду. Идите спросите, мерзость вы этакая.
— Вы же знаете, что не о них речь...
— Какого черта...
— Ну ладно. Пожалуй, зря мы... — начал Харьюнпя и не докончил фразы.
Хярьконен двинулся к внутренней двери. Видно было, как он стиснул зубы. Волосы на теле Харьюнпя встали дыбом. Затылок сжала спазма.
— Что... чего вам надо-то... эй, полицаи, чего вам, — заверещала старуха.
Харьюнпя понял, что она делает это намеренно.
— Тихо! — процедил он сквозь зубы и придвинулся к двери.
Он подоспел к Хярьконену как раз в тот момент, когда снаружи послышались шаги — шли двое. Харьюнпя прислушался. Он заметил, что щели между половицами настолько широкие, что, если на пол прольется кровь, она легко вытечет между ними и на много месяцев оставит после себя запах в подполье. Из кармана Хярьконена донесся щелчок предохранителя. Люди, подходившие к дому, открыли дверь. Но не закрыли ее. И вошли в переднюю.
— ...я унес много лакрицы... — произнес маленький мальчик. Он сказал это с явной гордостью. Сказал тоненьким детским голоском.
— Одно мученье с тобой, щенок! Мама же говорила тебе... Ты хорошо знаешь, чем это может кончиться. Вот заберут тебя фараоны и не отпустят никогда, пострел.
— Это она, — прошептал Хярьконен на ухо Харьюнпя. И быстро припал к стене, а Харьюнпя шагнул вперед.
Он стоял посреди кухни, так что его хорошо было видно. Он ощущал себя приманкой, мишенью.
Дверь на кухню отворилась. Молодая женщина с пяти-шестилетним мальчуганом вошла в комнату. Харьюнпя сразу же узнал по фотографии Кариту Ирмели Нюссонен. Карита не сразу заметила Харьюнпя, но ребенок остановился и вытаращил на него глаза.
— Угадай, мать, что опять Марко натворил.
Карита мгновение смотрела на сидевшую на табуретке мать, затем быстро повернула голову в сторону Харьюнпя. Харьюнпя увидел перед собой полное невыразительное лицо, с которого страх мгновенно согнал румянец. Рот приоткрылся, обнажив влажный язык. Карита была полная, маленькая, с высокой грудью, туго обтянутой белой блузкой. Ее мать в молодости была, наверно, точно такой же. На плечах у Кариты был накинут пиджак, рукава свободно свисали вниз. В руке она держала пестрый целлофановый пакет. Сквозь целлофан просвечивали два пакета с молоком и четыре бутылки пива. Горло Харьюнпя сжалось. Ему казалось невероятным, чтобы стоявшая перед ним женщина могла участвовать в убийстве или по крайней мере быть свидетельницей того, как при ней убивают человека на полу его квартиры. Хярьконен закрыл дверь.
— Карита Нюссонен?
— Да... — промолвила женщина. Она дрожала. И неотрывно смотрела в глаза Харьюнпя. Взгляд отражал неожиданность, растерянность, близкую к панике.
— Мы из уголовной полиции. Тебе придется отправиться сейчас с нами...
— Мамочка... мамочка... не надо... мамочка, не надо... — зашелся мальчик. Слезы брызнули и потекли по его щекам. Он вытащил руку из шерстяной варежки, и оттуда вывалилась на пол куча лакричных палочек. Мальчик повернулся, бросился было к двери, снова повернулся и кинулся к сидевшей у стола бабушке. Он уткнулся в ее колени и затопал ножонками о деревянные доски, прячась в ее объятиях.
— Мамочка... мамочка. Мамочку... мамочку нельзя уводить! — вопил он, прерывисто вдыхая в себя воздух, и Харьюнпя различил в его голосе подлинное отчаяние.
— Марко... Марко, послушай. Ты не... мы не... — безуспешно попытался Харьюнпя успокоить ребенка, уткнувшегося головой в зыбкий живот бабки.
Харьюнпя смотрел на взъерошенные светлые волосы, выбивавшиеся из-под шапочки мальчика, на узкий грязный затылок. Он вспомнил Паулину. Потом перевел взгляд на палочки лакрицы и намалеванные на обертке склабящиеся негритянские физиономии. Очень у него было скверно на душе.
Харьюнпя поднял голову. И увидел перед собой Кариту и неподвижно стоявшего за ней Хярьконена.
— Ну, Карита. Надевай-ка свой пиджак, и пойдем, — сказал он женщине, но уже не так враждебно, а скорее уныло, ибо горькие всхлипывания мальчика не могли оставить его равнодушным. С изменением его тона изменилось и настроение у женщины. Напряженность исчезла, лицо ее было спокойно. Она опустила сумку на пол и вздохнула. В ней промелькнуло что-то, промелькнуло и пропало, это произошло так быстро, что Харьюнпя даже не заметил. Если бы он держался настороже, то обнаружил бы в Карите нечто, заставляющее постоянно быть начеку. А Хярьконен не мог ничего видеть, потому что женщина стояла к нему спиной.
— Почему я должна идти?
— Объяснение ты получишь на месте. Ты же наверняка понимаешь, о чем идет речь, — сказал Харьюнпя.
— О’кей... но мне нужно зайти в свою комнату. — Карита сделала шаг к лестнице, ведущей наверх.
Харьюнпя заслонил ей дорогу.
— Нет. Ничего не выйдет. Не клади руки в карманы... если тебе придется остаться у нас и что-нибудь понадобится, твоя мать принесет.
Карита остановилась в полуметре от Харьюнпя, уперев руки в бедра. Она наклонила голову. Чуть вздернув нос и приподняв верхнюю губу, она придала лицу такое презрительное выражение, что Харьюнпя вынужден был отвести взгляд.
— Послушай, полицайчик. Мне нужно кое-что взять с собой, — сердито буркнула Карита и промаршировала мимо Харьюнпя.
Харьюнпя хотел было что-то сказать, однако слова застряли у него в горле — он только рот раскрыл. Пожал плечами и, не в силах ничего предпринять, покорно и умоляюще посмотрел на Хярьконена. Тот вдруг быстро повернулся, так что Харьюнпя вздрогнул и, в свою очередь, повернулся. Но крутые деревянные ступеньки были уже пусты. Он увидел лишь, как мелькнул ботинок Карты, скрывшейся за углом.
— Вот черт! Ты упустил ее! — крикнул Хярьконен. И, перескакивая через ступеньки, помчался наверх. А Харьюнпя обрел способность двигаться, лишь увидев пистолет в руке Хярьконена.
Оба бросились наверх. Узкие ступени трещали, перила раскачивались. На повороте лестницы они было налетели друг на друга. Харьюнпя притормозил первым. Он боялся, как бы Хярьконен нечаянно не разрядил пистолет. Они поднялись на чердачную площадку и остановились. На площадке было темно и прохладно, в свежем воздухе пахло гнилыми яблоками. Полицейские стояли, переминаясь с ноги на ногу. Свет попадал сюда только с лестницы, и, поскольку они стояли на ней, тени их падали на стену большими черными пятнами.
— Уйди, уйди оттуда... ты как на блюдечке... — прошептал Хярьконен, обращаясь к Харьюнпя. Пригнувшись, они продвинулись на несколько метров вперед и присели на корточки. Харьюнпя вытащил пистолет, а в другую руку взял газовый баллон.
— Она должна быть где-то рядом. Не могла она уйти далеко, — прошептал Хярьконен.
— Да... а нет ли у них здесь жилых комнат? Подождем немножко, пока глаза привыкнут.
— А не может этот тип прятаться здесь?
— Почему бы и нет... хотя с какой стати он сидел бы в укрытии до нашего прихода? Ведь никого же еще не брали... Ой, черт, как же она все-таки улизнула. Я не...
— Оставь. Только бы у нее не было оружия.
— Вряд ли... посмотри-ка туда! Там дверь, и сквозь щель виден свет. Она там.
Харьюнпя и Хярьконен вскочили на ноги и бросились к двери. Хярьконен стал шарить по стене рукой и, найдя выключатель, зажег свет. Теперь они почувствовали себя уверенней. Харьюнпя взглянул на Хярьконена и, увидев, какое у него напряженное лицо, понял, что и сам выглядит точно так же. Он вдруг понял, что разыгрывает из себя героя, против чего так настойчиво предостерегал Норри. Вот они сейчас оба находятся здесь, в то время как на нижнем этаже никого нет. Бабка вполне может поджидать их внизу с дробовиком в руках. Он приложил ухо к двери и различил в комнате какой-то непонятный шелест. Хярьконен схватился за ручку и рванул дверь на себя. Она оказалась на запоре. И даже не дрогнула.
— Карита! Открой дверь! — крикнул Хярьконен.
— Нет! Нет, не открою! Я ничего не сделала!
— Ну, тогда тебе нечего бояться. Открой дверь, выходи сюда и разберемся.
— Иди к дьяволу...
— Послушай! Будет всем легче, если мы провернем это дело без осложнений. Ты же знаешь, что все равно мы вытащим тебя оттуда. Выйдешь сама?..
— Я ничего не сделала! Я ничего не сделала! Я ничего не сделала! — прокричала Карита, и ее голос поднялся до фальцета.
— Успокойся...
— Видно, вы не поверите мне, пока я не убью себя? А я убью! И убью каждого, кто войдет сюда! Поверьте мне, дьяволы из преисподней!
— Карита, подумай о Марко...
— Аа-аа...
Голос женщины был исступленным, истерическим. Страх наполнил Харьюнпя. Он мелко топтался на месте.
— Вот черт возьми-то, вот черт возьми-то, — безотчетно повторял он, покусывая нижнюю губу. Он слегка дотронулся до своих волос и переложил пистолет из одной руки в другую.
— Послушай, нам надо получить подкрепление. Ее надо вытащить оттуда... Иначе, чего доброго, она даст деру оттуда?
— Да. Или покончит с собой, — сказал Харьюнпя, и, только произнеся это, он понял, к каким плачевным результатам такой исход мог привести. Он попытался не думать об этом.
— Не убьет она себя...
— Как знать... она не совсем нормальна. Эта травма на черепе...
— Хорошо, Тимо, мы сделаем так: я останусь здесь и постараюсь отвлечь ее внимание на то время, пока ты выйдешь и последишь, чтобы она не сбежала через окно, и из автомобиля запросишь по рации из центра помощи. Попроси кого угодно, кто здесь поближе, патрульные машины должны быть где-то поблизости. Попроси также прислать сюда собаку... и скажи, чтобы побыстрее, — сказал Хярьконен. Его спокойствие вернуло равновесие и Харьюнпя. В заключение Хярьконен передал Харьюнпя ключ от машины, и тот бросился бегом вниз по ступенькам. Он не успел подумать о дробовике, сбегая вниз. Не сбавляя скорости, он пронесся через кухню, через тепло и ароматы рыбного пирога и только раз взглянул на старуху, сидевшую на скамейке с мальчиком, забившимся в ее объятия. Седые волосы старой женщины сплелись с золотистыми кудрями мальчонки. Они оба тихо плакали.
На улице было темно. Небо черное, только края его пылали сине-красным цветом, отражая свет над городом. Черный дрозд уже не пел больше. Было тихо, Наступило то мгновение, когда маленькие зверьки приходят в движение, шурша в траве и у корней кустов. Харьюнпя задержался на секунду на песчаной дорожке. Он запрокинул голову вверх так глубоко, что небо открылось прямо перед ним во всей своей глубине. Длинным прерывающимся вздохом он вобрал воздух в легкие, тряхнул головой и бросился через кусты к стене дома.
Прошлогодний лесной купырь путался в ногах Харьюнпя. На земле валялся разный мусор, он не видел, куда наступает. Он вышел к задней части дома и огляделся. На первом этаже располагались три темных окна. Он поднял взгляд, и его глаза инстинктивно устремились к одной из оконных рам второго этажа, где горел свет.
Харьюнпя видел, что окно было распахнуто. Он услышал приглушенный голос Хярьконена и стук его ударов в дверь. Держа пистолет наготове перед собой, Харьюнпя стал осторожно продвигаться вдоль стены. Приблизившись, он заметил, что к обоим окнам верхнего этажа вели пожарные лестницы. Харьюнпя подумал, что Карита могла по ней скрыться. Он стоял на месте и пытался вглядеться в глубь двора. Но темнота и кусты скрывали все из вида. Харьюнпя сдержал дыхание и попытался внимательно прислушаться. Неподалеку загрохотала какая-то тяжелая машина. Шум, грохот дизеля и позвякивайте цепей заглушили все остальные звуки. Невозможно было различить даже шума уличного движения с Пасилантие. Харьюнпя приблизился к пожарным лестницам. Он наступил на какой-то предмет, напоминающий ящик, и чуть не подвернул ногу. Харьюнпя присел и увидел, что предмет, на который он наступил, был портативным радиоприемником. Было видно, что валялся здесь он недолго. Харьюнпя взглянул наверх, на освещенное окно, и понял, откуда было выброшено радио. В ту же минуту он догадался об исходном местонахождении этого аппарата: он мог попасть сюда только из квартиры жестянщика Армаса Калеви Континена. Дулом пистолета он приподнял приемник за ручку и облокотил его о цоколь здания. Металлическая коробка должна была сохранить на своей поверхности много отличных отпечатков пальцев, которые очень понадобятся в случае, если Карита станет утверждать, что никогда не видела приемника, о котором идет речь.
Харьюнпя коснулся ладонью железной опоры пожарной лестницы. Она была холодной, заржавевшей. Он понял, что Карита убежала в свою комнату только для того, чтобы избавиться от приемника. И никуда она не скрылась, по крайней мере до сих пор. Харьюнпя попытался решить, что ему делать. Охотнее всего он бы ушел из-под окна, направился к автомобилю и вызвал подмогу. Это «охотнее всего» было настолько сильным, что он уже сделал движение в сторону автомашины, однако в последнее мгновение разум взял верх. С неохотой он признался себе, что у него не было иного выбора, как залезть в комнату через окно. Принятие окончательного решения вызвало неприятную реакцию. Он всхлипнул пару раз, будто собирался заплакать.
Харьюнпя крепко ухватился за пожарную лестницу. Металл в его руках показался шершавым, как наждак. Он постоял еще минуту, не отрываясь от земли, в ожидании, когда утихнет дрожь в коленях. Он глубоко втянул в себя весенний воздух, наполненный ароматом земли. Он наслаждался им, ибо знал, что каждое счастливое мгновение человека очень важно — оно может быть последним.
Харьюнпя напрягся, подтянулся вверх и поставил ногу на первую перекладину. Лестница вздрогнула. Сверху она была прикреплена только одним болтом, и тело Харьюнпя заставило ее удариться о стену. Биение на мгновение зазвучало в воздухе. Оно передалось через дерево строению и вызвало вибрацию всей торцовой стены. Харьюнпя сглотнул. Он физически ощутил, как адреналин разлился вместе с кровью по всему телу. Он быстро сделал несколько шагов вверх по лестнице и остановился отдышаться. Шум дизеля слышался теперь лучше. Харьюнпя посмотрел вверх. Свет погас в окне Кариты. Женщина услышала колебание лестницы. Карита знала, что кто-то намеревается проникнуть к ней через окно. И она поджидала, призвав темноту в помощники.
Если бы Харьюнпя действовал в соответствии с требованиями создавшегося положения, он должен был бы спуститься вниз, подбежать к автомобилю, вызвать подкрепление, вернуться и сторожить у окна. Но он не сделал этого. Он считал себя трусом и поэтому продолжал карабкаться вверх. Напрягаясь, он перебирался с одной перекладины на другую. Отслаивавшаяся ржавчина сыпалась на его лицо. За несколько секунд он добрался до верхней части лестницы и остановился.
Харьюнпя вытянул шею. Из комнаты не донеслось ни звука. Хярьконен с силой тряс дверь. Его голос, заглушаемый дверными панелями, повторял:
— Карита? Послушай, Карита! Ну чего ты? Не... не делай глупостей. Всегда есть возможность выбора. Карита? Ты где? Скажи хоть что-нибудь...
Харьюнпя крепко встал на ноги. Он поднял трясущуюся руку и открыл окно настежь. Петли угрожающе заскрипели. Фактор внезапности был утерян. Ладонью левой руки Харьюнпя оперся о подоконник. Краска облупилась и затвердела в жесткие стружки. Они вгрызались в кожу. Харьюнпя подумал, что самое трудное это как раз проникнуть вовнутрь. В это мгновение он будет находиться в оконном проеме, как тень на экране, со скованными руками. Этот момент самый благоприятный, чтобы толкнуть его, сбросить во двор, выстрелить ему в лоб или полоснуть бритвой по лицу, да так глубоко, чтобы раскроить переносицу и верхнюю губу. Он оперся коленом о верхнюю перекладину и положил правую руку на подоконник.
Мощное усилие, и Харьюнпя бросил себя на подоконник. Несколько мгновений его тело держалось лишь на руках, опершихся на подоконник. Сильно оттолкнувшись обеими ногами о стену, он заставил свое тело наклониться вперед. Голова и плечи скользнули внутрь оконного проема. Он ничего не видел, но лицом ощутил комнатный воздух. Он почувствовал запах косметики и женского тела. Харьюнпя пригнул голову вниз и соскользнул на пол.
У окна стоял стол. Харьюнпя плашмя упал на него. Он ощутил под собой мелкие вещи, задрыгал ногами в воздухе и стал шарить руками по столу. Предметы с шумом покатились с него. Часть из них раскрошилась под Харьюнпя. По запаху он определил, что это была косметика и духи. Стол затрещал под ним. Он упал на пол, ткнувшись в него лицом. От сильного удара бровью о какой-то жесткий предмет боль резанула по ней. В глаз полилось что-то теплое. Это была кровь.
«...Не оставляй меня... если что, возьми к себе», — молился про себя Харьюнпя. А вслух бормотал:
— Я возмещу. Я... возмещу все, что поломал.
Харьюнпя предпринял попытку встать. Банки и склянки завертелись под ним, и он с трудом поднялся на колени. Кровь текла через всю щеку. Он отер ее рукой.
— Карита! Где... где ты? Не делай ничего! Я не хочу тебе ничего плохого... но это же нужно. Нужно! Ты знаешь! — заговорил он в полный голос, и конец фразы поднялся до крика.
Хярьконен продолжал энергично трясти дверь. Дерево трещало.
— Карита! Кто там? Прочь от двери! Я стреляю в замок! Уходите от двери! Я выбью замок! — кричал он из коридора. Харьюнпя заметил наконец свет, просачивавшийся через дверные щели, который обозначал дверь большим прямоугольником. Он понял, что находится как раз возле этого прямоугольника. Он был прямо посреди него. Он открыл рот. Горло у него пересохло.
— Не стреляй! Не стреляй! Хярьконе-е-еен! Не стреляй! Я здесь. Харьюнпя здесь... не стреляй! — закричал он, и страх обратил его крик в тревожный визг. Он бросился с колен налево, в угол.
В темноте Харьюнпя отлетел к кровати. Он почувствовал, как его рука прикоснулась к материи, и затем понял, что это кусок одежды, надетой на человека. Скрипнула кровать. Харьюнпя почувствовал, что попал в объятия Кариты, сидевшей на кровати. Инстинктивно он ткнул кулаком вперед. Рука погрузилась во что-то мягкое. Он напрягся, чтобы встать, и вновь отлетел к двери. С кровати послышались жалобные причитания. Харьюнпя стал поспешно шарить около дверного косяка в поисках выключателя.
— Что я наделал... Господи, боже мой... что я наделал... — бормотал он про себя. Наконец он нащупал выключатель, и комната наполнилась светом. Свет ошеломил своим блеском.
Карита находилась на кровати в полулежачем положении, почти в том же, что и многие из покойников, которых Харьюнпя приходилось навещать — ее плечи опирались о стену, ноги свисали на пол, вялые руки лежали на кровати. Ее голова содрогалась в беззвучном плаче, слезы стекали по щекам к подбородку, оставляя после себя черные маскарадные линии. Харьюнпя придвинулся к кровати. Он почувствовал неизъяснимое огорчение и жалость. Он чувствовал, что не может не взять в свои руки жесткую ладонь Кариты.
— Ну... извини... я ударил тебя. Не хотел плохого... но нужно объясниться. Ты же знаешь. Если что-то совершаешь... приходится платить за последствия. ...у всех одни страдания... — говорил он дрожащим голосом.
— Харьюнпя! Тимо! Что там происходит, Тимо? Открой дверь! — ревел взволнованный Хярьконен в коридоре. Харьюнпя ослабил пожатие, и рука Кариты выпала из его ладоней. Харьюнпя повернул ключ и, увидев озабоченное лицо Хярьконена, почувствовал такое огромное облегчение, которого раньше никогда не испытывал.
— Что... у тебя на лице кровь... отчего? Черт возьми...
— Да нет... сам... я упал. Это маленькая царапина. Только вот на неудобном месте. Около глаза...
— Покажи-ка... ага... не больше сантиметра. Будет саднить. Там у себя дома наложим пластырь. Оботри кровь, у тебя страшный вид, — закончил свой диагноз Хярьконен и повернулся к Карите.
— Ну, ты! Пошли! — приказал он.
Море в порту было гладким и блестящим, несколько дальше, там, где городское освещение не отражалось в воде, оно было темным и морщинистым. Харьюнпя шел в направлении Катаянокка. На этот раз он шел медленно. Он шагал, глубоко засунув руки в карманы и разглядывая смолу, застывшую между камней. Рассеченная бровь по-прежнему давала о себе знать. Вернувшись в отдел, он ополоснул лицо и наложил на рану пластырь. С бо́льшим удовольствием он сделал бы это дома, но Норри заставил его обмыться, залататься и только после этого отправил домой. Он вошел на деревянный мостик и остановился в конце его. Он опустил руку на поручень и стал разглядывать снующих по воде чаек. Он смотрел на пухлых птиц, но мысли его были далеко отсюда. Он думал о том, как ему пришлось отрывать ревущего мальчугана от ног матери и тащить затем в дом к плачущей бабке. У двери он обернулся и посмотрел назад. Его последний взгляд запечатлел ребенка, который лежал неподвижно на полу посреди кучи лакрицы. Харьюнпя вздохнул и пошел дальше.
У монетного двора он поднял руку и коснулся веток серебряной сирени, они склонялись через забор к самому тротуару. Они еще не распустились, это предстояло в мае, но их почки уже слегка набухли. Харьюнпя вспомнил, что первая неделя мая у него была отпускной. Он намеревался отправиться один в деревню. Он думал о том, как бросится в молодую траву, утопит в ней лицо, будет вдыхать в себя аромат земли и зелень листвы, и забудет покойников и скорбящих по ним родственников. Он думал, как будет слушать пение жаворонка...
Харьюнпя немного убыстрил шаги. Он миновал парк и повернул на Луотсикату. Он не жалел, что отправился домой, в то время как остальные остались на работе. Он знал, что время прошло бы в напрасном ожидании, потому что на допрос Кариты у Норри уйдет немало времени. Харьюнпя предчувствовал, что, несмотря на свое прошлое и внешнюю твердость, Карита расскажет уже этим вечером о своей причастности к смерти Континена. Она расскажет, что произошло в квартире и кто был там вместе с ней. Она скажет, кто убийца. Харьюнпя знал, что, как только будет выяснено его имя, найдется и он сам, где бы он ни был — в больнице, в трудовой колонии или в могиле.
Харьюнпя приближался к своему дому. Он скользнул взглядом по кирпичному забору губернской тюрьмы. Забор был осыпавшийся и поблекший, он казался старым знакомым и бодрил уставший взгляд. Харьюнпя повернул голову и почувствовал болезненное покалывание в затылке.
— Этого еще... этого еще не хватало, — произнес громко Харьюнпя. Ему показалось, что он ушиб позвонки, падая на пол в комнате Кариты. С минуту он думал о том, что завтра нужно будет наведаться к врачу, чтобы получить освобождение по болезни, но затем вспомнил, что впереди пятница и конец недели, и отказался от этого намерения. Он хотел участвовать в расследовании до конца. Он хотел принять участие в задержании убийцы. Он хотел встретиться лицом к лицу с этим человеком, заглянуть ему в глаза.
Вместо свободных дней по болезни Тимо Юхани Харьюнпя удовлетворился мечтами о свободной неделе в мае. Он стал припоминать растущую меж прибрежной гальки мать-и-мачеху и ощущение солнца на своей коже. Он будет долго и неподвижно лежать врастяжку на лужайке, как дерево, упавшее в лесу. Мечты успокоили его. Навеяли грусть. Он дал слезам вольно пролиться на лицо и не смахнул их. Он плакал как ребенок.