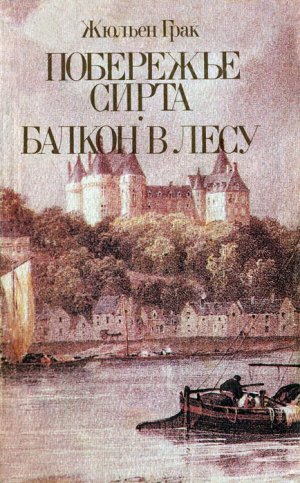
Начало военной карьеры
Я принадлежу к одному из самых древних семейств Орсенны. У меня с детства сохранилось воспоминание о безмятежных годах, о спокойствии и наполненности моего существования между старым дворцом на улице Сан-Доменико и загородным домом на берегу Зенты, куда мы отправлялись каждый год на лето и где я начинал уже сопровождать отца, объезжавшего верхом свои владения либо проверявшего счета управляющих. Поскольку я закончил наш прославленный университет, по характеру склонен скорее к мечтательности и после смерти матери стал обладателем определенного состояния, то выбирать себе поприще не торопился. Синьория Орсенны живет как бы в тени той славы, которую принесли ей в прошлые века ее успешные войны с неверными и сказочные прибыли от торговли с Востоком; она похожа на очень старую и очень благородную особу, которая удалилась от мира, лишилась состояния и утратила кредит, но благодаря своему престижу все еще продолжает успешно отражать наскоки кредиторов; ее слабая и спокойная, но все еще величественная жизнедеятельность — это жизнедеятельность старика, чья еще могучая внешность гонит прочь мысль о постоянно совершающейся в нем работе смерти. Хотя в исполнении общественных обязанностей и несении государственной службы древний патрициат проявляет вошедшее в легенду рвение, государственные дела прозябают в немощном состоянии и служат, естественно, не очень хорошей приманкой для кипучих и безграничных импульсов молодости; человек, достигший преклонного возраста, оказывается более приспособленным для работы в Синьории, более эффективным. Так что над моей вольной жизнью, во многих отношениях не слишком примерной, как и жизнь других молодых отпрысков благородных семейств, витала дымка романтичности и беззаботности. Я чистосердечно включился в лихорадочные наслаждения этих молодых людей, в их однодневные увлечения, в их однонедельные страсти — скороспелая пресыщенность является расплатой классов, слишком давно сидящих на вершине, и мне пришлось рано приобщиться к излюбленному яству золотой молодежи Орсенны, именуемому высочайшей скукой. Дни мои были заполнены чтением поэтов и совершаемыми мною в одиночестве прогулками за город; грозовыми летними вечерами, свинцовым покрывалом нависающими над Орсенной, я любил углубляться в окружающие город леса; стоило только провести несколько часов в седле, как удовольствие от вольной езды удваивалось, будто скорость норовистого коня; часто я поворачивал поводья обратно лишь с наступлением сумерек. Я любил эти возвращения в постепенно сгущающемся полумраке; подобно тому как знамена Орсенны облагораживаются в наших глазах бесценным блеском, пробивающимся сквозь мглу столетий, крыши ее кажутся более лучезарными, когда они проступают сквозь туман; цокот копыт моей присмиревшей лошади, скакавшей к городу, казался мне отягченным какой-то тайной. Мое вечернее времяпрепровождение было легкомысленным: я мерился силами со своими ровесниками в отвлеченных диспутах, проходивших в разных академиях, которые расцветали буйным цветом в Орсенне, по мере того как пустел Сенат; много времени посвящал я и любви, проявляя в ней себя столь пылким и столь раскованным, как никто другой. Случилось так, что моя любовница меня покинула: сначала я был этим лишь раздражен и серьезно встревожился лишь тогда, когда внезапно обнаружил, что меня не тянет завести себе другую. Из-за этой незначительной бреши в моем образе жизни, петли которой постепенно и незаметно для меня самого чрезмерно растянулись, все то, что еще несколько дней назад я считал вполне приемлемым существованием, стало вдруг прямо у меня на глазах расползаться на клочки; моя жизнь показалась мне безнадежно пустой, почва, на которой я столь опрометчиво построил свой дом, стала уходить у меня из-под ног. Мне захотелось вдруг путешествовать; я попросил у Синьории, чтобы меня направили на службу в какую-нибудь отдаленную провинцию.
Подобно правительствам всех иных торговых государств, правительство Орсенны всегда отличалось ревнивой недоверчивостью по отношению ко всем начальникам, даже младшим офицерам своей армии и своего флота. Стремясь обезопасить себя от угрозы какой-нибудь интриги или военного переворота, вероятность которого была особенно велика в ту эпоху, когда постоянные войны вынуждали держать под ружьем значительные силы, аристократия Орсенны установила систему строжайшего подчинения вооруженных сил гражданской власти; с незапамятных времен благороднейшие семейства научились не считать зазорным отправление на военную службу своих юных отпрысков для выполнения заданий, которые мало чем отличались от шпионажа, направленного на то, чтобы душить в зародыше любую попытку военного заговора. Вот они, знаменитые «глаза» Синьории: их полномочия определены нечетко, но на практике всегда удобно подкрепляются престижной фамилией и авторитетом старинного семейства, благодаря чему они, как правило, располагают немалыми возможностями проявлять свою инициативу, в том числе и в военное время; иногда, из-за создающейся при такой практике атмосферы недоверия и из-за связанной с этим робости командования, нарушалась цельность восприятия событий, и военные действия велись Орсенной недостаточно энергично, но зато считалось, что двусмысленная ситуация, в которую ставятся таким способом те, кого Синьория предназначает для ведения ее наиболее важных дел, способствует накоплению ими политического опыта и развивает у них дипломатическое чутье. Долгое время считалось, что непременным прологом блестящей карьеры должна быть работа аккредитованным шпионом. В том состоянии упадка и расстроенности, в котором пребывают ныне вооруженные силы Орсенны, без большого риска можно бы было ослабить эту подозрительность и бдительность; однако в Орсенне, как и вообще во всех разваливающихся империях, по мере того как в механизмах государственного управления и экономики все явственнее обнажается преобладание принципов торможения, сила традиций возрастает: отпрысков семейств здесь отправляют служить в качестве «глаз» со столь же невинными намерениями, с какими в других местах их отправляют путешествовать за границей или участвовать в какой-нибудь грандиозной охоте, — но все же отправляют; со временем церемониал стал наполовину шутовским, но его тщательно сохраняют, и он по-прежнему является чем-то вроде ритуала облачения в мужскую тогу. Моего отца, пребывавшего в своей полуотставке, беспокоила моя беспутная жизнь; он с удовольствием узнал о сделанном мною выборе и всем весом своего все еще значительного авторитета поддержал мою просьбу перед Синьорией. Несколько дней спустя после того, как отца проинформировали о положительном в целом решении. Сенат декретом утвердил меня в должности Наблюдателя при Легких вооруженных силах, которые Синьория держит в Сиртском море.
Твердо задумав удалить меня из столицы, дабы я испытал тяготы более суровой жизни, отец, похоже, пошел дальше моих смутных желаний переменить обстановку. Сиртская провинция, затерявшаяся у южных границ, всегда была для Орсенны приблизительно тем же самым, чем остров Фула был для римлян. Со столицей ее соединяют редкие и плохого качества дороги, проложенные через полупустынную область. На плоском берегу, вдоль которого тянется эта пустыня, ничего нет; античные развалины лишь усугубляют уныние окружающего пейзажа. А начинающееся рядом море изобилует опасными мелями, что испокон веков делало бессмысленным строительство здесь порта. В прошлом, в те времена, когда захватившие область арабы построили там хитроумную оросительную систему, на этих бесплодных песках существовала богатая цивилизация, но потом жизнь ушла из этих отдаленных пределов, словно жидкая кровь перестала достигать конечностей высохшего, как мумия, тела; говорят, что климат там становится все суше и суше и что редкие островки зелени из года в год уменьшаются, как бы съедаются прилетающими из пустыни ветрами. Государственные чиновники привыкли считать Сирт своего рода чистилищем, где на протяжении нескончаемых лет скуки искупаются былые грехи; тем, кто живет там добровольно, приписываются грубые, чуть ли не дикие вкусы, а путешествие «в глубь Сирта», когда кто-либо оказывается вынужденным его предпринять, сопровождается целым градом шуток. Их было предостаточно и на том прощальном банкете, на который я пригласил накануне отъезда своих приятелей по разгульному прошлому; однако в интервалах между тостами и взрывами хохота за столом иногда ощущалась какая-то смутная неловкость, наступала тишина, которую никто не решался нарушить, и пробегала тень меланхолии: мое изгнание оказалось более серьезным и более дальним, чем виделось вначале; все чувствовали, что моя жизнь вот-вот должна измениться по-настоящему — одно уже варварское название «Сирт» делало меня чужим в их веселой компании. Впервые в этом кругу недавних друзей должна была образоваться брешь, и даже уже образовалась — я стеснялся, что она так бросается в глаза, — всем хотелось, чтобы я поскорее исчез и ее можно было бы заделать. Когда мы прощались на пороге Академии, Орландо вдруг обнял меня с каким-то напряженным, сосредоточенным видом, контрастировавшим с легкомысленными речами, прозвучавшими во время ужина, и серьезным тоном пожелал мне успехов «на Сиртском фронте». На следующий день рано утром я отправился в путь в быстрой машине, которая везла в Сирт служебную почту.
Есть в этом немалая прелесть — покидать на заре родной город, отправляясь навстречу неведомому. На сонных улицах Орсенны ничто еще не двигалось; огромные веера пальм осеняли своими широкими листьями глухие стены; внимательно прислушиваясь к звону соборных колоколов, бесшумно подрагивали старые фасады. Мы мчались по знакомым и уже чужим улицам, которые, казалось, твердо выбрали для меня направление в неведомом будущем. Это прощание было легким: я полной грудью вдыхал кисловатый воздух, мои широко открытые глаза смотрели бодро и уже не видели окружавшего нас сонного, смутного пейзажа; мы отправлялись точно в назначенный час. Мелькавшие по сторонам сады предместий не веселили взгляд; над полями неподвижно висел влажный, ледяной воздух: съежившись в глубине машины, я раскрыл большой кожаный портфель, врученный мне накануне, во время принятия присяги в Канцелярии, и с любопытством принялся рассматривать его содержимое. Там, прямо у меня в руках, находились конкретные доказательства моей только что обретенной значимости, и я был еще слишком молод, чтобы не ощутить почти детского удовольствия от обладания ими. В нем были различные официальные бумаги, относящиеся к моему назначению, — довольно многочисленные, что улучшало мое настроение, — инструкции, касающиеся моих обязанностей и того, как я должен буду вести себя на своем посту; я решил прочитать их на свежую голову. Внизу лежал толстый желтый конверт, скрепленный печатями Синьории; мой взгляд внезапно упал на аккуратно сделанную от руки надпись: «Вскрыть лишь по получении специальной Срочной Инструкции». То были секретные предписания; я внутренне весь напрягся и окинул горизонт решительным взглядом. Откуда-то из глубин медленно всплыло окутанное тайной и казавшееся абсурдом воспоминание, подспудно волновавшее меня с тех пор, как я узнал, что меня собираются направить в этот затерянный Сирт: на той границе Орсенны, куда я ехал, шла война. Правда, воспринимать эту войну всерьез мешал тот факт, что она длилась уже триста лет.
О Фаргестане, расположенном на противоположном берегу Сиртского моря, в Синьории мало что известно. Под действием почти непрерывных волн завоеваний, накатывающихся на него со времен античности, — последним было монгольское завоевание — его население напоминает находящийся в постоянном движении песок, каждый слой которого, едва образовавшись, покрывается, сметается другим слоем, а цивилизация его похожа на варварскую мозаику, где поразительная изысканность Востока соседствует с дикостью кочевых племен. Возникшая на столь неустойчивом фундаменте политическая жизнь развивалась через резкие и непостижимые пульсации; то, оказавшись во власти междоусобиц, страна лишается всего и чуть ли не распадается на раздираемые смертельной родовой враждой кланы, то какой-то мистический порыв, зародившийся в сердце ее пустынь, сплавляет воедино все страсти, и тогда Фаргестан на время вспыхивает факелом в руках очередного честолюбивого завоевателя. В Орсенне о Фаргестане известно только то — к более фундаментальным знаниям там, в общем, и не стремятся, — что две страны — об этом узнают на школьной скамье — официально находятся в состоянии вражды. Три века назад — в те времена, когда Сиртское море было еще судоходным, — постоянное пиратство фаргийцев у берегов Орсенны вынудило ее организовать в ответ экспедицию, которая появилась у противоположного берега и нещадно обстреляла порты. После чего произошло несколько стычек, а потом военные действия, не подкрепленные ни с той, ни с другой стороны никаким сколько-нибудь существенным интересом, стихли и прекратились сами по себе. Судоходство в фаргийских портах на долгие годы было парализовано клановой войной, а судоходство Орсенны медленно погружалось в летаргию: ее корабли один за другим покидали не представляющее интереса море, по мере того как незаметно затихала торговля. В результате Сиртское море мало-помалу превратилось действительно в мертвое, пересекать которое никто уже и не помышлял; его обмелевшие порты принимали только каботажные суда малого тоннажа; известно, что в настоящее время Орсенна сохранила на этой разрушенной базе только сторожевые корабли, не предназначенные для наступательных операций, единственная функция которых заключалась в том, чтобы в сезон осуществлять контроль за губковым промыслом на отмелях. Однако в этом всеобщем оцепенении ни у одной из сторон не хватало ни стремления официально прекратить конфликт, ни настроения разрешить его с оружием в руках; ослабев и придя в упадок, Орсенна и Фаргестан тем не менее сохраняли чувство достоинства и гордости за свое долгое и славное прошлое и отнюдь не собирались поступаться принадлежащими им правами, отстаивать которые теперь для них не составляло никакого труда. Оба государства в разной мере воздерживались от первого шага к мирному урегулированию, отгородились друг от друга стеной мелочных обид и надменности и с тех пор старались, к обоюдному негласному удовлетворению, избегать какого бы то ни было контакта. Орсенна запретила своим судам выходить за пределы прибрежных вод, и есть все основания полагать, что аналогичные меры тогда же были приняты и Фаргестаном. Годы столь необременительной войны накапливались, и в конце концов в Орсенне негласно пришли к мнению, что любая мирная дипломатическая инициатива таит в себе риск оказаться чем-то чрезмерным в своей определенности, чем-то слишком резким и крутым, словно уже от одной только мысли о подобной акции мог вдруг заворочаться в гробу, да еще как-нибудь неудачно, труп давным-давно умершей своей смертью войны. Пользуясь подобной нечеткостью ситуации, можно было беспрепятственно и не боясь никаких опровержений говорить о блестящих победах и о незапятнанной чести Орсенны, что, кстати, являлось дополнительной гарантией всеобщего спокойствия; а дабы прочистить легкие последними воинственными кличами, ежегодно отмечалась годовщина дня бомбардировки вражеского побережья; и когда Сенат, пересмотрев свои прежние сметы, решил использовать отведенные первоначально на посольство кредиты для сооружения памятника адмиралу, который командовал военными действиями против Фаргестана, то все в Орсенне порадовались столь мудрому решению и ощутили, как через эти бронзовые уста фаргестанская война действительно испустила свой последний вздох.
Вот так благодушно и даже не без некоторой доли снисходительного подтрунивания смотрели обычно в Орсенне на историю с Фаргестаном. Однако существовал и иной подход.
Поражало, например, насколько непропорционально много места по сравнению со школьными учебниками занимала эта война в творениях поэтов, — эта несостоявшаяся, зауряднейшая война, без единого яркого эпизода, способного подстегнуть воображение. Причем, удивляло даже не столько навязчивое стремление поэтов делать ее предметом своих лирических порывов, сколько та бесцеремонность, с которой они, совершенно утратив чувство меры, добавляли к известным фактам третьестепенной войны все новые и новые эпизоды, словно обнаружив в этом источник беспрестанного омоложения своего гения. Этим ученым поэтам мощным эхом отвечала народная традиция: филологи даже смогли составить весьма внушительный каталог посвященных Фаргестану фольклорных произведений. Если поэты в своих стихах пытались исподволь оживлять этот исторический труп, то Синьория столь же неукоснительно заботилась о том, чтобы сберечь его в целости и сохранности на уровне официальных бумаг, переводящих на свой мертвый язык все совершающиеся изо дня в день события; ссылаясь на особые требования логики, она не позволяла отходить от сложившейся еще во время войны лексики: Сиртское побережье в кабинетах продолжали называть «Сиртским фронтом», жалкие остовы, за которыми мне предстояло присматривать, — «Сиртским флотом», изредка встречающиеся на Южной дороге селения — «Сиртскими этапами». Ни один листок не улетел из составленного в Канцелярии три века назад досье; в этом я смог убедиться, когда проходил обязательную стажировку в Школе дипломатического права: все претензии к Фаргестану, сформулированные в былые времена, дремали там, сохраняя свою первозданную остроту. «Их здесь семьдесят две», — подтвердил мне глава Южного департамента таким тоном, каким перечисляют имеющиеся на вооружении во флоте пушки, и по этому тону я понял, что названные семьдесят две претензии он навсегда включает в национальное достояние Орсенны и расстанется с этим сокровищем лишь тогда, когда будет расставаться с жизнью. В свете этих смутных признаков можно было бы поразмыслить о том, что как раз незаконченность этой войны — симптом неизлечимого падения артериального давления — и была главным ее своеобразием, которое еще иногда питало чье-то воспаленное воображение, словно кто-то взял да и устроил тайный заговор с целью удержать упрямыми руками в нелепо приоткрытом виде уже готовые естественным образом сомкнуться уста; словно кто-то вдруг решил непонятно зачем сохранить нелепую аномалию неудачного исторического события, не израсходовавшего всю содержащуюся в нем энергию, не выразившего в полной мере свою сущность.
Теперь мы ехали по гористой, заросшей лесами области, обрамленной на юге орсеннскими равнинами. Остатки римской каменной мостовой торчали местами на узких дорогах; иногда над ними нависал плотный зеленый свод из ветвей, переплетающихся с виноградными лозами, а за этим обрамлением, словно сквозь жерло каких-нибудь орудий, вырисовывалась по-утреннему синеватая перспектива с уходящими вдаль долинами. При виде всех этих пышных полей сердце переполнялось гордостью за зрелое великолепие и богатство Орсенны; над нами влага медленно стекала с ветвей и, как аромат, испарялась в прозрачном воздухе, проходя сквозь ниспадающую до самой дороги сетку солнечных лучей. Веяло переполняющим душу утренним покоем и радостным приятием чистой молодости. Как легким вином, наслаждался я этой плавной ездой через открытые поля, но думал не столько о зияющем будущем, сколько о привычной, родной, но уже обреченной жизни, которой полнилось мое сердце; я мчался во весь опор из родного города и полной грудью вдыхал Орсенну. Я думал о том, насколько все же крепки нити, привязывающие меня к этой стране, сравнивал их с привязанностью к женщине, пленяющей своей зрелой и нежной красотой; потом время от времени над этим меланхолическим умилением скользило, как холодное, резкое дуновение ветерка в теплой ночи, тревожное слово «война», и тогда столь чистые краски пейзажа вокруг меня начинали незаметно темнеть, предвещая грозу. Наконец эти лихорадочные и бесплотные мысли оставили меня — мы достигли Мерканцы, — и я принялся разглядывать ландшафт более внимательно.
После старой нормандской крепости дыхание юга стало ощущаться сильнее, а растительность заметно поредела. Витавшую над влажными лесами Орсенны паровую дымку сменила жестокая, светящаяся сушь, на фоне которой резко сверкали белые, низкие стены уединенных ферм. Местность вдруг выровнялась и выстлалась перед нами просторными голыми степями с едва выделяющейся, выжженной солнцем полоской дороги; быстрый ветер свистел в ушах, широкими волнами накатываясь на необъятные равнины. Эти чисто подметенные пейзажи с огромными стадами облаков на горизонте походили на морскую ширь еще и благодаря появлявшимся время от времени высоким нормандским сторожевым башням, беспорядочно, как маяки, рассеянным по голой равнине, по гладким степным пространствам. Из илистых водоемов выходили стада полудиких буйволов — многочисленные орды животных, ощетинившихся от налетевшего ветра, — и они рысцой, с высоко поднятыми рогами убегали прочь. Это была более вольная и более дикая страна, земля которой, позволяя прикоснуться к себе, казалось, формировала нашу скорость и давала почувствовать, как бы пощупать пальцем единственную строгую складку своего рельефа; она всасывала все глубже и глубже нашу несущуюся во весь опор машину, преодолевающую горизонт за горизонтом. На востоке поднялась ночь и надвинулась на нас, как грозовая стена; лежа на подушках с запрокинутой головой, я долгим взглядом погружался в сердце темноты, в спокойные созвездия, в безмолвный восторг; всматривался в отдаленные звезды, сверкающие и над Сиртом.
Когда я вновь оживляю в памяти начало своего пребывания в Сирте, ко мне неизменно возвращается острое, несоразмерно сильное ощущение смены обстановки, охватившее меня сразу по приезде тем сильнее, что ему предшествовало ощущение быстрой езды. Мы как бы плыли вниз по течению, по реке холодного воздуха, на которой пыльная дорога разбросала кое-где белесые пятна; по обе стороны дороги смыкалась густая тьма; я испытывал ни с чем не сравнимое ощущение, возникающее, когда едешь по этим удаленным от всего остального мира дорогам, где немыслима какая бы то ни было встреча, — осязание смутных и неопределенных форм, вдруг проступающих из тени и тут же возвращающихся в нее обратно. При отсутствии какого-нибудь видимого ориентира я чувствовал, как во мне нарастает какая-то инертность, связанная с нарушением ориентации и чувства расстояния, какая-то вялость, приостанавливающая нашу деятельность до выяснения нашего положения в пространстве, нечто вроде головокружения, охватывающего нас посреди дороги, когда нам случается заблудиться. На эту погруженную в сон без сновидений землю со всех сторон устремилось необъятное, оглушительное сверкание звезд, которое накатывалось на нее, как прилив, до боли обостряя слух своим сухим потрескиванием глубоких искр, заставляя прислушиваться к нему вопреки собственному желанию, как прислушиваются к очень отдаленному, скорее угадываемому шуму моря. Уносимый этим головокружительным бегом в глубины глубин чистой тени, я впервые купался в южной, неведомой для Орсенны ночи, как в глубинах таинства. Что-то мне было обещано, что-то мне приоткрылось; я входил, не получив никаких объяснений, в почти томительный для меня круг посвященных; теперь я ждал утра, устремляясь вперед своим незрячим взором, как идут с завязанными глазами к месту откровения.
И утро пришло, выглянув из-за чащи дождя и низко нависших над пустынной равниной туч. Жесткие толчки сотрясали машину на ободранной, паршивой дороге, изглоданной широкими неприглядными пятнами хилой травы. Эта дорога походила на неглубокую траншею. По обе стороны она казалась вырубленной под прямым углом на высоте человеческого роста в море плотного сероватого камыша, по которому до полного пресыщения скользил взгляд и который при каждом повороте дороги упорно заслонял стеной один за другим все пути. И сколько я ни смотрел сквозь окружавшее меня жидкое марево, мне не удалось обнаружить ни единого дома, ни единого деревца. Дряблая, пористая заря иногда пронзалась косыми проблесками света, ковыляющими по низким облакам, подобно световому лучу маяка, обшаривающему просторы. Тревожная пронзительная близость дождя, сбивающая с толку робость первых неуверенных капель ливня заслоняли собой смутное ощущение одиночества, делали более резким льющийся потоками аромат мокрых листьев и застоявшейся воды; на мягком войлоке песка каждая капля отпечатывалась с изящной отчетливостью, свойственной более живым, чем дождевые капли, бусинкам, которые срывались с листьев. Слева, недалеко от дороги, море камышей обступало солончаки и пустые лагуны, покрытые острыми складками серого песка, на которые в тумане лениво наползали языки пены. Подозрительная молчаливость пейзажа становилась особенно явственной из-за дождя, который то внезапно кончался, то нерешительно шел снова из-за создаваемого этими неровными интервалами ощущения напряженного ожидания. Освещенная мрачноватым светом, закутанная в сонную влажность и в тепловатый дождь, машина катилась теперь более осторожно, что придавало нашему подозрительному путешествию какое-то мимолетное сходство с вторжением. Эта вялая войлочная обивка приближающегося к завершению кошмара отодвигала происходящее в глубь веков, в неопределенную размытость контуров, в хранящую свои тайны доисторическую прерию с ее горячим и влажным дыханием, с ее высокими, удобными для засад травами.
Прошло уже много времени, а мы все катились и катились по этим дремотным землям. Время от времени из камышей стрелой взлетала серая птица и терялась где-то высоко в небе, монотонно крича и подпрыгивая в воздухе, как мячик, выталкиваемый из фонтана струей воды. Спустившаяся в котловину длинная и узкая, как рожок, полоса тумана прорезала марь спокойным гудением на два голоса. Иногда порыв ветра извлекал из камыша тоскливый шелест, и с мертвой, лишенной красок поверхности лагун поднималась вверх испарина. Что-то задыхалось за этим рассеянным по пустырям туманом, словно чей-то рот под подушкой. Траншея вдруг опять стала дорогой, из уплотнившегося тумана выступила серая башня, лагуна со всех сторон устремилась к нам навстречу и стала полировать края проходящего рядом с водой шоссе, несколько призраков зданий обрели реальность: это был конец нашего путешествия, мы подъехали к Адмиралтейству. Влажная дорога слабо поблескивала; рядом с силуэтом, который размахивал фонарем, указывая машине извилистый путь сквозь стену тумана, возникли матросский плащ, старая форменная фуражка и искрящиеся брызгами жесткие, короткие усы: капитан Марино, комендант Сиртской базы.
В Орсенне мне говорили о нем мало, да и то (суетность секретных служб проявилась здесь как нельзя более убедительно) неприятно легкомысленным тоном, с той пренебрежительной развязностью, с которой обращают внимание на черточку характера мельком встреченного в свете персонажа, говорили как о человеке просто-напросто «скучном». Подобной обобщенно-негативной характеристики до настоящего времени мне вполне хватало, чтобы держать его где-то на заднем плане. И вот теперь он стоял передо мной: массивный силуэт, появившийся из дождя, весьма реальный контур, вырисовывавшийся наконец из всего этого фантасмагорического марева; нам предстояло существовать с ним бок о бок; я вдруг живо ощутил, что пожимаю руку совершенно незнакомого человека. Рука у него была сильная, медлительная и доброжелательная, прием был оказан любезный, а в голосе сквозила добродушная насмешливость, дабы сразу же, с порога я почувствовал себя непринужденно, несмотря на некоторую двусмысленность ситуации. Мне стало ясно, что размолвок между нами в связи с моими своеобразными функциями не возникнет — а это было очень важно, — но мне также показалось, что он пока еще не все о них знает. В его быстром и остром взгляде была скрытая проницательность, контрастировавшая с низким, сильным, успокаивающим голосом, а спокойная мимика лица и сжатый рот свидетельствовали о явной выдержке и сдержанности. Его глаза, затененные низко надвинутым козырьком, были цвета холодного серого моря; на обветренной руке, в которой он подчеркнуто долго задержал мою руку, не хватало двух пальцев. Капитан Марино окончательно вышел из тумана, и какой-то внутренний голос шептал мне, что заставить его погрузиться туда вновь теперь будет нелегко.
Появившееся таким вот образом из призрачного тумана, возникшее на берегу пустынного моря, обрамленного степными травами, Адмиралтейство представляло собой необычное сооружение. Впереди нас, за участком земли, поросшим чертополохом и огороженным несколькими длинными, низкими домами, туман расширял контуры этой разваливающейся крепости. Она выступала из-за уже наполовину засыпанных землей рвов — мощная, тяжелая серая масса с гладкими стенами, с редкими бойницами для стрельбы из лука и амбразурами для пушек. Тем временем дождь полировал ее поблескивающие стены. Тишина была как на потерпевшем кораблекрушение обезлюдевшем судне; не слышно было даже шагов часового на окружающей крепость заболоченной тропе; пучки усеянной брызгами травы там и сям буравили покрытые серым лишаем парапеты; свалка сползающего в ров мусора дополнялась кусками искореженного железа и черепками. Потайной вход в крепость давал некоторое представление о невероятной толщине ее стен: славные времена Орсенны запечатлели свои вензеля на этих тяжелых, низких сводах, где ощущались дух былого величия и дыхание плесени. Из раскрытых на уровне мостовой амбразур, над пучиной неподвижного пара, откуда вверх поднималось ледяное дыхание тумана, зияли пушки, украшенные гербами прежних правителей города. Почти гнетущая атмосфера заброшенности царила в пустых коридорах, испещренных длинными селитровыми подтеками. Мы стояли молча, словно видели в кошмарном сне этого разбитого параличом колосса, эту обитаемую развалину, название которой, Адмиралтейство, звучало как ирония, унаследованная от сна. Дольше всего эта приводящая в оцепенение тишина задержала нас у одной амбразуры, и этот момент запомнился мне благодаря жестам, которые впоследствии стали казаться в высшей степени характерными: всматриваясь в морскую даль, мы были избавлены от необходимости смотреть друг на друга; небрежно прислонившись к лафету огромной пушки, Марино вытащил из кармана трубку и долго стучал ею по ручке замка. Сквозь туман к нам пробился желтый луч, а из внутренних дворов до нас внезапно донеслось мирное кукареканье петуха — незлобивая шутка в этом жилище циклопа, и тут я услышал неожиданно прозвучавшее у меня над ухом очень короткое и очень сухое «вот!», которым Марино как бы подвел черту под нашим осмотром, а затем разрушил чары, сильнее застучав каблуками своих сапог.
Тем временем туман начал окрашиваться в чернильный цвет: наступала ночь. Капитан Марино представил мне трех офицеров, служивших под его началом, — командиров Сиртской флотилии. По случаю моего прибытия ужин в качестве исключения был подан в одном из казематов крепости; потом, в повседневной рутине, этого инстинктивно избегали, дабы не тревожить сновидений: похоже, легендарные бастионы наводили страх на обыденную жизнь. Беседа под этими сводами с тревожным эхом завязывалась плохо; меня забрасывали вопросами об Орсенне, которую я покинул накануне, — Орсенна была далеко; я смотрел, как прямые струйки дыма от праздничных факелов тянутся к низко нависшим голым камням; я вдыхал холодный запах подвала, запах плесени, идущий от каменного пола; слушал, как тяжелые, обитые железом двери пробуждают в коридорах эхо. В слабом, театральном освещении лица присутствующих были с трудом различимы, как в дымке; скованность, напряженность первой встречи усугубляли странное ощущение нереальности происходящего; во время пауз, которые Марино не пытался заполнить, лица приглашенных казались мне каменными, на какое-то мгновение обретали жесткий абрис, превращались в суровые лики старых портретов героической эпохи, висящих во дворцах Орсенны. Настало время тостов, и самый молодой из офицеров пожелал мне: «Добро пожаловать на Сиртский фронт», а Марино, услышав привычное выражение, поднял свой бокал к губам, в изгибах которых таилась явно ироническая улыбка. Мне отвели помещение в командирском флигеле, оказавшемся простым приземистым домом с грубо мощенным полом, в длинных, почти пустых, влажных комнатах которого витал все тот же холодный запах плесени. Я распахнул в ночной мрак окно своей спальни — оно выходило на море — и сквозь непроницаемую темноту почувствовал доносившуюся от лагун слабую пульсацию. Меня заинтриговали большие тени, заметавшиеся на стене в такт колебаниям пламени; я задул свечу и спрятался в оболочку из шершавых, грубых простыней, спрятался в плесневелый запах савана. На меня вновь навалилась темнота, в которой я различал слабый шум волн; чувствуя состояние легкой вечерней дремоты, я ущипнул себя за руку: я был в Сирте. Сквозь тишину до меня отчетливо доносились лай собаки, возня и писк на птичьем дворе. Заснул я почти мгновенно.
Палата карт
В Адмиралтействе легче, чем в любом другом месте, можно было почувствовать, насколько политика мелочного шпионажа в пользу Синьории изжила себя. Стоило мне только подняться на сигнальную башню и бросить оттуда взгляд на Сиртскую базу, как я представил всю степень ее необратимой деградации. Напротив крепости обваливающийся и заросший травой мол прикрывал собой жалкий порт, в глубине которого во время отлива можно было видеть большие, заполненные илом лужи. В самом конце мола, там, где он расширялся, высилась угольная пирамида; уголь из нее брали настолько редко, что в конце концов ее завоевали, заполонили сорняки и даже кусты, приобщавшие ее к пейзажу, как какой-нибудь террикон возле заброшенной шахты. Два мелкотоннажных ветхих сторожевых судна стояли на якоре у мола, а ближе — три или четыре моторные рыбачьи лодки, буксующие при отливе в лужах. В глубине порта виднелась наклонная плоскость, по которой можно было поднимать лодки в сарай для ремонта. Узкий пролив, петлявший между лагунами и зарослями камыша, соединял порт с открытым морем. Обычно порт выглядел погруженным в глубокий сон; только зной колыхал в эти еще жаркие, предшествующие сезону дождей дни желтую траву на молу; не слышно было даже плеска волн у набережной; только иногда, при появлении какого-нибудь патруля, из трубы «Грозного» появлялась тонкая струйка дыма; злые языки в Адмиралтействе утверждали, что этот дым предвещает бури — явление для Сирта редкое, — и капитан Марино с его миролюбивой философией не усматривал здесь никакого подвоха. Небольшая часть экипажей жила на суше, в стоящих рядом с крепостью зданиях; остальные же — в связи с уменьшением служебных обязанностей и с сокращением притока рабочей силы на эту пустынную окраину — обычно рассредоточивались по редким укрепленным фермам, разбросанным на окрестных землях, и пасли там огромные отары полудиких овец — орсеннская администрация, радуясь достигаемой таким образом экономии средств, отпускаемых на содержание этой смехотворной базы, с давних пор закрывала глаза на столь невоинственное поведение ее персонала. Поэтому капитана Марино легче было увидеть не на капитанском мостике «Грозного», а на коне и при шпорах, отправляющимся ранним утром в дальние поездки по степям и проводящим время в щекотливых беседах о жалованье и жилье со скуповатыми фермерами; все чаще и чаще он выступал не в роли моряка, а в роли управляющего мирного предприятия по распахиванию целины. В результате все то, что касалось бюджета и бухгалтерских дел, заняло в деятельности Адмиралтейства главное место: Сиртская база превратилась в причудливое рентабельное предприятие, кичащееся перед столичными кабинетами не столько своими военными подвигами, сколько своими доходами; мало-помалу скрупулезное ведение бухгалтерии и умелое распределение рабочей силы стали краеугольными камнями, служившими Синьории ориентирами при оценке способностей ее офицеров. Так что коммерческий гений Орсенны постепенно обратил себе на пользу военную дисциплину, которая по природе своей должна была бы энергично противостоять ему; причем даже на этом маленьком наблюдательном посту было заметно тревожное и все нарастающее оцепенение: сказывалась тяга к земле, тяга к спокойной жизни, ограниченной узким горизонтом и лишенной приключений. Сидя однажды безукоризненно чистым ранним утром — утренние часы являются украшением сиртской осени — на одном из зубцов крепости, я мог видеть по одну сторону крепостных стен пустое море и освещенный солнцем пустынный порт с его словно проказой изъеденными илистыми берегами и одновременно — по другую сторону — Марино, едущего на коне во главе какого-то отряда наемных пастухов; я касался рукой тяжелых раскаленных камней, знакомых с дыханием пушечных ядер, и ощущал, как во мне поднимается волна печали: мне казалось, что слепой колосс из-за чьей-то измены умирал сейчас вторично.
При таком состоянии застоя мои функции наблюдателя обещали быть не слишком обременительными. Убедиться, что наблюдать в Адмиралтействе совершенно не за чем, было очень легко; чтобы не оказаться в смешной ситуации и разогнать немного скуку затворничества, надо было попытаться приручить своих подопечных, таких с виду безобидных. Роберто, Фабрицио и Джованни, три находившихся под началом Марино лейтенанта, были моими ровесниками, скучавшими в изгнании и думавшими прежде всего о своих выходных днях в Маремме, ближайшем городке, куда они отправлялись в адмиралтейской машине; потом, во время совместных ужинов, эти таинственные поездки становились предметом обсуждений и бесконечных шуток: ведь в Адмиралтействе женщин не было. Я быстро подружился со всеми троими, находя особое удовольствие в обществе Фабрицио, прибывшего в Орсенну совсем недавно и так же, как и я, озадаченного сонливой инертностью этого пасторального гарнизона. Роберто и Джованни проводили большую часть своего времени, спрятавшись по пояс в камышах и постреливая перелетных птиц, которые водились в здешних болотах в изобилии; сидя на солнце с книгой в руках у какой-нибудь амбразуры крепостной стены, мы с Фабрицио следили издалека за их скрытым от взора движением, угадывая его по четкой последовательности мирных разрывов в воздухе: легкий голубой дымок поднимался над неподвижными камышами; хриплые крики морских птиц, при каждом выстреле взмывавших вверх в золотистом воздухе завершавшейся осени, раздирали душу. Наступал вечер; стук копыт по шоссе вдоль лагун возвещал о том, что капитан возвращается с какой-нибудь отдаленной фермы; легкий гомон, стоящий в казармах во время вечерней трапезы, оказывался последним мимолетным намеком на присутствие жизни в Адмиралтействе. Вечер собирал нас всех пятерых перед пышной грудой золотистой дичи; мы любили эти вечерние трапезы, это шумное и сердечное застолье; большое пространство сгустившегося вокруг нас пустого мрака как бы прижимало нас еще теснее друг к другу внутри этого оазиса теплоты и задушевности. В атмосфере бурлящей молодости таяли почти монашеская сдержанность и неразговорчивость Марино; ему нравилась наша веселость, и в те дни, когда туман обволакивал нашу маленькую гавань, когда нами овладевали грусть и растерянность, он первым требовал подать к столу кувшин терпкого сиртского вина, которое здесь хранят, как в античные времена, заливая слоем масла. Ужин завершался, и Джованни, наш охотник, кашляя в уплотнившемся от сигарного дыма воздухе, предлагал прогуляться по молу. Соленая свежесть неподвижно висела над застоявшейся водой; в конце мола слабо мигал фонарь; за нами на лагуну ложилась навязчивая, как призрак, тень крепости. Мы садились, свесив ноги, вдоль набережной, под которой еле-еле пульсировал прилив; Марино раскуривал свою трубку, смотрел, прищурившись, на облака и с видом знатока сообщал погоду на завтра. За этим, всегда безошибочным, прогнозом следовала многозначительная пауза, напоминающая секунды молчания во время спуска флага, — так завершалась вечерняя церемония. Голоса становились более монотонными; наш крохотный колос терял одно за другим свои зерна; одна за другой хлопали двери среди безмолвных стен. Я открывал окно навстречу соленой ночи: спали все пятьдесят лье побережья; фонарь в конце мола, отражаясь в спящей воде, светил бесполезно, как свеча, забытая в глубине склепа.
В такой отрезанности от всего остального мира была своя прелесть. Донесения, которые я время от времени посылал в Орсенну, были весьма коротки, но зато я писал очень длинные письма друзьям. В эти ясные, спокойные дни иногда мне вдруг начинало казаться, что слабая пульсация этой вот маленькой частицы дремлющей жизни, трепещущей на краю пустыни, отзывается у меня в самом сердце. Облокотившись о крепостную стену с ее пучками сухой травы, свисающими над пропастью, я единым взглядом охватывал все это хрупкое пространство: муравьиное движение людей, изредка снующих туда-сюда, дребезжание повозки, сухой отрывистый стук молотка в сарае в первозданном виде доходили до меня сквозь вибрирующий, подобно колоколу, воздух — в этом привычном, хорошо знакомом мне окружении я чувствовал себя уютно, и все же от всей этой бесхитростной деревенской суеты веяло какой-то тревогой, и было в ней что-то похожее на зов. Казалось, над дремотностью этого смиренного копошения, за которым я, словно с облака, следил со своего наблюдательного пункта, всей своей массой тяготело какое-то сновидение; когда я задерживался на нем взглядом подольше, то чувствовал, как во мне возникает ощущение странности происходящего, ощущение, подобное тому, которое заставляет нас затаив дыхание следить за суматохой муравейника, живущего как будто чисто бессознательной жизнью, под занесенным над ним каблуком. Тогда я мысленно возвращался к Марино и к моему первому осмотру крепости; у меня перед глазами вставал его жест-заклинание, его успокаивающее постукивание трубкой по казенной части пушки, и у меня внезапно возникало острое чувство его веского и покровительственного присутствия внутри этой крошечной колонии. Он же сам и был ее спокойной пульсацией; я видел, как его неуклюжая честная рука осторожно отгоняет тени, нависшие над бесхитростной жизнью; я чувствовал, как сильно я от него отличаюсь и как сильно я его люблю.
Я жил без правил. Времяпровождение в Адмиралтействе не было для нас монотонным; связанное с нашей замедленной и весьма неоднозначной деятельностью, подчиненное превратностям погоды и капризам моря, оно несло на себе печать крестьянского разнообразия и сезонности, и мне легче, чем кому бы то ни было, удавалось избегать малейшей его регламентации. В первые дни я даже страдал от чрезмерной свободы и от незаполненности существования; поначалу я с жаром включился в те неистовые развлечения, которые помогали нам коротать мучительные часы одиночества: мы били гарпунами заплывавшую в лагуны крупную рыбу, гонялись за зайцами, пуская лошадей в галоп по оголенным степным пространствам. Иногда нас приглашали на соседнюю ферму для участия в регулярно устраиваемых облавах на кроликов, опустошающих и без того скудные овечьи пастбища; это служило поводом для больших праздников, во время которых мы до поздней ночи беседовали и пили вино при свете факелов. От нашей дневной добычи, сваленной на гумне в высокую груду, в вечернем воздухе распространялся сильный запах диких животных. Мы возвращались верхом на лошадях, усталые и сонные; в то время как над степью занималась заря нового дня, свет бледнеющего на горизонте пожара возвещал о завершении еще одной облавы. Я был не очень вынослив; после подобных развлечений у меня болело все тело и в сердце замирала пустота; пытаясь убежать из Орсенны в эту грубую, здоровую жизнь, я преуспел лишь отчасти. Однако мало-помалу она стала окрашиваться для меня в один необычный цвет; праздность первых дней помимо моей воли начала организовываться вокруг некоей субстанции, которую нельзя было больше считать таинственным центром притяжения. Подобно тому как ребенка притягивает к себе какой-нибудь обнаруженный в развалинах тайник, меня привязывала к себе крепость с ее секретами. Когда в середине дня жара становилась невыносимой и наступал час полуденного отдыха, Адмиралтейство пустело; я же именно в этот час, никем не замеченный, пробирался вдоль рва через заросли чертополоха к потайной двери. Длинный сводчатый коридор и сырые разрушающиеся лестницы вели меня во внутреннее помещение крепости, на мои плечи ложилось покрывало могильной сырости — я входил в палату карт.
С того самого первого раза, когда, обследуя лабиринт проходов и казематов, я из чистого любопытства толкнул ее дверь, то ощутил, что мною постепенно овладевает чувство, определить которое можно, только сказав, что оно принадлежит к разряду тех чувств (говорят, что в самом центре России есть такие степи, причем самые что ни на есть обыкновенные, где стрелка компаса, когда по ним проезжаешь, начинает вдруг неожиданно отклоняться), которые заставляют отклоняться стрелку того невидимого компаса, что ведет нас по стезе безмятежной жизни, и вдруг ни с того ни с сего указывают вам притягательное место, куда следует идти не сопротивляясь. Что в первую очередь поражало в этой длинной и низкой сводчатой палате, так это просто необыкновенная чистота и неукоснительный, маниакальный порядок, царившие посреди пыльной обветшалости разрушающейся крепости, высокомерный вызов увяданию и вырождению, великая и одновременно разрушительная способность быть одним в поле воином, удивительное и сразу бросающееся в глаза стремление остаться во что бы то ни стало готовой послужить. Внимая скрипу дверных петель, впускающих в это бдительное одиночество, я чувствовал себя смущенно, словно выходил из экипажа на торжественный обед, на который еще не собрались гости, и испытывал легкий шок, какой испытываешь, когда, толкнув дверь вроде бы пустой комнаты, вдруг обнаруживаешь там кого-то затаившегося и подслушивающего, видишь окаменелое, растерянное, отсутствующее и зловещее, как у слепца, лицо.
Комната была не то чтобы темной, но свет, проникающий через стекла витражей, потерявших прозрачность из-за бугрящих их поверхность пузырей, казался каким-то неопределенным, словно постоянно тускнеющим; царившая там в любое время дня полутьма как бы содержала в себе в растворенном виде застойную печать сумерек. В комнате стояло несколько рабочих столов из полированного дуба; у стен располагались шкафы из темного дерева, где находились книги — почти исключительно фолианты с выцветшими переплетами — и старинные навигационные инструменты. У задней стены зала, вдоль другого ряда шкафов, украшенных проволочной сеткой, проходила достигавшая середины свода узкая, легкая галерея. Голые стены, карты полушарий, запах пыли, неровные, как ладонь, ветхие столы со следами полировки и бесконечными зазубринами вызывали ассоциации с классной комнатой, но толщина стен, монастырская тишина и плохое освещение подсказывали, что изучали в этом помещении какую-то особую, нынче уже совсем забытую науку. Это еще первое пока впечатление почти тут же было омрачено другим, более озадачивающим: в комнате как бы сохранялось что-то от той тяжелой атмосферы, от того духа увядшей, застоявшейся мысли, которые обычно держатся в местах, где на стенах вывешивают записанные обеты. А когда, словно влекомый смутным чувством аналогии, я делал несколько шагов к центру комнаты, взгляд вдруг завороженно останавливался на внезапно возникающем посреди блеклых чернильных разводов и пыли большом пятне свежей крови на правой стене — это было большое знамя из красного шелка, жесткими складками струящееся вдоль всей стены; то была эмблема Орсенны — стяг святого Иуды, реявший на корме адмиральской галеры во время фаргестанской кампании. Перед ним возвышался длинный помост со столом и единственным стулом, который в этой чем-то напоминающей западню комнате сразу становился точкой прицела и центром притяжения охотничьих интересов. Тот же самый магический и иррациональный голос, что призывает нас сесть на трон в заброшенном, превращенном в музей дворце или в кресло судьи в пустом помещении суда, звал меня и к этому стулу; на столе лежали карты Сиртского моря.
Я садился, всегда с некоторым волнением — помост как бы притягивал к себе слушателей, — но потом оставался на нем, словно заговоренный. Передо мной белой скатертью простирались бесплодные земли Сирта с точками редких изолированных ферм и с тонкой кружевной каемкой стрельчатых изгибов лагун по краям. Вдоль берега, на некотором расстоянии от него, по морю бежала черная пунктирная линия — граница патрульной зоны. Еще дальше — сплошная ярко-красная линия, которая издавна с молчаливого согласия обеих сторон принималась за пограничную линию и которую навигационные инструкции запрещали пересекать под каким бы то ни было предлогом. Орсенна и обитаемый мир кончались на этом неприкосновенном рубеже, тем более возбуждающем мое воображение, чем более забавной казалась мне абстрактность этой линии; вновь и вновь скользя взглядом по красной черте, подобно птице, с удивлением видящей прочерченную ею на земле линию, я наполнялся чем-то вроде абсолютной уверенности и чувствовал, как она постепенно обретает для меня некую причудливую реальность: не желая себе в этом признаться, я был готов поверить в конкретные чудеса, будто бы происходящие на этой опасной грани, готов был увидеть прорезающую море глубокую расщелину, некие предупреждающие знаки, вспоминал о переходе через Красное море. А далеко-далеко за ней, в удивительном удалении от этой магической зоны простирались неведомые пространства Фаргестана, теснящиеся, как святые земли, в тени вулкана Тэнгри; то были порты Раджес и Транджес, кольцо городов, навязчивые названия которых, проходя сквозь мою память, закручивались в колечки, сплетались в гирлянды: Геррха, Мирфея, Таргала, Ургазонте, Амикто, Сальманоэ, Дирчета.
Иногда я часами не уходил от стола, стоял перед ним, опершись обеими руками на карту, и пребывал в какой-то гипнотической неподвижности, не обращая никакого внимания на мурашки в затекших ладонях. Казалось, что от карты исходит легкий шелест и наполняет собой эту закрытую комнату, тихую, как западня. Раздававшийся иногда скрип деревянной окантовки карты заставлял меня отрывать от нее взгляд, и тогда, подобно навещающему по ночам свое сокровище скупцу, который ощущает в руке кишение драгоценных камней и видит в темноте их слабый отблеск, я беспокойно всматривался в тени, как если бы в монастырской тишине неосознанно подстерегал какую-то таинственную, бодрствующую силу. Голова моя была пуста, и я чувствовал, как мрак вокруг меня просачивается в комнату, наполняет ее тяжестью, той тяжестью, с которой откидывается во сне голова спящего человека или идет ко дну корабль; и я стоя погружался вместе с ней, подобно наполненному тишиной глубинных вод обломку потерпевшего кораблекрушение судна.
Однажды вечером, когда я собирался покинуть комнату после более долгого, чем обычно, пребывания, меня внезапно разбудили тяжелые шаги по каменным плитам, и я, даже еще не успев ни о чем подумать, стремительно принял позу человека, обнаружившего нечто интересное, хотя поспешность, с которой это было сделано, теперь уже не позволяла мне обманываться и подсказывала, что меня застали на месте преступления. Капитан Марино вошел и сначала не заметил меня; повернувшись ко мне своей широкой спиной, он неторопливо, с бесцеремонностью, встречающейся у привыкших к одиночеству ночных сторожей, закрыл дверь. И я действительно на какую-то долю секунды, в тот момент, когда комната яростно исторгала его из себя, испытал то же чувство глубокого недоумения, которое появляется при виде ковыляющего по музею ночного сторожа. Он сделал еще несколько шагов, несколько медленных и неловких шагов моряка, поднял фонарь и увидел меня. В течение секунды мы смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Прежде всего я заметил, как на его угрюмом и отрешенном лице появилось странное выражение, причем даже не удивления, а какой-то внезапной печали, мудрой и проницательной, такой, какую можно видеть у стариков накануне их последней болезни, — печали, как бы освещенной лучом некоего таинственного знания. Он поставил фонарь на стол и, отведя взгляд в сторону, приглушенным голосом, голосом даже более тихим, чем подсказывал полумрак комнаты, сказал мне:
— Ты слишком много работаешь, Альдо. Пошли-ка ужинать.
И мы пошли к потайной двери, храня неловкое молчание, а над нами раскачивались огромные тени, которые фонарь отбрасывал на своды.
Это незначительное происшествие стало с такой настойчивостью занимать мои мысли, что в конце концов потрясло меня. Вытянувшись на своей кровати в средоточии могильной тишины, я пытался в первую очередь припомнить именно выражение внезапной печали, словно ставнем вдруг закрывшее его лицо, а также имеющую особый смысл интонацию его голоса, заставлявшую меня по-прежнему вслушиваться в нее, как в какую-нибудь фразу с богатым подтекстом. Часами я прокручивал в памяти его лишенный эха тихий голос, и вот наконец в одно прекрасное утро меня неожиданно осенило: Марино и раньше знал о моих частых посещениях палаты карт и в глубине души осуждал их.
Это незначительное событие заняло в моем сознании больше места, чем оно того заслуживало, и в конечном счете из-за него в моих отношениях с Марино наметилось нечто вроде сообщничества — или, может быть, это было только в моем воображении, — и я стал бессознательно наблюдать за малейшими его проявлениями. Вскоре я смог убедиться — хотя ни он, ни я никогда не заговаривали об этой ночной встрече, — что Марино ее не забыл. В конце ужина, посреди всеобщего веселья, которое он любил создавать и поддерживать и во время которого его обветренное лицо слегка багровело, я видел в его взгляде, на мгновение задерживающемся на мне, что-то вроде легкой зазубринки, какую-то тень замешательства, зачеркивающую меня, перескакивающую через меня, исключавшую меня из единства веселой компании, словно отныне наше общение могло развиваться лишь в одном-единственном направлении, продвигаться по которому можно было лишь с трудом.
Моя жизнь постепенно менялась. Я отправился в эту ссылку, испытав внезапно потребность в самоограничении, — она дала мне равновесие. Я не сожалел об утраченных наслаждениях Орсенны. Я почти не покидал Адмиралтейство и удивлял Фабрицио, когда отказывался от легких удовольствий и от любви на час, за которыми он почти каждую неделю отправлялся в Маремму. Мне это было больше не нужно. Почти ничем не оправданные лишения, на которые я обрекал себя, отправляясь в Сирт, все эти добровольно приносимые мной неоправданные жертвы казались мне залогом какого-то неясного еще вознаграждения. Пустота этой жизни, сопряженная с лишениями и подчиненная строгим правилам, как бы вознаграждалась предвкушением и обещанием гораздо более значительных чувств, нежели те жалкие либо, напротив, утонченные чувства, что волновали меня в наполненной праздниками орсеннской жизни. Это мое непритязательное существование со всей его очевидной бесполезностью явно предназначалось для чего-то такого, что в конечном счете должно было оказаться достойным подобного приношения; оно отвергало заурядные подпорки, но, как бы кренясь над зияющей пропастью, требовало контрфорсов, равновеликих его устремленности к бездне. Его унылое очарование состояло в способности обманывать надежды ждущего; его напряженные усики, нечувствительные к спокойным ароматам земли, поджидали вольное морское дыхание; в нем звучал крик вахтенного, призыв к уже зреющему эху, зарождающемуся в предельной напряженности настраивающегося на него слуха. Тот задремавший было корабль, который Марино изо всех сил старался поставить на якорь рядом с берегом, под воздействием моего свежего взгляда вдруг начинал разворачиваться и брать курс на горизонт; у меня было смутное ощущение, что его застывшие навигационные данные обещаны мне, — я уже чувствовал подошвами его дрожь, как мостик славного корабля внезапно чувствует шаги отважного капитана. В Адмиралтействе все спало, но спало тяжелым, беспокойным сном, как в ночь, когда случаются чудеса и сбываются пророчества; я разжигал эту новую жизнь, рождавшуюся из моего терпения; я чувствовал, что принадлежу к породе тех вахтенных, чье бесконечно обманываемое ожидание питает своими могучими родниками уверенность в том, что событие грядет.
Я с нетерпением ждал выходных, когда машина отправлялась в Маремму и когда Адмиралтейство на несколько часов пустело, оставляя меня в качестве единственного хозяина таинственной земли, в недрах которой для меня одного слабо поблескивало зарытое сокровище. В тишине своих пустых казематов и коридоров, спрятанных, как галереи шахт, в глубокой каменной толще, крепость, избавленная от безразличных взглядов, вновь обретала реальность сновидения. Мои невесомые, тихо ступающие ноги бродили по коридорам, подобно призракам, чьи неуверенные и одновременно целенаправленные шаги осваивают знакомую, но забытую дорогу; я двигался по крепости, как некая слабая жизнь, излучающая отраженный несколькими зеркалами свет, сила которого удваивается, оказавшись вдруг в таинственном фокусе. Шаги несли меня к той амбразуре, где мы с Марино задержались во время моего первого посещения. Вместо закрывшего ее в тот день хмурого тумана я часто видел там яркое солнце, вырезавшее своими лучами на полу похожий на печную топку пылающий квадрат резкого света. Из глубин полумрака этой подвешенной в небе кельи я до пресыщения наблюдал, как в обрамлении исполинских камней колышется цельная, густая, ослепительная алмазно-синяя пелена, которая, как в морском гроте, завязывает и развязывает солнечные петли на серых камнях. Я усаживался на казенную часть пушки. Скользя по огромному бронзовому стволу, мой взгляд ласкал его искристый блеск и его наготу, продолжал застывший порыв металла, метил вместе с ним в неподвижную цель жесткого морского горизонта. Я отводил глаза и всматривался в пустое море, где каждая волна, скользя бесшумно, как язык во рту, как бы стараясь стереть само отсутствие всякого следа, повторяла один и тот же незавершенный жест чистого стирания. Я ждал, не признаваясь себе в этом, какого-то сигнала, который бы извлек из этого беспредельного ожидания подтверждение чуда. Я мечтал о парусе, рождающемся из морской пустоты. Я подыскивал этому вожделенному парусу имя. Быть может, я уже нашел его.
Эти часы молчаливого созерцания текли, как минуты. Море темнело, горизонт заволакивала легкая дымка. Я возвращался вдоль дозорной тропы, как с какого-нибудь тайного свидания. За крепостью простирались уже совершенно серые, выжженные сиртские поля. Стоя на куртине, я подстерегал момент, когда появится облачко пыли над дорогой, предвещающее возвращение из Мареммы машины. Она долго виляла между редкими кустами, крошечная, привычная, совсем прирученная, и я чувствовал, что Марино не нравится мой приветственный жест, который я подавал с крепостной стены, как дозорный со своей вышки, миролюбивым путешественникам, возвращающимся домой.
Когда я мысленно возвращаюсь к тем, с виду таким пустым дням, мне никак не удается припомнить какой-нибудь укол шипа, хоть какой-нибудь знак, которые давали повод держать меня в такой странной тревоге. Не происходило буквально ничего. То было легкое первое напряжение, инъекция неосязаемого и тем не менее постоянного предостережения, нечто похожее на ощущение, возникающее, когда тебя рассматривают в подзорную трубу, нечто вроде зуда в позвоночнике, появляющегося, когда ты сидишь за рабочим столом спиной к двери, распахнутой в пустой коридор пустого дома. Я ждал этих праздных воскресений, надеясь, что они сообщат дополнительное измерение, дополнительную глубину моему слуху — так люди пытаются читать будущее в прозрачнейших хрустальных шарах. Они приоткрывали мне тишину ночей накануне сражения, тишину поста подслушивания, и мне казалось, что твердое каменное ухо, как медицинская банка, присасывается к нечеткому, горькому дыханию моря.
Эти тайные свидания незаметно отдаляли меня от моих приятелей. Поездки в Маремму обсуждались в конфиденциальных беседах за столом, служили поводом для разного рода таинственных намеков, сопровождаемых приглушенными смешками; подчиняясь странному капризу, выдававшему безумные нравы орсеннской знати, некоторые столичные семейства приезжали в этот захолустный городок на конец летнего сезона; Фабрицио и Джованни усердно посещали их. Так в разговоре стали появляться знакомые мне имена; Фабрицио произносил их с оттенком иронической почтительности, и я почти физически ощущал, как в этот самый момент они, подобно уникальным драгоценностям, на миг оказавшимся на ладони, переливаются романтическим блеском, присущим древней аристократии и иной, более бурной жизни; даже глаза Марино на мгновение становились более внимательными — в моих же ушах звучание этих приевшихся имен отдавалось скукой и сильнейшим разочарованием; слыша их в разговоре, я испытывал то же раздражение и неловкость, какие должен испытывать путешественник, уехавший в дальние страны и встретивший вдруг своих деревенских соседей. Мне случалось сухо прерывать рассказ Фабрицио о каком-нибудь пикнике или о прогулке по лагунам и злым замечанием тревожить на пьедестале кое-кого из обожествляемых им аристократов. Я изничтожал Орсенну своим презрением; я парил над нею высоко-высоко; я сердился на Фабрицио и Марино, разделявших со мной внешние проявления моей тайной жизни, за то, что они в своем восхищении этой жалкой пародией на более возвышенное существование вместе с собой принижают и меня. Однажды вечером, выслушивая благоговейное описание загородного дома семейства Альдобранди, я вспылил сильнее обычного и почти со слезами на глазах быстро вышел из столовой. Фабрицио выбежал вслед за мной и на пустыре догнал меня.
— Что с тобой, Альдо? Ты сердишься?
— Оставь меня. Тебе этого не понять.
— Я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь.
— В самом деле?
Я резко повернулся к нему. Утопающая в испарениях луна затуманивала черты его лица, но глаза были как-то по-особенному открыты, и голос звучал резко и вместе с тем сдержанно.
— В тебе много гордости. Когда ты приехал сюда, ты был не таким. Что-то тебя изменило.
— Вовсе нет, Фабрицио, уверяю тебя. Между нами все по-старому. Просто одиночество действует мне на нервы.
— Но ведь оно тебе нравится, ты ищешь его. Ты ищешь что-то такое, чем ты не хочешь делиться с нами. Ты все свое время проводишь там, верхом на крепости. Можно прямо подумать, что ты в этих старых камнях нашел клад.
Я засмеялся слишком непринужденно.
— И ты не предполагал, что я такой жадный? Да?
— Ты изменился, уверяю тебя. Ты мой друг, это верно. Но ты и меня немного презираешь. Ты нас жалеешь за то, что мы ведем такую приземленную жизнь. Даже Марино…
— Я не имею ничего против Марино, клянусь тебе. Здесь нет никого, кого бы я любил и уважал больше, чем Марино.
— Ты отдаляешься от нас, Альдо, я это чувствую. И мне больно осознавать это. Ты настолько от всего отстраняешься…
От растерянности брови у меня поползли вверх. Однако следующая фраза избавила меня от необходимости что-либо изображать.
— Ты ожидаешь каких-нибудь перемен?
Я громко, немного даже оскорбительно рассмеялся.
— Крупное продвижение по службе, Фабрицио. Меня призывают в столичные салоны. Мне предлагают должность адъютанта при адмирале нашего флота. Регулярная служба на всех балах и контроль за галантными манерами вооруженных сил. Что бы ты на это сказал, Фабрицио? Гигантский шаг в карьере.
— Я бы сказал, что тебе везет. Не смейся, хуже этой заброшенной дыры нет ничего.
— Так вот, Фабрицио, представь себе, я отказываюсь! Я от-ка-зы-ва-юсь.
Он растерянно пожал плечами и грустно улыбнулся.
— Ты странный, Альдо. Через год ты посмотришь на все это другими глазами.
— Вряд ли.
Я в свою очередь пожал плечами. Голос Фабрицио вдруг стал напряженным, это был голос, который в темноте хватал меня за плечи.
— Что ты здесь ищешь? Очень странно, что ты вообще сюда приехал. Ни для кого здесь не тайна, кто ты такой и что у тебя был выбор.
— Это допрос?..
Меня опять охватил гнев. Задетый за живое таким молодым, но таким настойчивым голосом, этим инквизиторским тоном, я искал какое-нибудь обидное слово. На душе у меня было неспокойно.
— Это Марино подсказал тебе вопросы?
— Марино никогда не задает вопросов. Но Марино не любит поэтов, по крайней мере в Адмиралтействе. Так он сказал. А ты, Альдо, поэт.
Он произнес имя Марино с тем оттенком обычной в Адмиралтействе ласковой почтительности, которая в тот вечер была для меня невыносимой.
— Причем из самых худших, так, да? Этого он тебе не сказал?
— Нет, Альдо. Марино любит тебя. Но он боится тебя.
Я мгновенно вышел из себя.
— Я что, доношу на него? Я шпионю за ним?! Вот, значит, кем вы все меня считаете! Ради этого я и брожу по крепости. Все проясняется. По воскресеньям я только тем и занимаюсь, что шарю по коридорам. И мне облегчают мою задачу. Очень вежливые! Выискивайте же, дорогой друг, мы предоставляем вам полную свободу. Я, значит, враг! Я шпик, и от меня нужно держаться подальше.
Дружеское и грустное выражение лица Фабрицио меня остановило.
— Ты, Альдо, мне кажется, сошел с ума. Посмотри на меня! Марино любит тебя больше, чем всех нас, вместе взятых. Но он боится тебя и знает почему, а я, я не знаю…
Фабрицио нахмурил брови с наивным, театральным, по-юношески очень трогательным напряжением, которое разгладило мои морщины, а его разом вернуло в детство.
— …и иногда я думаю, что он прав.
Я хлопнул его по плечу, уже почти улыбаясь.
— Ладно, Фабрицио. Не сердись на меня. И пусть этот весьма прелюбопытный страх не мешает тебе спать. Кстати, я уже слышу шаги торговца песком. Маленьким деткам давно пора спать.
Это была наша классическая шутка. Фабрицио сделал вид, что пытается догнать меня; мы в шутку поборолись. Мы ведь только-только вышли из детства: я был старше его всего на два года. Примирение разогрело наши сердца хорошим, добрым жаром. Однако Марино… это совсем другое; Фабрицио не умел врать, а Марино слов на ветер не бросал никогда.
Вечер был тихий, и, подобно подстреленному животному, которое скрывается в чаще, я углубился в тепловатую тьму. Ноги сами вели меня к морю. Я бежал от Адмиралтейства, как изгнанный из стаи зверь, который, обезумев от одиночества, устремляется в ночь. Меня — душу мою и тело — прозондировали и признали, что я принадлежу к другой, навеки отличной породе. Я пытался представить себе Марино, держащего во рту трубку, всматривающегося во что-то своими серыми, озабоченными глазами и произносящего свой приговор, который меня вычеркивал. В этот момент я, весь скованный болезненной обидой, ненавидел самого себя. Я-то считал, что веду в Адмиралтействе самое что ни на есть невинное существование, а оказалось, что все говорит против меня. Серый, невнимательный взгляд, тяжелая напряженность которого, казалось, неощутимо концентрируется не на лице, а где-то вдали, возникал в эту минуту у меня перед глазами, как какой-то неизменный ориентир, по которому я не мог не определить, в чем мое поведение с самой первой нашей встречи было уклончивым. Не было в этой лишенной тайны жизни ни одного слова, ни одного жеста, которые бы я интуитивно пытался скрыть от него, не было ни одного мгновения, когда бы я почувствовал себя виноватым перед ним.
Не отдавая себе отчета в том, сколько я прошел, я оказался на тонкой песчаной косе, отделяющей лагуну от моря. Коса эта, вся поросшая камышом и освещенная лаковым блеском луны, отраженным от вод, тянулась передо мной в виде длинной темной меховой оторочки и убегала за горизонт, теряясь в его ночной близости. За моей спиной над лагуной возвышалось белое из-за тумана Адмиралтейство. Я улегся лицом к морю в песчаной ложбинке и, с отяжелевшей от размышлений головой, долго лежал и следил праздным взглядом за игрой лунного света на водной поверхности в тишине, которая, как мне казалось, углубляется с каждой минутой. Очевидно, я лежал так, погруженный в это созерцание, очень долго, потому что вдруг ощутил добравшийся до меня из самого сердца ночи холод и приподнялся, чтобы поправить на плечах шинель. Тогда-то я и увидел скользящую по дорожкам лунного света на небольшом расстоянии от меня едва различимую тень небольшого корабля. Какое-то время он плыл параллельно берегу, потом, повернув вправо у входа в порт и преодолев патрульную линию, направился в открытое море и вскоре исчез за горизонтом.
Беседа
На следующий день рано утром я попросил доложить обо мне Марино. Я почти не сомкнул глаз, и когда перед деликатным разговором пытался хоть немного привести в порядок свои мысли, то возбуждение, в которое привело меня мое вчерашнее открытие, стало казаться мне ненормальным. Хотя реальность подозрительного явления и не вызывала у меня сомнения, мне не терпелось проверить это на Марино. Я верил, не признаваясь себе в этом, что его несметные запасы всесокрушающего спокойствия способны устранить все неясности и вернуть все к прежнему порядку, которому ничто не угрожало. Одновременно я догадывался, что мое открытие будет ему неприятно, и у меня было такое ощущение, что я веду себя вызывающе, что я бросаю вызов какому-то живущему в нем запрету, заставляю его раскрыть свои карты. Уже одно то, что я рассказал бы об этом открытии ему, сразу же сообщало простому вроде бы действию весомость и двусмысленность. Пока тем зябким ранним утром я шел по тусклым коридорам, мне вдруг стало казаться, что он имеет особую, опасную власть над моими мыслями и над моими поступками, причем не потому, что может повлиять на них, а потому, что он способен независимо от моей воли придать им какую-то неведомую тяжесть необратимости, под давлением которой я бы зашатался.
Я нашел его в крепости, в том расположенном в подземелье кабинете, где по утрам он писал донесения в Орсенну. В комнате витало что-то монашеское, какая-то скрытность; сама же комната как бы перекосилась от времени, сомкнулась вокруг него, как раковина вокруг моллюска, и его тяжелый силуэт за столом добавлял лишь последний штрих, доводил этот шедевр размещения деталей до совершенства. Длинная перспектива ведущего к комнате коридора образовывала нечто вроде рамы, и, как на тех полотнах, где магия как бы рождается из невероятной гармонии единого целого, глядя на него в этом обрамлении, нельзя было отделаться от мысли, что он вот-вот каким-то чудом оживет. Передо мной, однако, был настоящий Марино, против которого мне предстояло бороться: находясь в сговоре с привычными вещами, опираясь на них и поддерживая их своей защитной массой, он являл собой пример мягкого и спокойного сопротивления всему неожиданному, внезапному, постороннему. Трубка, положенная на стопку досье, бросала вызов пороховой бочке. Неторопливая и старательная рука крестьянина возделывала свою ежедневную борозду, заполняя страницу за страницей крупными чернильными фестонами. Длинная череда равновеликих дней, дней без дат и без секретов, выковала эти неуязвимые доспехи, прикосновение к которым разгоняло призраков, заделала пробоины в водолазном колоколе, где навеки незаметно иссякала таинственная цепкость привычки.
Шум моих шагов на каменных плитах предупредил Марино; взгляд его различил меня издалека, сверкнул и тут же потух, как лампа, у которой погасили пламя, и снова погрузился в досье. Он поджидал меня, наблюдал за моим приближением. Это было частью его защитных средств. Он не любил, чтобы его захватывали врасплох. Он выждал, когда я подойду совсем близко; еще раньше, чем взгляд его серых глаз оторвался от стола, рука почти бессознательно положила перо, словно невольно давая мне понять, что на сегодня утренняя работа закончена. Он ждал меня. Эта невероятная способность к предвидению приводила меня в замешательство.
— Рановато ты сегодня встал, Альдо. Неприятный нынче туман, правда? Здесь он всегда будит очень рано: щиплет в горле. Я всегда говорю Роберто: утренний туман — это в Адмиралтействе первый зимний день.
Он бросил долгий благодушный взгляд сквозь запотевшее окно. Я чувствовал, что он любит такие вот затуманенные стекла. У него всегда была такая манера смотреть: его серые глаза были с поволокой, которая скрывала то, что не следует видеть.
— Помнишь, какая была погода в день твоего приезда сюда? Я помню. Старое профессиональное чудачество. Вспоминая лицо какого-нибудь знакомого, я всегда вижу человека на том же самом фоне, на котором увидел его в первый раз: с тем же цветом неба, с теми же тенями, облаками, ветром, теплом. Вижу все до единого облачка… Я мог бы даже нарисовать их… Тебя вот я вижу всегда на фоне тумана, с ореолом. С настоящим ореолом — не смейся, с сиянием от электрического фонарика во мгле.
Его немного натужный смех споткнулся и замер.
У нас никогда не получалось легкой болтовни. В самой манере Марино обращаться ко мне на ты звучала почти неуловимая нотка заданности, было нечто отдающее больше уставом, чем дружбой, что не сближало, а отдаляло нас, вносило в наши отношения элемент неловкости, устранить который было не под силу даже самой доброй воле. Его голос остыл, и он слегка натянуто произнес:
— Хорошо, что ты пришел поболтать со мной.
— Боюсь, это будет посерьезнее.
Лицо Марино заметно напряглось.
— А!.. Значит, служба?
— Вы сейчас сами решите.
И я довольно сухо рассказал, стараясь быть во всем точным, об открытии, сделанном мною накануне. По мере того как я рассказывал, голос мой обретал металлическую, оскорбительную жесткость, как будто с каждой минутой все больше и больше исчезало доверие к моим словам. Марино пристально, с неподвижным лицом смотрел на меня; я чувствовал, что он слушает меня, а вовсе не мое повествование о корабле-призраке, с помощью которого я надеялся разбудить его инстинкты охотника, — так слушает врач, чья притворная снисходительность улавливает в нервных интонациях голоса пациента, в тиках его лица внешние симптомы болезни.
— Что ж, хорошо! — заключил он после соответствующей паузы. — Сегодня ночью я прикажу организовать патрулирование у входа в порт. Хотя маловероятно, чтобы корабль возвращался каждую ночь.
Интонация его голоса давала мне понять, что разговор окончен. Этого-то я больше всего и опасался. Ровный, профессиональный тон низводил явление до уровня рутинной детали службы, уничтожал его, накладывал на него штраф. Однако его чрезмерное безразличие подсказывало мне: все это не больше чем хорошая игра. Я настаивал:
— Хорошо, если вернется; хуже, если он уплыл навсегда.
— Уплыл? Не понимаю, что ты имеешь в виду?
— Это же проще простого.
Я начинал горячиться.
— Куда, по-твоему, этот корабль может уйти? Ближайший порт здесь, если не считать Маремму, находится в трехстах милях. Очевидно, это гуляки из Мареммы устроили себе ночную прогулку.
— За пределы патрульной зоны.
— Выпили, наверное.
— Или знали, что делают, и решили плыть дальше.
Марино посмотрел на меня со злостью и явной враждебностью, посмотрел как на человека, которого до самого последнего момента безуспешно пытались удержать от оплошности.
— Не понимаю. В открытое море? Это же абсурд.
— Порты есть прямо напротив нас. В Фаргестане.
Слово было встречено гробовым молчанием. И произнес его я. Хотя и мне, и Марино было ясно с самого начала, о чем идет речь. Он молчал. Я почувствовал прилив язвительности.
— Мне кажется, здесь это название не очень в ходу.
Его ответ воздвигал между нами стену холодной враждебности.
— Да. Здесь это название не очень в ходу. И все же я вынужден был его произнести. Когда я ехал сюда, у меня были основания думать, что я еду на военный пост. А это пост для отдыха. В этом убеждаешься окончательно, как только сюда попадаешь. Но только не нужно закрывать глаза. Мы ведь как-никак находимся в состоянии войны.
В последнюю фразу я вложил свою привычную иронию, но в голосе Марино неожиданно зазвучали резкие интонации уязвленной гордости, которой я за ним не знал.
— О том, что ты находишь достойным порицания в Адмиралтействе, ты можешь сообщить. Это твоя обязанность. Но твои насмешки, Альдо, здесь неуместны, говорю тебе об этом прямо. Эти пальцы я потерял на службе у Синьории. Я нахожусь здесь для того, чтобы обеспечивать безопасность этого побережья, и мне кажется, со своими обязанностями я справляюсь. Я сам решаю, каким способом мне ее обеспечивать, и мне кажется, ты еще достаточно молод, чтобы судить…
Взгляд Марино незаметно поднялся надо мной; его решительная речь придавала его лицу неожиданную красоту.
— …Об этом я тоже сообщу.
Я чувствовал себя ужасно неловко, меня сильно смущал этот невероятно серьезный тон. Однако Марино уже догадался по моим глазам о своей ошибке и, на миг сорвавшись, тут же вновь перешел на свою обычную добродушно-шутливую речь.
— Мне кажется, мы позволили этому несчастному контрабандному суденышку увлечь нас слишком далеко. Не будем же мы ссориться из-за какой-то глупости, правда. Альдо?
Прячась за заслоном медленной речи, его серые глаза искали одобрения, которое прогнало бы прочь сомнения, пытались понять, насколько глубоко мне удалось проникнуть в тайну его внезапной растерянности.
— Вы же знаете, я не хотел вас обидеть.
— Ты молод, и я понимаю тебя. Я был такой же, как ты, весь горел служебным рвением. В общем-то, весьма эгоистическим рвением. Так же, как и ты, я считал, что со мной должно произойти что-то необыкновенное. Мне казалось, что у меня к этому предначертание. Ты состаришься, как и я, Альдо, и поймешь. Ничего необыкновенного не происходит. Не происходит вообще ничего. И может быть, это и хорошо, что ничего не происходит. Ты скучаешь в Адмиралтействе. Тебе хотелось бы увидеть, как на этом пустом горизонте что-то наконец появляется. Были здесь до тебя другие, такие же молодые, как ты, и они тоже вставали ночью, чтобы увидеть проплывающие мимо корабли-призраки. В конце концов они их действительно видели. Нам здесь это явление знакомо: южные миражи, это проходит. Должен предупредить тебя, что воображение в Сирте обычно чересчур разгорается, но со временем удается это преодолеть, оно истощается. Ты видел здешних степных птиц с атрофированными крыльями. Это хороший пример. Там, где нет ни деревьев, на которые можно было бы садиться, ни ястребов, которые бы преследовали добычу, летать нет никакой необходимости. Вот они и приспособились. В Адмиралтействе тоже люди приспосабливаются, все идет своим чередом, и это хорошо. Только так здесь и можно жить спокойно. Если ты слишком скучаешь и не хочешь поддаваться скуке, как и этой монотонности, которая здесь становится доброй советчицей, — ты меня понимаешь — я тоже дам тебе один совет, совет друга и отца. Ведь я же люблю тебя, Альдо, и ты это знаешь. У тебя знаменитая фамилия, и твоя семья пользуется в Синьории прекрасной репутацией. Я бы посоветовал тебе уехать отсюда.
— Уехать?
Глаза Марино смотрели куда-то вдаль, словно искали ускользающий ориентир в открытом море.
— Я поддерживаю здесь равновесие. Это нелегкая задача, и если с одной стороны что-то перевешивает, то приходится лишнюю тяжесть убирать.
— А что перевешивает?
— Ты.
Прежде чем ответить, я на мгновение задержал дыхание. Слыша голос Марино, я не мог обманываться: я глубоко чувствовал, что в эту самую минуту он меня любит. Но я решил во всем разобраться получше.
— Вы меня прогоняете. Вы бы не стали этого делать без веских оснований. Могу я узнать поточнее, что в моем поведении здесь вам не понравилось?
— Давай не будем меняться ролями. Отказываться понимать — это очень просто. Я всецело доверился тебе: в Орсенне достаточно одного-единственного твоего слова, чтобы меня навсегда отсюда как ветром сдуло. Речь сейчас идет не о службе, у нас идет разговор мужчины с мужчиной, и мне казалось, что ты это уже понял. Я досадую на тебя за то, что ты — такой, какой ты есть, хотя это и не зависит от тебя. Я досадую на тебя за то, что ты тут — источник смуты, а можешь стать еще и источником опасности.
— А мне-то и невдомек, что я обладаю такой магической властью. Не расскажете ли вы мне раз и навсегда обо всех моих колдовских деяниях?
Марино помолчал какое-то мгновение, как бы прикидывая, как ему получше выстроить свои мысли.
— Я вот сейчас говорил о равновесии. Залог равновесия — это чтобы не было никакого движения. Дело же обстоит таким образом, что все может прийти в движение от какого-нибудь легкого дыхания. Здесь ничего не происходит на протяжении вот уже трехсот лет. Никаких изменений не претерпели и сами вещи, разве что появилась манера отводить от них наш взгляд. Хотя между Родриго (это был адмирал, который обстреливал Фаргестан) и мною существует большая разница. Предметы здесь тяжелые, они спаялись с землей, и тщетно пытался бы ты сдвинуть с места здешние камни, а ведь сколько их летит каждый день в пропасть. Но, может быть, ты способен на большее. Есть высшая сила инерции, которая вот уже триста лет хранит эту неподвижную развалину, та же самая сила, которая в других местах приводит в движение лавины. Поэтому я стараюсь не производить здесь сильного шума, задерживаю дыхание и устраиваю в этой скорлупе ложе, чтобы спать на нем непробудным сном поденщика, который так тебя раздражает. В отличие от Фабрицио я не упрекаю тебя в том, что ты резвишься, как освободившийся от поводка щенок. Здесь есть где побегать, а пустыня укротит любого здоровяка. Я упрекаю тебя в том, что ты недостаточно покорный и не отказываешь этим спящим камням в сновидениях… Они ведь кошмарные, их сны… Я старый человек и уже успел научиться науке умирания. Это долгая и трудная штука, и ей требуется помощь и снисходительность. Я хочу сказать тебе, Альдо, вот что: любую вещь убивают дважды, в первый раз — как нечто реальное, во второй — как символ; в первый раз убивают то, чему она служит, во второй раз — то, чего она желает достичь через нас. Единственное, в чем я тебя упрекаю, — это в твоей снисходительности.
— Тогда я буду считать вас человеком романтического склада. Я и не предполагал, что жизнь в Адмиралтействе таит в себе столько фантастики. Боюсь только, не преувеличиваете ли вы слегка.
Я ощутил вдруг в себе глупое желание взять реванш. И тотчас же понял, что наша беседа преодолела критический рубеж. Марино уже готов был признать свои страхи необоснованными.
— Все моряки немного романтики…
И он от души рассмеялся.
— Чтобы чувствовать приближение грозы по одному только запаху воздуха, без этого не обойтись. Но будь спокоен, Альдо, грозы не будет. Она не придет. Ничего не будет. С разумными людьми ничего не происходит…
Голос поддразнивал, но легкое волнение в нем все же чувствовалось.
— А может быть, ты здесь, несмотря ни на что, еще и привыкнешь. Зима здесь по-своему хороша. Кстати, чуть было не забыл, похоже, что жизнь скоро для тебя превратится в сплошной праздник. У нас есть друзья в Маремме, и вот эти друзья очень хотели бы с тобой увидеться. Мне даже поручено передать тебе приглашение по всем правилам.
— Вы же знаете, что я отсюда ни шагу.
— Ты совершенно не прав, но это уже твое дело. Тебя приглашает завтра к себе на ужин княжна Альдобранди. Она очень хочет видеть тебя и просила меня, чтобы я настоял. Мое дело передать приглашение, а ты уж поступай как знаешь. Ты, очевидно, с ней уже знаком. Я не собираюсь давать тебе советы, как стал бы давать их новобранцу, чтобы помочь ему в продвижении по службе. Ты уже большой… Ну а что касается сегодняшнего вечера, то я отдам распоряжение насчет патруля…
Он посмотрел на меня с легкой иронией.
— Поехали с нами. Развеешься.
Расставшись с Марино, я оказался в каком-то необычном расположении духа. Этот натянутый разговор, в котором был скрыт важный для меня внутренний смысл — ведь Марино хотел прогнать меня из Сирта, — в последний момент легко закончился, как если бы налетевший порыв ветра рассеял все грозовые тучи. Только миновав потайную дверь, я вдруг перестал удивляться внезапно овладевшей мною беспечности. На меня нахлынули воспоминания и с резвостью утреннего ветерка рассеяли последние остатки облаков. Я думал о Ванессе Альдобранди.
В мае сады Сельваджи, в которые попадаешь из возвышающегося на холме лабиринта, отделанного мрамором и ракушками, превращаются в слошное полотно светлой серы, которое, подобно раскаленной белой лаве, стекает к подножию и несколькими языками пламени взбирается на противоположный склон, на утес из темных лесов, словно стеной закрывающий Орсенну с этой стороны. За холмом, отгораживающим сад от привычного городского шума, запах нарциссов и гиацинтов распространяется над всей долиной, как вызывающий головокружение дурман, напоминающий колеблющую барабанные перепонки необычайно острую, резкую ноту, которая вызывает желание услышать другую, еще более резкую, еще более щемящую, и тут же дает ей звучать. Нижние мраморные ступени прикрыты, словно отблесками неспокойной воды на стене, трепещущей тенью осиновых листьев, а тишина, неожиданная по контрасту с уличным шумом, стоит там такая же, как в заколдованных местах, как на заброшенных кладбищах, где легкое и спокойное отрешение от всего материального придает жужжанию пчелы мощь органа и весомость божьего знамения. В Орсенне мало кто знал эти почти заброшенные сады; я часто приходил туда в середине дня, когда был уверен, что никого там не встречу, приходил с вечно замирающим сердцем, как бывает, когда открываешь потайную, долгожданную дверь. Сад был здесь и всегда, словно для меня одного, оживлял свою раскаленную лаву, щедрую и неистощимую во всем том, что возвышается над сиюминутным и смешным ожиданием.
В то утро я рано ушел из университета и распрощался с Орландо за несколько улиц до садов Сельваджи: у него была какая-то удивительная способность заставлять меня краснеть за эти мои тайные прогулки. Я был уже на последних ступеньках моего любимого бельведера, когда, смущенный и раздосадованный неожиданным видением, резко остановился: как раз в том самом месте, где я обычно облокачивался на балюстраду, стояла какая-то женщина.
В тот день мне как никогда хотелось побыть одному, а уйти так, чтобы не выглядеть невежливым, было уже трудно. В этом непонятном положении я даже не успел опустить ногу и, затаив дыхание, замер в нерешительности несколькими ступенями выше силуэта. Это был силуэт девушки или очень молодой женщины. Стоя чуть-чуть выше нее, я видел на фоне цветочной лавы наполовину скрытый профиль — нежный и воздушный контур, словно освещенный отраженными от снежного поля лучами. Однако меня поразила не столько красота этого лица, сколько восторженное чувство отречения от власти, усиливавшееся во мне с каждой секундой. Удивительная гармония царственного силуэта с идеальным местом и все глубже проникавшее в мое сознание ощущение избранности этой женщины укрепляли меня в сознании, что это — сама королева сада, только что вступившая во владение своим уединенным достоянием. Отстранившись от городского шума, застыв, как неподвижное изваяние, она дарила этому саду ту неожиданную торжественность, какую обретает пейзаж под взглядом изгнанника; она была одиноким духом цветочной долины, которая вдруг окрасилась для меня в строгие тона — так оркестр подготавливает вступление главной темы, чья тяжелая, грозовая тень падает на весь поток музыки. Девушка вдруг повернулась всем корпусом в мою сторону и лукаво улыбнулась. Так я познакомился с Ванессой.
Лишь много позднее я понял, что она обладает способностью мгновенно становиться неотделимой от пейзажа или от предмета, которые силою одного только ее присутствия раскрывались навстречу долгожданному высвобождению какого-то своего сокровенного порыва, в котором свойства их ограничивались и они выполняли своеобразную роль придатка. «Купальщица на пляже», «владелица замка за прялкой», «принцесса в своем дворце» — такие почти символические выражения приходили мне на ум, когда некоторое время спустя я пытался понять характер этой опасной силы ее колдовской руки, способной к овладению. Для Ванессы предметы были проницаемы. Ее удивительно легкие и тем не менее всегда непредсказуемые жесты и интонации голоса — столь же безошибочные, как сплетающиеся друг с другом слова поэта, — позволяли ей овладевать этими предметами с такой же любовной яростью, с какой рука вождя гипнотизирует толпу.
Старый Альдобранди был главой одного семейства, прославившегося в Орсенне своим беспокойным и ищущим приключений духом. Рассказы о его участии в уличных смутах и заговорах знати, которые порой сотрясали до самого основания Синьорию, превратились почти в легенду. Хроника этого княжеского рода пестрила скандальными отступничествами, интригами, романтическими похищениями, убийствами, воинскими деяниями. Одна и та же ничем не сдерживаемая и высокомерная ярость, которая то толкала его к чудовищным предательствам, то возносила на высочайшие государственные посты, проявлялась и в личной жизни. Один Альдобранди с помощью чрезвычайно мудрых мер усмирил крестьянское восстание в Мерканце и пресек попытку этой провинции отделиться, о другом же шла молва, что он занимался обороной фаргийских крепостей во время того знаменательного бомбардирования. Это была порода, которой были чужды теплота и законопослушность, порода, замурованная в свою гордость и как бы занявшая осадное положение в своем дворце в предместье Борго посреди бедного квартала, порода высокомерная и сильная, навечно повисшая в своем орлином гнезде над Орсенной, то оплодотворяя ее, то поражая молнией, подобно могучей грозе.
В Орсенне любили повторять их дерзкий и вызывающий девиз: «Fines transcendam»[1], причем старались сделать это с некоторой долей иронии, чтобы напомнить, для скольких изгнанных членов этой семьи он нередко обретал вполне конкретный горький смысл. Отец Ванессы, демагог и интриган, уличенный в подготовке мятежа предместий, который он финансировал за счет своего солидного состояния, оказался последней жертвой этих регулярно повторявшихся изгнаний; это обстоятельство, укрупненное моим воображением весьма юного человека, придало моим отношениям с Ванессой уважительно-экзальтированный и романтический оттенок; она принадлежала к числу богатейших партий Орсенны и совсем не интересовалась своим лишь мельком виденным ею отцом; я же охранял и почитал в ней подвергающуюся опасностям сироту. Мы встречались с ней почти исключительно в саду, продлившем для нас свое тайное цветение, и, насколько я помню, почти не разговаривали; не произнося ни слова, мы подолгу стояли перед пылающим океаном, через который Ванесса соединяла меня с остальным миром — мне казалось, что в глазах ее пробегало смутное отражение дальних морей, пересеченных изгнанником, — ее несчастье, которое я преувеличивал, накладывало на мои радости печать тайной сдержанности, а на посещавшие меня не очень целомудренные мысли — нечто вроде запрета, удерживавшего меня от святотатства; я любил ее отсутствующей и не желал, чтобы она стала мне ближе; словно ее задумчивая и нематериальная рука была создана лишь для того, чтобы в бесконечно далекой глубине приводить в порядок мои сны. Она часто рассказывала мне про те края, откуда ее отец иногда писал; тогда ее голос становился отрывистым и почти гортанным, выдавая ее спокойную экзальтацию. Она относилась с полным презрения отчуждением к Орсенне и к ее обыденной жизни. Она была там, в сущности, иностранкой, и после этих долгих встреч с ней, происходивших чуть ли не в самом центре города, удобно расположившегося на своих богатствах, я плыл по воле волн, оглушенный и растворенный их потоком. Находясь рядом с ее хрупким силуэтом, словно посылающим проклятия приземленному, безоговорочно принимаемому существованию, я отрекался в душе от Орсенны с ее спокойным и ненавистным благополучием; я возвращался из садов Сельваджи по унылым и безотрадным улицам, и часы мои тянулись в бесконечной тоске. Иногда я приходил в сад еще и в сумерки, с предосторожностями контрабандиста толкал калитку, пробирался к пустынному месту наших свиданий. Солнце садилось за чернильно-черной стеной леса; туман уже заволакивал низкие склоны сада и, как прилив, поднимался к нашему наблюдательному пункту; а я, напряженно застыв, вглядывался до самых последних лучей в силуэты деревьев, вырисовывавшиеся на светлой полоске горизонта. Там остановился последний взгляд Ванессы; я ждал появления того, на что он мне таинственно указал. Сад замыкался в своем враждебном монастырском безмолвии и гнал меня прочь; я целовал холодный камень, на который облокачивалась Ванесса, и отправлялся домой по черным улицам предместья, пробираясь среди низких, придавленных очертаний белых домов, окруженных тисами, высокими кипарисами и похожих на освещенные могилы.
Мне все меньше и меньше нравилась жизнь без происшествий и без волнений. Ванесса иссушала все мои удовольствия и пробуждала меня к утонченной разочарованности; она приоткрывала мне пустыни, и эти пустыни засыпали меня своей сыпью, как скрытая проказа. Мало-помалу я забросил работу, чаще просил говорить, что меня нет дома, когда ко мне приходили друзья, стал предпочитать всему остальному праздное времяпрепровождение, прерываемое лишь в полдень единственной встречей с Ванессой. Регулярно заниматься чем-либо теперь мне было скучно. С вызывающей непримиримостью юности я доводил выражение своего отвращения до абсурда; к удивлению моих близких, я стал утверждать, что Орсенна пахнет болотом, и отказывался — за исключением моих встреч с Ванессой — выходить днем на улицу. Я бродил по городу только поздно вечером; мне нравилось, почти касаясь, обгонять то слишком быстро, то слишком медленно скользящие силуэты, которые днем на мгновение механически замирали, а ночью, как бы подводившей итог безжалостной гонке, выходили на улицы в своей трагической наготе крупных хищников или прихрамывающих зверушек. В такие моменты нескрываемой усталости по улицам влачилось что-то подозрительное и уязвленное. Можно было подумать, что это стоячие воды, омывающие сваи нижнего города, вдруг уходят во время отлива, приоткрывая изъеденные болотной лихорадкой торфяные леса, на которых все держится; я с наслаждением погружался в эти пребывающие в состоянии брожения глубины; какой-то инстинкт обнажал вдруг передо мной, как перед ясновидцем, окруженный опасностями город, источенную корку того, что когда-то было там лучшим украшением, а теперь большими ошметками под тяжелыми шагами проваливается в болото. Подобно тому как лицо еще красивой, но уже безнадежно состарившейся женщины заставляет расступиться траурный свет раннего утра, лицо Орсенны признавалось мне в своей усталости; во мне проносилось дыхание отдаленного предсказания и сообщало мне, что город пожил уже достаточно долго, что час его пробил, и вот, бросая ему коварный вызов в тот неопределенно-ранний час, когда объявляются перебежчики, я чувствовал, что силы, поддерживавшие его до сих пор, предательски покидают его.
Иногда мне казалось, что я, не признаваясь в этом, нахожу оправдания для тех детских снов, что могут превратиться в действительность. Тому, кто смотрел на город непредвзятым взором, он мог показаться дремлющим среди бела дня, окутанным постоянно рвущейся и все с большим трудом восстанавливаемой сетью прежних привычек. Теперь, совершив путешествие в Сирт, я стал гораздо более проницательным: дистанция времени помогала внести ясность во впечатления, которые раньше постоянно перемешивались и растворялись в сутолоке повседневности, в ее легковесном мельтешении. Ванесса оказалась для меня той крошечной трещиной, благодаря которой можно определить глубину невидимого кристалла; посторонний человек легче распознает на дорогом нам лице признаки болезни; так и я, отстранившись и посмотрев на Орсенну издалека, понял, что она отнюдь не пышет здоровьем. Выражение лиц у простого народа во время праздников — по-прежнему пышных и по-прежнему многолюдных — выдавало скуку, тщательнейшим образом скрываемую под маской удовольствия; от этого праздничного наряда исходил тот же запах затхлости и обманутых надежд, что и от униформы ветеранов, сохраняющей пыльные складки от пребывания в платяном шкафу. Ставшая почти маниакальной верность традициям свидетельствовала об оскудении крови, неспособной вновь творить жизнь. Мне на память иногда приходил образ сухих, хорошо сохранившихся стариков, которым очень долго удается обманывать окружение и которые по мере того, как из них уходит жизнь, вместо нее год от года все нагляднее, все настоятельнее демонстрируют сильную и убедительную реальность своего скелета; за границей даже стали ставить в пример образцовый механизм организации дел в Синьории, который в действительности функционировал уже только для удовлетворения любопытства знатоков, функционировал со смехотворным совершенством музейного экспоната, причем как бы во внушающем тревогу вакууме, который не давал рассеяться сомнениям относительно упругости приводящей его в действие пружины. По мере того как становились более строгими и скрупулезными правила службы, а их неукоснительное выполнение превращалось в дело чести, в высших классах углублялся скептицизм. Наиболее тревожным симптомом, по моему мнению, стали все возраставшая страсть к путешествиям, космополитический дух, странные бегства, из-за которых стал местами безлюдным чрезвычайно хитро устроенный термитник — словно кровь, дабы освежиться, вдруг сама по себе прилила к коже, — а также кочевнические настроения, овладевавшие наиболее культурными слоями населения. Я ведь и сам был тому примером; тут я стал более сосредоточенно размышлять о той необычной колонии в Маремме, которой так восхищался Фабрицио. Да, Ванесса нашла там заранее предназначенное ей место.
В то время как «Грозный» набирал скорость в спокойном море, я улыбался тому, насколько все-таки странные очертания обретает для меня моя скорая встреча с Ванессой. Я давно уже потерял ее из виду: старый Альдобранди, смертельно заскучав в своем изгнании, в конце концов вдруг неожиданно вызвал к себе семью. Я был очень молод и все забыл, или мне показалось, что забыл. Потом я как-то случайно узнал о его возвращении и о том, что он опять в милости, и с иронической улыбкой заключил, что дела идут хорошо и что теперь Орсенна в сговоре с силами, которые к хорошему ее не приведут.
Ночь стала совсем черной. Рядом со мной на мостике стоял Марино и пристально смотрел вперед. Тело его скрывалось в переливчатых бликах темного плаща. Лицо выглядело странно отрешенным. От напряженного наблюдения все черты его лица заострились. Я знал, что Марино от этого банального ночного плавания ничего не ждет, но делать что-либо наполовину он не умел. «Грозный» плыл по безмятежному морю, готовый к встрече: и экипаж его был наготове, и заряды для пушек припасены. Каким бы смехотворным ни казался этот выход в слепую ночную мглу, я чувствовал себя неуверенно и неспокойно, столкнувшись с напряженной действительностью этого маленького военного мирка, который мне так легко удалось бросить в наступление. Я ощутил нечто вроде запоздалого раскаяния и панического страха, который испытывает ученик волшебника в тот момент, когда, к его глубокому удивлению, идущему от недоверия, вещи вдруг начинают слегка, со всем своим тяжеловесным достоинством, двигаться, внимая урчащему раскачиванию разбуженного корабля-зверя; я плыл весь во власти легкого забытья и волнующего ощущения от только что услышанного магического стука. Я вывел «Грозный» в море, и десятки широко раскрытых глаз, глядя на море, присоединялись к моему неуверенному взгляду. В беспросветной ночи приглушенные и отрывистые голоса — те скупые и цепкие голоса с отражающейся в них судьбой, что выходят из горла каждого человека, оказавшегося на какой-то машине, устремленной к чреватому приключениями горизонту, — через определенные интервалы передавали в темной ночи краткие команды. Вокруг нас в темноте обнаруживалось и сгущалось напряженное, тревожное, доступное наблюдению действие; я чувствовал, как его вожжи завязываются узлом у меня в руках, как оно ритмично постукивает, словно какая-нибудь приведенная в движение машина. Даже взгляд Марино, его невозмутимый и холодно-трезвый взгляд, слегка воспламенялся, как при первых разрядах во внезапно намагнитившейся от действия атмосфере. Эти приготовления к бою во всей их неоднозначности игры, которая, однако, с минуты на минуту могла перестать быть игрой, в свою очередь тоже добавляли плотности и реальности сомнительному вчерашнему видению и приводили в движение деликатную систему зубчатых колес; я был почти уверен, что скоро увижу перед собой загадочный силуэт; я всматривался в темноту все более пристальным взглядом; один раз или два, заметив чуть более светлое отражение, играющее на волнах, я с трудом удержал свою руку, готовую нервно вцепиться в руку Марино. Я ошибался? Мне казалось, что в такой момент это был бы знак согласия, адресуемый сообщнику. Древняя кровь корсаров кричала в Марино; я чувствовал, как он рядом со мной вдруг стал так же нервничать, как и я. В этот момент мы были двумя охотниками, блуждающими в ночи, и корабль дрожал у нас под ногами, как от внезапного приступа лихорадки приключений.
— Красивая ночь, Альдо, как тебе кажется?
В его голосе чувствовалась с трудом сдерживаемая дрожь, которая внезапно возвращала его в родную стихию, вопреки самому себе, неожиданно занятому своим делом. Я чувствовал, что завтра он будет сердиться на меня за свое собственное, столь необычное излияние чувств. Однако этот вечер сближал двух очень близких друг другу противников, живущих в нас: благодаря летящему вперед и вибрирующему у нас под ногами кораблю мы общались глубинами душ.
— Красивая. Самая красивая из всех, какие я видел в Сирте.
И тут в полутьме мостика произошло одно знаменательное событие: глядя по-прежнему вперед, Марино поискал мою руку и на секунду положил на нее свою. Я почувствовал, как сердце мое забилось, словно я получил какое-то необычное позволение, словно передо мной неожиданно раскрылась дверь, в которую я не осмеливался даже постучать.
— И тем не менее вы не очень-то любите выводить «Грозный» в море.
— Не слишком часто, Альдо. Не слишком. Как можно реже… Мне даже кажется, что я перестаю отрабатывать мое жалованье… Мне кажется, что у меня отпуск.
Луна осветила абсолютно спокойное море; ночь была такая прозрачная, что из зарослей тростника у берега все отчетливее и отчетливее слышалось глухое, тревожное клохтанье болотных птиц, потревоженных в прибрежной траве нашим кильватером. Берег, вдоль которого мы плыли, щетинился на луну стоящими черной стеной неподвижными стрелами своих камышей. Бесшумный, как ночной бродяга, плоский корпус «Грозного» скользил по неглубокому фарватеру с уверенностью, выдававшей безошибочный глазомер его капитана. Впереди за темной каемкой бескрайние пустынные глади Сирта отражали величественное зрелище звездного поля. Было так славно плыть в тот вечер на корабле с Марино; я чувствовал прилив сил, бесконечно погружаясь в неизвестность теплой ночи.
Развалины Сагры
На следующий день меня разбудил рано утром Фабрицио, войдя в мою комнату с понимающим и ироническим видом.
— Прямо не могу прийти в себя после того, как узнал детали этой ночной экспедиции. Кажется, вы вернулись без добычи…
Это шумное утреннее приветствие пришлось мне не по душе. У меня не было ни малейшего настроения что-либо рассказывать Фабрицио об этой сумбурной ночи. Слишком уж много надо было ломать копий.
— К черту, Фабрицио! Уважай хотя бы сон людей, занимающихся серьезными делами. Иди, развлекайся… Дай мне поспать.
Фабрицио, однако, ретироваться не собирался. Угрюмо отгородившись одеялами от колючего воздуха, я с откровенной враждебностью наблюдал, как он порхает по комнате, открывает окна навстречу студеному утру, рассматривает разбросанные на моем столе карты Сирта.
— Брр!.. Не очень-то тепло у тебя, Альдо… Я смотрю, тут тонкая работа… Это было, конечно, я уверен, весьма увлекательно… Патрульная линия… — подчеркнул он с пафосом, с любопытством поглядывая на карту. — Думаю, однако, с Марино вы не рискнули заплыть за нее. Вы, вероятно, не слишком удалялись от берега, — сказал он, с хитрым видом отрывая взгляд от карты.
— Марино знает, что ему надо делать, и в состоянии обойтись без советов мальчишек вроде тебя. Закрой-ка, Фабрицио, это окно; закрой, а то я устрою скандал. Ты, мне кажется, хочешь моей смерти… Я сплю, ты понимаешь, сплю. Похоже, я сейчас вышвырну тебя за дверь, — добавил я не очень убедительным тоном.
— «Вышвырну тебя за дверь…» Любезный брат!.. Что же, ладно, твое дело. У нас еще есть время. Сейчас мы отправимся в путь, и по дороге ты мне все расскажешь.
— Могу тебя заверить, что идти сейчас куда-то у меня не больше желания, чем повеситься. Фабрицио, обрати внимание на эту вот дверь… Видишь ее?
Фабрицио посмотрел на часы.
— Нам с тобой осталось провести вместе еще четверть часа, или мы опоздаем. Так что тебе лучше поспешить.
— Последний раз говорю, катись к черту!
Фабрицио с видом доведенного до предела человека поднял глаза к небу и пожал плечами.
— В конце концов, Альдо, постарайся все же собраться с мыслями. Сегодня ведь церемония.
Не таящая в себе ничего заманчивого перспектива вставания действительно становилась неизбежной. Марино официальным тоном сказал мне два слова об этой церемонии, посвященной памяти павших, которая регулярно проводилась в Адмиралтействе и на которой отсутствие Наблюдателя при Легких вооруженных силах было бы воспринято как скандал. Ворча, я стал собираться. При этом я не мог отделаться от ощущения, что речь здесь идет не просто об исполнении долга. Там должен был присутствовать Марино, так что церемония стала вызывать у меня смутное любопытство.
Дорога в это морозное утро жестко и легко звенела у нас под ногами. Фабрицио вел меня. Затерявшееся в камышах кладбище Адмиралтейства находилось всего в нескольких сотнях метров. Над Сиртом сияло чисто вымытое солнце. По мере того как я шел рядом с Фабрицио, важно шествовавшим в своем самом красивом мундире, настроение у меня выравнивалось. В такое ясное и хрустящее инеем утро, вышагивая по хорошей дороге, испытываешь неподдельное удовольствие от сознания, что ты не мертв.
Мы молчали. Время от времени Фабрицио бросал на меня взгляд сбоку. Его любопытство явно подыскивало предлог, чтобы расспросить меня. Мы поднялись на небольшой холмик, откуда видно было море.
— Ты, наверное, слышал крик гагарок на Песочной косе. Похоже, их сейчас здесь тысячи, а значит, зима будет холодная. Джованни говорит, что еще никогда не видел их столько, сколько в этом году.
— Точно, мы проплыли рядом с Песочной косой, если тебя это так интересует. Причем совсем рядом с берегом, чуть не касаясь, если это может доставить тебе удовольствие…
Теперь и мне тоже захотелось расспросить Фабрицио.
— …А почему ты с такой уверенностью сказал мне, что мы не вышли за патрульную линию?
Лицо Фабрицио приняло сокрушенное выражение.
— Марино ни за что бы не согласился. Это заранее известно.
— А ты случайно за нее не выходил?
— Кажется, один раз вышел.
Судя по всему, Фабрицио не относил это воспоминание к числу особо приятных.
— Ну и как, нагорело?
— О! Боже мой, сколько было шума! Марино был совершенно вне себя. А еще этот его сухой тон, который у него появляется в особых случаях, — кровь в жилах стынет. Клянусь, перетрусил же я тогда. «Вы просто безмозглый мальчишка, неспособный оценить последствия своих поступков…» Такие вот речи. Гром и молния! Уверяю тебя, я не испытываю ни малейшего желания повторить… Разумеется, я говорю тебе все это как другу, не для официальных инстанций.
— Твое доверие делает мне честь. Но все-таки, что заставило тебя совершить подобную глупость?
На лице Фабрицио появилось выражение раскаяния.
— Что ты хочешь, я тогда вывел «Грозный» в первый раз. И был очень горд собой, оказавшись совершенно один на капитанском, мостике. Мне захотелось блеснуть. Признайся, это же ведь странно, неестественно для моряка, если военный корабль только тем и занимается, что тыкается носом в прибрежный ил, когда можешь переплыть все море.
— И ты переплыл?
— Да. Мне просто хотелось, чтобы чуть скрылись из виду илистые лужи. И я приказал плыть прямо на восток. Забавное у старых боцманов было выражение лиц.
— Забавное?
— Трудно однозначно сказать: ни то ни се. Они не знали, что и сказать. Понимаешь, это было что-то новенькое. Потеряв из виду свои тростниковые поросли, они растерялись… — Фабрицио на какое-то мгновение задумался. — …Только у меня такое впечатление, что через некоторое время, причем довольно скоро, они бы вошли во вкус. Не нужно особенно доверять привычкам. Ты же знаешь, они иногда скучают в Сирте.
Я вдруг посмотрел Фабрицио прямо в глаза, и в голосе моем закипел вызов:
— Ты думал когда-нибудь про тот берег?
Фабрицио остановился в нерешительности, озадаченный, я думаю, не столько моим вопросом, сколько моей резкой, обжигающей губы интонацией.
— Нет, в общем, не думал. Понимаешь, у меня и в мыслях ничего не было. Это типичная выходка школьника, не больше. Скажу тебе прямо, при мысли о Фаргестанской войне кровь у меня в жилах не вскипает. Согласись, ведь все это уже таким быльем поросло. Они, конечно, дикари, но, если на то пошло, нас-то они не трогают. Хотя, конечно, я, как и все, готов, если они вернутся, встретить их соответствующим образом. Что за денек, Альдо!.. Ты только представь себе наш старый «Грозный» извергающим огонь на лагуны. Занимательнейшее было бы зрелище, нечто вроде фейерверка во время праздника святого Иуды. Жалко только, что все это годится разве что на сказки для орсеннских кормилиц. Но хоть какое-то развлечение.
— Ты, значит, относишься положительно.
— Дело в том, Альдо, что я размышлял об этом гораздо меньше, чем ты, вот и все. Что прошло, то прошло. Хочешь, я тебе скажу: Фаргестан — это как бука; он годится сейчас лишь на то, чтобы пугать им детей.
— Это не так уж мало.
Фабрицио в шутку заткнул себе уши.
— А! Вот они, твои великие мысли. Ты-то о нем думаешь, я знаю, можешь даже не говорить мне об этом.
— Бывает.
— Да, но только когда с тобой это бывает, ты думаешь о нем не так, как я.
— Как это?
— Я вот думаю о нем просто как о какой-то земле, расположенной поблизости, как о любой другой земле. А у тебя Фаргестан превратился в настоящую болезнь. Ты думаешь о нем для себя. Ты испытываешь в нем потребность. Ты мог бы даже изобрести его. Изобретаешь себе буку, чтобы было кого бояться.
Фабрицио приложил ладонь рупором ко рту, скорчил смешную рожу и, повернувшись к обочине дороги, стал шептать.
— Что с тобой?
— Я, как Мидас, поверяю тростнику великую тайну: «Альдо изобрел Фаргестан! Альдо изобрел Фаргестан!»
— Перестань дурачиться.
— Я это не для того, чтобы обидеть тебя. Как-никак у каждого свои причуды. Кстати, ты не один о нем думаешь.
— Правда?
Фабрицио опять стал серьезным.
— Марино тоже думает. Это, вероятно, эпидемия. Он думает о нем, может быть, даже больше, чем ты.
— Тебе так кажется?
— Да, сейчас я тебе объясню. Я заметил одну странную вещь. Как-то раз, когда у меня вечером оказалось свободное время, я решил поискать в библиотеке что-нибудь про Фаргестан. И не нашел там ни единой книги. При том, что в каталоге их значится несколько штук. И вот их не оказалось. А Джованни потом сказал мне, где они находятся. Они все у Марино, все в его комнате.
— Ну и что из этого?
Сам того не осознавая, я произнес свой вопрос крайне недружелюбным тоном. И вдруг стал защищать перед Фабрицио своего единомышленника.
— Что из этого? Да ничего. Только если ты будешь говорить таким тоном… Мне казалось, что тебя это интересует. Успокойся, никто твой Фаргестан похищать у тебя не собирается, — добавил он с досадой.
Однако настроение Фабрицио меня не заботило. Я думал о резком тоне Марино, о тоне, который был мне незнаком: «Вы просто безмозглый мальчишка, неспособный оценить последствия своих поступков».
Кладбище — насквозь продуваемый морским ветром и наполненный шуршащим колыханием тростника квадрат, образованный низкими, грубо сложенными стенами, — находилось на высоком выступе над морем. Жесткие, по линейке вычерченные ряды могил без цветов, холодная нагота аллей без деревьев, бедность этого некрополя, который содержали педантично по предписаниям, отдельные заброшенные ямы — все это еще больше усугубляло угрюмую и терпкую печаль, которую почему-то не ощущаешь в пустыне, когда видишь одинокие могилы. При виде этой управляемой пустоты, где даже мысль о смерти и то казалась чем-то слишком живым, к горлу подступал комок; три века безымянного воинского бремени, растворившись один за другим, сменились безымянностью песков и выровняли здесь площадку, готовую превратиться в абсолютное ничто.
Они, защитники Орсенны, гнили здесь стройными рядами. У меня перед глазами выстроились в бесконечной перспективе три века защитников родины, и мне казалось, что это виднелся поднимающийся из болот, вздымающий тысячи и тысячи рук лес, насаженный терпеливо упершимися в землю сваями, на которых стоит город. Тела, иссушенные песком, лежали строго одно над другим, образуя лес вертикальных свай, который удар за ударом вгонялся в землю тяжелыми, шаткими кувалдами. Зловещий гений города обнаруживался даже здесь, на краю света, обнаруживался, проявляя свою терпеливую страсть все уродовать и калечить: из стольких новых и простодушно цветущих жизней он соорудил, яростно обстругивая и обтесывая, этот плотно пригнанный сруб, этот траурный остов. Поколения за поколениями тратили свои жизни лишь на то, чтобы точно выдолбить свой смертный паз, чтобы правильно обтесать себя по меркам предусмотренной для них дыры в песках. Прожорливый город, стоящий на головокружительно высокой вершине сада чудовищ, выступая из земли, держался на остове из заживо обструганных скелетов. И вот он, похожий на тонкую, живую и совершенно обезумевшую оболочку, сам ставший добычей гигантского некроза, все еще существовал в пространстве и времени и использовал всю оставшуюся в нем влагу, все выделения своих костей, чтобы протянуть вниз под землю в виде кошмарной вертикали один из тех грандиозных каркасов, которые геологические эры кладут потом плашмя.
Пока мы, Фабрицио и я, рассеянно шли по этим мрачным аллеям, маленькое вооруженное войско в молчании сосредоточилось у ворот кладбища: десантный взвод, часть экипажа «Грозного» и команда сельскохозяйственных рабочих, узнаваемых по их неловким жестам и испачканным в хлевах гимнастеркам с прилипшими кое-где соломинками. Раздалась отрывистая команда, войско взяло на караул, и Марино спешился перед самой решеткой.
Мы приветствовали его у входа. Тяжеловесный и медлительный из-за своих больших форменных сапог, похожий на вырядившегося в маскарадный костюм крестьянина, капитан нацепил на свою серую гимнастерку медаль «За доблесть», награду, на которую Синьория расщедривалась нечасто. Ступая своим тяжелым шагом, он увлек нас в глубину кладбища. Там, в обрамлении недавно переделанной каменной кладки, виднелся обветшалый участок стены, еще сохранившей в одном углу герб и дату вступления в должность воздвигнувшего ее подесты; на этой голой стене выделялась, приковывая взгляд наподобие яблочка мишени, скромная и горделивая печать Орсенны: герб города и странный девиз, где запечатлелся его бессмертный гений: «In sanguine vivo et mortuorum consilio super sum»[2]. Войска выстроились перед стеной: двойная серая шеренга, оживленная красными брызгами знамени святого Иуды; главный боцман вручил Марино венок из мирта и сиртского лавра; капитан, с трудом наклонившись, положил его у подножия памятника, а потом, выпрямившись, снял с головы фуражку. Последовала минута мрачного молчания. В этой глубокой неподвижности шевелилась только кажущаяся почти живой прядь растрепанных морским ветром седых волос капитана. Установилась дремотная тишина; я внезапно обратил внимание на грязный подтек, пачкающий каменное подножие памятника и достигающий пористой подставки из почерневших листьев. Увядшие венки из года в год соскальзывали к этой вбирающей все в себя подушке, напоминая о тихой преемственности гниения, отраженной в девизе города. Этот прирученный гумус радовал августейшее обоняние. Орсенна продолжала производить кладбищенскую землю даже с помощью своих символов.
В этот момент словно вдруг налетел внезапный шквал: затрубили трубы. Они играли старинный гимн Орсенны, мелодию героических времен, при звуках которой представлялись жесткие парчовые одеяния, варварские тиары, священные шлейфы на мраморных ступенях, трепещущее, как крылья, пламя победных факелов, галеры на море, плывущие под парусами в зареве заката. Великолепная и величественная разбушевавшаяся стихия, похожая на сменяющие друг друга полотнища храмовой драпировки, бесконечные, ниспадающие жесткими складками, переливающиеся неосязаемыми восточными муарами. На кладбище падали сладостные молнии, рассыпающиеся на мелкие капли серебряного дождя. Длинные, короткие, снова длинные ноты гнались друг за другом, как какой-нибудь нечеловеческий зов, как красная лава горячей радости, удушливой, как сгусток крови. Наконец они оборвались, словно кто-то включил внезапно свет. Ничто не пошевелилось. До самого-самого горизонта простирался Сирт, серый и блеклый. А венок все висел и висел на своем крючке. Пальцы Марино смущенно теребили окантовку фуражки. Трубачи, перед тем как спрятать инструменты в футляры, скручивали на них, как какие-нибудь уже не поддающиеся прочтению свитки пергамента, флажки, украшенные гербом города.
В Адмиралтействе был устроен торжественный обед, куда Марино из соображений дипломатии пригласил кое-кого из богатых фермеров, являвшихся для нашей перелетной рабочей силы самой надежной клиентурой. Их аляповатые деревенские манеры и чрезмерная сердечность Марино мне не понравились; за десертом у них наметилась какая-то сделка, из-за чего нервы мои совершенно оголились; хотя в том, что своим небольшим войском Марино руководит без малейшей тени корысти, я не сомневался. Торжество достигло своего апогея, когда наш командир предложил им осмотреть крепость; меня меньше бы расстроило, если бы обезденежевший Король-солнце вдруг пошел прогуляться по версальскому парку с откупщиками налогов; я сказался больным, извинился и распорядился седлать мою лошадь. Я был и в самом деле на грани заболевания; меня тошнило при мысли о том, что их едва-едва очищенные от навоза и соломы сапоги потащутся по благородной мостовой: мне это казалось чуть ли не кощунством. Фабрицио понял мой маневр и перехватил меня, когда я выходил из зала.
— Не забудь, что сегодня день Альдобранди. На тебя очень рассчитывают. Машина отправляется в шесть часов.
— К черту это отродье! — прошипел я, теряя терпение. В этот момент я причислял к гнусной армии штатских даже Ванессу и предупредительность к ним, проявленная Марино, вызывала у меня сильное раздражение.
— Ты, по-моему, просто сошел с ума.
Фабрицио опять, как сегодня утром, красноречиво возвел к небу глаза и пожал плечами. Я несколько резковато уклонился от его конфиденциальной проповеди и побежал на конюшню. Мне не терпелось остаться одному.
У меня впереди был целый день, погода стояла прекрасная, и я решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы совершить неблизкую, давно откладываемую поездку на развалины Сагры. Об этом мертвом городе мне рассказал Джованни, которого иногда гнали туда его охотничьи интересы; похоже, что там, в некоем подобии окаменевшего от страшной изоляции подлеска, чуть ли не на каждом углу улицы попадалась крупная дичь. Мысль о подобном безлюдье мне была приятна; солнце пока еще сияло высоко в небе, и я отправился в путь, предварительно сунув в седельную кобуру охотничий карабин.
Наполовину стершийся след, который, петляя в камыше, вел к развалинам, проходил по одной из самых неуютных частей Сирта. Там было много густых массивов тростника, называемого голубым ильвом, жесткие стебли которого весной, на протяжении очень короткого периода, зеленели, затем желтели и целый год стояли сухие, при малейшем ветре ударяясь друг о друга с легким скрипом, напоминающим хруст костей, и еще никогда ни один плуг не касался этих обездоленных земель. Я продвигался по узкой траншее из сухих стеблей, зловещий костяной шелест которых придавал этому безлюдью подобие жизни; некое разнообразие вносили лишь время от времени открывающиеся слева просветы с мелькавшими в них лагунами, тусклыми, как какое-нибудь оловянное лезвие, и окаймленными желтизной, в которой медленно растворялась, умирала навязчивая и еще более тусклая соломенная желтизна тростника. Однако вся эта печаль — она присутствовала даже в пылающем над мертвой землей солнце — не угнетала меня; внутри у меня было ощущение легкости и счастья. Я чувствовал, что мне сродни этот наклонный пейзаж, скользящий к абсолютному опрощению. Пейзаж, являющийся началом и концом. За этими пространствами скорбных камышей простирались еще более бесплодные пески пустыни, а дальше, за туманом миражей, сверкали на солнце похожие на воплощенную смерть — мне хотелось теперь называть вещи своими именами — вершины. Подобно близким к природе людям, которые по некоторым ориентирам безошибочно узнают истинную добродетель, я решительно продвигался к югу: правильное направление указывал мне некий тайный магнетизм.
Между тем солнце уже клонилось к закату. Я ехал несколько часов, но ничто на этих открывшихся взору равнинах не возвещало о приближении развалин, ломаные очертания которых я силился разглядеть на гладком горизонте. Какое-то время я продвигался в направлении одиноко стоящей и довольно густой рощицы, окаймлявшей лагуну, куда, к моему удивлению, направлялись также еще совсем свежие следы машины, проехавшей по узкой тропе и изрядно поломавшей камыши, срезанные стебли которых виднелись повсюду. Пока я терялся в догадках, размышляя о том, что могло привести Марино и его лейтенантов в этот отдаленный лесок, до моего слуха неожиданно донеслось удивительное журчание ручья; камыши уступили место смешанному кустарнику, потом густой лесной чаще, и я вдруг оказался на улицах самой Сагры.
Джованни не лгал. Сагра оказалась чудом барокко, невероятным и тревожным смешением природы и искусства. Вода из очень древних подземных каналов, под давлением поступавшая из расположенных в нескольких милях источников, в конце концов просочилась сквозь стыки каменной кладки на улицы города; в результате мертвый город со временем, по прошествии веков, превратился в мощеные джунгли, в висячий сад из могучих стволов, в гигантомахию деревьев и камня. Пристрастие Орсенны к массивным и благородным материалам, к граниту и мрамору, еще более подчеркивало ту щедрую и показную ярость, которая чувствовалась в этой борьбе буквально повсюду; повсеместно бросалась в глаза самонадеянная, совсем как у цирковых силачей, демонстрация мускулов, которая проявлялась в нарочитом сопротивлении материи, сталкивающей разные свои выступы; тут нависший над зияющей пустотой балкон пытается вырваться из жестоких объятий ветвей, там накренившаяся и готовая вот-вот запрокинуться стена сопротивляется мощному напору пружинистого ствола — все это, казалось, нарушало законы тяготения, создавая навязчивое ощущение замедленного показа взрыва или запечатленного на снимке момента землетрясения.
Удивленный, я продвигался в этой зеленой полутьме, где солнечный свет, стекая по неподвижным ветвям, ложился узорчатой сеткой на истертую мостовую. Тяжелая влажность тянулась по земле, покрывая песчаник бархатистым мхом, который приглушал все шумы, кроме звонкого и очень чистого журчания воды, сочившейся отовсюду быстрыми ручейками, беспечно стекавшей по камням, как после только что закончившейся бомбардировки или пожара.
Я привязал лошадь к одной наполовину распавшейся дверной раме и пошел бродить наугад по проспектам, спотыкаясь порой о насыщенные влагой груды сгнивших листьев. Судя по всему, Сагра была не столько городом, сколько банальным базаром, в шахматном порядке разбросавшим по берегу лагуны свои немногочисленные улицы. Первые этажи домов, в глубине которых виднелись крепкие сводчатые залы и просторные подвалы с обвалившимися над ними частями мостовой, свидетельствовали о том, что это были в основном магазины и хранилища; кое-где в глубине буйных садов, превратившихся в заросшие зеленью крепости, угадывались призрачные профили богатых вилл. Однако сумрак и полнейшая неподвижность как бы заключали эти жалкие обломки в своеобразный магический кристалл, навевали сон и во сне под звуки текущей из родников воды словно звали давно исчезнувших жильцов вернуться к своим скромным занятиям и начать ткать вокруг колодца, вокруг прачечной те неизбывные жесты, при виде которых забьется бешено сердце от ощущения вечности жизни. У меня появлялось внезапное тревожное желание разбудить на мгновение эхо этих улиц, окликнуть какую-нибудь живую душу в лабиринте безмолвия.
Однако, разумеется, там никого не было. На улицах, и без того темных, становилось все темнее, и я уже совсем было решил возвращаться, как вдруг мне послышался легкий шум волн, после чего я почти сразу же неожиданно оказался на берегу водоема неправильной формы с плещущейся в нем водой — это был бывший порт Сагры. Его окружали большие деревья, нижние ветви которых купались в волнах, оставляя незатененной лишь центральную часть водоема. Тут мой взгляд привлек наполовину скрытый в тени деревьев необычный силуэт, поблескивавший металлом в слабом предвечернем свете: у разрушенного пирса стоял на причале небольшой корабль.
Я инстинктивно отпрянул назад, за деревья, как-то моментально осознав, что нужно во что бы то ни стало не выдать своего присутствия. Мне сразу припомнились следы на тропинке. И тут же где-то в глубинах памяти появился другой образ, еще более отчетливый. В этом неопределенном, пока что едва угадываемом силуэте что-то напоминало мне видение, промелькнувшее на берегу перед Адмиралтейством.
К счастью, гавань была окружена густой растительностью, и я перебрался на более удобный наблюдательный пункт. Плохо различаемое за ветвями судно выглядело совсем небольшим и напоминало прогулочный катер, но в то же время оно показалось мне надежным и вполне приспособленным для плавания в открытом море. Корма, однако, была видна отчетливо, что дало мне повод похвалить себя за осторожность: на ней не было ни названия, ни принятых в Орсенне морских регистрационных знаков. Я почувствовал, как у меня к сердцу вместе с азартом охотника поднимается что-то вроде внутреннего ликования: теперь у меня было оправдание. Я получал преимущество перед Марино. Что-то здесь было явно нечисто.
Поднявшись на цыпочки и разглядывая судно сквозь листву, я видел теперь его почти полностью. Оно притягивало меня к себе, как магнит, как долгожданное видение, как неожиданно появившаяся в оптическом прицеле карабина, кажущаяся такой близкой — но не утратившая ореола таинственности — редчайшая дичь. Оно находилось в моей власти. Стоящее на причале посреди безмолвия джунглей, оно могло бы показаться покинутым, если бы не блеск меди и не свежая краска, которые свидетельствовали о недавно проведенном ремонте. Какое-то мгновение я пребывал во власти неодолимого желания прыгнуть на палубу и все выяснить про эту свою неожиданную добычу, но вовремя подумал о том, что судно, возможно, охраняется с берега, и стал всматриваться в освещенные угасающим светом дня, нависшие над разрушающимся пирсом густые заросли. И тогда я увидел на небольшом расстоянии, под деревьями, силуэт полуразвалившегося домика, откуда, к моей досаде, отбившей у меня всякое желание выходить из укрытия, вилась струйка дыма.
Пока я размышлял над тем, как преодолеть неожиданно возникшее препятствие, сзади меня вдруг совершенно некстати послышалось ржание моей лошади, эхом разнесшееся по всему лесу, и почти тотчас же от домика отделилась фигура мужчины с ружьем в руке. С озабоченным и нерешительным видом, как-то неуверенно, словно подчиняясь рефлексу, он шел к судну, которое, очевидно, ему поручили охранять; иногда он останавливался и прислушивался, благодаря чему мне удалось чуть отчетливее разглядеть его на фоне одного из просветов в зарослях. Одежда у него была такая же, как и у сиртских пастухов, но меня поразила его раскачивающаяся, необыкновенно пружинистая походка и особенно очень темный, какой-то экзотический цвет лица и рук. Тень уже скрыла его мельком увиденный силуэт, почти неизъяснимое впечатление затуманилось, и все же — нет, то не была игра захваченного врасплох и разгоряченного воображения — мне казалось, я мог бы поклясться, что этот человек не принадлежит к числу тех людей, которых ожидаешь встретить в Сирте. А он между тем застыл на какое-то мгновение, огляделся и, очевидно успокоившись, той же раскачивающейся, быстрой походкой вернулся в свою хибару.
Поскольку было ясно, что судно хорошо охраняется, мне не оставалось ничего иного, кроме как отправиться домой. Стараясь ступать как можно тише, я добрался в темноте до одной из призрачных улиц, а затем вывел свою лошадь под уздцы к рассеянному свету, обозначавшему вход в развалины, и незаметно покинул заинтриговавшую меня Сагру.
Я не боялся заблудиться в этой довольно светлой ночи и отпустил поводья сразу, как только мы добрались до камышовой траншеи, по которой, как по рельсам, моя лошадь должна была дойти до Адмиралтейства. Между стоящим в Сагре кораблем и следами машины была явная связь, и чем больше я над этим размышлял, тем больше склонялся к выводу, что ключ от этих загадочных поездок взад-вперед таится, скорее всего, где-нибудь в Маремме. В голове вертелась мысль о контрабанде, но внешний вид прогулочного катера никак это не подтверждал. Впрочем, его присутствию в Сагре можно было найти и множество других, весьма и весьма невинных объяснений. Однако я отвергал их с инстинктивным отвращением; мои предположения уже жили своей собственной жизнью, навязчиво проецируясь в том единственном направлении, на которое в моем сознании настраивалось все более или менее выходящее за рамки обыденного.
Я уже не мог скрывать от самого себя тот факт, что все, в той или иной мере связанное с Фаргестаном, стало приобретать для меня чрезмерное значение. Поначалу он был в моей праздной жизни в Адмиралтействе предметом смутных мечтаний — я искал какую-нибудь находящуюся в пределах досягаемости опору против искушения пустотой. Нарушенный сон Орсенны, столь плохо защищенный от натиска навязчивых воспоминаний, столь похожий на сон отягченного долгой памятью старика, потворствовал моим дерзким снам, и было странно, что я инстинктивно воспринимал сновидения — как сновидения, а Фаргестан — как удобный образ, извлеченный прихотью воображения из безмолвия карт и вновь туда погруженный. Утренняя беседа с Фабрицио внезапно раскрыла мне глаза среди прочего и на мои собственные невинные блуждания лунатика. Туман самоуспокоения рассеялся. Передо мной был берег, к которому могли причаливать корабли, и была земля с живущими на ней людьми, тоже наделенными воображением и памятью.
Именно в такой перспективе я был склонен размышлять отныне о корабле, который столь бесцеремонно обходился с навигационными инструкциями, и именно это обстоятельство подсказывало мне, что Марино о моем открытии знать ничего не должен. Что же касается остального, то определять свою линию поведения я не торопился. Уже двое суток я жил с ощущением, что вошел в контакт с цепью событий, которые взяли меня на буксир. Открытие, сделанное мною в Сагре, явилось одним из звеньев этой цепи, и, поторапливая свою лошадь к Адмиралтейству, находясь во власти предчувствия ближайшего будущего, полного неожиданностей, я опять принялся размышлять о знаке, поданном мне Ванессой. Я уже горько сожалел о своей вспышке раздражения; вдруг у меня появилась надежда, что машина еще не уехала, я пустил лошадь в галоп и был раздосадован, когда, добравшись по проложенному рядом с лагунами шоссе до погруженного в ночь Адмиралтейства, обнаружил, что там уже никого нет.
Визит
Я очень расстроился, и впервые за все истекшее время одиночество в Адмиралтействе показалось мне тягостным. На лагуны вместе с ночью опустился тяжелый туман; по голым стенам струилась влага; свет моей лампы, когда я пересекал пустырь, вырисовывал тот же самый фантастический ореол, о котором напомнил мне Марино. На душе у меня было тревожно и горько; я вдруг почувствовал себя таким же одиноким, как наказанный ребенок, который из глубины своей темной комнаты тянется к теплу и к праздничным огням. В этот момент я впервые с удивлением обратил внимание на то, что факт знакомства Ванессы и Марино выглядит просто невероятным. Всякий раз, когда люди, участвовавшие в совершенно разных эпизодах нашей жизни, вдруг где-то вдали от нас устанавливают контакт между собой, нас начинают мучить предположения о некоем подозрительном сговоре, внезапно омрачающем и окутывающем тайной огни того далекого праздника. На фоне тех театральных декораций, которые рисовало мне на расстоянии воображение и которым предполагаемое присутствие Ванессы придавало резкие и напряженные тона, разыгрывалась благодаря моим сновидениям весьма знаменательная сцена, где, как подсказывало мне мое тревожное предчувствие, каким-то образом решалась моя судьба.
Эти тягостные предчувствия делали еще более скучным и без того унылый вечер. Я долго прогуливался взад и вперед по своей комнате. Моему утомленному таким механическим хождением сознанию темное помещение в конце концов стало казаться в чем-то необычным; оно питало во мне странное, неуютное чувство, которое возникает, когда догадываешься, что в знакомой комнате переставили мебель, но никак не можешь понять, что же, собственно, было переставлено. Я вдруг осознал, что мой взгляд то и дело машинально падает на принесенные накануне и валяющиеся в беспорядке на столе карты Сагры, точнее, я понял, что вот уже целый час меня мучает желание отправиться в палату карт.
Возвышающаяся за пустырем глыба крепости в почти непроницаемой черноте выглядела тем более внушительной, что, как мне вдруг показалось, от нее даже в темноте падает тень, посылая всему лагерю сна слабую, но ощутимую пульсацию тяжело, мощно бьющегося в ночи сердца мрака. Я шел посреди тяжелой, свинцовой неподвижности, и огромный заслон крепости защищал меня от ветра, налетевшего с моря и посвистывающего в зубцах ее стен. Теплая, влажная, слишком мягкая ночь придавала заточенному в казематах воздуху печаль на миг приоткрытой тюрьмы; влага леденила стены коридоров, словно внутреннюю поверхность пещеры. Блуждающий, постоянно подрагивающий свет, который моя лампа настойчиво ввертывала в эти туннели, заставил меня в этот раз острее, чем когда-либо раньше, почувствовать исключительно негостеприимный характер места. Его молчание было выражением высокомерной враждебности. Казалось, что вот за этой замышляющей козни тенью, в этом вот сплетении сосудов, окутавших черное сердце, притаилось нечто угрожающее.
Слабый свет моего фонаря на стенах палаты карт теперь позволял ощутить почти физически ту легкую дрожь пробуждения, напряженную вибрацию которой я почувствовал своими нервами еще во время своего первого визита. Так же как запечатленный в наскальных рисунках крик теней на стенах пещер может растаять вдруг при свете зажженной лампы и ожить, освобождаясь от глины веков, так и доспехи блестящих карт тоже оживали в ночи, прилаживая кое-где свою сеть магических фресок к оружию терпения и сна. От усталости, накопившейся во время поездки верхом в Сагру, от того, что было уже поздно, мне вдруг стало казаться, что покидающая мое затуманенное сознание энергия передается этим вот нечетким контурам и, лишая меня возможности воспринимать их обыденный смысл, одновременно потихоньку открывает мне путь к восприятию колдовской силы этих иероглифов и устраняет один за другим заговоры, мешающие пониманию их загадочного смысла. Я постепенно погружался в населенный кошмарами сон и в полусне услышал вдруг, как часы пробили в спящей крепости десять часов.
Охватившее меня состояние немочи преодолевалось с трудом. Пробудившись после короткого сна, я решил, что вид помещения как-то непонятно изменился. Стены зала, как бы страшась моего взгляда, в котором совсем уже не было сна, продолжали слегка шевелиться; казалось, что сновидение просто не хочет так вот сразу исчезать из этой столь беззащитной комнаты. По холодку в спине я почувствовал, что легкий ветерок, который продувал комнату, не стих, и вдруг догадался, что пляшущие тени дрожали на стенах под лучом моего фонаря и что дверь сзади меня несколько секунд назад бесшумно открылась.
Я повернулся всем телом и вздрогнул, почувствовав на щеке ткань женского платья. В темноте раздался легкий, музыкальный смех, который отбросил меня в море, накрыв последней волной сновидения. Я вцепился руками в платье и поднял глаза к утопающему в тени лицу. Передо мной стояла Ванесса.
— Я бы не сказала, что Адмиралтейство так уж хорошо охраняется. Я скажу об этом капитану. Так вот из-за чего ты покидаешь свою лучшую подругу, — добавила она, с любопытством наклоняясь над столом.
Она уже сидела на подлокотнике кресла и, покачивая ногой, не торопясь разворачивала карты — так в деревне от нечего делать открывают дверь соседского дома. С первого же мгновения я узнал ее бесподобную непосредственность, с которой она немедленно вписывалась в новую обстановку, ту ее легкость, с которой она раскидывала свой шатер, нисколько не заботясь о ветре.
— А твои гости?.. Как ты оказалась здесь? — произнес я наконец не очень уверенным тоном.
Вынужденный так вот резко вступить в разговор, я вдруг, сам не знаю почему, почувствовал себя пойманным с поличным.
— Мои гости чувствуют себя прекрасно и благодарят тебя. Они пьют за мое здоровье в Маремме.
— Но… Ванесса?
— Он правильно сказал, он еще не все забыл…
Снова раздался легкий смех, странно прозвучавший в этой комнате с глубоким эхом — словно кто-то рассмеялся в театре за погасшей рампой. Ванесса положила руку мне на лоб и посмотрела на меня пристально и серьезно.
— …Какой же ты все-таки еще ребенок, — добавила она с почти нежной интонацией. — Тебе здесь нравится? — Она медленно обвела взглядом темную комнату. — …Марино говорит, что тебя от Адмиралтейства просто оторвать невозможно. Это верно?
Я глядел на нее все еще с удивлением, а она тем временем осваивалась понемногу, водворялась, похожая на абсолютно устойчивое, спокойное пламя свечи в тихой комнате. В пыльном хаосе палаты карт ровный, очень бледный цвет ее рук и груди вызывал ассоциации с каким-то необычайно ценным материалом, столь же лучезарным, как белое женское платье во мраке ночного сада.
— Я действительно практически не покидаю его. И мне действительно здесь нравится.
— Тут, конечно, не так весело, как в саду Сельваджи. Хотя место и правда не без очарования.
Теперь, привыкнув к темноте, ее взгляд вдруг стал пристальным. Она подняла фонарь вверх: из тени выступила затейливая мешанина карт. На ее лице застыло напряженное, как у ребенка, любопытство.
— Ты приходишь сюда смотреть на карты?
— Это допрос?
— Это характеризует тебя с самой лучшей стороны. По-моему, ничто так не украшает комнату, как карты.
Луч фонаря остановился на одной старинной карте, украшенной соцветиями странных витых букв. В интонации Ванессы вдруг послышался прямой вызов.
— А у меня в Маремме, в моей комнате, такая же. Ты увидишь ее.
— Интересно, что привело тебя в Маремму?
— Сирт сейчас в Орсенне очень в моде. И у нас здесь владение — полуразрушенный дворец. Ну а мне было скучно. Вот и пришла мне в голову фантазия навести тут порядок. Похоже, ты единственный, кто не в курсе. А кстати, тут встречаются приятные люди. Например, твой друг Фабрицио…
Лицо Ванессы незаметно напряглось, как у человека, прислушивающегося к звуку упавшего в колодец камня.
— …Капитан Марино.
Последнее имя оживило мои недавние переживания, потревожило дремавшую во мне мутную водицу.
— Капитан Марино — это не совсем то, что я мог бы назвать приятным человеком.
— Ты не прав, Альдо. Он тебя очень ценит, уверяю тебя.
— Весьма тронут тем, что он поручил тебе передать эти заверения.
Ванесса не обратила на мои слова никакого внимания.
— Он без устали хвалит твое рвение. Только ему кажется, что ты запальчив, склонен пофантазировать… — Она настойчиво смотрела мне в глаза. — …Я напомнила ему, что ты еще слишком молод, что не нужно сетовать на горячность молодых людей, что ты остепенишься.
В пристальном взгляде ее глаз на насмешливом лице было гораздо больше вопросов ко мне, чем в этой непринужденной болтовне.
— …Видишь, какие у нас серьезные беседы.
— А еще о чем вы говорите?
— У нас много общих тем для разговора.
— Марино ведь интересует только служба.
— Это обстоятельство нашим беседам не вредит.
Ванесса добилась своего. Я почувствовал, как краска злости заливает мне лицо.
— Прекрасно. Если ты в курсе, что у нас происходит на службе, то ты поймешь, что у службы есть и свои требования. Я очень огорчен, поверь мне, тем, что мне не удастся провести этот вечер с тобой.
— Элегантнее способа выпроводить просто не придумаешь. Я-то наивно надеялась, что мой визит доставит тебе удовольствие. Я и не представляла себе, что у тебя столько работы. Придется пожаловаться Марино. Я пристыжу его за то, что он запирает тебя по вечерам в темном каземате. Скажу ему, что он превратил тебя в настоящую Золушку.
Своим смехом она открыто провоцировала меня.
— Я работаю, когда хочу, причем там, где мне нравится.
Ванесса закатилась безумным хохотом. Этот ее доброжелательный смех, этот дождь нежного веселья исправлял мое плохое настроение и, словно взяв за руку, возвращал в сад Сельваджи. Она направила на меня вздрагивающий от приступов ее смеха фонарь, и я почувствовал у себя на лбу подбадривающее прикосновение и успокаивающее тепло ее руки, дружелюбно треплющей мне волосы.
— Здесь! И больше нигде! Мне все ясно. Ты напоминаешь, Альдо, надувшегося малыша. Ты просто прелесть.
Ее взволнованный голос внезапно сломался на глухой модуляции, от которой у меня по рукам и по губам забегали мурашки. Легкая возня сблизила нас. Я схватил задержавшиеся у меня в волосах руки, фонарь упал, наступила полная темнота. Я погрузил голову в ее теплые ладони, осыпая их долгими поцелуями. Ванесса в темноте мягко прижимала их к моим губам. Потом она резко отстранилась, словно проснувшись, и отвела взгляд в сторону.
— Ну и как, понравились тебе развалины Сагры?
— Развалины Сагры?.. Ты и впрямь, Ванесса, видишь все насквозь. Я как раз говорил себе, что тебе они наверняка понравились бы.
Ванесса встала, накинула на себя шубу и пристально посмотрела мне в глаза.
— Если ты меня любишь, Альдо, то сохранишь свои впечатления при себе.
Отрывистый тон, диссонирующий с приглушенным голосом, преграждал путь любым комментариям, и я, поколебавшись, тоже встал. Ванесса зябко куталась в свои меха: белое пятно ее платья погасло, и она опять растворилась в темноте комнаты.
— Я, разумеется, забираю тебя.
— В Маремму? Так поздно!
Я уже полностью капитулировал. Мне больше не хотелось с ней расставаться.
— Не будь ребенком. Я обещала привезти тебя. А то получится, что ты меня компрометируешь… — добавила она с лукавой улыбкой. — И к тому же я хочу, чтобы ты видел мой праздник, это решено… Я устраивала его для тебя.
Я слушал, как в ее голосе набирает высоту хорошо знакомая мне детская порывистость. Я обретал ее вновь. Глядя на нежные черты ее лица, можно было наблюдать, как чувства и мысли не формируются в них, но рождаются. Желания Ванессы поднимались к ее глазам в своей первозданной свежести, как выходящие из моря звезды.
— Решайся, тебя же не нужно упрашивать, как какого-нибудь избалованного ребенка.
Я согласился поехать не столько ради праздника, сколько ради самой поездки вдвоем с Ванессой. Ванесса сидела за рулем. Обнимая ее одной рукой, я чувствовал рядом с собой через теплый мех мягкую покорность ее гибкого тела. Иногда мы проезжали мимо больших укрепленных ферм, сладко спящих в теплой сиртской ночи, и тогда серые стены на краю песчаной дороги на миг отсвечивали в лучах наших фар; иногда принимались кукарекать обманутые этим странным светом петухи. Резкий свет прижимал к бугристой обочине дороги зверушек, похожих на окаменелые комья серой земли, высекал у них из глаз резкий блеск драгоценных камней. Ванесса уносила меня в легкую ночь. Я сосредоточивался в ней. Я чувствовал ее рядом с собой, как русло реки, более глубокое, чем предчувствуют бурные воды, как тот ветер, который дует в лицо и уносит с собой так, что устремляешься вниз, в разверстую могилу, словно на свое исконное место, закрыв глаза, со всей весомостью своего существа. Я вверял себя ей посреди царившего вокруг нас безлюдья, как вверяются дороге, предчувствуя, что она приведет к морю. Когда мы приехали в Маремму, над лагунами стояла насыщенная туманом и лунным светом молочная ночь, вся лучезарная от растворенного в воздухе серебристого света спокойных вод. Меня не покидало пронизывающее эту белую ночь чувство нереальности. Маремма, перемешавшаяся со своей ночью, показалась мне городом-туманностью, городом, окутанным волнообразными сгустками тумана, рождающегося, как нам казалось во время езды, из самого дрожания нашей машины и тут же растворяющегося. Машина резко остановилась; я почувствовал под ногами влажную, скользкую мостовую, а на лице — сырое дыхание, обжигающее влажную от сна кожу пассажира, только что вышедшего из теплого вагона. Перед нами вдруг оказался пирс, отвесно обрывающийся над черной водой. Ванесса быстро, не оборачиваясь, шагнула к краю. Онемев от удивления, я смотрел на нее, стоящую на пустынном пирсе, как смотрят на прохожего, который туманной ночью вдруг начинает карабкаться на парапет моста. Ванесса обернулась, с удивлением обнаружила, что она оказалась одна, заметила меня и закатилась безудержным смехом. У пирса нас ждала лодка.
Придя в себя, я припомнил вдруг, что Маремму снисходительно-иронически называли «сиртской Венецией». У меня перед глазами внезапно возник часто приковывавший мое внимание в палате карт образ: рука с длинными пальцами, которая уходит в лагуну и обозначает неустойчивую, болотистую дельту одной из быстро пересыхающих в Сирте рек, редкая из которых достигает моря. В те времена, когда из-за вторжения фаргийцев земля становилась ненадежной, жившие на побережье поселенцы укрывались на плоских илистых островках; потом, чтобы остановить загрязнение лагуны, реку пустили по другому руслу, канал у самого основания отрезал дельту от побережья, и Маремма, так же как и Венеция, обособилась, отдала швартовы: расположившись на своих дрожащих илистых почвах, она превратилась в плавучий остров, в заколдованную руку, повиновавшуюся тем веяниям, что доносились из-за моря. В ту эпоху, когда в Сирте царил мир, она пережила короткий период расцвета: тогда ее моряки, ее колонисты рассеялись по всему побережью и повезли к морю, а затем на галерах в Фаргестан шерсть и фрукты из отдаленных оазисов, а взамен привозили из-за моря золото и необработанные драгоценные камни. Потом началась война, и жизнь ушла с побережья: Маремма сегодня — это мертвый город, сжатая, судорожно вцепившаяся в свои воспоминания рука, рука, покрытая морщинами и проказой, бугрящаяся корками и нарывами своих обрушившихся складов и своих изъеденных пыреем и крапивой площадей.
Я видел, словно во сне, остаток гавани, послед большого города, выброшенный на берег наводнением. От заброшенных каналов шел застойный запах лихорадки; тяжелая, вязкая вода прилипала к веслам. Поверх одной разваливающейся стены к обступившей руины стоячей воде свесило свою верхушку тощее деревце. Повсюду на островах возвышались похожие на ограды монастырей высокие стены, еще сохранившиеся защитные бастионы: последние, уцелевшие от разгрома каре армии, разбитой страшной стихией. Редкий и поверхностный шум весел и лунный туман еще больше усиливали чумную тишину, и тогда было заметно, что слабо отсвечивающая поверхность канала постоянно покрывается тонкими треугольниками: под легкое бульканье и другие привычные шумы, доносящиеся из затопленного рва, некрополем овладевали колонии водяных крыс.
Я положил руку на державшуюся за борт руку Ванессы. По ее молчанию я догадывался, что, глядя на это кладбище мертвых вод, на душераздирающее скольжение города к своей последней погибели, она находится во власти тех же чувств, что и я. Это молчание, похожее на молчание любви, выдавало ее. Ванесса принимала меня в своем королевстве. Я вспомнил про сад Сельваджи и понял, какой магнит притягивал ее к этому логову из плесени и ила. Маремма была наклонной плоскостью для Орсенны, конечным видением, леденившим сердце города, мерзкой демонстрацией ее гниющей крови, непристойным клокотанием ее последнего хрипа. Ванессу притягивало к этому трупу то же болезненное наваждение, которое заставляет людей представлять себе своих врагов уже лежащими в гробу. Исходившее от него зловоние было и залогом, и знамением.
И вот теперь, видя, как Ванесса, подобно украшающей нос корабля богине, указывает мне путь, я понял, что она искала и нашла на этих дальних берегах свое излюбленное видение.
Дворец Альдобранди, отрезанный от города пустырями, где угадывались остатки некогда украшавших его садов, возвышался как бы на кончике одного из пальцев раскрытой руки, и его отшельническое расположение справа от прохода в лагуны и в конце расширенного канала показалось мне симптоматичным, выдающим недоверчивый нрав главы рода, построившего его по своему образу. Эта летняя резиденция, словно в насмешку брошенная к бьющимся в лихорадке водам, чем-то напоминала укрепленный феодальный замок, Отделенный от песчаной косы узким фарватером с перекинутым через него деревянным мостом, он удлинял на берегу канала низко расположенные линии накренившегося над водой мола, в самом конце которого стояла одна из тех прямоугольных сторожевых башен, узких и устремленных вверх, что служат в Орсенне приметой благородных дворцов периода расцвета. В слабом свете луны, сглаживавшем детали, жесткие, военные линии дворца казались прочным фундаментом, напоминали солидность и массивность скамейки, земляной насыпи, торчащей, подобно зубу, из зыбкого ила. В то время как низкие аркады извергали вровень с землей, подобно какой-нибудь печной топке, пучки яркого света, верхняя галерея здания, спящая глубоким сном под лунным сводом, тянулась от края до края, как глухая повязка на глазах, оставляя впечатление враждебности, сдерживаемого в темноте дыхания.
Праздник уже явно миновал свой пик. Его лихорадка спала. Возгласы, доносившиеся от отдельных групп, звучали с тем придыханием одышки и в том равнодушном тоне возврата к покою, которые слышатся в оживленных еще уличных беседах очевидцев спустя некоторое время после несчастного случая. Я поприветствовал Марино не без тени смущения и постарался не отвечать на его хитрый взгляд. Капитан пребывал в весьма хорошем настроении, что я отнес на счет благоприятных итогов утренних переговоров с фермерами. Все же я был несколько удивлен тем, что он с непривычной для него фамильярностью схватил меня за руку и что потом, когда мы медленно ходили между группами гостей, он, как мне показалось, прислушивался к обрывкам доносившихся до нас разговоров. Я видел на его лице то же самое выражение настороженной проницательности, которое приметил у него на мостике «Грозного», когда он нащупывал путь между мелями, и вдруг я понял, что в действительности он гораздо более озабочен, чем мне показалось вначале.
— Ты знаешь, кто они такие? — спросил он меня внезапно серьезным тоном, остановившись и неопределенно махнув рукой в сторону залов.
Пораженный столь непривычными для него болезненными интонациями голоса, я стал разглядывать присутствующих более заинтересованным взглядом. Проходя, я заметил в некоторых глазах огонек внезапного внимания и то тут, то там что-то вроде дружелюбных приветствий, на которые я отвечал весьма неуклюже, оттого что у меня сразу же появилось ощущение, поначалу довольно смутное, что когда-то я все это уже видел. Постепенно некоторые из воспоминаний прояснялись. Среди присутствующих были люди, которых я наверняка встречал у моего отца, пока смерть моей матери не отвратила его от светской жизни, и я шепотом назвал Марино несколько великих фамилий Орсенны, причем таких, что само объявление их в любом салоне нашего города сразу же обеспечивало приему высокий ранг. Уверяя меня, что Сирт входит в Орсенне в моду, Ванесса была права. Однако вполне возможно, что это была не столько установившаяся мода, сколько странная причуда, и поэтому, несмотря на звучные фамилии и вид этой довольно плотной толпы, какие-то сомнения на этот счет у меня все же оставались. Слишком оживленные и как бы тонущие в общем наваждении взгляды вызывали у меня ощущение, что речь здесь идет не столько о блестящем светском приеме, сколько о вынужденном породнении, об интимном франкмасонстве курортных городов, куда приезжают лечить какую-нибудь серьезную болезнь. И меня больше не удивляло, что здоровье Марино выглядит в этой толпе чем-то избыточным. Кстати, я уже успел убедиться, до какой степени она была разнородной и с какой необычной фамильярностью общались в ней люди, которые в Орсенне даже не удосужились бы обменяться приветствием.
— Альдобранди всегда имели обыкновение водиться с неординарными людьми. Можно подумать, что они приехали в Маремму исключительно для того, чтобы подхватить здесь лихорадку.
— Да, здесь тяжело дышится. Напрасно я не остался сегодня в Адмиралтействе. Пошли зайдем в буфет.
Марино вел меня за собой. Мы молча подняли бокалы. Он выглядел все более и более озабоченным.
— Я, пожалуй, поеду, Альдо. Княжна сказала, что она отвезет тебя. Тут я спокоен. Ты здесь у себя дома… — добавил он, слегка прищурив глаза.
— А Фабрицио?
— Этот пострел уже ждет меня в машине…
Марино удрученно махнул в сторону буфета.
— …Ему плохо… Оставляю тебя здесь защищать честь флота, — добавил он с жалобной гримасой.
Я от души рассмеялся. Неумелая доброта Марино, приправленная угрызениями совести, возвращала нас к нашему большому разговору и была робким, но добрым знаком дружбы. В этом был весь Марино, и я опять почувствовал, как же я все-таки его люблю.
— Ванесса огорчится. Знаете, она много говорила мне о вас. Она сказала мне, что вы ведете интересные беседы.
Марино кашлянул и как-то по-детски покраснел, что меня тронуло.
— Это замечательная женщина, Альдо. Совершенно замечательная.
Я даже почувствовал себя слегка обиженным.
— Однако же вам весьма повезло, что вы поладили друг с другом. У Ванессы характер не из легких.
— Я имел в виду нечто другое. — Голос Марино, ровный и благодушный, повысился. — …Она ненавидит меня. Ладно, пора отправляться, — добавил он, явно желая поскорее закончить этот разговор. — До завтра, Альдо. Желаю приятно провести вечер.
Он поколебался какое-то мгновение.
— Остерегайся утренних туманов. Из-за них обычно и заболевают лихорадкой.
Я ни словом, ни жестом не попытался отсрочить этот его внезапный отъезд. Марино, уходя, бросил мне огорченный взгляд. Я почувствовал себя совершенно новым человеком, человеком, который обрел вдруг непринужденность, как девушка, пришедшая на свой первый бал, в тот момент, когда мать, изрядно поборовшись со сном, наконец решила ретироваться. Я знал, что Ванесса не преминет подойти ко мне, но время у меня еще было, и я обнаружил в себе желание поближе познакомиться с сомнительными мареммскими гостями. Я направился в тот зал, откуда доносились и текли вдоль побережья волны музыки. Я рассчитывал на снотворное действие музыки; там лучше, чем где бы то ни было, я мог наблюдать за лицами гостей, сам оставаясь в тени.
Праздник у Ванессы вполне соответствовал репутации роскошества и расточительности Альдобранди. Во дворце были широко распахнуты все окна открытой галереи, выходящие непосредственно на лагуну: навязчивый запах стоячих вод, как прилив, поднимал вверх ароматы густых скоплений цветов, придавая им ту самую тоскливую, влажную непроницаемость, что холодит нам виски в приделах, где проводятся траурные церемонии. Сквозь черные оконные проемы можно было видеть кишение качающихся на волнах лодок с цветами и огнями. Из-за того что свет просачивался через густые сплетения свисающих отовсюду листьев, в зале царил зеленоватый, стеклянный полумрак поросшего мохом грота и обитаемого пруда, который замедлял, склеивал движения, оставлял за каждым поблескивающим запястьем нечто вроде зрительно воспринимаемого следа из серебряных заусениц и целиком сохранял в потоке музыки, вовлекавшем в себя вибрации почти жидкого воздуха, зону более глубокого, более сокровенного потрясения. Я едва удержался, чтобы не попятиться назад, как если бы, отодвинув штору, увидел зрелище, предназначенное лишь для очень узкого круга. В зале было довольно мало людей, но меня поразило нечто странное в их позах и в расположении групп, сразу вызвавшем у меня ассоциации не столько с концертным залом, сколько с курильней опиума или с тайной церемонией, и я понял, что мне нужно быстро занять свое место среди присутствующих. Я подошел в полутьме к ближайшему креслу и поспешно сел, инстинктивно сдерживая дыхание.
Очень тяжелая и очень мрачная музыка, плохое освещение и дурманящие ароматы выбивали меня из колеи. Мне показалось, что я медленно прихожу в себя, словно после падения в открытый люк, и что мои органы чувств начинают функционировать не сразу, а один за другим: сначала меня куда-то влечет одна лишь нить колдовской мелодии, а потом я расширяюсь до предела, наполняясь будоражащими ароматами. Постепенно я привыкал к сумраку, и снова меня поразили и вольные позы, и жесты пар, привлеченных сюда, как можно было предположить, надеждой на относительное уединение. Утонченная, таящая в себе какой-то вызов атмосфера, скрытый чувственный магнетизм давали о себе знать то тут, то там, обнаруживали себя то в линии слишком покорно склоненного затылка, то в слишком тяжелом взгляде, то в набухшем глянце приоткрытого в полутьме рта. Повсюду пробуждались, намечались едва-едва заметные движения, некоторые из них обретали заметно более четкое выражение, чем другие, но при этом казалось, что идут они из глубины сна и напоминают жесты спящего. Однако посреди этого бодрствования морского грота я вдруг отчетливо, как дыхание на затылке, почувствовал некое присутствие, более тревожное и более близкое. Я быстро осмотрелся. У меня возникло такое ощущение, словно я ткнулся носом в закрытую дверь: рядом со мной, едва не касаясь меня, находилось обращенное в мою сторону молодое женское лицо. И по той откровенной, царственно равнодушной к скандалу жадности, с какой ее глаза овладели моими глазами, я понял, что отвернуться я уже не смогу.
В этих смотрящих на меня зрачках было нечто такое, что всплывает из самых потаенных, из самых ночных глубин. Эти глаза не моргали, не сверкали, даже не смотрели — их глянцевая влажность напоминала не взгляд, а скорее створку широко раскрытой в ночи ракушки, — они просто пребывали в открытом состоянии, держались на странной, белой лунной скале, обрамленной завитками из водорослей. Эти бездны спокойствия посреди похожих на полегшие хлеба разметанных во все стороны волос словно раскрывались навстречу звездному небу. Губы тоже жили, двигались и, как от нажатия пальцем, как бы втягиваясь вовнутрь — маленький, голый, шевелящийся, как медуза, кратер. Внезапно стало очень холодно. И вокруг этой головы медузы какими-то порывистыми движениями колыхалось нечто причудливое, словно кто-то перебирал одно за другим перепутанные кольца змеи. Голова покоилась в углублении плеча, скрытого темной тканью. Две руки служили ей пелериной, оцепеневшим и одновременно трепещущим от удовольствия ожерельем и черпали, как в наполненном корыте, в глубине своего корсажа. Все это под огромным давлением поднималось из глубин на поверхность, поднималось к своему собственному небу безмятежности, как полная луна сквозь листву.
И к каким бы крепким напиткам я ни прибегал, сколько бы ни отдавался на волю толпы, выносившей меня в самые оживленные точки праздника, оправлялся от потрясения я очень медленно. Словно ослепленные на мгновение слишком ярким солнцем, мои глаза никак не могли избавиться от черной точки, плавающей в искрящемся свете. Каким бы невероятным ни казалось на подобном вечере столь откровенное отправление интимной любовной литургии, шокированным я себя не чувствовал. Смотревшие на меня глаза не судили. Они свидетельствовали. Когда я пытался понять суть этого странного притяжения, вдруг привязавшего меня к ним, мне на память пришел один навязчивый образ, образ естественных, расположенных вровень с землей колодцев, в которых упавший камень не дает никакого звука. В этом тошнотворном вакууме, который не может насытиться, спотыкаешься, задерживаешься всего на одну секунду, а потом прежний путь оказывается заказанным. Глаза те двигались рядом со мной, слабый ветер их бездны задувал свечи; они мягко раскачивали праздник над пучиной кошмара.
Я праздно расхаживал между группами, размышляя о странных людях, собранных Ванессой в своем дворце, и вдруг мне показалось, что одно из тех лиц, которые я время от времени пытался узнать, мелькает в поле моего зрения чаще, чем остальные. Сухое, безбородое лицо, с глазами, как бы подернутыми пеленой, в которых, однако, притаился более выразительный и более острый, чем у других, взгляд, — лицо это было мне знакомо, и его настойчивое возвращение как бы постоянно напоминало мне о себе. Слегка заинтригованный, я на миг между двумя погружениями в текущую, кружащуюся толпу прислонился к стене и стал ждать нового его появления. Рядом со мной раздался отчетливый, хотя и намеренно тихий, бархатный голос, располагавший к жанру конфиденциальной беседы. Лицо было передо мной.
— Грандиозный праздник, не правда ли, господин Наблюдатель?.. Могу я сослаться на дружбу с вашим отцом, чтобы напомнить вам свое имя? — добавил он, без смущения читая на моем лице удивление и слегка улыбаясь. — Джулио Бельсенца… Я знал вас совсем юным… — В его голосе появились заговорщические модуляции. — …Не желая смешивать службу с удовольствиями, я все же подумал, что наши должности могли бы сегодня в какой-то мере сблизить нас с вами.
Я внезапно вспомнил его имя. В полученных мною накануне отъезда инструкциях о моем собеседнике говорилось как о тайном агенте Синьории в Маремме. Я ограничился минимумом любезностей, стараясь избегать профессиональной тематики. В его физиономии было нечто такое, что ассоциировалось с полицейскими сплетнями, слышать которые в салоне Ванессы мне не хотелось.
— …Да, — продолжал голос вроде бы без тени обиды, — надеюсь, вы извините меня за то, что я сказал себе: к черту приличия! Коль скоро у меня есть возможность поговорить с человеком, близко соприкасающимся с Канцелярией… Я пребываю здесь в полном одиночестве — мне не присылают ни указаний, ни информации.
Своим голосом он подчеркнул всю горечь этого небольшого отступления. Внезапно он посмотрел на меня с видом гурмана.
— …А тут еще какие-то слухи…
Примесь беспокойства в его неподвижном и жестком взгляде контрастировала с улыбкой. Мою рассеянность как рукой сняло.
— У меня информации, похоже, гораздо меньше, чем вы думаете…
— В Адмиралтействе ничего не известно? Тогда я спокоен.
Улыбка настойчиво иронизировала. Я почувствовал внезапное раздражение.
— Нет, должен вам признаться, что я не вижу… Я здесь вообще-то оказался случайно, — добавил я неприязненно, — и к тому же я не очень доверяю слухам.
— Да, но слишком уж много этих слухов, причем как раз в Маремме.
— По поводу Адмиралтейства?
— По поводу Фаргестана.
Голос его словно взвесил на долю секунды, почти осязаемо, это более тяжелое, чем остальные, слово. Я почувствовал, как у меня по всему телу пробежала легкая волна — нечто похожее на ощущения рыбака, увидевшего вдруг, как его поплавок погрузился в спокойную воду, — но мгновение спустя мое лицо уже не выражало ничего, кроме абсолютного равнодушия.
— В самом деле? Просто у жителей Мареммы наблюдается склонность к абстрактным разговорам, А о луне они, случайно, не говорят?
Бельсенца бросил на меня хитрый взгляд.
— Можно было бы поговорить и о луне. Добровольных астрологов тут хватило бы. Только вот ведь какое странное дело: невозможно ни понять, откуда эти слухи идут, ни пресечь их. Вам, вероятно, известно, господин Наблюдатель, что Маремма — город не слишком здоровый… Мне платят за то, чтобы я был в курсе всего. («Платят недостаточно», — предельно явственно прозвучало в его голосе. Теперь я обратил внимание на желтый цвет его лица, на вид его — не столько аскетический, сколько осунувшийся, — на весь его покорный облик подчиненного. «Колониальный чиновник, пренебрегающий своим здоровьем, — мелькнуло у меня в голове. — Еще год-два, и его песенка будет спета»), и я окончательно пришел к выводу, что приступы здешней лихорадки объясняются не только наличием болот.
— Вы говорите очень грустные вещи. А вы не могли бы рассказать мне поподробнее?
В глазах Бельсенцы появилась какая-то отрешенность, и, соединив руки, он принял позу человека, не без труда пытающегося сконцентрироваться на своих зыбких впечатлениях; так, когда, проснувшись, человек начинает рассказывать свой сон, он невольно повторяет мимику спящего.
— Я был не прав, упоминая о слухах, и был абсолютно прав, говоря про лихорадку. С одной стороны, это вроде бы пустяк. Сама по себе лихорадка не представляет собой ничего, она просто знамение… Не принимайте и меня тоже за больного… Видите ли, я живу здесь, и мне трудно объяснить вам. Но сам я, увидев вас сегодня вечером, стал понимать все происходящее немного лучше. Уже само это мое желание с вами поговорить — это тоже своеобразный знак. Вы не из Мареммы, и говорить с вами, поверьте мне, хоть в это и верится с трудом, — это все равно что распахнуть окно комнаты, где находится больной. В Маремме тяжело дышать, мы здесь ловим ртом воздух, я не оговорился: мы ищем воздуха.
— Только не слишком ли много приезжих для комнаты с заразным больным? — Красноречивая мина Бельсенцы призывала меня в свидетели.
— Чистейшая экстравагантность, господин наблюдатель. Люди в Орсенне просто с ума посходили, ничего больше… Сейчас, сейчас! — спохватился он, видя мое нетерпение. — Все началось год назад или около того, то есть, — поправился он, — год назад я стал что-то замечать. Раньше о Фаргестане здесь и не упоминали, уверяю вас. Он как бы совсем и не существовал. Был как бы перечеркнут, стерт с карты… У всех были другие заботы. Жизнь здесь тяжелая, люди живут в бедности, внешний блеск обманчив… Я покажу вам город, — добавил он, с досадой показывая на залы, — он вовсе не такой роскошный, как дворец Альдобранди.
— Я знаю. Сегодня была луна.
— А! Вы, значит, видели. Хотя, вы знаете… ночью бросаются в глаза в основном живописные детали. Люди, живущие во дворце, предпочитают прогуливаться ночью. Впрочем, я отклоняюсь от предмета, — прервался он, успокаивая меня жестом руки. — А теперь люди все больше и больше говорят о том, что происходит там, и кое-что узнается.
— Там?
— Я все забываю, что вы нездешний. Со временем привычки превращаются в тики. Так что на них уже перестаешь обращать внимание. Здесь очень мало, я бы сказал даже, никогда не произносят: «Фаргестан». Говорят: «Там».
— Забавно. Издалека невозможно даже предположить такую простоту.
— Издалека ничего невозможно предположить, зато здесь можно предположить очень многое. По крайней мере так мне хочется верить. Потому что так было бы спокойнее. Можно сказать…
— А что, в сущности, говорят?
Теперь я был уже действительно на пределе. Бельсенца замер, и его брови нахмурились, как если бы ему предстояло ответить на очень трудный вопрос.
— В сущности, вы касаетесь щекотливого вопроса, господин наблюдатель. Я тоже люблю, когда всё — черным по белому. Однако, когда я пытаюсь составить донесение, перо выпадает у меня из рук. Стоит вам только попытаться понять сущность слухов, как они немедленно принимают другую форму. Как будто они боятся, что их схватят и проверят. Как будто люди боятся, что кто-то помешает, чтобы слухи передавались все дальше и держали всех в напряжении. Как будто люди больше всего боятся, что слухи совсем прекратятся.
Бельсенца скорчил смешную страдальческую гримасу.
— …Все сводится — если есть желание сводить — к очень малому, к пустяку. Меньше чем к пустяку. Приблизительно вот к чему. Вроде бы в Фаргестане произошли большие изменения. Вроде бы власть оказалась захваченной кем-то или даже скорее чем-то. И вот — здесь в мнениях царит всеобщее и решительное согласие — вроде бы этот кто-то… это что-то… это изменение… не сулит Орсенне ничего хорошего.
— Все это слухи!.. Надо же. Чистейшая фантазия.
Бельсенца посмотрел на меня с вызовом.
— Я настроен думать так же, как и вы. Но могу и уверить вас, и доказать вам — это будет убедительнее всяких слов, — что остановить их распространение все равно не удастся.
— Но ведь вы могли бы опубликовать официальное опровержение.
— Я размышлял над этим… Нет, поверьте мне, слишком поздно. Здесь, в тиши, тлеет огонь. И от него может загореться все, что угодно. А опровержение только подольет масла в огонь. Все зависит от температуры.
— А кто говорит?
— Сейчас все. Вначале, мне кажется, — Бельсенца понизил голос, — говорили главным образом иностранцы. Опять я забываю, — быстро спохватился он, — «иностранцами» здесь называют приезжих из Орсенны. А когда спрашиваешь себя: «Кто говорит?» — то, поймите меня, здесь нужно договориться, о чем идет речь. Ведь, по существу, никто почти ничего и не говорит. Почти ничего. Если и говорят, то с помощью намеков, умолчаний. Ничего конкретного. Все остается завуалированным, косвенным. Все отсылает к слухам, но ничто их не выдает. Словно слова, все произнесенные за день слова, упрямо вырисовывают какую-то форму, форму чего-то, которая, однако, остается пустой. Я плохо объясняю. Я прибегну сейчас еще к одному образу. Вы, конечно, знаете игру в веревочку или, как она еще называется, игру в хорька. Все становятся в круг, держась руками за веревку, никто ничего не видит, но руки движутся сообща: хорек бежит, скользит вдоль веревки, возвращается, крутится без устали.
И вместе с тем его нет. Все руки пусты, но каждая рука становится теплой норкой, готовой принять его, принимающей его. Вот в какую игру играет Маремма целыми днями. И я не совсем уверен, что это игра.
— …Нет, опровержение здесь не поможет, — задумчиво подвел итог Бельсенца. — Здесь надо обрезать веревку, но сначала нужно найти ее.
— Веревку?
— Веревку, вдоль которой бегает хорек.
Бельсенца озабоченно улыбнулся. Я не сразу ответил. У меня не было желания улыбаться. Эта речь выглядела не такой бессвязной, как я думал.
— Я понимаю. Но ведь иногда можно поймать его и так, без веревки. Вы никого не арестовали?
— Нет. Так же как не опубликовал и опровержения. По тем же самым причинам. Кроме того, — Бельсенца окинул салон недоверчивым взглядом, — у меня нет в Орсенне ни поддержки, ни влияния, и если выйдет что-нибудь не то, то меня же потом и обвинят.
Я почувствовал, что мой голос слегка дрожит.
— Я так же, как и вы, Бельсенца, нахожусь здесь на службе у Синьории, и дело для меня важнее моих личных отношений. Мне хотелось бы, чтобы вы говорили яснее. Вы опасаетесь, что ниточка приведет вас сюда?
— Возможно.
— Это у вас ощущение или уверенность?
Голос Бельсенцы прозвучал вполне искренне.
— Это ощущение. Все это, я повторяю еще раз, не больше чем ощущение. Возможно, я напрасно стал рассказывать вам об этом. Не исключено, что все это — плод моего воображения.
— Во всем этом я не вижу ничего серьезного. В Маремме мало развлечений. Это, должно быть, просто средство от скуки.
— Я хотел бы, чтобы все было именно так, господин наблюдатель.
В голосе его снова появились официальные, не окрашенные эмоциями тона, и я почувствовал, что щель, к которой я прильнул зрачком, вот-вот закроется.
— Сейчас, когда вы рассказывали, меня удивило одно ваше слово, если, конечно, вы не оговорились. Имея в виду автора этого вроде бы происшедшего «там» государственного переворота, вы сказали: кто-то… или что-то.
— Точно. Я не оговорился. В этом таится еще одна загадка… — Бельсенца, казалось, наткнулся на неожиданное препятствие. — …Вы сейчас убедитесь, господин Наблюдатель, насколько неэффективным в данном случае явилось бы любое опровержение. Такое ощущение, что слухи, едва зародившись, сразу же обретают иммунитет против любой возможности материализоваться. Выражение «государственный переворот» выглядит здесь весьма неточным. Если верить слухам, то ничего такого, что можно было бы увидеть, там не произошло. Внешне ничего не изменилось. А коль подчеркивается тот факт, что нет никаких внешних изменений, слухи становятся еще более тревожными. Судя по всему, предположение вроде бы сводится к тому, что некая неведомая власть, скажем тайное общество, ставящее перед собой какие-то неясные — но наверняка непомерные, постыдные — цели, сумела овладеть страной, подчинить ее себе, превратить в свою собственность, но так, что это осталось не замеченным на уровне государственных механизмов.
— Прямо как в каком-нибудь романе! Вот уж ни за что не поверю, что подобные сказки здесь принимают за чистую монету…
— Это действительно кажется невероятным. Позвольте мне, однако, обратить ваше внимание вот на что. Я тут говорил о лихорадке и о болезни. Странно проявляется эта болезнь. Мне случалось в Орсенне вести дела некоторых шарлатанов, знахарей. Самого-самого низкого пошиба. И поверите ли: только в редких случаях среди их клиентов не фигурировал кто-нибудь из очень образованных, очень известных в городе людей. Я мог бы даже назвать вам их имена…
Мне они были не нужны. В голосе Бельсенцы снова появились неприятные мне вкрадчивые интонации.
— В общем-то, я не вижу вокруг нас никаких тяжелобольных.
Бельсенца бросил в сторону групп задумчивый взгляд, а я вдруг вспомнил Марино.
— Да и я тоже не вижу. И тем не менее… — Он как-то нервно подался ко мне. — Видите ли, господин Наблюдатель, я хорошо изучил этот город. В каком-то отношении он остался таким, каким был всегда. Я тру себе глаза и ничего не вижу. Все в порядке. И тем не менее что-то все же изменилось. Есть здесь что-то…
Его взгляд снова затуманился.
— Есть здесь что-то ненормальное.
Растерянный вид Бельсенцы и беспокойство, прозвучавшее в его голосе, меня смутили. Я вдруг живо вспомнил то, что увидел во время своего посещения Сагры.
— В любом случае это связано с вашей работой. Только вот мне не верится, чтобы слухи эти возникли сами по себе. Меня интересует их источник. Вы, естественно, уже задавали себе вопрос, не поддерживает ли кто-либо из жителей Мареммы связей с Фаргестаном?
Лицо Бельсенцы выразило крайнее изумление, и я внезапно со всей остротой ощутил, что сказал глупость.
— Связей?.. Это невозможно.
Но меня несло.
— Это запрещено, что не одно и то же.
На лице Бельсенцы появилось своеобразное выражение, какое бывает у человека, шокированного и до глубины души оскорбленного, которому, однако, приличия не позволяют призывать вас к порядку. Я вдруг почувствовал себя перед ним иностранцем, которому с помощью мимики, выражающей немое смущение, пытаются объяснить, как избежать нарушения благопристойности, о чем словами не расскажешь.
— Это абсолютно невозможно, понимаете ли… — Бельсенца кашлянул и посмотрел мне в глаза с застывшей улыбкой. — …Вам, господин Наблюдатель, это известно лучше, чем мне. Само уже ваше присутствие в Адмиралтействе делает оскорбительными любые поиски в этом направлении.
— Извините меня, но в таком случае я не совсем понимаю, зачем вы были так откровенны со мной.
В голосе у Бельсенцы опять появилась легкость и светскость, и я снова почувствовал, что он обрывает разговор, причем на этот раз уже окончательно. С самого начала и до конца нашей беседы, состоявшей из сплошных подозрительных выпадов, он был для меня тем самым дразнящим силуэтом, который, то появляясь, то исчезая за куском красной ткани, доводит до исступления быка на арене.
— О! Это же была просто беседа, ничего официального. Уверяю вас, что это не имело ничего общего со службой. Я ведь так и предполагал, что Адмиралтейство не придает никакого значения этим глупостям. А теперь я в этом убедился, вот и все.
Между тем праздничное оживление затихало. Слова Бельсенцы скользнули по поверхности моего сознания; они не столько потрясли меня, сколько внесли в мое восприятие какое-то раздвоение, как если бы я увидел вдали не заслуживающие внимания движения выстрелившего охотника раньше, чем до меня донесся звук выстрела. Неясные голоса смешивались, вызывая у меня в ушах тот же постоянно возникающий и исчезающий шум, который доносится с болот. Рядом с ними я ощущал себя противоположным берегом. Посреди этой толпы я был чужаком, которому не сказали пароль и который во всяком обращенном к нему лице видит невыносимый немой вопрос. У меня было такое впечатление, что от предостерегающего, меркнущего голоса Бельсенцы в зале стало чуть темнее, что краски праздника утратили свою яркость; пора было идти к Ванессе.
После гомона толпы и яркого освещения верхняя галерея дворца казалась погруженной в глубокий сон. Передо мной открылся наполненный безмолвием и теряющийся в полумраке выстланный плитками коридор; через высокие окна цвета синей ночи, распахнутые на лагуну, вверх от близкой воды поднимались и шевелились на каменных сводах, словно слабый шепот света, лунные петельки. Я прислонился на мгновение к одному из переплетов распахнутого окна. Ночь была спокойная и казалась освещенной поднятой вверх лампой. Передо мной в едва заметной дали тонкий, как каемка, белый гребень волн, обрушивающихся на бар, указывал на проход в лагуны. Слабое колебание отражений на стенах, перекрещивающиеся тут и там светлые дорожки на воде, напряженная тишина в спящем темном туннеле, проложенном в глубоком и непонятном месиве, напоминали мне ночь на «Грозном» и вызывали у меня ассоциации с приготовлениями к отплытию, с плаванием в полном мраке при потушенных огнях. Дворец бодрствовал подле задремавшей в ночи Мареммы. Далеко-далеко на дороге катилась, словно крошечная звезда, машина Марино, пересекая из конца в конец пустынную ночь, которая давала глазам простор. Шумы в городе уже смолкли, и Бельсенца уже подходил к своему нездоровому жилью. Я улыбнулся, вспомнив, с каким двусмысленным смущением он указал мне на дворец как на источник смутных слухов; я вспомнил про ироническое обещание, данное мне Ванессой в Адмиралтействе, и нервным движением руки толкнул дверь ее покоев.
Просторные покои Ванессы занимали ту часть дворцового крыла, что глядела на море. Они состояли из одной-единственной огромной залы с голыми стенами, которую через раскрытые окна с трех сторон наполнял легкий шум лагунных вод. Из полутьмы выступал только один слабо освещенный угол комнаты; несмотря на восточную роскошь ковров и богатство мраморной отделки, меня еще на пороге до глубины души поразило ощущение обветшалости жилья. В этой комнате, сделанной по меркам забытых эпох, вернувшаяся сюда жизнь казалась съежившейся, болтающейся в слишком свободных одеяниях. Посреди комнаты зиял пруд пустоты; неуютно чувствующая себя редкая мебель опасливо жалась к стенам; она напомнила мне груз, прижатый бортовой качкой к краям гигантского грузового отсека.
— Рано сегодня уехал Марино. Что, какие-нибудь дела в Адмиралтействе? Иди сюда, садись. Не бойся, — добавила Ванесса со смехом, увидев, что я не решаюсь пересечь пустую комнату.
Я не без смущения уселся напротив нее. Она лежала на низком диване, почти вся скрытая тенью от абажура. Неожиданное эхо, отраженное от стен, сбивало с толку, разрушало первое впечатление интимности, которое создавалось лампой в алькове и глубокими, теплыми подушками. Незаполненное пространство комнаты за моей спиной держало меня в напряжении, давило на плечи, как пустой театральный зал.
— Нет, абсолютно никаких. Я вижу, тебя и в самом деле очень волнуют перемещения капитана.
Ванесса выглядела нервной и расстроенной.
— Ты, надеюсь, ничего ему не рассказал? Я имею в виду твою поездку в Сагру.
— Конечно же, нет. Что за странная идея! И я даже надеюсь получить за благородство своей души достойную награду. Однако только что, в Адмиралтействе, ты проявила чрезмерную скрытность. Я ведь мог бы и рассердиться.
Ванесса оставалась серьезной.
— Мне было бы очень неприятно, если бы Марино узнал про этот корабль.
— Это большой секрет?
Ванесса с недовольным и озабоченным видом пожала плечами.
— Детские проказы. Однако Марино воспринял бы их несколько иначе.
— Возможно, он был бы и прав. Я, кажется, видел, как этот же самый корабль плавал на весьма приличном расстоянии от Сагры. Причем с нарушением всех существующих предписаний.
Ванесса посмотрела на меня не столько встревоженно, сколько с любопытством.
— И что ты подумал?
— Я сообщил об этом Марино. И следующим вечером мы патрулировали побережье. Твое счастье, должен тебе сказать, что мы ничего не обнаружили.
Ванесса опустила глаза.
— Плавание по морю не запрещается. Эти предписания — сущий абсурд. Маремма становится популярным курортным городом, и Адмиралтейству следовало бы кое на что смотреть сквозь пальцы. Пора бы Марино уже понять.
— Ты могла бы попытаться убедить его.
Ванесса поколебалась секунду, подыскивая нужное слово.
— Я отношусь к капитану с уважением. Но большим умом он не отличается.
— У него наверняка хватит ума на то, чтобы отнестись к подобным развлечениям с известной долей снисходительности. Он же моряк. Возможно, прямой и, главное, откровенный разговор…
Ванесса слегка нахмурила брови и с серьезным видом посмотрела на меня.
— Мне, Альдо, не очень нравятся твои мелодраматические намеки. Ты, может быть, принимаешь Маремму за логово контрабандистов?
— Нет. — Теперь настала моя очередь посмотреть ей в глаза. — …Однако если хочешь знать, то для отдыха и развлечений можно было бы найти и более подходящее место. И я думаю, что у Марино, так же как и у меня, возникают вопросы относительно истинных целей твоего приезда сюда.
Последовала короткая пауза, и по охватившему меня тревожному чувству облегчения я понял, как много я вложил в свои расспросы. Ванесса отбросила наигранную насмешливость и, отвернувшись к раскрытому окну, скрыла от меня выражение своего лица.
— Зачем я сюда приехала? Да просто так, Альдо, уверяю тебя. Мне до смерти надоела Орсенна. А у нас здесь эта старая развалина. Вот я и приехала. И задержалась здесь дольше, чем предполагала. Вот и все.
В ее голосе звучали искренние, но не вызывавшие доверия ноты. Каждое слово выглядело исчерпывающе правдивым, но таким, каким бывает правдиво рассказанный сон.
— Ты так полюбила эти пески?
— Я почти не вижу песков. Я отсюда почти никуда не выезжаю. Ванесса повернулась ко мне лицом. Ее бесцветный, лишенный тембра голос казался страстным шепотом окружавшей нас полутьмы. — …Я жду.
— Ты говоришь загадками. Ванесса. Ты не хочешь ничего сказать мне?
Я ощущал какое-то странное волнение. Я чувствовал, как в моем голосе независимо от моей воли появляется оттенок мягкой предупредительности, как у постели больного. В свою очередь голос Ванессы с нежной доверчивостью искал во мне опоры.
— Это трудно объяснить, Альдо. Что-то должно произойти, я уверена в этом. Так больше продолжаться не может. Я вернулась в Орсенну. Ты, наверное, знаешь, я долго отсутствовала. Я увидела людей, улицы, дома. И я была поражена. У меня было такое ощущение, словно после нескольких лет отсутствия я встретила знакомого и отчетливо увидела, что на лице его лежит печать смерти. Люди кругом смеются, суетятся, ходят туда-сюда как ни в чем не бывало. А тебе все видно и известно. Только лишь тебе. И тебя охватывает страх.
— Но иногда ведь человек смиряется.
Ванесса посмотрела на меня с вызовом.
— Я не изменилась. Я ненавижу Орсенну, ты же знаешь. Ненавижу ее самолюбование, ее благоразумие, ее комфорт, ее сон. Но ведь все это часть и моей жизни тоже. Поэтому я испугалась. — Ванесса задумалась. — …В Орсенне мои предки жили испокон веков. От ее плоти у них и зубы, и когти. Но тут я увидела край пропасти, и у меня закружилась голова. Я подумала о червяке, который в конце концов съел все яблоко. И поняла, что яблоко существует не вечно.
— И тогда приехала поразмышлять над этим в Маремму. С единственной целью?
— Не понимаю, о чем ты говоришь.
— В Маремме, похоже, не только размышляют. В Маремме еще и говорят. Причем много говорят.
— Бельсенца искал встречи с тобой. Я заметила это. Я вижу, ты не забываешь о своих профессиональных обязанностях, — насмешливо улыбнувшись, бросила Ванесса.
— Бельсенца очень удивлен тем, что подобные пересуды находят здесь благоприятную почву. И если это действительно так, то он прав. Тебе бы следовало положить им конец.
Лицо Ванессы стало замкнутым.
— Я не в состоянии положить им конец. Да и не хочу.
— Поберегись, Ванесса. Бельсенца что-то подозревает. В один прекрасный день Синьория обратит внимание на эти детские проказы. Она недоверчива, ты это знаешь. Дворец Альдобранди — это не таверна, и то, что где-нибудь сойдет за сплетню, здесь может навести на серьезные мысли.
— Ты не понимаешь, Альдо. В этом деле все являются сообщниками. И Бельсенца первый: осуждает сплетни, а сам торопится их тебе пересказать.
— Но, Ванесса, а в действительности что скрывается за этой историей?
— Я ничего не знаю. И не пытаюсь узнать. Меня интересует здесь не то, что находится за… а то, что находится перед.
— Перед? Или я плохо знаю Синьорию, или будет облава на тех, кто не умеет держать язык за зубами.
Ванесса чуть опустила веки и отвернулась.
— Нет. Ты сейчас поймешь. Летом в мареммских песках очень жарко. Бывают дни, когда воздух становится таким неподвижным, таким тяжелым, что им просто невозможно дышать. Люди задыхаются. И тогда посреди ясного дня, при полном покое на дюнах начинают образовываться маленькие-маленькие смерчи. Вдруг ни с того ни с сего вверх кругами поднимаются клубы пыли, вращая тучи песчинок. А буквально рядом, в десяти метрах, ничего не чувствуется. Ни дуновения. Это выглядит так же нелепо, так же неожиданно, как если вдруг раздается чей-то чих. Он возвещает о приближении бури. Над этим нелепым смерчем можно смеяться. Но сам вихрь, он все понимает. Он понимает, что крутится он из-за того, что воздух незаметно разрядился и что возник вакуум, который притягивает к себе что угодно.
— Для начала садовые головы и олухов царя небесного.
Ванесса иронично улыбнулась.
— Подожди. Я еще не закончила свою притчу. Если булыжники способны размышлять, то им такая пыль, пускающаяся в пляс в воздухе, когда нет никакого ветра, естественно, кажется смешной.
Слегка задетый за живое, я изобразил улыбку.
— Очаровательный образ. Ты поделилась им с капитаном?
— Марино относится к этим вещам серьезнее, чем ты.
— Ты ему о них говоришь?
— Ошибаешься, Альдо. Это он мне говорит о них. Я только пересказываю ему, о чем говорят здесь, вот и все. Ему это никогда не надоедает. Он слушал бы меня часами.
— Это на него непохоже.
— Тем не менее он все время возвращается. И ты тоже вернешься. Альдо.
Ванесса принялась рассеянно теребить пряжку пояса.
— Разумеется, Ванесса. Мне кажется, я должен выяснить что к чему.
Я улыбнулся и ласково взял ее за руку, но она осталась инертной.
— Я думаю, что Марино приходит сюда не ради информации. Тебе я могу об этом сказать. Он приходит сюда за своим наркотиком. Он испытывает в нем потребность. Ты же видел, сюда за ним приезжают даже из Орсенны.
— О каком наркотике ты говоришь?
— О том самом, Альдо, за которым ты ходишь в тот каземат, где столько карт. Капитан не знает, почему он возвращается в Маремму. А я могла бы ему объяснить. Он возвращается сюда, потому что ему противно слишком много спать, потому что во время слишком тяжелого сна человек вертится в постели и ищет место чуть пожестче и не такое вдавленное; чтобы жить, капитан должен иметь хоть смутную надежду, что экипажи Орсенны не обречены на веки вечные заниматься одной только прополкой картошки.
Голос Ванессы стих, и наступила тишина. У меня как-то странно защемило сердце. Перед глазами возникли стены Адмиралтейства, бросающие в пустоту свой немой призыв. Я обрадовался, что наконец замолчал этот голос, который слишком все высветлил. Я вдруг испугался самого себя.
Через окна доносился слабый, словно из глубины идущий ропот, он наполнял царившую тишину и вносил глухое оживление в окружавшую нас пустую комнату. Расступавшееся за моей спиной пространство давило на меня; я нервно встал и подошел к высокому проему одного из распахнутых окон. Луна стояла высоко. Над лагуной образовался настоящий купол из пара. На берегу моря из тени смутно выглядывали первые фасады Мареммы, беловатые и плотно прижатые один к другому. Музыка в салонах стихла, и какой-то доносящийся издалека шум добавлял неподвижности каменным лицам домов. Песчаная коса черной перекладиной загораживала горизонт; через открытый проход к лагунам вкатывались фосфоресцирующими ступенями пенистых снегов свитки раздуваемых приливом волн, вкатывались и образовывали огромные уступы, которые театрально, в несколько приемов обрушивались, как казалось, в самое сердце ночи. Из песков вверх вздымался торжественный звон, а у меня под ногами, прямо на стоячих водах, лежала ослепительная скатерть, похожая на каемку ковра, выступающего за край лестницы сновидений.
Я почувствовал легкое прикосновение к моему плечу и, еще даже не повернув головы, осознал, что это была рука Ванессы. Я не шевелился. Касавшаяся меня рука дрожала от лихорадки, и я понял, что Ванесса боится.
— Идем, — сказала она внезапно изменившимся голосом, — ночь такая холодная.
Я обвел взглядом погруженную во мрак комнату. Стена напротив меня, казалось, плавала в рассеянном отсвете лагуны; мое внимание тут же привлек висящий на стене портрет, словно возникший в неясной дали силуэт, к которому я, войдя в комнату, повернулся спиной и который теперь своим почти нескромным присутствием и связанным с ним неожиданным и тягостным ощущением близости создавал у меня впечатление, что он, воспользовавшись моей рассеянностью, только что внезапно проступил на этой лунной поверхности. Хотя картина в темноте была едва различима и едва скользнула тенью где-то сбоку, в поле зрения, яростное ощущение когда-то уже виденного легло мне на плечи и заставило меня таким же резким движением, каким уличают спрятавшегося за портьерой шпиона, опять включить свет. И я внезапно понял, откуда шло чувство неловкости, испытываемое мною с того самого момента, как я вошел в комнату, и на протяжении всей моей беседы с Ванессой. С нами был третий. Подобно тому взгляду, что непроизвольно сквозь оконный проем намагничивает морскую даль или заснеженные пики, два широко раскрытых глаза, появившиеся на стене, сняли комнату с якоря, перевернули перспективу и, как капитан на своем мостике, взяли заботу о ней на себя.
Я знал это знаменитое полотно, одно из тех произведений, в котором, как считается, Лонгон яркими мазками ликования выразил глубокую скорбь, что характерно для изысканной манеры его позднего творчества, неразлучного с материальными приметами в виде легкой косины взгляда на портретах и неуловимого оттенка растерянности в улыбке, которые особенно заметны в портрете подесты Орсеоло, написанном, когда художнику было восемьдесят лет, и являющемся, по мнению некоторых знатоков, его шедевром. Я часто помимо собственной воли останавливался, словно зачарованный, перед хранящейся в Орсенне, в Галерее Совета, старинной копией картины, перед которой, согласно вековой традиции, предписывалось надевать головной убор в знак презрения к памяти изменника, чей образ остался надолго запечатленным в плоти Орсенны. Это был портрет Пьеро Альдобранди, перебежчика, который воевал против орсеннских войск, осаждавших фаргийские крепости Раджеса; на картине был изображен как раз самый неистовый эпизод штурма. Однако на этот раз у меня перед глазами находилось само полотно, такое новое, такое скандально свежее, как глянец мышцы под заживо содранной кожей; произведение походило на свою копию не больше, чем человек, с которого только что сорвали кожу, походит на приятную обнаженную натуру.
Задний план полотна образовывали последние лесистые склоны Тэнгри, плавными линиями спускающиеся к морю. Резко уходящая вниз свободная и наивная перспектива лишала гору ее вершины, но сходящиеся линии других, более низких вершин говорили о близости и живой громаде массы — словно чья-то гигантская лапа тяжело надавила на землю, распластавшись от рамы до берега моря. У самой воды лучезарно искрящийся полдень светил горячими лучами на дома и крепостные стены, полукругом обступившие гавань и похожие на взошедший над морем мираж. Раджес с зияющими входами и выходами его террас, с плавными, как у лунатиков, движениями крошечных персонажей, рассыпанных там и сям по его улицам, выглядел удивленно пробуждающимся от любовной истомы дневного сна. Пышные и мохнатые кисти пламени на архитектурных завитках зданий сливались в одну кайму вокруг осажденного города. Чувство тревоги, навеваемое этой картиной бойни, объяснялось необыкновенной естественностью и даже безмятежностью, которые спокойная жестокость Лонгона придала всему полотну. Раджес горел так, как раскрывается цветок: без страданий и без драмы; можно было подумать, что это не пожар, а мирный прибой или сдержанная ненасытность прожорливой растительности, разросшейся неопалимой купины, окаймляющей и венчающей город, подобно закрученным лепесткам-изгибам розы вокруг суетящихся внутри нее насекомых. Флот Орсенны располагался полукругом напротив города, но, несмотря на стену из спокойных клубов дыма, тяжелыми кольцами поднимающихся над морем, на ум невольно приходила мысль не об оглушительном грохоте артиллерии, а скорее о каком-нибудь живописном, чуть ли не музейном катаклизме, например об извержении Тэнгри, вновь швыряющего свою раскаленную лаву в море.
Вся эта циничная простота, достигнутая художником исключительно благодаря удаленности во времени от самих батальных сцен, отступала на второй план, подчеркивая при этом незабываемую улыбку лица, выступавшего вперед, словно протянутый с полотна кулак, и, казалось, вот-вот готового прорвать передний план картины. Пьеро Альдобранди был изображен без каски, одетым в черные латы, с жезлом и красным шарфом командующего, навеки связавшими его со сценой бойни в Раджесе. Однако, развернув силуэт Альдобранди спиной к самой сцене, художник как бы растворил его в пейзаже, отчего его напряженное от тайного видения лицо стало воплощением какой-то сверхъестественной отрешенности. В полуприкрытых глазах с их странным внутренним взором отражался тяжелый экстаз; волосы его трепал дующий из-за моря ветер, придавая всему лицу молодую и наивную непорочность. Закованная в лакированную сталь, бросающая темные отблески рука сосредоточенно застыла на уровне лица. В металлических пальцах своей перчатки, с ее жестким хитозным панцирем, с ее жестокими и элегантными, как у насекомого, сочленениями, он с извращенной и самодовольной грацией держал и мял тяжелую красную розу, эмблематический цветок Орсенны, словно собираясь вдохнуть своими нервными ноздрями капельку ее изысканнейшего аромата.
Комната улетела прочь. Глаза мои оставались прикованными к этому лицу, появившемуся в фосфоресцирующем свете из острого ворота панциря, как новая гидра с отрубленной головой, — лицу, похожему на ослепительное явление черного солнца. Его свет темной вожделенной зарей занимался у меня в душе над не имеющим имени запредельем дальней жизни.
— Это Пьеро Альдобранди, — громко, как бы для самой себя произнесла Ванесса. — Ты не знал, что оригинал находится в Маремме? — Она добавила изменившимся голосом: — Тебе он нравится, не правда ли? Изумительная вещь. Живя здесь, все время чувствуешь этот взгляд.
Вспышка лихорадки
Бывают в нашей жизни такие особенные утренние часы, когда нам посылается предупреждение, и тогда с самого момента нашего пробуждения и потом, в нашем затягивающемся праздном безделье, словно при отъезде, когда с бьющимся сердцем подолгу перебираешь в комнате до боли знакомые предметы, вдруг начинает звучать выделяющаяся среди других торжественная нота. В светлом вакууме утра, более наполненного предзнаменованиями, чем сновидения, до нас доносится что-то вроде звуков отдаленной тревоги; это может быть и звук чьих-то одиноких шагов на уличной мостовой, и первый крик птицы, еле-еле услышанный сквозь последнюю дрему; однако этот звук шагов пробуждает в душе столь же сильный резонанс, как в пустом соборе, этот крик разносится, как в широком поле, и тогда ухо напрягается в безмолвии, прислушиваясь к незаполненному пространству внутри нас, где эхо вдруг исчезает, как в море. Это значит, что наша душа очистилась от населяющих ее ропотов и от гомона толпы; и тогда в ней начинает радостно звучать ее основная нота, определяющая истинную меру ее возможностей. И в той внутренней мере возвращенной нам жизни мы вновь обретаем нашу силу и нашу радость; но иногда эта нота звучит низко и удивляет нас, как шаг человека, гуляющего по пещере: это значит, что во время нашего сна где-то образовалась брешь, где-то под тяжестью наших снов обвалилась еще одна стена, из-за чего нам теперь в течение многих дней придется жить, как в хорошо знакомой комнате, дверь которой, однако, может неожиданно открыться в какой-нибудь грот.
Вот в таком состоянии беспричинной тревоги проснулся я в Маремме на следующее утро. Близ лагуны все еще спало, словно весь город из почтения согласовал час своего пробуждения с затянувшимся сном дворца. Солнце жгло пустынные каналы и безлюдный песчаный берег так же нещадно, как какие-нибудь солончаки; оно до хрустящей белизны калило свешивающееся из окон бедных кварталов белье. По пустынным водам тихо скользила к проливу лодка рыбака. Из комнаты Ванессы поднимался приглушенный расстоянием шум голосов; их отчетливое, но непонятное звучание смешивалось с моими ночными снами, сливалось с тем отдаленным грозовым гулом, раскаты которого слышались мне накануне в речах Бельсенцы. В Маремме уже говорили; вместе с этими приглушенными голосами у спящего города пробуждался пульс легкой лихорадки, биение которого я начинал ощущать у себя в запястье.
Я пошел попрощаться. У Ванессы уже было много народу, но, когда я толкнул перед собой дверь, от нее как бы пошла волна тишины. Я почувствовал себя неуютно. Бессонная ночь и яркий свет искажали лица; несмотря на элегантные одежды и улыбки, атмосфера салона, необычно многолюдного в столь ранний час, вызывала ассоциации с настороженностью и боевой готовностью военного лагеря, воздвигнутого под открытым небом, а присутствующие напоминали мне прибывших на рассвете беженцев. Когда я уходил, Ванесса торопливо потянула меня в сторону.
— Завтра я уезжаю в Орсенну… В конце месяца вернусь. Жду тебя, Альдо, сразу по возвращении. Только в следующий раз приезжай утром. На рассвете…
Она добавила потише:
— Нам предстоит дальняя дорога.
— Экспедиция?
— И да, и нет. Во всяком случае, я надеюсь, что это окажется сюрпризом. Как только вернусь, сразу дам тебе знать.
Ее лихорадочный голос словно доверял мне тайну, и я тут же не без некоторого замешательства подумал о Марино.
— Мне предупредить капитана?
На лице Ванессы отразилась досада.
— Приезжай один. Просто скажи, что у тебя в Маремме есть дело, и все.
Я задержался в пути из-за аварии. Когда уже после обеда добрался до Адмиралтейства, укрывшегося от последнего летнего пекла за плотно закрытыми дверями и ставнями, оно показалось мне покинутым. Редкие удары молотка, доносившиеся из сарая, еще больше усиливали вибрацию раскаленного воздуха над камнями. Моя комната, выходящая своими окнами на знойный пустырь, показалась мне абсолютно непригодной для жилья; я пошел в прохладную комнату рядом с кабинетом Марино, в котором я иногда работал; там накопились для меня письма, официальные послания, и я без особого энтузиазма стал их разбирать. Только скрип моего пера да соперничающее с ним легкое жужжание мух нарушали гробовую тишину. Внезапно меня стало клонить в сон; я бросился на походную кровать и погрузился в свинцовую дремоту.
Проснулся я с тяжелой головой. Солнечные лучи едва скользили по красным изразцам. В соседней комнате разговаривали. Монотонное и ровное гудение голосов подхватывало знакомую нить, возвращало меня к утреннему пробуждению, как к какому-нибудь прерываемому бессонницей сну, и я с досадой повернулся на другой бок, не совсем уверенный в том, что я уже не сплю. А голоса все доносились сквозь дверь, тихие и неиссякаемые, преисполненные тягучего и бесцветного спокойствия крестьянской беседы. Теперь я хорошо различал умело, театрально замедляемый голос Марино и, прислушиваясь к его искусным модуляциям, стал с интересом следить за перипетиями разговора, тему которого я едва угадывал. Ошибиться было невозможно: это был его голос «арендных контрактов», который так хорошо имитировал Фабрицио. Потом тяжелые шаги капитана неторопливо прозвучали по каменным плитам, и дверь открылась.
— А! Наконец-то ты проснулся, Альдо. Я смотрю, ночью ты недоспал… — Марино подмигнул мне, но без настоящего лукавства. Он казался озабоченным. — …Помоги-ка мне. У нас здесь неприятности.
В кабинете капитана находился Беппо, один из боцманов, распределявший людей по нашим сельскохозяйственным бригадам; он смущенно теребил ленты своей бескозырки.
— Слышишь, что мне только что сказал Беппо? — бросил мне Марино недоверчивым тоном. — Имение Ортелло отказывается нанимать наших людей на следующий сезон.
Я посмотрел на Беппо еще заспанными глазами. Новость была действительно невероятная, было чему огорчиться. Имение Ортелло относилось к числу самых обширных земель Сирта и обеспечивало Адмиралтейство самой давней и самой надежной клиентурой. Чтобы дать об этом хозяйстве некоторое представление, достаточно сказать, что оно славилось в Сирте своими охотничьими угодьями и своим широким гостеприимством; оно было чем-то вроде первенца и гордостью Марино, считавшего себя в какой-то мере патриархом и кормильцем этих некогда заброшенных земель; имение выросло благодаря ему, и он старался делать для него все, что мог; когда он говорил об Ортелло, можно было подумать, что он трудится там собственноручно.
— А что случилось?
— Пусть он сам тебе расскажет, — продолжал Марино с глухим возмущением. — Порази меня гром, если я тут хоть что-нибудь понимаю.
Беппо кашлянул, чтобы прочистить горло, не проявляя никакого энтузиазма. Я понял, что Марино встретил его настоящим холодным душем.
— Капитан не хочет мне верить, но они попросили меня сказать, что на работу наших людей они не жалуются. Они все время повторяли, что все дело в обстоятельствах.
— Ну, это ты так понял со своей колокольни. Обстоятельства! — оборвал его Марино раздраженно. — А в чем они выражаются, эти твои обстоятельства? Что изменилось, спрашиваю я тебя?
Расстроенный голос Беппо отказывался в чем-либо убеждать.
— Так вот, капитан!.. Они говорят, что теперь они уже не могут платить нам за два года вперед, что теперь невозможно договариваться на такие долгие сроки.
— Они что, собрались продавать свою землю?
Беппо энергично ухватился за протянутую ему руку помощи и, чувствуя, что доставит своими словами удовольствие Марино, сказал:
— Ну уж нет, капитан: Уж это-то исключено. Такую землю! Они и дороги только что отремонтировали, а в прошлом году засадили несколько дюн оливковыми деревьями.
— А где же, по-твоему, они собираются искать руки, чтобы все это обрабатывать?
— Что касается этого, капитан, — голос Беппо опять стал жалобным, — они говорят, что постараются обойтись.
— Здесь что-то не то, — проворчал Марино, глядя ему в глаза. — Наверное, ты сделал какую-то глупость, только так можно объяснить.
— Клянусь вам, капитан! — заикаясь и чуть не плача, сказал Беппо.
Я вдруг с интересом посмотрел на Беппо. В смущенном тоне его голоса промелькнуло что-то такое, что молниеносно напомнило мне Бельсенцу. Холодный гнев Марино явно парализовал его, и мне показалось, что у него еще кое-что есть в загашнике. Я спросил как можно более заинтересованным голосом:
— А у тебя-то самого есть какие-нибудь предположения по поводу этих их обстоятельств?
Беппо ухватился за меня, как за спасательный круг.
— Точно сказать здесь ничего невозможно, господин Наблюдатель. Это же ведь старики, вы сами понимаете, что-то там бормочут невнятное; такое чувство, что знают что-то такое, о чем не хотят говорить. — Беппо напряженно размышлял, нахмурив брови. — Они говорят, что времена сейчас ненадежные, вот что они говорят.
— Ненадежные?
— Говорят, что будут события и что заранее сделки теперь заключать нельзя.
— Как это надо понимать?
Голос Марино слегка дрожал.
— События, капитан, что-то нехорошие, то есть война. Вот что они говорят теперь.
Голос Беппо упал, как если бы он признался в постыдной болезни. Наступила короткая тяжелая пауза. Я постарался сохранить спокойствие. Взгляд Марино, стоявшего сзади меня, внушал мне страх. Однако тут раздался его голос, абсолютно невозмутимый, вызвавший у меня восхищение.
— Совсем Карло постарел. Ну ладно, иди, Беппо. Поеду в Ортелло улаживать это дело.
После ухода Беппо я остался без прикрытия. Марино с озабоченным видом ходил взад и вперед, заложив руки за спину и опустив голову. Молчание стало настолько гнетущим, что я машинально распахнул окно. Пустая предвечерняя тоска хлынула в комнату, как запах. Шаги затихли, и за моей спиной раздался неожиданно мягкий, как у тяжелораненого, голос Марино.
— Неприятная штука получается, Альдо.
Я пожал плечами, стараясь сохранять как можно более невозмутимый вид.
— Мне кажется, что все это несерьезно. Карло передумает. Я не представляю себе, как бы в Ортелло смогли обойтись без наших людей.
— Ты так думаешь?
Ставший внезапно таким зависимым, он, казалось, постарел на глазах. Я испытывал жалость к его запыхавшемуся голосу, который цеплялся за меня, как рука.
— …Именно это меня и беспокоит, — продолжал он усталым голосом, словно разговаривая сам с собой. — Они не могут обойтись без нас и прекрасно это понимают.
— Вам нужно съездить туда посмотреть. Они ведь на вас молятся.
Мне внезапно захотелось, чтобы он оказался далеко-далеко, — так стремятся вырваться из комнаты больного. Он ждал только моего разрешения.
— Да, ты прав. Поеду туда сейчас же… — Он остановился в нерешительности. — Я вот что хотел сказать тебе. Альдо… — Он казался чуть ли не смущенным. — …Это ведь касается твоих дел; ты поступишь так, как сочтешь нужным. Ты сам слышал, что сейчас Беппо говорил. Здесь, вероятно, есть что-то, касающееся тебя.
— Я тоже так думаю.
Мне показалось, что Марино почувствовал облегчение. Какое-то время я смотрел из окна, как он скачет на своей лошади по шоссе вдоль лагун: худой черный силуэт на ровном, как доска, горизонте; у меня было такое ощущение, что с лагун до меня донесся порыв свежего воздуха. Я едва не бегом бросился в свою комнату; виски мои сдавливало нехорошее возбуждение. Я торопился вставить между отъездом поддавшегося слабости Марино и его возвращением что-нибудь непоправимое.
Часом позже я перечитал свое донесение в Орсенну, запечатал его, положил подписанную бумагу на стол и приоткрыл окно; тень крепости замазала черной краской пустырь; поднимающаяся от земли прохлада вроде бы слегка отрезвила меня; я постоял немного, прижавшись лбом к холодному стеклу, и впервые ощутил в своем возбуждении просочившуюся туда тревогу.
Само по себе донесение получилось безупречным, и, перечитывая его на еще не совсем отрезвевшую голову, я готов был искренне верить, что в нем нет ничего, кроме умеренности и ясности. Я без труда в мельчайших деталях припомнил речи Бельсенцы, с завидным проворством и непринужденностью передав на бумаге все, вплоть до недомолвок. Тем не менее у меня оставалось чувство легкой тревоги, связанное, вероятно, не столько с безобидным содержанием этого вполне банального письма, сколько с не покидавшим меня ощущением странной легкости, с которой я его написал. Оно напоминало мне ощущение виртуоза, оправляющегося от долгой болезни и чувствующего, как пальцы его двигаются сами по себе, увлеченно бегают по хорошо знакомому ему инструменту. Под моим окном остановилась машина Адмиралтейства: это было время отправления почты; наспех запечатав конверт, я потом долго в матовом вечернем свете провожал взглядом машину, которая удалялась по тряскому шоссе между лагун в сторону Мареммы. Жара уже спала, небо заволакивала серая пелена сумерек. Я чувствовал себя легким и полым, как разрешившаяся от бремени роженица.
В тот вечер Марино вернулся очень поздно, и мы сидели, дожидаясь его, вокруг обеденного стола перед пустыми стаканами. Беседа в потемневшей комнате тянулась вяло, то и дело чередовалась с плохо рассеивающимися периодами молчания. Наполненный стакан перед пустым стулом Марино невольно притягивал к себе взгляды, словно отвергнутое жертвоприношение духу здешних мест: туда, где он отсутствовал, в комнату через распахнутые окна входила пустыня.
Цоканье копыт его лошади по пустырю оживило нас, по комнате заплясали веселые колебания мягкого пламени. Марино вошел, не говоря ни слова, и сел, машинально проверяя пальцем пуговицы своего мундира; по этому характерному жесту я понял, что переговоры не дали никаких результатов. Мне показалось, что в комнате внезапно потемнело, и я ощутил нечто вроде легкого сдавливанья в висках: что-то должно было произойти.
Ужин в тот вечер закончился очень быстро. Я не мог оторвать глаз от капитана. В его медлительных жестах чувствовалась внезапная сильная усталость. Я заметил, что он с трудом дышит и чаще, чем обычно, старается встретиться со мной взглядом. Его глаза разговаривали с моими, и в тот момент, когда он встречался взглядом со мной, они на миг стряхивали на меня свой тяжелый туман усталости. В тот момент я почувствовал, что Марино колеблется, почувствовал, что было уже слишком поздно; Фабрицио, Роберто и Джованни замолчали один за другим, за столом постепенно воцарилась полная тишина, и в этой прожорливой, засасывающей тишине уже жила готовая разорваться новость.
Когда все ушли и мы остались впятером, Марино резким движением зажег сигару и, укрывшись за пламенем спички, спросил:
— Ты объяснил им, Альдо?
— Я ничего не говорил… Вы ведь надеялись еще уладить это дело, — добавил я не без некоторой жестокости.
Марино махнул рукой, выражая своим жестом бессильную покорность. Однако он вдруг резко поднял голову, и взгляд его серо-голубых глаз выразил решимость. Раздался его чистый, спокойный голос, обращенный ко всем нам, и мне снова бросилась в глаза та своеобразная скрытая властность, которую он демонстрировал очень и очень редко.
— Я прошу вас всех ненадолго задержаться. В Адмиралтействе возникла одна сложность, и пришло время сообщить вам об этом… Фабрицио, закрой, пожалуйста, окно. Нам нужно обсудить это в нашем тесном кругу.
Фабрицио встал с шутовской торжественностью и с написанным на лице намерением сострить. Капитан любил в конце ужина подтрунивать над ним.
— Слушаюсь и подчиняюсь, капитан. Не каждый же день у нас военный совет.
Слово упало во внезапно наступившую тишину. У Марино слегка дрогнул утолок рта.
— Замечание совершенно ненужное и довольно ослоумное…
Фабрицио тут же густо покраснел и бесшумно скользнул на свое место. В тишине прозвучало только легкое его покашливание.
Марино в двух словах рассказал о событиях в Ортелло. Ни о каких слухах теперь речь уже не шла, так что причины разрыва контракта остались непроясненными. Марино дал понять, что люди из Адмиралтейства оказались не на высоте. Я заметил, что, говоря об этом, он враждебно, даже с некоторым вызовом посматривал на меня; чеканя едва заметно, специально для меня, слова, делая ударение на каждом слоге, он излагал окончательную официальную версию и одновременно категорически предупреждал меня. Он закончил свое сообщение коротким намеком на то, что во время своей поездки убедился в бесполезности каких-либо дальнейших переговоров. Рассказ получился сжатым и обрисовывал ситуацию лишь в общих чертах; Марино явно отказывался читать написанное на лицах изумление и торопился как можно скорее закончить свою миссию.
— А теперь мы должны решить, что будем делать…
Он резким движением поднял голову, как бы стирая все сказанное, смывая любые возможные комментарии к событиям.
Роберто, сосредоточенно глядя в окно, затянулся сигарным дымом. Стало уже совсем темно. Напротив неотчетливо вырисовывалась громада крепости; она притягивала к себе вечерний туман, куталась в него, расширялась.
— Капитан, сколько у нас было в Ортелло людей?
— Восемьдесят… вместе с Беппо и Марио — восемьдесят два.
— А невозможно, скажем, переместить их на какую-нибудь другую ферму?
Фабрицио робким жестом руки попросил слова. Марино раздраженным движением подбородка показал ему, что готов его выслушать.
— Это будет нелегко. Капитан, вчера я заезжал в Гронцо за деньгами. Я подумал, что это праздные разговоры, но там они тоже говорили о том, что собираются в следующем году вернуть нам наших людей.
Джованни слегка прищурил глаза.
— Это все-таки немного странно.
Капитан смотрел то на одного, то на другого, ожидая ответа, которого все не было. Постепенно в комнате совсем стемнело, и все присутствующие впервые почувствовали, что вместе с этими неподвижными сумерками в комнату вошло беспокойство.
Марино опять прервал молчание, сухо сказав:
— Дело не в этом. Что бы там ни случилось, нужно подумать о том, как использовать высвобождающихся людей. Они свалятся на нашу голову буквально с завтрашнего дня. А Орсенна ни в коем случае не позволит нам кормить их, если они будут болтаться без дела… Мне показалось, Роберто, что у тебя есть какая-то идея.
Голос Марино смягчился, он искал поддержки. Роберто находился в Адмиралтействе дольше других, и капитану нравился его медлительный, тяжелый ум, притуплённый требующими терпения ночными засадами; Роберто успокаивал его, словно подпирал глыбу его невозмутимости.
— Может быть. Я просто думал о том, что стоит нам только захотеть, и работы здесь хватит на всех.
— В Адмиралтействе?
Голос Роберто окреп; в нем звучало явное удовлетворение собственным здравым смыслом.
— В Адмиралтействе.
Он махнул рукой в сторону окна.
— Вам не кажется, что это сооружение не делает нам большой чести? Оно совершенно разваливается… Наши люди на протяжении многих лет были земледельцами… с таким же успехом они могли бы превратиться и в каменщиков.
— Ты хочешь ремонтировать крепость?
В голосе Марино внезапно прозвучала острая нота, какая-то вышедшая из-под контроля вибрация, которая от сокращения голосовых связок тут же оборвалась, но, пока она звучала, успела с такой явностью и очевидностью выдать его внутреннюю панику, что даже Роберто с его толстой кожей встревожился и на мгновение застыл в нерешительности.
— Ремонтировать — это слишком сильно сказано. Это слишком крупное мероприятие, на которое у нас практически нет средств. Но можно было бы его почистить. Это прекрасное здание, — добавил Роберто, опять бросая взгляд на окно, — а сейчас оно совершенно утратило свой человеческий облик. Превратилось в какие-то заросли, в джунгли.
По комнате глухо пробежала горячая волна одобрения — глаза заблестели. Неуклюжая речь Роберто подействовала, как оттепель в морозный день.
— Да, это деморализует людей. Эта развалина исторгает нас из себя. Когда живешь в руинах, то перестаешь воспринимать себя всерьез… Это все равно что построить себе шалаш на улицах Сагры и начать раскопки, — в сердцах добавил Джованни.
— Окажите мне доверие, капитан, поручите мне команду, освободившуюся в Ортелло. — Фабрицио весь выпрямился, дрожа от возбуждения. — …Обещаю, что через два месяца крепость будет блестеть как новая. Вместе с надраенными пушками.
Ошибиться было трудно: над Адмиралтейством поднимался маленький шквал, настоящий бунт в миниатюре. Марино недоверчиво переводил взгляд с одного лица на другое, с ошалелой покорностью внимая напору перебивающих друг друга голосов, внезапному пробуждению энергии — будучи уже на буксире, уже безнадежно в обороне. Он глубоко вздохнул и, опустив глаза к столу, стал медленно подбирать слова.
— Все это просто великолепно, но несерьезно. Крепость списана, и Синьория ни за что не откроет кредит ради бесполезной работы.
Лица сразу замкнулись, стали враждебными. Ответ Марино пришел слишком поздно. Сквозь приоткрытую дверь уже сочился свет, и плечо давило на нее все сильнее и сильнее.
— Если произвести расчеты — все необходимые расчеты, то мне кажется, что Орсенна еще останется вам должна.
— Речь идет о соблюдении норм. Существует особый кредит, открываемый для ремонтных работ.
— Вы же, капитан, сэкономили им столько денег. На крепости ведь еще сохранился герб Синьории, и ей все-таки следовало бы уважать себя.
В поднявшемся шуме звучали и ноты торжественного одобрения, и немного комичные восклицания оскорбленного достоинства. Марино посмотрел на меня краем глаза. С холодным азартом игрока я наблюдал, как оказываются битыми все эти фальшивые карты. Марино играл против них один, причем игра его была нечестной.
— Господа!.. Господа!.. — Марино резко ударил кулаком по столу и заставил всех замолчать. — Мне кажется, что вас куда-то понесло. Орсенна видит нас и слышит, — добавил он, поднимая на меня непроницаемый взгляд, — не забывайте об этом. Альдо — наш друг, но всему есть предел. И мне кажется, что он сегодня слишком молчалив.
У меня ёкнуло сердце: я почувствовал, что Марино ставит на свою последнюю карту. Я слегка побледнел и встал. Мне предстояло предать его дважды.
— Предложение Роберто кажется мне вполне разумным. В любом случае теперь забота о контингенте из Ортелло полностью ложится на наши плечи. Орсенна ничего не сможет возразить на то, чтобы люди приносили хоть какую-то пользу.
Я увидел, как в глазах Марино сверкнула молния. Он резко встал.
— Пусть будет так. Даю тебе, Фабрицио, карт-бланш. Завтра мы с тобой пойдем осматривать крепость.
Марино вышел из комнаты своим тяжелым шагом ночного дозорного; на пороге он остановился, начал было рукой какой-то жест и не закончил его. Голова его втянулась еще глубже, чем обычно, в плечи; взгляд сразу потускнел. Мне внезапно вспомнился тот момент, когда он, придя вечером в палату карт, поднял вверх свой фонарь. В его жалком покачивании головой чувствовалась какая-то старческая расслабленность.
— Это большие перемены…
Все удивленно подняли глаза, но фраза осталась незаконченной. Покачивание головой продолжалось, казалось механическим. Взгляд переходил с одного предмета на другой, не в силах на чем-либо остановиться; он был опять странно повернут вовнутрь, как взгляд больного, погруженного в расшифровку неясного предостережения, исходящего от его черной плоти. Он надвинул на голову фуражку и, тяжело ступая, удалился.
Начиная с этого дня капитан сильно изменился. Что-то в нем надломилось, что-то связанное с самыми корнями жизни. Когда, приходя на ужин, он сбрасывал свою тяжелую шинель, то казалось, что его силуэт с каждым днем уменьшается, становится все более тонким. Этот неподвижный силуэт по-прежнему представал в обрамлении наполненного тишиной кабинета и длинного коридора, которые защищали его от времени, заклинали его, подобно тому как каменная оболочка защищает запеленатую в жесткие ленты мумию от ее вечности. Однако лицо Марино теперь жило интенсивнее, чем когда бы то ни было раньше, жило в каком-то скорбном, механическом бодрствовании, в котором дух не принимал никакого участия; черты его лица обрели странную, непроизвольную манеру сокращаться, сохраняя напряженную неподвижность чувствующего растения, словно отныне функции их стали сводиться к тому, чтобы усиливать, усугублять обостренные вибрации слуха. Масса тела под сблизившимися друг с другом плечами становилась все инертнее, все компактнее, все тяжелее. Внешне он выполнял все ту же работу, что и раньше, и стопка бумаг на столе, сложенная утром слева от него и вырастающая вечером справа — так переворачивают песочные часы, оставалась как бы символом ровного течения времени в Адмиралтействе; однако лицо, словно отделившееся от тела с его активными руками, пребывало во власти тиков и неконтролируемого дрожания. Марино слушал. Из чрева крепости, разбуженной и гудящей с раннего утра до позднего вечера под тяжелыми сапогами сновавших там людей, до него докатывалось, ему передавалось ощущение пронзительной, сверлящей боли. Днем в его глазах сохранялся слепой взгляд вытащенного на поверхность крота. Иногда, работая с ним за одним столом, я помимо своей воли смотрел украдкой на его лицо и с легким потрясением обнаруживал на нем признаки какого-то тревожащего меня животного начала. Марино, разумеется, постарел, но эта его животность не была старческой. Она не являлась вырождением ума, а лишь жила на большей глубине. Она напоминала скорее проницательную отрешенность абсолютного внимания и заставляла меня иногда задумываться о том удивительном выражении, которое проявляется у тех, кто сосредоточенно внимает отзвукам глубинной органической жизни: у врача во время аускультации, у женщины во время беременности, у испуганных животных, получивших в бездне своей теплой ночи смутный знак наступающего прилива или приближающегося тайфуна. При виде этого сокровенного напряжения у нас появляется чувство, что уже в самом взгляде на него есть что-то кощунственное; наш инстинкт предупреждает нас, что дух, с каждой секундой уходящий на наших глазах куда-то все глубже и глубже, слишком опасно приближается к некоторым запретным центрам, где что-то происходит, и мне казалось, что внезапно появившаяся на лице Марино едва заметная морщинка уравновешивает располагающийся где-то в другом месте огромный груз; я торопливо отводил глаза в сторону, чувствуя, что сердце у меня бьется быстрее, чем обычно.
Тем временем Адмиралтейство пробуждалось от своего сна. Невиданная ранее деятельность гнала прочь с мола небольшого порта, с земляных насыпей, с пустырей тишину, возвращавшуюся теперь туда только на время сиесты, ритуала, совершенно необходимого в условиях жаркого сиртского лета, но соблюдавшегося и потом, в преддверии зимнего сезона. Поскольку в давно оставленных и готовых вот-вот рухнуть зданиях не хватало места для вернувшегося из Ортелло контингента, Фабрицио распорядился очистить от кустарника часть пустыря за крепостью; расположившиеся там ровными шеренгами палатки и четкие ряды походных костров, на которых вечером готовилась пища, ассоциировались у меня с чем-то более неукоснительным и более военным, чем все то, что можно было видеть в Адмиралтействе раньше. Марино практически не заглядывал на тот участок территории, который он презрительно окрестил «табором», а иронический тон, прорывавшийся у него в разговоре с Фабрицио при упоминании о «беженцах», давал достаточно ясно понять, что это столь нежеланное подкрепление вызывает у него грустные воспоминания и висит на нем тяжелым грузом, но нам нравилась эта суматоха с ее непрерывным звяканьем стукающихся друг о друга винтовок, бряцанием металла, перекличками, этот громкий шум голосов, вновь привыкающих к открытому пространству; лагерь стал самым оживленным местом в Адмиралтействе. Этот бивак, внезапно, как какой-нибудь сорняк, выросший на развалинах, давал совершенно неожиданный для здешних степей приток жизненных соков: то, что было в нем временного, взывало к будущему, и когда после ужина наши ноги сами несли нас к пустырю, где льнущий к земле дым рдеющих в ночи лагерных костров смешивался с рано выпавшим туманом лагун, то гомон веселых и сильных голосов, перекликавшихся вокруг невидимых палаток, привносил в атмосферу музыку неожиданности, свободы и необузданности, похожую на ту, что звучит над отправляющимся в поход войском, над снимающимся с якоря кораблем, и мы чувствовали, как наши головы вдруг начинает кружить легкий хмель приключений. Марино не ошибся: изменения оказались большими. Подобно простирающему во все стороны свои корни молодому дереву, эта своевольная живая клетка цеплялась где только было можно за дремлющие, заплесневелые механизмы Адмиралтейства, которые начинали потрескивать, тревожа капитана в его оцепенении. Каждый новый день приносил с собой и новые проблемы, требовавшие немедленного разрешения: то не хватало продовольствия, то нужно было купить в Маремме что-то для лагеря, то возникала потребность в инструментах, без которых начинал рвать и метать внезапно ощутивший свою значительность Фабрицио, — проблемы, в сущности, крошечные, но заставлявшие каждого хлопотать даже больше, чем того требовали его служебные обязанности, хлопотать, привнося льющиеся через край рвение и заинтересованность, привлекая элементы игры и пьянея от самого процесса деятельности; и от этого еще больше бросалась в глаза овладевшая Адмиралтейством потребность в лихорадке.
За обедом и ужином крепость теперь гудела от разговоров о проектах и решениях, о сметах и службе, слыша которые Марино время от времени качал головой, качал как-то устало, механически, словно отгоняя налетевший рой мух; иногда в конце слишком оживленной дискуссии он тихо засыпал на уголке стола, а может быть, просто притворялся, что спит, — по крайней мере так я предполагал, — стараясь найти в этом сне защиту, перелететь с его помощью в какой-нибудь тенистый уголок, населенный более привычными образами. Он был окружен тем же глубоким уважением, которое всегда умел к себе вызывать, и все же в ответ на его рассчитанную и намеренную медлительность в принятии решений, неизменно выполнявшую роль тормоза, подчиненные иногда выражали признаки нетерпения, которые теперь пресекались лишь наполовину: убыстрившийся ритм жизни в Адмиралтействе как бы незаметно выбрасывал его на берег, и он не сопротивлялся этому, возможно стараясь сохранить силы на будущее. Я заметил, что в общем распорядке текущих дел возникла тенденция к образованию замкнутых цепей, благодаря которым самому Марино удавалось оставаться вне игры: так, Фабрицио, занимающийся ремонтом крепости, должен был вести дела по поставкам оборудования непосредственно с Джованни, ведавшим вопросами материального обеспечения. Поэтому почти каждый вечер за столом устраивались мини-совещания на две-три персоны, ни в коей мере не ускользавшие от внимания Марино: прищуриваясь и подмигивая мне, он словно брал меня в свидетели своего иронического восхищения таким рвением и чудом такого быстрого осуществления столь сложных и диковинных дел. В эти мгновения его взгляд выражал глубочайшее лукавство, смысл которого ускользал от меня и, возможно, озадачил бы даже и его самого своей внезапной и странной обезличенностью: иногда можно было подумать, что глаза Марино улыбаются за кого-то другого, настолько эта жестокая улыбка была ему несвойственна; словно кто-то гораздо более суровый и бесконечно более старый, чем он сам, взял да и привнес в прорези его внезапно утративших возраст век вместо сообщнического подмигивания пронзительный и холодный отблеск, похожий на леденящий кровь смех.
Казалось, что скука покинула Адмиралтейство. Деятельность Фабрицио творила чудеса. Он вошел в азарт, и ему удавалось вызывать у людей, казалось бы окончательно заснувших на слежавшейся соломе своих хлевов, взрывы энергии и той безумной активности, что встречается у людей, чудом избежавших гибели. Бригады, используемые на опасных работах, даже отказывались принимать добровольцев, вспоминавших вдруг про корабельные мачты, и в некоторые дни можно было подумать, что это целое войско обезьян карабкается на приступ надменной крепости, потому что Фабрицио, опасаясь совсем уже близких теперь дождей, являющихся неотъемлемой принадлежностью зимнего сезона в Сирте, торопился привести в порядок верхние галереи и дозорные площадки, откуда вода сквозь огромные щели потоками стекала вниз и затапливала казематы, а ремонт внутренних помещений отложил до вынужденного заточения во время долгого ненастья. За несколько дней крепость была очищена от зарослей кустарника и сразу же приковала к себе всеобщее внимание. Сбрасывая каждый день часть своих лохмотьев, она представала во всем совершенстве своей безупречной мускулатуры, во всей простоте своего застывшего движения, подающего какой-то знак, и, резко вздыбившись, стояла в своей трагической наготе на берегу распластанных вод. Отовсюду были видны ее острые гребни, вонзившиеся в пустынный горизонт. Мы наблюдали за тем, как она постепенно, подобно извлекаемой из земли статуе, освобождается от своих наслоений, и нам казалось, что в Адмиралтействе посвежел даже сам воздух и что закованные в латы высокие и неприступные стены молят о том, чтобы их промыли до чистоты морского ветра; с утра до вечера наш лихорадочный взгляд натыкался на их острый силуэт, как натыкается язык на режущий край только что сломанного зуба. Трудно было понять, как это из-за таких незначительных изменений произошел настолько сильный перелом в настроении, что даже вкус и аромат вдыхаемого нами воздуха стали другими, что даже кровь заструилась в жилах быстрее, и тем не менее я чувствовал, это было именно так: крепость росла теперь в нас самих с настойчивостью нового зуба, и из-за нее отдых наш кончился; она была тут, само воплощение беспокойства — водворившаяся, царящая, тревожная, непостижимая, — легкое, непрерывное покалывание тонкого острия, передающее всем нервным окончаниям возбуждение, идущее от тончайшего жала.
Хотя руководство Адмиралтейством и внутренняя служба меня непосредственно не касались, тем не менее я по своей собственной воле оказался вовлеченным в этот круговорот новых дел и из-за этого посещал палату карт гораздо реже. Она перестала быть тем хранилищем тишины, чье холодное и пахнущее плесенью дыхание хватало меня за горло, как в подземелье. Сквозь окна, не заслоняемые кустарником, на почерневшие столы падал теперь более живой свет, а иногда туда проникал луч солнца и, медленно перемещая столб пыли, как бы шарил световым пальцем по беспорядочному нагромождению карт, сонным движением извлекая наугад из тени какое-нибудь иностранное название или контур незнакомого берега. Глубокое эхо внутренних дворов подолгу вторило выкрикам землекопов, которые прыгали от бойницы к бойнице, вырисовываясь иногда в окнах, как в китайском театре теней. Эти крики и возгласы, эта лихорадочная суматоха, проникавшая даже в глубь столь надежно запрятанного, столь уединенного места, спящего глубоким сном под своим покровом пыли, лишали его присущих ему непредсказуемости и живописности: так же как пейзаж, вырисовывающийся на стенке фотографической камеры, утрачивает свою живую переливчатость, но зато обретает для глаза устойчивость кристалла и как бы начинает ловко выбирать среди предметов тот, который лучше всего передает тяжеловесность вещей, их смутную тоску по отдыху и успокоению; можно было подумать, что звуки и шумы проникали туда через фильтр снежной мантии, утрачивали там свое привычное значение, так что нарастал глубокий и неясный ропот, воспринимаемый на слух как звук возвращенной жизни; от этого столь привычного звучания инструментов и голосов в глубине затемненного уединения появлялось ощущение, что руинами овладела шумная и принесшая с собой какое-то знамение колония перелетных птиц, как если бы пришло наконец время — ее сокровенное время года, которое опровергает печальные приметы надвигающейся зимы, время, которое долго-долго ждало своего часа под пылью веков, распустилось наконец над крепостью и, словно оттепель, возвратило ее к жизни.
Фабрицио теперь говорил о «своей» крепости так, словно сам ее построил. И не хотел говорить ни о чем другом. Крепость эта была чем-то вроде гигантской игрушки в руках большого ребенка, причем связанные с ней фантазии, рождавшиеся в его голове, внушали порой тревогу уже хотя бы потому, что выражение «сказано — сделано» он понимал буквально; у него был настоящий дар мгновенно внушать все свои выдумки, вплоть до самых нелепых, своей бригаде, которая восторженно воспринимала барочную импровизацию его планов и больше всего любила пребывать накануне в полном неведении относительно того, что должно делаться на следующий день. Можно предполагать, что подобная работа через пятое на десятое напоминала Фабрицио непредсказуемость морской жизни; в его команде сложилась своеобразная духовная общность, которая питалась все большим и большим презрением к неподвижной жизни регулярных экипажей, и не проходило дня, чтобы кто-то не подавал капитану прошения о зачислении в ремонтную бригаду. Эти письма особенно раздражали Марино, который отправлял их одно за другим в корзину и сурово встречал наиболее упорных просителей.
— Черт побери эту стройку! — раздраженно бормотал иногда капитан. — Чего хотели, того и добились. Фабрицио развратит всех моих людей. Он деморализует Адмиралтейство…
Взгляд у него при этом был такой огорченный, такой мрачный, что иронизировать я не решался. Впрочем, дальше этих слов дело не шло; Марино настолько неукоснительно соблюдал свое обещание, что со временем его скрупулезность стала казаться мне даже странной. У Фабрицио руки были совершенно развязаны: в том, что касается работ, капитан не позволял себе ни малейшего замечания.
Однажды вечером, когда мы после ужина возвращались с прогулки по дозорным площадкам, ставшей теперь ритуалом, и Фабрицио, весь в своих делах, рассказывал нам, словно полководец на поле битвы, какие он собирается произвести на следующий день работы, он отвел меня в сторону. Глаза его блестели сильнее, чем обычно.
— Марино дал мне карт-бланш. Он и представить себе не может, до какой степени он попал, что называется, в точку: «бланш» по-французски означает «белая». Сейчас он на несколько дней отправляется в Орсенну. А когда вернется, я приготовлю ему сюрприз.
— Мы, Фабрицио, только и живем от сюрприза к сюрпризу. Ты превосходишь самого себя.
— Ты смеешься надо мной. Но на этот раз Марино просто не узнает мою крепость.
— Интригующе. Устроишь на ней висячие сады? Или передвинешь ее ближе к лагуне?
Фабрицио положил руку мне на плечо и, прищурившись, оценивающим взглядом знатока и хозяина окинул крепость.
— Я признаю, — начал он скромно, — что она уже и так хороша. Только ей пока что не хватает последнего мазка мастера. Сейчас ты поймешь. В настоящий момент она уже приведена в более или менее божеский вид, это я согласен, но пока все еще остается старой черной скалой. А теперь посмотри.
Он подобрал у стены свалившийся сверху камень, покрытый черным налетом, но со свежим, сверкающим, кристально белым сколом.
— Чудесный камень, такой блеск!.. Ты видишь, можно подумать, кусок какой-нибудь сахарной головы. Здесь трехсотлетний налет, настоящая грязь веков. Я скребу, соскабливаю ее. Снимаю налет. И через две недели вручаю Марино сверкающую новизной крепость. Мой триумф! — И он добавил голосом, уже вкушающим плоды победы: — Вот удивится, ты не находишь?..
Затянувшееся отсутствие Марино облегчало дело. Происходящее можно было сравнить с прорванной дамбой. Волна долго сдерживаемой молодости захлестнула Адмиралтейство, и оно теперь неслось, закусив удила. В этой контрабандной работе все становились сообщниками Фабрицио, и он мог сколько угодно получать помощь из резервов рабочей силы. Все в Адмиралтействе высыпали на стены крепости, словно термиты на свой термитник; крепость гудела с раннего утра и до позднего вечера — и даже после захода солнца, поскольку ночи были не темные, — вся во власти безумной лихорадки, как во время подготовки к праздникам.
Поздно вечером, когда почтовая машина из Орсенны привезла Марино, было уже темно. Капитан выглядел озабоченным, и мне даже показалось, что пелена безразличия и мрачной мечтательности, защищавшая его на протяжении последних недель от слишком близких контактов с людьми, еще больше уплотнилась. Традиционные вопросы об Орсенне, которыми его по привычке забрасывали, наталкивались на отрывистые и рассеянные ответы, и я стал всерьез опасаться, что последняя затея Фабрицио отнюдь не вызовет того восторга, на который он рассчитывал. Луна в тот вечер взошла еще до того, как кончился наш ужин, и, как только Марино закурил трубку, Фабрицио, все время исподтишка посматривавший на окно, с притворным безразличием возглавил нашу вышедшую на вечернюю прогулку маленькую группу.
Хотя костры уже погасли, от лагеря в тишине ночи до нас доносился неясный шум сливающихся воедино голосов, который, по мере того как мы пересекали спящий пустырь, растворялся в умиротворенном и более свободном дыхании лагуны; мы обогнули угол командного павильона и, ошеломленные, замерли на месте. Нечто невиданное, хотя и давно ожидаемое, нечто вроде неподвижно застывшего чудовищного зверя, возникшего в положенном месте после бесконечных часов бесполезного сидения в засаде, появилось вдруг из самого своего ожидания; нечто долго-долго высиживаемое во мраке выскочило в конце концов из своей разломившейся скорлупы, словно из огромного яйца ночи, и встало на берегу лагуны: крепость стояла перед нами.
Свет луны отвесно падал на галереи и верхние части крепости, опуская рвы и нижнюю часть стен в прозрачную тень, отделяя сооружение от земли, облегчая его и мягко вознося к высотам; и крепость, стоящая на берегу и отороченная световой каемкой лагуны, казалась вдруг поставленной на воду, плывущей по переливающейся стихии, казалась внезапно ожившей: на фоне спокойного пейзажа она легко и радостно подрагивала, как стоящий на якоре корабль. Неподвижная, как в волшебном сне, она в то же время как бы плескалась с бесконечным наслаждением в воде, беззвучно играла, как лунный свет на ночных полянах. Подобно первому снегу, торжественно касающемуся своим перстом самой высокой вершины, ее нереальная белизна таинственным образом освящала ее, окутывала ее легким, трепетно курящимся в лунной ночи паром, метила ее калением горящего угля.
— Это призрак, — нарушил в конце концов Роберто затянувшееся молчание. — Привидение в своем саване.
— Это нелюбезно по отношению к Фабрицио. Скорее, это подвенечное платье, — возразил было Джованни, но тишина снова сомкнулась над нами, и мне показалось, что на нас обрушивается весь холод этой светлой ночи.
Остров Веццано
— У меня есть для тебя корреспонденция, — резко бросил мне Марино, когда на следующее утро я зашел к нему в кабинет. — Похоже, что там, в Канцелярии, нами занимаются.
Несмотря на изображенное им хмурое безразличие, в его голосе прозвучал тревожный вопрос. Он протянул мне два конверта. Я узнал печать Наблюдательного Совета, занимающегося вопросами государственной безопасности: это наводило на мысль о том, что в послании речь идет о каком-то серьезном деле; ни слова не говоря, я дал Марино расписку в получении и распечатал письмо лишь тогда, когда остался один.
Я еще не вполне освоился с канцелярским стилем письма синьорийских служб и поэтому, когда закончил чтение первого документа, оказавшегося длинной и невероятно многословной инструкцией, то у меня вначале сложилось впечатление, что ко мне в руки попал один из тех разрозненных архивных документов, язык которых полон загадок и намеков, потому что он является частью особой кодовой системы, привычной для посвященных, к которой нужен специальный, отсутствующий у меня ключ. По отдельности все слова этого текста мне были абсолютно понятны, но общий смысл от меня ускользал. По некоторым трудно объяснимым оборотам фраз, по излишнему нагнетанию эвфемизмов там, где этого вовсе и не требовалось, я почувствовал, что автор вкладывал в рассыпанные там и сям совершенно банальные слова не совсем тот смысл, который виделся в них мне. Я вдруг вспомнил один рассказ Орландо, относящийся к тем временам, когда мы вместе с ним посещали Школу дипломатического права, рассказ об особой «тайне» Орсенны, который показался мне тогда чрезмерно романтическим. Согласно Орландо, века абсолютной политической стабильности позволили Орсенне воспользоваться своим почти уникальным опытом, который заключался в неуловимом и длительном просветлении. Несменяемая наследственная власть нескольких избранных семей позволила постепенно, как во время требующего терпения химического опыта, сосредоточить на вершине стагнирующего социального образования весьма подвижные принципы, выработавшиеся в глубинах того не имеющего возраста болота, каким стал город. Однако больше всего в весьма туманных речах Орландо меня поразило его нежелание увидеть в этом медленном осуществлении жизненных принципов дополнительное доказательство доброй воли и силы аристократии, подтверждающее ее права; он называл эту операцию подозрительной и крайне опасной, полагая, что наряду с более острым осознанием Орсенной своих священных обязанностей, наряду со средоточением высокой политической мудрости там присутствует и скрытая угроза распада. Согласно Орландо, образ Орсенны, глубинные элементы ее жизни, ее будущее, вынашиваемое в головах нескольких мыслящих людей, которые принадлежали к наиболее древним семьям Синьории, хотя и находились не на высоких, почетных должностях, а занимали в Орсенне скромные посты, откуда и в самом деле можно было контролировать всю ее тяжелую политическую машину, — этот образ стал со временем настолько непонятным простому народу, насколько мир огромных глубин может быть непонятен обитателям прозрачных вод. Он говорил также, что если взглянуть на жизненные органы Орсенны глазами достаточно осведомленного человека, то можно заметить, что со временем они претерпели такие глубокие изменения, что отличаются сейчас от того, что было раньше, в той же мере, в какой корень дерева отличается от листа. «Лист — это и красота дерева, — повторял он мне, — и обильное, яркое выплескивание его жизни; днем он дышит и подвластен малейшим дуновениям ветра; по едва уловимым впечатлениям, получаемым им ежесекундно от света и от воздуха, он управляет ростом ствола. И все же истина дерева находится, вероятно, в глубинах, в слепом сосании его корня, в питающей его ночи. Орсенна — очень большое и очень старое дерево, и оно отрастило себе длинные корни. Знаешь, почему у нас в Сирте не растут деревья? Весна там неистовствует, как мартовский шквал, а оттепель наступает после необычайно резкого перепада температуры. Зелень там развертывается, как флаги над бунтом, и сосет жизненные соки, как берущий грудь младенец, но оттепель в это время еще не достает до глубоких слоев земли, корень еще спит во льду, волокна сердцевины рвутся, и дерево умирает посреди цветущей прерии. Я не люблю эту зеленую старость Орсенны, это ее нежелание понять, что разумнее было бы жить не слишком бурно, не люблю все то, что хочет помешать ей дремать». Во время одной из наших последних бесед он настойчиво намекал мне на особую власть в Орсенне одного клана опасно прозорливых и склонных к авантюрам людей и дал мне понять, что после последних назначений в Сенат эта власть достигла, но так, что об этом никто не знает, угрожающих размеров, словно, добавил он, «тень какая-то простерлась над городом». Более внимательно отнестись к сумрачным речам Орландо заставило меня еще и то обстоятельство, что Альдобранди вновь вошел в милость, — обстоятельство, означавшее существенное смещение центра тяжести в жизни Орсенны, по мысли тонких наблюдателей; причем особенно бросалось в глаза отсутствие каких-либо политических водоворотов, которых можно было бы ожидать от его деятельности, что свидетельствовало о заблаговременных подготовительных мероприятиях и о замечательной сноровке в манипулировании сообщниками во всех эшелонах власти, без чего само возвращение Альдобранди оказалось бы невозможным. Так что намеки Орландо уже проделали во мне свою молчаливую работу, и вот теперь я изучал полученный мною документ с лихорадочным возбуждением охотника, попавшего на пересечение запутанных следов: я стремился не столько к тому, чтобы определить, согласно полученным инструкциям, линию своего практического поведения, сколько смутно искал возможность быть снисходительным, чего, может быть, от меня ждали.
В соответствии с обычаем, терявшимся в ночи незапамятных времен — вероятно, он относился к той эпохе, когда орсеннские службы еще не завели себе привычку сохранять в архивах дубликаты всех писем, — документ начинался с подробнейшего повторения всех пунктов моего донесения. А затем посылаемые мне инструкции излагались в трех пунктах, которые рекомендовалось рассматривать в качестве абсолютно изолированных друг от друга положений.
В том, что касается происхождения слухов, инструкции особенно изобиловали общими словами и не сообщали ничего существенного; сколько бы я ни возвращался к этому мысленно, удивлению моему не было конца. Там, например, заявлялось, что; конечно, «крайне желательно», чтобы источник слухов был найден, но не исключено, что подобные поиски мало совместимы с выполняемыми мною в Адмиралтействе функциями, — здесь письмо терялось, словно в песках, в невероятнейших разглагольствованиях и формулах вежливости, — ведь мне пришлось бы углубиться в детали весьма скучного полицейского расследования, результаты которого могут лишь разочаровать, а предмет — оказаться в конечном счете не заслуживающим внимания. При чтении этой нарочито мутной прозы складывалось ощущение — причем вызванное не столько общим, едва поддающимся оценке смыслом, сколько красноречиво и лаконично засвидетельствованной в письме унылой вежливостью, — что автор ее не столько стремился дать мне какие-нибудь ориентиры, сколько старался с помощью чисто формальных приемов защитить себя от возможных упреков в том, что он оставил без внимания мое донесение. По какой-то причине мне вежливо давалось понять, что в этом вопросе благоразумие требует применять испытанное средство сдерживания с помощью «обычных процедур», а осторожность подсказывает спешить без торопливости.
А вот проблема обоснованности слухов, похоже, занимала автора послания гораздо больше, и тут я впервые обратил внимание на легкое несовпадение точки зрения, выраженной в моем донесении, и точки зрения, сформулированной в этом двусмысленном документе. Что касается меня, то мне даже и в голову не приходило, что столь невероятные россказни могут хоть в какой-то мере иметь реальное основание: впрочем, не исключено, что я с самого начала отбрасывал подобную идею, инстинктивно отвергал ее как какое-то нарушение приличий, способное компрометировать меня в глазах Синьории. В документе же меня приводило в полное замешательство как раз то, что Синьории не понравился прежде всего мой скептицизм, который, как мне казалось, я привнес в приказном порядке. В той поспешности, с которой автор письма старался опереться на слухи как на нечто не вызывающее сомнений, как на вполне вероятное будущее, угадывалось желание увидеть новую, долгое время запрещенную перспективу, увидеть некий запредельный мир: на возможность его существования мне тонко и настоятельно намекали, словно опасаясь, как бы я не бросился притворять с излишней торопливостью скрипнувшую и готовую распахнуться навстречу чьим-то пожеланиям дверь. «Синьория, — говорилось еще по этому поводу в инструкциях, — с напряженным вниманием следит за Вашими усилиями, направленными на то, чтобы получить более отчетливое представление в этом чрезвычайно важном вопросе. Действующие сейчас исключительно строгие предписания относительно навигации в Сиртском море — предписания, составленные в совершенно иной ситуации, обусловленные, вероятно, актуальным тогда стремлением избежать опасных встреч на море и не принимающие во внимание потребность в точной информации, необходимость в которой стала очевидной лишь в последнее время — это обстоятельство заставляет желать смягчения вышеназванных предписаний, — превращают, естественно, всякого рода проверки в дело весьма деликатное и трудновыполнимое; однако мы надеемся, что Ваш ум и Ваше рвение помогут Вам с точностью и в нужном объеме выполнить эту задачу, совместимую с возложенными на Вас полномочиями.
Что же касается приведения крепости в состояние боевой готовности (здесь я вытаращил глаза: во-первых, в моем донесении ни словом не упоминалось о проводимых в Адмиралтействе работах, а во-вторых, о них и не могло там упоминаться, потому что я составил его еще до предложения Роберто; но тут я обратил внимание на отсылку к прилагаемым документам), то Синьория удивлена, что эта инициатива, о которой ниже речь пойдет особо — по причинам, вытекающим из содержания прилагаемого документа, — была предпринята без согласования с ней и что ей стало известно об этой инициативе лишь косвенным путем. Синьория, признавая, что принятие подобного решения на месте могло быть продиктовано вполне законными соображениями безопасности и что в конечном счете оно отвечает требованиям сложившейся ситуации, выражает тем не менее пожелание, чтобы впредь, после принятия столь важных решений, способных оказывать влияние на ее общую политику, о них бы доводилось до ее сведения в самые кратчайшие сроки».
На этом официальные инструкции кончались. Они удивили меня и дали пищу для долгих размышлений. Однако теперь некто — тот, чья неразличимая подпись стояла внизу страницы, — начинал говорить со мной от своего собственного имени; неизвестный мне, но невероятно знакомый голос, по-особому полнозвучный, бархатистый и властный, как бы доверял мне нечто важное. Этот голос прорывался теперь сквозь официальное бормотание и начинал солировать, словно ставя себе целью донести до моих ушей не столько поток каких-то обманчиво звучащих слов, сколько глубинные, почти гипнотические внушения, которые улавливались в его особом тембре.
«Я с удовольствием отметил, — говорилось в послании, — ясный стиль Вашего донесения и Вашу рассудительность, проявившуюся в том, что Вы без колебаний поставили Совет в известность относительно дела, истинное значение которого Вам было трудно оценить, но одновременно я должен обратить Ваше внимание и на некоторую замеченную мною легковесность в суждениях, не вполне простительную даже в Ваши юные годы. Настало время конфиденциально напомнить Вам, что функции Наблюдателя, предполагающие абсолютную общность мысли с правительством Синьории, налагают на Вас обязательство смотреть на все его глазами и остерегаться какого бы то ни было влияния общественного мнения. Говорить — до определенных пределов — разрешается всем; знание же — привилегия немногих. В сознании народа официальное состояние враждебности Синьории по отношению к одной иностранной державе с годами могло выветриться, превратиться в предмет шуток и осмеяния; Вам же надлежит помнить — при необходимости даже вопреки распространенному мнению — грозную и ни в коей мере не утратившую своей силы истину и при любых обстоятельствах оставаться на ее высоте. Эта истина живет благодаря Вам и благодаря еще нескольким ее хранителям; от Вас и от них зависит, чтобы при тех неблагоприятных обстоятельствах, когда им одним пришлось бы воплощать все государство, служение последнему продолжало бы оставаться сознательным. Я предлагаю Вам задуматься над смыслом девиза Орсенны. В нем заключено мнение людей, прославивших Синьорию, людей, убежденных в том, что государство живет лишь в той мере, в какой оно находится в нерасторжимом единстве с определенными скрытыми истинами, которые с трудом запоминаются, опасны в повседневности и оттого с такой легкостью забываются; единственной их хранительницей является преемственность поколений. Народ называл эти истины «Пактом союзничества» и радовался, даже во времена подстерегавших город опасностей и обрушивающихся на него бед, любому обстоятельству, оживлявшему их блеск, ибо видел в них наглядное проявление своей избранности и своего бессмертия. Обстоятельства могут сложиться так, что в один прекрасный день именно Вы окажетесь хранителем этого пакта, отмена которого была бы равнозначна гибели города. Орсенна ждет от Вас, что в Сирте Вы сумеете по совести оценить нависшую над ней опасность; в противном случае Вас ждет отставка».
Прилагаемый документ оказался донесением Бельсенцы, очевидно тоже решившего нарушить молчание. Приведение «в состояние боевой готовности» крепости (я походя задумался над этим по меньшей мере странным фактом: с такой поспешностью поверить на слово столь удаленному свидетелю), на которую, похоже, вся Маремма ежедневно нацеливала свои лорнеты (ведь огромная масса крепости возносилась очень высоко над плоским песчаным берегом), подтверждало панические слухи и, кажется, значительно усилило охватившую город лихорадку — до такой степени, что Бельсенца испугался. Он даже решился — по крайней мере так можно было истолковать одну из стыдливых перифраз — арестовать в общественных местах, не привлекая к этому факту особого внимания, несколько перешедших границу допустимого болтунов. Все его донесение, составленное с исключительной осторожностью и сдержанностью, отражало колебания Бельсенцы в момент, когда он пытался определить линию своего поведения: с одной стороны, ему не хотелось навлекать на себя упреки в халатности в том случае, если бы было решено положить конец паническим настроениям, а с другой стороны, он был настроен сохранить маску невозмутимости, если приведение крепости «в состояние готовности» действительно оказалось бы прелюдией серьезных событий.
Пробежав глазами записку Бельсенцы, я внимательнейшим образом, тщательно, как при переводе текста на другой язык, перечитал от начала и до конца инструкции Совета и в полном недоумении положил листки на стол. Мне казалось, что у меня на глазах, которым я отказывался верить, что-то пришло в движение — нечто похожее на покачивание скользящего в море корпуса судна. Какой-то взгляд у меня за спиной, взгляд, казавшийся мне упорно прикованным к земле, поднимался, устремлялся к горизонту, изменял всю мою перспективу. Предчувствие во мне, похожее на срывающийся с мачты торжественный возглас наблюдателя, уже кричало вместе с этим взглядом: «Земля!»— и придавало плоть и форму уже преследующему меня призраку.
Сквозь полуденную сонливость до меня донесся шум мотора, а потом я увидел в стекле открытого окна отражение мягко остановившейся у меня перед дверью мареммской машины. Мне вручили письмо. Ванесса просила меня приехать на следующий день рано утром. Похоже, во дворце Альдобранди было известно многое. Марино отправился на «Грозном» в двухдневное плавание к губковым отмелям, чтобы сменить там дозорные экипажи; мне настолько явно облегчили задачу, что я даже рассердился. Эта манера Ванессы брать все в свои руки мне не нравилась: у меня то и дело возникало ощущение, что она ставит Марино в положение обманутого мужа, и мне становилось обидно за него. Наши уединенные беседы, которые она устраивала, инстинктивно заставляли меня принимать сторону капитана: еще никогда я не ощущал так остро мое дружеское расположение к нему, как в те моменты, когда она со свойственной ей бесцеремонностью оказывала мне знаки внимания и демонстрировала свою требовательность.
Направляясь ранним холодным утром в Маремму, я ощущал нечто похожее на очарование ничем не омраченного ожидания, которое я уже испытал, когда отправлялся в Сирт. Я даже не стал пытаться угадать, куда меня приведет эта вылазка, которую Ванесса окружала столь плотной завесой тайны. По мере того как светлело, над дорогой все громче звучала печальная песнь птиц, глуховатая и монотонная, как любой сиртский день, сыпучая, как песок этих безграничных пространств; покой серых равнин, привычно увлажненных утренним туманом, походил на томные летние зори, что тянутся, словно прибитые стихающим ливнем. Иногда я оборачивался назад и видел сзади крепость, окрашенную в мертвенно-бледный цвет, окутанную складками ниспадающего на нее тумана; а впереди меня, вдали — ртутные отблески лагуны, образовывавшие на горизонте узкую ломаную черную линию, и мне казалось, что я физически ощущаю, как сквозь сгущающуюся томительность утра тянутся токи этих двух полюсов, между которыми отныне мне было суждено жить, заряжаясь под покровом тумана их летучим электричеством. Мне снова вспомнилось, на этот раз более отчетливо, донесение Бельсенцы; я задержал взгляд на уже проступившей над морем темной каемке, откуда до меня доносились вместе с дремотными порывами ветра мощные, тяжелые запахи лагуны; я невольно прислушивался — так вслушиваются, взобравшись на холм, в отдаленные звуки погруженного в дымку города — к тихому и яростному шуму, производимому в моей памяти этим притаившимся, подобно болоту во время вечерней грозы, городом; шум питал эту тяжелую атмосферу, заставлял вяло пульсировать состоящий из тумана кокон над городом, слабо бился под ним, как бьется укутанное плотью сердце.
Дворец, широко распахнувший свои двери навстречу танцующим бликам лагуны, казалось, спал глубоким сном. Мои крики не пробудили никого. Я пошел медленно и неуверенно сквозь необычную анфиладу голых комнат, которые я не узнавал. Со сводов на меня обрушивалось ледяное безразличие, и я чувствовал, как на меня накатывает новая волна дурного настроения. Я довольно нерешительно, черепашьим шагом, переходил из зала в зал, скучающе, как посетитель музея, поднимая взгляд к застывшей сарабанде потолков и фресок. В конце концов я оказался в удаленной галерее, откуда были видны выстроившиеся в одну линию мост и неухоженный сад, который прилегал ко дворцу по ту сторону рукава со стоячей водой; и как раз в тот момент я увидел стоявшую в крытой аллее сразу за мостом Ванессу.
Она явно не подозревала, что за ней кто-то наблюдает. Она только что искупалась, и на ней не было ничего, кроме широких матросских брюк и безрукавки с глубоким вырезом. Она выжимала свои мокрые волосы; в углублении подмышек и между грудями шевелились темные тени. Во рту она держала заколки, что придавало ее лицу какое-то детское выражение; казалось, что этот рот с двумя невинными губами, усердно, как школьница-отличница, занимающийся своим делом и потому оставленный без присмотра, высунул язык и живет напряженной жизнью плотоядного цветка, умеющего лишь хватать и удерживать. Я замер с бьющимся сердцем, не в силах оторвать взгляд от этой незнакомки, внезапно ставшей для меня воплощением таинственной грации в ее чисто животном проявлении. Пальцы медлили, задерживались в податливых прядях, а запрокинутая голова превращала горло в бледный поток, мягко изгибала груди, словно вокруг рукоятки кинжала. Она была похожа на дрожание воздуха над жарким пламенем. Впервые Ванесса стала плотью. Она, ласковая земля, взрыхленная дождем ее ниспадающих волос, явилась из нахлынувших на меня лихорадочных снов, упругая и эластичная, как песчаный берег, созданный для растений и для ладоней.
Я постучал по стеклу. Ванесса заметила меня и по мостику приблизилась ко мне.
— Я всех отпустила сегодня на выходной. Дворец пуст. Этот день принадлежит нам двоим. Я тебя увожу.
— В море, насколько я понимаю.
— Да, причем очень далеко. Нам нужен целый день. Мы отправляемся на Веццано.
Название пробудило во мне достаточно свежие воспоминания, а потом и нечто похожее на любопытство. В моем сознании возникла черная точка, помеченная отдельно на той голубой поверхности воды, по которой я так часто мысленно скользил в палате карт. Веццано был всего лишь крошечным островком, и в навигационных инструкциях, просмотренных мною в Адмиралтействе, ему было посвящено всего несколько фраз: о нем упоминалось главным образом в связи с особенностями его обрывистых берегов и скал, возвышающихся напротив полузатопленных стрелок лагун, способных приютить суда, захваченные здесь зимой резкими южными штормами. В те времена, когда все водное пространство в округе кишело пиратами, Веццано служил морским бродягам портом приписки и укрепленным складом; их привлекали, очевидно, и его защищенные бухточки, и просторные гроты, кое-где пересекавшие остров из конца в конец, и особенно близость континента, что позволяло перевозить по ночам товары в простых лодках до безопасных прибрежных мелей. Однако все это прошлое с его пролитой кровью и варварскими богатствами меня не манило. В моих глазах эта черная точка на карте столь же мало ассоциировалась с каким-либо воспоминанием или каким-нибудь пейзажем, как световой конус звезды на небе. Этот остров и был одной из моих звезд, некоей блестящей точкой одного из моих неподвижных созвездий. Если поставить ножку циркуля в точку, обозначающую Раджес, то обнаруживается, что из всех пунктов территории Орсенны Веццано находится от него на самом близком расстоянии.
Когда мы покидали дворец, над лагунами уже сверкало солнце; погода в тот день обещала быть хорошей. Ветер сладострастно, как рука, забирался в мои свободные одеяния: перед выходом Ванесса заставила меня переодеться в такие же, как у нее, морские куртку и брюки.
— Желательно, чтобы тебя не узнали на корабле. Ты сам поймешь почему. И кстати, так удобнее, — сказала она немного не своим голосом, отводя взгляд от моих босых ног.
Ощущение свободы, разлившееся по всему моему телу благодаря такому же, как у Ванессы, костюму, обручало меня с ней, сближало нас, как какая-нибудь ночная одежда. Я чувствовал, как ветер скользит по ее и по моей коже, объединяет нас так же, как если бы я ощущал у себя на губах ее дыхание. Мы мирно, молча сидели рядышком, смотрели друг на друга и улыбались, радуясь, как сбежавшие с уроков школьники, этой прогулке и порывам растрепавшего ее волосы ветра. Мой новый наряд служил предлогом для небольших вольностей, от которых у меня спирало дыхание и застывали на губах слова — настолько я боялся, как бы мой внезапно исказившийся голос не выдал меня; я ощутил, как ожог, легкое прикосновение ее пальцев к моей шее, и тут же от внезапного крена лодки ее ступня опустилась на мою ступню, и Ванесса, смеясь каким-то торопливым смехом, обхватила меня своими теплыми руками; я был не в состоянии что-либо сказать и только нажимал на ее застывшую от соприкосновения с мокрыми досками ступню; она помедлила секунду, прежде чем разомкнуть свои объятия, и я почувствовал исходящий от ее волос запах детства и леса. В этот момент я уже даже и не испытывал к ней желания; я чувствовал только резкие удары ветра, бьющего нас по лицу своими жесткими крыльями, да еще нежность, раскрывшую в доверчивой ночи свои тысячи рук и уверенную, что ласковое тепло сомкнет их снова.
Между тем лодка уже плыла по проходу, соединяющему лагуны с открытым морем. В этот момент уже ничто не могло удивить меня — будь то даже путешествие до самого Веццано на этой утлой лодчонке, — я повернулся к Ванессе и состроил столь решительную и вместе с тем недоуменную мину, что она рассмеялась — тем же самым смехом, что и в ту первую ночь, когда мы стояли на набережной.
— Ты знаешь, Альдо, отсюда до Веццано довольно далеко. Поэтому мы сейчас сядем на корабль, который предназначен для этих целей. — И она добавила обеспокоенным голосом, от неуверенности прозвучавшим жестче, чем обычно: —…Ты узнаешь его?
Разумеется, я его узнал. Недалеко от песчаной косы на волнах покачивался силуэт судна, казавшийся мне очень тонким из-за того, что видна была только носовая часть, и из-за искрения солнечных бликов на море; это был тот самый таинственный корабль, который я видел в Сагре.
— Должна предупредить тебя, Альдо, что я забыла его зарегистрировать. Это ведь весьма предосудительно, не правда ли? Тебя совесть не замучает, если ты поплаваешь немного на контрабандном судне?
Теперь в ее хорошо поставленном голосе проскользнул невольный оттенок высокомерия; глаза ее обиженно отвернулись, но от меня не ускользнули ни заключенный во взгляде откровенный вызов, ни ультимативность этого вызова. Ну нет, на корабль я поднимусь лишь в качестве пленника. В это мгновение я ощутил, что сейчас что-то должно решиться раз и навсегда, и попытался перехватить взгляд Ванессы. Глаза ее, неподвижные и яркие, как звезды, горели теперь прямо передо мной; они всматривались сквозь меня в какую-то неведомую мне даль — в это мгновение Ванесса даже не смотрела на меня. Она была рядом со мной, безмолвная, натянутая, как струна ночи, и ее твердые и обнаженные под курткой груди надували ткань своей свежестью, как паруса. Мой взгляд скользнул к основанию этих вздымаемых своевольным дыханием грудей и затуманился: во рту у меня пересохло, а ладони словно взмокли; я ничего не сказал и опустил голову.
— Пошли, — сказала она отрывисто, и я встал и направился за ней.
Воспоминание об этом путешествии можно сравнить с жарким пламенем радости, которое занялось в фокусе огромной линзы от одной лишь прозрачности неба и моря, а потом вдруг наполнило собой до краев дни, пожирая в нас и мирно возвращая к своей первородной стихии все сущее. Солнце рассеяло туман; янтарный, долго копившийся зной поздней осени походил на испарение земли и был словно теплая мякоть плода на зубах под жгучей кожицей лета. Сиртское море повсюду разглаживало короткие пенистые завитки на своих упругих, приплясывающих волнах; вокруг нас на переливающейся поверхности быстро меняющегося пространства — словно на озаренной мирным вечерним солнцем пашне — резвились, беспрестанно взмывая вверх, стаи морских птиц. Вокруг нас все взлетало ввысь, все мягко устремлялось в сторону расцвеченного птичьими оперениями рая: перемежаемые хриплыми криками чаек протяжные, глуховатые биения крыльев, вырывающиеся из пены мягкие перья, пуховое касание ветра на лице, покатое, как лебяжья спина, скольжение поднимающей корабль зыби.
В носовой части судна прикрывающая люки низкая перегородка вместе с рулонами брезента и канатов образовывала нечто вроде небольшого пристанища, выходившего на все четыре стороны морского горизонта. Мы принесли туда подушки; вытянувшись во весь рост рядом с Ванессой, я касался пальцами сгиба ее руки у локтя, где мягко бился пульс, и наблюдал за крупными перемещениями облаков, колебавшихся у меня над головой в равномерном ритме беззвучной зыби. Та сильная и быстротечная тоска, которая овладела мною в момент посадки, уже улетучилась; мне теперь казалось, что все свершается, что все упорядочивается и приводится в движение в соответствии с неспешной пульсацией этой родственной крови. Ванесса снова казалась раскрепощенной и счастливой, и, когда я прижимался губами к ее прохладной ладони, кисть ее руки весомо, всей своей погруженной в сон тяжестью давила мне на лицо, а согнутые, безжизненные пальцы этой словно отрубленной кисти прикрывали мне веки и заставляли меня смотреть на мир ее глазами. Тревожащее мое воображение название «Веццано» звенело во мне, как звенит колокол, звук которого разносит ветер над пустыней или над заснеженной равниной; оно было и нашим свиданием, и нашим союзом, и мне казалось, что от этого звука легкие доски, на которых мы лежали, взлетают над волнами и что горизонт за нашим форштевнем как-то таинственно углубляется и притягивает нас к себе.
Когда очень белые утесы Веццано выступили из бликов морских далей, он показался мне вдруг удивительно близким. Это было что-то вроде скалистого айсберга с сильно изъеденными краями, разрезанного на обрушивающиеся в воду и полируемые волнами глыбы. Скала вырастала отвесно из моря и казалась почти нереальной в сверкании своей белой брони, и если бы не тонкая каемка земли, прикрывающая сверху плато и зигзагами стекающая тут и там в узкие разрезы оврагов, то ее можно было бы принять за парусник, летящий над линией горизонта под своими полотняными башнями. Снежное отражение белых утесов то серебрило ее, то растворяло в легкой прозрачной дымке солнечного дня, а мы все плыли и плыли, пока наконец перед нами не выросло из спокойного моря нечто вроде грязно-серого выщербленного и осыпающегося донжона, на огромную высоту вознесшего над волнами свои суровые карнизы. Плотные тучи морских птиц, стрелой взмывавшие вверх и потом вялыми кругами опускавшиеся на скалу, как бы имитировали дыхание украшенного завитками гейзера; их крики, похожие на те, что вылетают из перерезанного горла, затачивали ветер, заостряли его, как бритву, и разлетались жестким, протяжным эхом по утесам, усиливая царящее на острове недоброжелательное, злобное одиночество, отгораживая его от остального мира надежнее, чем эти неприступные утесы.
Корабль стал на якорь у этих открытых всем ветрам крутых утесов, которые распространяли вокруг себя затишье и сырость погреба; на воду спустили шлюпку, и Ванесса знаком дала мне понять, что это только для нас двоих.
— Разве не ты собирался плыть сюда на лодке? — шепнула она мне на ухо с двусмысленной улыбкой, словно извиняясь. — Впрочем, мой капитан не обидится: сюда уже больше никто не плавает и никто не знает подходящих причалов. Так что постарайся хотя бы не утопить нас.
Налегая вовсю на весла, я постепенно, по мере того как мы входили в леденящую тень угрюмой Цитеры, к которой я гнал нашу лодку, проникался ощущением ее одиночества и враждебности. Эти неистовые, печальные крики морских птиц, которые покрывали остров, холодя отбрасываемую им призрачную тень, эти голые серо-белые, как скелеты, скалы и воспоминание о мрачном прошлом совершенно неожиданно привносили в картину морского праздника ноту скорби. Мы довольно долго скользили в молчании, словно под сводами храма, вдоль гладких стен, отпугивающих колонии птиц — они гнездились где-то очень высоко в выемках скалы, — казалось, что в эту могучую крепость нет ни единого прохода, но тут к легкому плеску волн у утеса неожиданно примешался звук журчащей воды, и почти тотчас же мы оказались в бухточке, ширина которой едва достигала нескольких метров, и при этом она была такая длинная, словно ее пропилила в толще плато какая-то гигантская пила. Там, где бухточка кончалась, начинался широкий овраг, вдоль которого по заполненному валунами руслу, звеня, струился ручей.
Мы спрыгнули на усеянный галькой берег. В этом углублении, проделанном в утробе скалы, было очень темно; прозрачные, жидкие сумерки как бы сочились сквозь звон ручья. Шум волн доходил в это место лишь в виде приглушенного плеска. В открывавшемся над нашими головами проеме скалы очень чистое небо было не голубым, а почти темно-синим; над пропастью оврага, поглощавшей свет дня, очень высоко над нами виднелся силуэт одиноко стоящего дерева, купающегося в солнечных лучах и как бы указывающего нам путь к высотам. Безмолвная теснота и полумрак этой горловины обступили нас так неожиданно, что мы какое-то время шли молча, смущенно улыбаясь друг другу, как пробравшиеся в запретное место дети. И такой вдруг сообщнической скрытностью и таинственностью повеяло от этого склепа, что Ванесса, охваченная невольной тоской, словно во внезапно захлопнувшейся ловушке, сделала несколько неуверенных шагов по гальке, как бы пытаясь убежать; я слышал ее неровное, участившееся дыхание и, вняв этому сладостно пронзившему меня признанию в слабости, ощущая бешеный прилив крови к вискам, подхватил ее сзади под руку и резко запрокинул ее голову на свое плечо; она моментально как-то вся рассредоточилась, потяжелела, превратилась в горячую, мягкую тяжесть, раскрепощенно прильнувшую к моему рту.
Должно быть, мы провели в этом колодце забвения и сна долгие часы. Щель скалы над нашими сомкнутыми головами была настолько узкой, а открывшееся в ней небо — настолько далеким и спокойным, что никакие перипетии дня с его игрой теней до нас не доходили; всем весом своих тел мы лежали распростертые, надежно укрытые полумраком склепа, в котором тень растворялась, словно в глубокой пучине; легкие шумы вокруг нас — шум журчащей по гальке воды, едва слышное лакание и легкое бульканье прилива в выемке скалы — придавали течению времени, то надолго замирающему, то возобновляющемуся, какую-то зыбкую недостоверность, прерываемую внезапными паузами сна, как если бы легкое озарение, всплывающее иногда на поверхность нашего сознания, обретало при всплытии какой-то минимальный избыток веса и благодаря ему снова погружалось на миг в глубины беспамятства. Я отнес Ванессу на берег ручья; между ним и скалой оставалось узкое пространство, заросшее высокой черной травой. Положив свою руку ей на грудь, я чувствовал, как она в своей безмятежной сосредоточенности исподволь набирается сил: ее грудь, мягко вздымающаяся в глубоком запахе земли, как бы сообщала мне бодрящую новость о ее благостном сне, который обычно служит предвестником глубокого выздоровления; и тогда я чувствовал, как переполняющая меня нежность к ней снова пробуждается; мои пылкие поцелуи, как град, сыпались со всех сторон на ее распростертое тело; я кусал ее раскинутые по земле, смешавшиеся с травой волосы. Ванесса наполовину пробуждалась и, не раскрывая глаз от избытка усталости, улыбалась только приоткрытым ртом; она неуверенно искала меня рукой и, найдя, сразу же замирала от доверчивой уверенности, облегченно вздыхала и снова погружалась в сон.
Между тем солнце, похоже, уже клонилось к закату, так как стены ущелья посерели и лишь только один гребень нависавшей над нами скалы еще пылал на вершине узкой каемкой света: шум волн, казалось, стихал, а в побледневшей синеве неба слабо забрезжили редкие, почти нереальные звезды, напомнившие мне мимолетное мерцание, появляющееся в некоторых драгоценных камнях, когда на них падает свет. От влажной травы потянуло холодом: я помог Ванессе встать, прижал к себе гибкое, теплое бремя, вновь надолго, до бесконечности наполнившее мне руки.
— Возвращаемся на корабль? — спросил я у нее сонным голосом. — Уже, наверное, поздно.
— Нет. Пошли.
Теперь она вся оживилась, жесты ее стали порывистыми; повернувшись ко мне, она глазами, в которых опять появился столь хорошо знакомый мне неземной блеск, показала на верхний край оврага.
— …Корабль ждет нас после наступления темноты. Зачем, ты думаешь, я привела тебя сюда? — бросила она мне тем строго-высокомерным тоном, который одновременно и уязвлял меня, и возбуждал, потому что у меня возникало ощущение, что этот надменный тон принадлежит королеве; однако она почти тут же опустила глаза и мягко положила руку мне на плечо. — Должны же мы хотя бы обследовать наше королевство. Ты только вдумайся, Альдо, мы на острове совершенно одни. А ты хочешь сразу же уходить.
Нам стоило немалых усилий карабкание по устланной то и дело срывающимися камнями трубе, каковой являлось это русло ручейка. Ванесса цеплялась за меня, пытаясь удержаться на скользких булыжниках, и очень скоро ее ноги покрылись кровавыми ссадинами. Я почувствовал себя внезапно протрезвевшим; сумеречный свет показался мне плохой приметой, а пользующийся дурной славой остров — внушающим неясные подозрения; я снова предложил Ванессе вернуться, но она отрывисто ответила:
— Отдохнем там, наверху.
Овраг понемногу расширялся и становился более пологим; мы вышли из расселины и теперь бесшумно ступали по тонкому травяному покрову, который устилал незаметно переходившую в плато долину. На открытом пространстве было еще совсем светло; поднявшись к свету этих еще теплых высот, мы вздохнули с наслаждением. Вершина острова оказалась обыкновенной плоской площадкой, изрезанной по бокам расходящимися в разные стороны трещинами оврагов. По сухой траве пробегали быстрые, порывистые волны; слышно было, как невидимый прибой глухо бьется в выбоинах утесов, принося вместе с ветром шум далекой бури. Над землей в наступившей вечерней прохладе засуетились там и сям, толкая друг друга, как охваченное паникой стадо, клочки белого тумана; ночь была уже не за горами, можно было подумать, что вечерние призраки торопятся еще до наступления своего часа завладеть пространством. Теперь Ванесса быстро увлекала меня к довольно крутому холму — единственному выступу на выровненном плато, — который вырисовывался в восточном направлении перед утесами. В эту сторону остров сужался и устремлялся на восток, подобно приподнятой носовой части корабля; уже совсем близкие овраги справа и слева от нас оставляли между собой только узкий, извилистый гребень. Ванесса торопливо шагала впереди меня, запыхавшаяся, молчаливая, и у меня на какое-то мгновение вдруг возникла мысль, что остров, может быть, и не такой уж необитаемый и что вот-вот из-за скал появится чей-нибудь силуэт, в котором материализуются и ее лихорадка, и мои недобрые предчувствия.
Достигнув вершины холма, она остановилась. Остров заканчивался перед нами крутой пропастью; его с этой стороны яростно хлестал ветер, и до нас отчетливо доносились снизу непрерывные мощные удары штурмующих утесы волн. Однако Ванесса не обращала на них никакого внимания, да и о моем присутствии она тоже, кажется, уже совсем забыла. Она села на обломок скалы и стала пристально смотреть вдаль; можно было подумать, что она заступила на дежурство, подобно тем траурным силуэтам, что, стоя на высоком берегу, до бесконечности ждут, не появится ли на горизонте возвращающийся парус.
Я невольно стал тоже смотреть в направлении ее взгляда. На прорывающем мантию тумана выступе холма было еще довольно светло. Напротив нас морской горизонт окаймляла более бледная и удивительно прозрачная в наступающих сумерках ленточка, похожая на одну из тех освещенных солнцем прогалин, что образуются у самой водной поверхности под куполом испарений, предвещая окончание бури. Мой взгляд пробежался по этому пустынному горизонту и остановился на мгновение на контурах очень маленького белого облачка в форме конуса, которое казалось плывущим в потускневшем свете по самой линии горизонта; необычная обособленность облачка на фоне этого светлого вечера и его тяжелая форма сразу же смутно ассоциировались в моем сознании с представлением о какой-то отдаленной угрозе и о поднимающейся буре. На острове вдруг резко похолодало, ветер усилился, морские птицы с наступлением сумерек смолкли; у меня внезапно появилось желание распрощаться с этим покинутым, словно тонущий корабль, навевающим тоску, диким островом. Я безучастно коснулся плеча Ванессы.
— Уже поздно. Пошли. Пора возвращаться.
— Нет, еще не время. Ты видел? — спросила она, глядя на меня широко раскрытыми в темноте глазами.
Между тем дневное небо, подобно медленно насыщаемому раствору, вдруг стало лунным небом; горизонт превратился в молочную, непрозрачную, отливающую фиолетовым цветом стену над еще слабо поблескивающим морем. Пронзенный внезапной догадкой, я опять посмотрел на странное облако. И тут я вдруг увидел.
Из моря поднималась теперь отчетливо различаемая на фоне потемневшего неба гора. Белый снежный конус плавал, как восходящая луна, над легкой сиреневой вуалью, которая отделяла его от горизонта; его обособленность, снежная чистота и поразительное совершенство симметрии уподобляли его тем сверкающим алмазным блеском маякам, что стоят на пороге ледовитых морей. Его звездоподобный восход на горизонте ассоциировался не с землей, а скорее с полуночным солнцем, совершившим полный оборот по спокойной орбите и в положенный час с неумолимой точностью вынырнувшим из обмывших его морских глубин. Он был перед нами. Его холодный свет казался источником тишины, сиял непорочностью пустыни и звезд.
— Это Тэнгри, — сказала Ванесса, не поворачивая головы. Она говорила как бы для себя, и у меня опять мелькнуло подозрение, что она забыла о моем присутствии.
Мы долго стояли молча в сгустившейся темноте и пристально смотрели на море. Я утратил чувство времени. Лунный свет извлекал из мрака смутные очертания таинственной вершины, нереально дрожавшие над исчезающим морем и тут же вновь уходившие в тень; наши зачарованные глаза напряженно следили за сменой этих угасающих фаз, словно за последними, все более неоднозначными, все более таинственными вспышками северного сияния. Наконец наступила настоящая ночь, а вместе с ней пришел и пронизывающий до костей холод. Я, не говоря ни слова, помог Ванессе встать, и она, вся отяжелевшая, оперлась о мою руку. Мы шли совершенно бездумно, с переутомленными от пристального всматривания глазами, тяжело передвигая ватными ногами. Я крепко прижимал Ванессу к себе на опасной и скользкой тропе, идти по которой в темноте было еще труднее, но теперь поддерживал я ее скорее машинально, без нежности. Мне казалось, что над этим днем нежного и ласкового тепла пронеслось нечто вроде налетевшего с заснеженных полей ветра, столь очистительного и столь неистового, что мои обожженные им легкие уже никогда не смогут избавиться от его смертоносной чистоты, и, как бы пытаясь сохранить его блеск в своих глазах и его холодный вкус на губах, я безвольно шагал по зыбкой тропинке, запрокинув голову к усыпанному звездами небу.
Рождество
Теперь я бывал в Маремме часто: я пользовался сновавшей туда-сюда машиной, на которой из-за суматохи ремонтных работ в крепости частенько ездили в город. Я покидал Адмиралтейство после обеда, торопясь как можно скорее проделать недальний путь. Я обратил внимание на то, что, как только нам случаюсь поровняться с первыми домами Мареммы, один лишь вид, казалось бы, весьма привычного там флажка Адмиралтейства, развевающегося на крыле автомобиля, сразу же собирал вокруг нас любопытных и что на всем нашем пути прохожие бросали на нас просветленные на мгновение взгляды; я чувствовал, что уже одно только появление машины оказывалось для них новостью, освещавшей весь их день, а наше присутствие — знаком и подтверждением какого-то свершения; иногда я даже видел, как при моем приближении кое у кого намечается приберегаемый в Орсенне лишь для торжеств ритуальный жест поднятой руки, словно каждый инстинктивно стремился прижаться к тому, кто, как предполагалось, находится в наиболее тесном соприкосновении с тайной, и я знал, что по улицам тут же пробегал слух: «Машина Адмиралтейства опять здесь». Чтобы выйти из машины, приходилось отстранять налипавших на нее как мухи зевак, и потом еще долго взгляды приклеивались к моей спине, алчущие, как глотающий воздух рот.
Это было не единственное изменение, обращавшее на себя внимание в Маремме. Когда я заходил за новостями к Бельсенце, в облезлую, пропитанную удушливым запахом перегретых обоев контору в самом сердце одного из бедных кварталов, то он выглядел с каждым днем все более озабоченным. Еще нахмуренный от чтения, с прилипшей в уголке рта сигаретой, он протягивал мне, ни слова не говоря, свои донесения, потом откидывал голову назад и наблюдал за мной быстрым взглядом прищуренных глаз. В его захватанных грязными пальцами протоколах с безжалостной регулярностью повторялись кривые роста лихорадки, которая истощала жизненные силы города, и если судить по не точным показателям, накапливавшимся у меня на глазах, словно грязные клочки бумаги на пике дворника, то можно было сделать вывод, что лихорадка уже вызвала очаги нагноения. Полицейская статистика свидетельствовала о прогрессирующем упадке нравственности, в особенности о вроде бы участившихся случаях эксгибиционизма и совращения, случаях, выявление которых оказывалось сопряженным для полиции с большими трудностями, настолько эти действия пользовались, казалось, молчаливой поддержкой свидетелей. Иногда Бельсенца, сообщая мне какую-нибудь пикантную деталь, разражался громогласным, циничным хохотом, но я склонен был относить все это не столько насчет болезни, сколько на счет клинических показателей, тем более то, что я увидел мельком во дворце Альдобранди, уже дало мне кое-какую пищу для размышлений. Полиция тщательнейшим образом оповещала население о всех такого рода случаях.
— Это отвлекает их от мыслей о других вещах, — доверился мне Бельсенца, лукаво улыбаясь. — Полиции этот прием известен испокон веков, и я даже не удивился бы, если бы мне сказали, что иногда эти дела не обходятся без участия моих агентов.
Однако было ясно, что, несмотря ни на что, Маремма все-таки продолжает думать о других вещах. Веселость Бельсенцы сразу спадала, когда к нему приводили — причем довольно часто — какую-нибудь гадалку, предсказывающую по картам апокалипсис, или одного из тех лохматых «оповещенных» (так называли их в народе) с плутоватыми глазами и заискивающими манерами, которые пророчествовали теперь с наступлением сумерек на набережных, собирая вокруг себя толпы простого люда из лодочников.
— Эти птички вызывают у меня особую тревогу. За ними что-то или кто-то стоит. Эх, если бы мне удалось сцапать того, кто им платит! — процедил Бельсенца сквозь зубы, присвистнув от гнева и бессилия.
Всех их отличала абсолютно одинаковая линия поведения, характеризовавшаяся преувеличенным уважением — причем, похоже, искренним — к знакам и представителям власти. Когда их вталкивали в полицейский участок, они тут же начинали приветствовать по очереди всех, кто там находился, — отмеряя каждому ровно столько церемонного и восторженного пафоса, сколько требовали их должность или звание, — а потом прислонялись к стенке и стояли там молчком, смиренно потупив глаза. После чего вытянуть из них какую-либо информацию было совершенно невозможно. Сколько Бельсенца ни кричал на них, сколько ни грозил им розгами, они прерывали свое молчание лишь для того, чтобы не очень убедительным тоном мямлить обрывки заранее заготовленных фраз, нечто вроде нелепых заклинаний из их топорных проповедей, в которых Фаргестану неизменно отводилась неопределенно-апокалипсическая роль, приписывалась некая причудливая миссия провидения, но в обратном значении.
— Время пришло… Все мы обречены и все будем Там… Слова сказаны… Все мы пересчитаны от первого до последнего…
Их гнусавые, пронзительные, привычные к открытым пространствам и пустым площадям голоса вдруг звучали настолько неестественно посреди скептического безразличия голых стен, что они почти сразу же замолкали и забивались в угол, дрожа, как попавшая в западню дичь, вжимая голову в плечи, как те испуганные и преисполненные печали ночные птицы, что трепещут в ужасе от звука собственного голоса. Бельсенца пожимал плечами и в зависимости от настроения либо отправлял их пинком под зад восвояси, либо отсылал на несколько дней в городскую тюрьму; предварительно их обыскивали, но, странное дело, — как бы в опровержение догадок Бельсенцы — золота в их карманах почти никогда не оказывалось.
Тягостное впечатление производили на меня эти допросы. Черные провалы ртов, внезапное зияние нереального, «детского» кошмара, ощущение чего-то зловещего. Особенно меня поражали их отвислые, беспомощно дрожащие, почти непристойные губы — словно жизнь в них только что сдала свои последние позиции, словно нечто необъяснимое коварно воспользовалось этой слабостью, чтобы поведать о глубочайшем крушении человека. За слышимым голосом, казалось, звучал другой, тихий и совершенно убитый, панический голос; от него холодело в затылке, волной молчания он накатывался на сидевших за столом полицейских. В этой грязной, сонной конторе, в этом обломке города, превращенного в мумию и прокаленного до состояния неподвижной развалины, вдруг возникало нечто, похожее на трещину мрака посреди бела дня, нечто вроде гниющего кошмара, вышедшего из своего векового сна и теперь лопающегося у нас на глазах, вставшего и спускающегося по ступенькам.
Попадались в этом кишении личинок и более гордые силуэты. Как-то раз, в одно из моих посещений конторы Бельсенцы, туда привели девушку — очень бедно одетую, но с тонким, почти аристократическим лицом, — которая на углу овощного рынка предсказывала будущее по пеплу. Допрос начался плохо: ее упорное нежелание говорить выглядело настолько наглым, а ее отстраненный, презрительный взгляд казался настолько вызывающим, что лицо Бельсенцы, нервничавшего в этот раз сильнее, чем обычно, или, может быть, находившегося во власти каких-то тревожных догадок, постепенно налилось холодным гневом.
— Значит, не хочешь говорить. Что ж, посмотрим. Ты сама этого хотела! — бросил он хриплым тихим голосом. — Выпороть.
Мне показалось, что в полумраке комнаты глаза девушки потемнели еще сильнее. Ей связали руки за спиной, просунули шею во вделанное в стену низко над полом кольцо, потом один полицейский высоко задрал ей сзади юбки, а на голову надел капюшон. По участку прокатилась волна смачного возбуждения и веселья. Бельсенце такое времяпровождение было, в общем-то, несвойственно, хотя в самой Орсенне власть отличалась тяжелой рукой и удары в силу долгой привычки раздавались там направо и налево с насмешливой непринужденностью. Однако в наступившем на этот раз гробовом молчании было что-то необычное, отчего готовые сорваться шутки так и не прозвучали.
— Ну как, не передумала? — просвистел сквозь зубы Бельсенца.
Из-под вывернутого наизнанку белья доносились короткие всхлипывания, и мне стало ясно, что теперь она уже точно ничего не скажет. Худшее для нее было позади: этот недоуздок, как на приведенной на продажу скотине, этот торчащий из белья пышущий здоровьем зад, цветущая непристойность которого делала его похожим на глумливо искаженное утробным смехом лицо.
Зад покрылся красными полосами и однообразно вздрагивал от каждого удара ремня. В комнате воцарилось тоскливое смущение: наказывали явно не того, кого нужно было; казалось, что хлещут покойницу.
— Довольно! — сказал Бельсенца, смутно почувствовавший, что сцена мне не нравится. — Уходи и больше не попадайся.
Стоя с раскрасневшимся лицом, она теперь разглаживала короткими движениями юбку, на скорую руку поправляла волосы и всем своим видом, по-детски, с вызовом старалась выразить безразличие, которое, однако, отрицали ее глаза, горящие, сухие, перескакивающие с предмета на предмет, словно им тоже было нестерпимо больно, словно вся комната вдруг раскалилась докрасна.
— Ладно, забудем, ничего страшного! — сказал вдруг неприлично-сердечным тоном Бельсенца, дотрагиваясь до ее плеча. — Постарайся теперь видеть будущее в более розовом цвете, а не то тебе придется раскаиваться.
Но тут он ощутил на себе взгляд ее жгучих черных глаз, взгляд сквозь слезы, осветившийся вдруг победным блеском.
— Вы боитесь!.. Боитесь!.. Боитесь!.. Вы бьете меня, потому что боитесь.
Бельсенца вытолкнул ее наружу, и она убежала, но пока не стих совсем стук ее босых ног по каменным плитам, в интервалах между раскатами ее чересчур нервного хохота доносился дрожащий в воздухе, как оса, пронзительный, яростный крик: «Боитесь! Боитесь! Боитесь!» Под его напором окна бесшумно, словно ракушки от солнечных лучей, приоткрывались, вбирая в себя крик за криком, и от этих криков, гулко несущихся по молчаливому кварталу бедняков, нам становилось очень неуютно.
Отмечались и некоторые более тревожные симптомы. Хотя сезон дождей был уже совсем не за горами, небольшая колония «иностранцев» Маремму покидать не торопилась, и было ясно, что многие из них вслед за Ванессой предпринимают необходимые меры для того, чтобы провести зиму в своих столь лишенных комфорта, столь обветшалых, столь открытых всем ветрам дворцах. Как ни мал был этот неожиданный прирост населения, он сильно подрывал основы скудного снабжения области и предвещал дальнейшие осложнения, что доставляло Бельсенце немало забот и окрашивало в еще более мрачные тона его мысли относительно причин, побудивших всех этих праздных скитальцев зазимовать в городе. Шпионам его удавалось узнать об их занятиях и дальнейших планах немного; слишком уж деликатная это была задача: вникать в суть перемещений людей, чьи имена в Орсенне звучали гордо и чье влияние в Синьории не вызывало сомнений. К тому же у них было достаточно возможностей встречаться, не навлекая на себя подозрений, на балах, среди которых выделялись своим вызывающим блеском вечера во дворце Альдобранди, и перед этой загадкой, не без удовольствия выставляющей себя напоказ и как бы глумящейся над ним, Бельсенца останавливался в нерешительности.
— Поймите меня правильно, — сказал он мне однажды, когда речь зашла об одном из таких вечеров; он прищурился, как всегда это делал в моменты замешательства, и взгляд его скупо, словно монета, скользил сквозь узкую щелку век, — вчера там были граф Ферцоне, жена сенатора Монти и секретарь Совета Президентов. Если за всем этим таится заговор, то это означает, что Орсенна устраивает заговор против самой себя. И я начинаю задумываться, на кого же все-таки работает полиция. Кто может поручиться за то, что мои донесения не попадут в первую очередь именно к этим людям?
Его притаившийся в засаде взгляд настойчиво старался встретиться с моими глазами. Я знал, что мое близкое знакомство с Ванессой воздвигает между нами что-то вроде барьера; и можно было подумать, что во взгляде этих лукавых глаз содержалась наметка потенциального союза, что через меня передавалось предложение о перемирии. В его широких плечах чувствовались усталость и удрученность.
— …Что меня беспокоит, — продолжал он, — так это безмолвие Орсенны. К тому же от того, что мы здесь делаем, собственно, нет никакого проку. Невелико удовольствие — хлестать девчонок. Да и к тому же, — он сокрушенно махнул рукой и посмотрел на окно, — может быть, то, что они говорят, правда. Что все это плохо кончится…
В комнате воцарилась тишина; слышны были только чьи-то шаркающие вдоль канала шаги, рассеивающиеся в послеобеденном дремотном забытьи. У меня вдруг появилось такое ощущение, что я медленно погружаюсь в зыбучий песок, и я машинально сделал шаг к двери. Бельсенца слегка вздрогнул, как внезапно проснувшийся человек, и сказал:
— …Вы идете во дворец; княжна ведь вернулась из своей поездки. Счастливый человек! Я-то туда хожу гораздо реже, чем мне бы хотелось. — Он посмотрел на меня с хитринкой и продолжил уже более серьезным тоном: —…Порой у меня возникает такое ощущение, что меня приглашают туда только затем, чтобы исполнение здесь моих служебных обязанностей выглядело чуть менее скандальным. Заверьте княжну, что я никогда не доставлю ей никаких неприятностей.
Так вот с каждым днем все сильнее болезнь расширяла свои владения, сокрушая, порой совершенно неожиданно, все новые и новые оборонительные сооружения. Она продвигалась вперед под покровом тумана, подобно войску, хитроумно дезориентирующему противника и ускоряющему свой шаг. Когда я размышлял о полученных мною в Орсенне инструкциях и о доходивших до меня доброжелательных откликах на будоражащие Маремму слухи, то мне иногда казалось, что Орсенне надоело ее дремлющее под спудом здоровье и что, не осмеливаясь себе в этом признаться, она жадно ждет того момента, когда ей удастся стряхнуть с себя сон и начать жить той интенсивной жизнью, что уже забрезжила в ее глубинах под спудом глухой тоски. Можно было подумать, что счастливый град, удачно приумноживший свои морские владения и столь долго озарявший путь сиянием неутомимого сердца своего преисполненным отваги энергичным мужам, в пору своей скаредной дряхлости стал внимать дурным вестям, вожделенно дрожа своими поджилками.
Я расстался с Бельсенцей и, направляясь к набережной, где меня ждала лодка, углубился в лабиринт убогих улиц рыбацкого квартала. Как ни торопился я встретиться с Ванессой, все же иногда не без удовольствия задерживался на этих улочках, извивающихся между слепыми фасадами и печальными, занесенными песком садиками, куда уже в середине дня приходила прохлада. Там располагалось угрюмое и неспокойное предместье, брошенное как попало на волнообразные валики дюн, под которыми угадывался контур твердой земли; неприглядная запущенность и безнадежная дряхлость предместья усугублялись еще и тем, что выжженная растительность садов была уже не в состоянии удерживать пришедшие в движение пески, и время от времени можно было наблюдать, как налетавший с моря ветер поднимает светящиеся вихри над каменными оградами и нескончаемым дождем посыпает из них, словно из каскадов безмолвия, узкую мостовую; когда же я пытался заглянуть во двор поверх стены, то слышал яростный гул прибоя и получал в лицо резкий удар морского ветра. Я любил эту постоянно находившуюся под угрозой тишину и таящиеся в ней складки тени, как бы повисшие над глубинным, неизбывным ропотом пучин; я брал этот песок в горсть, и он струился у меня между пальцами, песок, провеянный столькими бурями, а теперь словно саваном покрывающий сонный город; я смотрел, как он засыпает Маремму, но в тот самый миг, когда я ощущал глазами и всем лицом яростный напор стреляющего песком ветра, мне начинало казаться, что вот сейчас сама жизнь неистово стучит у меня в висках и что-то под саваном начинает приподниматься. Иногда на углу какой-нибудь улицы появлялась несущая кувшин или корзину с рыбой жена рыбака; на ней была неизменная черная вуаль, из-за которой любая группа в Маремме кажется траурным кортежем и которой обычно прикрывают рот от песчаного града; она обдавала меня запахом моря и пустыни и проходила мимо в молчании, словно возникшая из пустынного некрополя, похожая на блуждающий в мертвом городе призрак или на те вспышки блуждающего, могильного огня, который поднимается и дрожит над землей, слишком насыщенной смертью. Жизнь, рискнувшая залететь в эти приютившиеся у последней черты края, оказывалась более уязвимой и более обнаженной, чем где бы то ни было, и, возникая на песочно-соляном горизонте в виде измученного образа, она металась по безликим улицам, как какой-нибудь позабытый посреди бела дня клочок мрака. Зависшее над морской гладью солнце уже клонилось вниз, и тут я ловил себя на желании, чтобы все внезапно застыло, а дни, и без того стремительные, стали еще короче; чтобы наступило время конца и пришел час последней неясной битвы; глядя широко раскрытыми глазами на плотную завесу моря, город дышал вместе со мной, словно часовой на вахте, на которого надвигается тень; затаив дыхание, он всматривался в глубочайшую точку ночи.
Придя к Ванессе, я находил ее то томной, то нервной; можно было подумать, что эти послеполуденные часы, которые она выкраивала для меня в своем времени, проводимом в удовольствиях, дезориентируют ее, кажутся ей праздным времяпровождением, и, какой бы веселой и нежной она ни представала иногда, мне всегда казалось, что эта тишина и этот ничем не заполненный покой сбивают ее с толку и что она боится оставаться слишком долго наедине не столько со мной, сколько с определенным образом ее самой, образом, возникающим только в моем присутствии. Когда погода была хорошая, я часто обнаруживал ее за каналом в заброшенном саду, где увидел ее утром перед нашим путешествием на Веццано, а в участившиеся осенью пасмурные дни она ждала меня в пустом салоне, где я чувствовал себя по-прежнему неуютно. От спокойной воды поднималась прохлада и окутывала весь погруженный в безмолвие дворец; иногда через открывающуюся на канал большую дверь доносился плеск погружаемых в стоячую воду весел; я мог быть уверен, что в этот час Ванесса во дворце одна, и иногда задерживался на мгновение под холодными сводами, гулким эхом отвечавшими моим шагам по плитам: мне тогда казалось, что я пробуждаю от сна спящий замок; глядевшие в окна из внутреннего двора неподвижные ветви зимнего сада казались застывшими в прозрачном хрустале. Века накапливались здесь, и неумолимое время стесывало один за другим углы, просеивало сквозь свое сито свет, посыпало все вокруг неосязаемой пылью и даже поместило в комнату этот шедевр безмятежности: вероятно, нигде не чувствовался лучше, чем в этом старинном дворце, всецело нейтрализующий гений города, который освобождал предметы от их слишком навязчивой конкретности и в конце концов придавал декорациям повседневной жизни целебные свойства некоего мягкого бальзама и полную незначительность пейзажа. Я вспоминал тогда свое посещение Сагры и былые речи Орландо, и, задерживаясь в залах этого раскрывающегося передо мной во всем своем безмолвии дворца, погружаясь в воды его мертвых зеркал и онемевших каналов, вдыхая жидкую прозрачность осени, прислушиваясь к едва различимому в напряженной тишине потрескиванию деревянной обшивки, я вдруг начинал воспринимать как своего рода откровение и его очарование, и знаки его неминуемой погибели; словно накапливаемые веками усилия Орсенны и все те образы, которые она охотно отыскивала в жизни, были нацелены на почти катастрофическое падение напряжения, на заключительное выравнивание, где все предметы лишились бы своего заряда, а все люди — утверждения своего оскорбительного присутствия, своего опасного электричества; слишком очеловеченные, слишком утомленные от непрерывного трения формы, посреди которых текла жизнь, превратились для нее в своего рода непрерывно уплотняющееся одеяние бессознательности, через которое уже не проходит ни один способный разбудить ее контакт. Просыпаясь по утрам, Орсенна натягивала на себя мир, как сшитый на заказ и уже порядком поношенный камзол, и от такой вот излишне комфортабельной привычности у нее утратилось всякое представление о собственных границах; ее слабеющее представление о самой себе медленно пускало корни в густо-густо замешенную на человечестве землю, от чего ей казалось, что за долгие годы она уже выпила ее до дна и что душа ее, превратившись в печать, глубоким оттиском поставленную ею на всех вещах, заставляет ее до головокружения всматриваться в бездну, всматриваться в свое слишком похожее отражение, возникающее на глади неподвижных каналов, как вглядывается в него человек, который неожиданно обнаружил бы, что он медленно скользит сквозь зеркало.
Когда я мысленно возвращаюсь к этим однообразным, монотонным дням, хотя и наполненным ожиданием и пробуждением, как томительная тошнота беременной, я вдруг с удивлением вспоминаю, что нам с Ванессой вроде бы почти нечего было друг другу сказать. Пыл, бросавший меня к ней, утолялся и быстро — словно приступ унылой предвечерней лихорадки на лагунах — угасал. Этот дворец, столь мало приспособленный для того, чтобы в нем жить, дворец, где непрерывно хлопали двери, где, как в церкви, царили гулкость и полумрак, где вдоль стен без конца сновали отражения колышущейся воды, был для нас чем-то вроде жилого леса, распахнутого под своей тенистой, неподвижной листвой на все стороны, где, однако, постоянно чувствуешь на себе чей-то взгляд. У меня никогда не было ощущения, что мы с Ванессой остались наедине; и кроме того, когда я лежал рядом с ней, то иногда мне казалось, что пальцами своей устало свисающей с постели руки я чувствую непрерывное течение скользящего вместе с нами быстрого потока; она уносила меня, как тогда, на острове, она тихо пускала в плавание по стоячим водам весь этот тяжелый дворец — эти послеполуденные часы быстротечной, лихорадочной нежности пролетали, словно уносимые течением реки, реки безмолвной и безразличной к уже видимому вдали последнему низвержению разукрашенного вихрями брызг водопада. Иногда, когда я смотрел, как она засыпает рядом со мной, у меня появлялось ощущение, что она отплывает от меня, словно от берега, и, вздохнув полной грудью, выходит на волне счастливой усталости в открытое море; в такие моменты она никогда не была обнаженной, а всегда, отстранившись от меня, зябким и быстрым движением натягивала на себя до самой шеи простыню — плечо ее под этой простыней, все струящееся ее длинными волосами утопленницы, как бы старалось оградить ее от какой-то неминуемой и огромной тяжести; длинная торжественная эспланада кровати поглощала ее и скользила вместе с ней в каком-то беззвучном пространстве; я приподнимался рядом с ней на локте, и мне казалось, что я вижу, как ее голова тяжелеет, удаляется, то появляясь, то исчезая посреди волн. Мне сразу становилось зябко и одиноко от этого пепельного, как в витраже, освещения, наполнявшего комнату дрожащими отблесками канала; я осматривался вокруг себя, и мне начинало казаться, что несший меня поток опустился до самой низкой отметки и что комната медленно пустеет, вытекая через черную дыру сна с дурными сновидениями. Ванесса с ее высокомерной нескромностью и царственной беспечностью никогда не закрывала высокие двери своей комнаты, и когда я лежал, раскинувшись на постели, озаренный красноватым, падающим на меня, как мелкий пепел, предвечерним светом тех коротких дней, то мне случалось вдруг с тоской ощущать, как по голой коже пробегает холодное дыхание, принесенное из анфилады обветшалых высоких комнат; словно какой-то сокрушительный вихрь-грабитель пронесся по дворцу, а мы так и остались лежать позабытые, спрятавшиеся в углу, словно я бессознательно и настороженно прислушиваюсь в темноте, пытаясь уловить вдалеке, в глубине подстерегающего город безмолвия, залпы неистовой охоты. Какое-то нехорошее чувство заставляло меня вскакивать и замирать посреди комнаты; мне казалось, что между предметами и мной как бы начинает незаметно увеличиваться расстояние и что в этом их легком отступлении есть нечто похожее на затаенную и печальную враждебность; я пытался опереться на какой-нибудь знакомый предмет, но он неожиданно, нарушая мое равновесие, подламывался — так бывает, когда образуется вакуум в кругу друзей, уже узнавших дурную новость. Моя рука невольно сжимала плечо Ванессы; она, вся тяжелая, просыпалась; на ее запрокинутом лице я видел плавающие подо мной бледно-серые, словно притаившиеся в глубине темного, сонного любопытства глаза — эти глаза манили меня, притягивали к себе, как притягивают ныряльщика магнитные импульсы глубины; ее руки раскрывались, на ощупь в темноте цеплялись за меня, и я с камнем на шее погружался вместе с ней в свинцовую воду печального пруда.
Я находил мрачное удовольствие в этих мареммских ночах, которые я иногда проводил, не покидая ее ни на минуту, и которые тонули — подобно сваям на лагуне, вязнущим в утреннем вздутии черной воды, — в провалах накатывающейся на меня усталости, как если бы оставлявшая меня изнуренным и исчерпанным потеря субстанции растворяла мое тело в лихорадочном поражении пейзажа, в его покорности и унынии. Сквозь насыщенную испарениями атмосферу этого водяного края не пробивалось даже искрение обычно кишащих в окнах звезд; казалось, что отныне от обессиленной земли не сможет оторваться даже слабый, вырывающийся из пораженного легкого вздох: ночь всем своим весом наваливалась на нее, на ее пещеристые, как пристанище тяжелого, теплого зверя, слои. Иногда за каменистой отмелью лагуны слышался звук весла, размеренно ощупывающего вязкую воду, или совсем рядом раздавался задыхающийся, бесцветный и непристойный визг то ли крысы, то ли еще какого-нибудь маленького зверька из тех, что бродят возле боен. Я ворочался под этой гнетущей ночью, как в овечьем жировом выпоте, безмолвный, одинокий, жадно глотающий воздух, завернутый в удушающую испарину; Ванесса лежала рядом со мной, у меня в руках, она словно сгущала ночь, нагнетала ее тяжесть и замкнутость; в моих ладонях она была сомкнувшейся, запломбированной, слепой ночью, куда мне не было ходу, была погребенной заживо, озаряющей далекий мрак, расцвеченной, словно звездами, своими волосами, была большой черной розой, широко раскрытой, манящей и в то же время жестко сжатой вокруг своего тяжелого сердца. Можно было подумать, что эти ночи с их излишней влажностью беспрестанно вынашивают в своем чреве бурю, которая почему-то никак не хочет назреть, — я вставал и во всей своей наготе бродил по анфиладам заброшенных, как в глухом лесу, почти стонущих от одиночества комнат; казалось, что-то отягченное и слабо порхающее подало мне знак и полетело от двери к двери сквозь застоявшийся воздух этих высоких галерей — сон с трудом смыкался над моими напряженно вслушивающимися ушами, внимающими чему-то, похожему на отдаленный гул разбудившего нас своим заревом пожара. Иногда, возвращаясь, я видел издалека колеблющуюся на полу тень и освещенные светом лампы руки Ванессы, которая, едва проснувшись, сразу же начинала поправлять свои спутанные волосы, заставляя метаться по стенам крупных ночных бабочек; ее черты на свету казались слегка изнуренными, она выглядела усталой, бледной и серьезной, еще находящейся под покровом заставившего ее задуматься сна, и тут меня не успокаивал даже неподвижный свет лампы. Раздавался ее странно обезличенный голос, голос медиума или сомнамбулы, голос тихого бреда:
— Ты оставляешь меня одну, Альдо. Почему ты оставляешь меня совсем одну в темноте? Я почувствовала, что ты покинул меня, мне приснился печальный сон… — Она подняла на меня свои сонные глаза. — …Ты же знаешь, во дворце нет привидений. Иди сюда, не оставляй меня одну.
Я гладил ей лоб и нежную кожу у корней волос, весь размягченный нежностью из-за этого ее детского голоса.
— Неужели ты боишься, Ванесса? Боишься ночью в самом сердце твоей крепости… И какой крепости! Боже мой… Сплошные доспехи до самой нашей комнаты. И еще портреты четырнадцати Альдобранди на страже.
Закрыв глаза, она тянула ко мне свои теплые руки, свой корчивший гримасу рот с надутыми, как у маленькой девочки, губами, и я пылко целовал ее, как кусают славные щечки сладкого дареного яблока, но достаточно было одного-единственного легкого дуновения, как она, стуча зубами, с дрожью откидывалась на кровать.
— Ай! Мне холодно.
Она нервным жестом брала мою руку, и взгляд ее серьезных глаз плыл через раскрытую галерею, словно сквозь какой-то дальний подлесок.
— Какое здесь уныние, Альдо! И зачем только я приехала сюда? Терпеть не могу эти голые стены, терпеть не могу смотреть все время на волны, на клочья тумана. — Ее голос звучал совсем рядом с моим ухом. — …Такое ощущение, как будто находишься в разрушенном ураганом порту, где снесены все дамбы. Ощущение, что тебя в этих слишком просторных комнатах куда-то сносит. Ощущение, что находишься на корабле, не ставшем как следует на якорь.
— Но ведь это ты сама, Ванесса, предпочитаешь оставлять раскрытыми настежь все эти двери. Мне все время кажется, что мы лежим на улице.
— Бедный Альдо! — Она рассеянной рукой гладила мне волосы. — …Какой ты милый и разумненький. Какой послушный ребенок!.. — По лицу ее пробежало что-то вроде тени, и она отвернулась. — А даже если бы мы действительно были на улице, даже если бы через эту комнату вереницей шли люди, какое это имеет значение, Альдо?.. Что нам-то от этого? Кто, по-твоему, может нас здесь увидеть? — Ее голос звучал, как приглушенная, печальная исповедь. — …С кем, ты думаешь, мы имеем здесь дело? Когда я приехала сюда, я дошла до предела тоски и исступления, вся сжалась, превратилась в твердый комок; мне хотелось придать себе форму, сделаться негнущейся и твердой, как камень, камень, который бросают людям в лицо. Я хотела на что-то наконец натолкнуться, что-то разбить в этой духоте, как разбивают оконное стекло. И здесь было нечто такое, я тебе в этом ручаюсь, Альдо, нечто такое, если уж говорить о скандалах и о провокациях, что выходило за всякие рамки, причем это была не игра, это были серьезные вещи, да, очень серьезные. — Она устало пожала плечами. — …А получилось так, как будто в лагуну бросили камень. Сначала возникла небольшая волна усталого любопытства, а потом тяжелая вода сомкнулась. И дело вовсе не в том, что я плохо выбрала цель. Просто существуют такие животные, которые способны переварить все, что им ни брось, вплоть до камней, животные, которые превратились в одно сплошное пищеварение — в единый желудок, в огромную утробу. Я тоже чувствовала, как меня переваривают. Понимаешь, я оказалась безобидной, ассимилированной; это ужасно, такое равенство посреди жратвы, это соскальзывание вперемешку со всеми, как зерно в желудок, а если и попадется несколько песчинок, тем лучше для пищеварения. Способствует… — Она с отчаянием тряхнула головой. — …Так что даже если бы мы были на улице, даже если бы ты взял меня прямо на улице, ну и что? Что им от этого? Здесь есть глаза, которые останавливаются на нас, Альдо, но, ты понимаешь, дальше этого дело не идет; здесь нет взгляда. А мне, мне был необходим именно взгляд. О да, я хотела смотреть. И хотела, чтобы смотрели на меня. Но так, чтобы во все глаза. По-настоящему. Чтобы было присутствие…
Я наклонился над ней и недоверчиво слушал, как из нее вырывается этот панический крик, этот обильный, как льющаяся кровь, поток. Она внезапно показалась мне невероятно красивой — красивой какой-то погибельной красотой, — похожей, со своей тяжелой гривой волос, в своей целомудренной и одетой в броню жесткости, на тех жестоких траурных ангелов, что потрясают огненным мечом над поверженным в прах городом. Она медленно привстала на локте и, глядя мне в глаза, сказала спокойным голосом:
— Ведь у тебя точно те же мысли, что и у меня, Альдо, разве нет? Я уверена, что ты меня понял.
Я тоже посмотрел ей в глаза:
— Мне кажется, что я понимаю тебя, Ванесса, но теперь-то ты уже не можешь жаловаться на отсутствие взгляда. Маремма уже дала ему название. Он не отличается доброжелательностью, этот взгляд, и вы, ты и те, кто с тобой, всегда знали, что он означает.
Она мирным, ночным касанием сжала мне локоть.
— Да. И ты тоже знаешь, причем с тех пор, как ты здесь, ты только для него и живешь. Потому-то я и пришла к тебе тогда в палату карт, потому-то я и повезла тебя на Веццано; знаешь ты и то, что ты должен сейчас делать.
В ту ночь я больше не спал; я провел ее в тревоге и ужасном нервном возбуждении, словно первую ночь любви. Ванесса лежала рядом так, как будто в ней не осталось ни кровинки, голову ее, казалось, отсекал от тела сон без сновидений, и под ее телом, распластанным, как у роженицы, прогибалась отягченная кровать. Она была соцветием, венчающим все это гниение, всю эту ферментацию застойных вод, пузырем, который надувается, отрывается от дна, в смертельном зевке глотает воздух и, наконец, отдает Богу свою заточённую и ожесточившуюся душу в одном из тех липких взрывов, от которых по поверхности болота разносится нечто вроде ядовитого причмокивания поцелуев.
В комнату сочился дневной свет. Ванесса уже встала. Одетая на скорую руку, она ходила по комнате, и я видел сквозь полуприкрытые веки, что она подстерегает момент моего пробуждения. Серый волнистый пеньюар придавал ее походке какую-то неуверенность, делал ее похожей на перелетную птицу, которая, проснувшись в приютившем ее гроте, неловко размахивает крыльями в поисках ориентиров и пытается угадать направление полета. Она подошла ко мне, нежным движением стала коленями на край кровати, обняла меня свежими от морского ветра руками, и мне даже показалось, что я ощутил у нее на губах вкус соли.
— Мне придется, Альдо, на несколько дней покинуть тебя. Понимаешь, я должна съездить в Орсенну.
— Опять, Ванесса?
Она не ответила, а только положила мне на грудь голову, и я страстно, как никогда, прижал ее к себе.
— Очень ненадолго. Ты будешь вспоминать эту ночь?.. — Она добавила, смущенно опустив голову: — Понимаешь, Альдо, это была великая ночь… — И вдруг порывисто, неловко поцеловала мне руки. — Какие у тебя сильные руки, Альдо. Такие мощные, такие сильные… — Она легкими движениями, нежно терлась о них щекой. — Руки, в которых сосредоточена радость и погибель, руки, которым хочется довериться и вручить себя, пусть даже для того, чтобы убить, чтобы разрушить, — пусть даже для того, чтобы покончить.
— Но Ванесса, речь ведь не идет о том, чтобы покончить. Ты делаешь меня таким счастливым. Разве ты сама не счастлива?
Она пристально смотрела на меня своими широко раскрытыми глазами.
— О! Конечно же, мой милый, я счастлива. Я только хотела тебе сказать, что я смелая и что я не боюсь того, что они мне нанесут. Даже если речь идет о том, чтобы покончить…
Она взъерошила свои волосы, рассыпала их, отчего они превратились в странное косматое облако; я погрузил руки в их теплый приют, всей своей нежностью вжавшись в эту обманчивую безопасность, и мое отяжелевшее сердце, словно спрятавшийся под одеялом школьник, который, отсчитывая секунды, отодвигает момент ледяного пробуждения, чувствовало, как неумолимо текут минуты.
— …Знаешь, я везу с собой в Орсенну Марино. Он спросил у меня, нет ли в машине свободного места. В Синьории ему, похоже, уделяют немало внимания, — добавила она многозначительно. — Так что в течение нескольких дней ты будешь в Адмиралтействе один… — Она добавила странным голосом, который показался мне ироническим лишь наполовину: — Господином после Бога, Альдо… Так ведь, кажется, вы говорите, я не ошиблась?
После отъезда Ванессы я, праздный и печальный, решил задержаться еще на день в Маремме. Это был канун Рождества, и мне показалось, что провести этот вечер, заточив себя посреди влажных стен Адмиралтейства, было бы тяжело. На улицах должны были собраться толпы людей, и инстинкт подталкивал меня побывать в последний раз в гуще толпы. В такие смутные дни, когда, как мне казалось, сам гений города колеблется в нерешительности, а корабль начинает дрожать и вибрировать от страшного удара, нанесенного по килю, в нас пробуждается инстинкт, который гонит всех на палубу, чтобы прижаться щекой к тысячам славных, гладких и еще живых щек.
Бродя по немногочисленным торговым улицам Мареммы, я чувствовал, что накануне приближающихся торжеств пульс этого городка бьется более лихорадочно, чем обычно. На землях Орсенны люди в канун Рождества по традиции облачались в яркие разноцветные одежды, надевали на себя пестрые плащи, которые напоминали о пустыне и как бы переносили празднование Рождества Христова в его естественную обстановку, на Восток, но мне показалось, что в этом году многие придавали переодеванию верующих двойной смысл, видели в нем нечто вроде подлога. В уличных процессиях, появляющихся то там, то сям, вспыхивали иногда красным цветом при слабом освещении отдельные силуэты, напоминавшие мне не столько тысячелетний Восток, сколько красно-серые ткани и ниспадающие свободными складками полосатые одеяния, которые носят живущие в песках племена и которые остались популярными в Фаргестане. При их появлении раздавались крики малышей, в чьих глазах эти лохмотья испокон веков ассоциировались с Людоедом из детских сказок, но было маловероятно, чтобы те, кто их надел, собирались пугать только одних детей. При виде этих силуэтов глаза прохожих начинали блестеть, взгляды подстерегали их, прилипали к ним; было очевидно, что этот двусмысленный маскарад накаляет и без того напряженную атмосферу, что толпа находит в этом нездоровое удовольствие, как, бывает, находишь зябкое очарование, а может быть, и какое-то еще более смутное самоощущение в первых легких приступах лихорадки. Можно было подумать, что толпа ласкает себя, вглядываясь в это видение, как в единственное зеркало, способное еще дать ей в своем отражении тепло и сознание собственного существования.
— Что скажете по поводу этого наплыва бедуинов, господин Наблюдатель? — резко спросил меня Бельсенца, на которого я наткнулся на углу одной улицы. Он был в плохом настроении, и ему явно не терпелось сказать что-нибудь грубое. — Не знаю, что меня удерживает от того, чтобы не заглянуть под какое-нибудь из скрывающих эти грязные физиономии покрывал. Мне кажется, что о них трется не один сопливый нос из тех, что мне приходилось высмаркивать совсем недавно.
Я довольно сухо ответил ему:
— Я бы не советовал вам делать этого. Нервы у людей на взводе. Да и день сегодня не совсем подходящий для того, чтобы организовывать полицейскую облаву.
— Успокойтесь, у меня есть другие, более веские основания для того, чтобы ничего не предпринимать. — Бельсенца вдруг с заговорщическим видом потянул меня за рукав в одно из углублений в стене. — …Знаете, что говорят? Говорят, что наш благочестивый маскарад является для некоторых удобным предлогом, чтобы больше не стесняться, что сегодня подышать свежим воздухом сквозь эти комариные сетки вылезли и некоторые физиономии явно нездешнего происхождения.
— Ба!
От Бельсенцы в тот вечер явно пахло вином.
— У меня есть приказ действовать осторожно, пусть будет так. Слышать — значит повиноваться; такие у нашей профессии законы. Но только я клянусь вам, господин Наблюдатель, этим постным физиономиям недолго осталось издеваться надо мной. Они там считают, что с нами можно вести себя, как им вздумается… — Он схватил меня за руку, немного отстранился театральным жестом и продолжал с каждой секундой все более воодушевленно: — Мы проглотили, господин Наблюдатель, немало обид, вы сами видели. Но теперь уже хватит. Я потеряю на этом свое место, пускай. Но я говорил сегодня вечером синдику Консульты: есть предел всякому терпению. Орсенна — это вам не какой-нибудь соломенный тюфяк, годный только для того, чтобы его жрала приползшая из пустыни погань… Они получат то, чего добиваются (жест был непреклонный и определенно благородный)… Приходите сегодня вечером в собор Святого Дамаса, — быстро добавил он певучим голосом и подмигнул.
Я посмотрел ему вслед. Я мысленно задал себе вопрос, в какой степени он искренен, а в какой, пользуясь своим состоянием опьянения, играет роль, дабы подготовить смену ориентиров. Однако смысл этих грубых фанфаронских речей никаких сомнений уже не вызывал. Бельсенце стало в конце концов невыносимо его состояние одиночества. Механический дрейф этой заурядной души, которая внезапно оторвалась со своего берега, показывал, что вода теперь достигла критического уровня.
С тоскливым чувством вернулся я ужинать во дворец: после электризующего контакта с толпой одиночество угнетало меня все больше и больше. Когда зазвенели первые колокола, зовущие ко всенощной, я почти бездумно направился на назначенное мне Бельсенцей свидание перед высокими персидскими куполами собора Святого Дамаса. Причиной тому была не только моя неприкаянность: меня интересовало и само место.
Похоже, что на всем юге не было более знаменитой церкви, причем даже не столько из-за ее поразительных заимствований у восточной архитектуры, которые обнаруживались в ее витых, позолоченных куполах, сколько из-за особенностей ее литургии и обрядов, упорно вызывавших подозрения. Здесь в гораздо большей степени, чем на севере, церковь в былые времена мирилась с ересями и раздиравшими восточное христианство распрями, и поэтому купола Святого Дамаса уже на протяжении многих веков служили символом объединения всего того мятежного и рискованного, что возникало в религиозной мысли Орсенны. В течение долгого времени здесь находился центр небольшой общины сиртских торговцев, которые во время своих путешествий на Восток установили там тесные взаимоотношения с несторианскими церквами, потом собор приютил секту «посвященцев», чьи связи с тайными группами «братьев-интегристов» в странах ислама почти ни у кого не вызывали сомнения; в местных легендах запечатлелось немало рассказов о тайных сборищах, состоявшихся под этими мавританскими куполами и этими высокими, черными, сочащимися подвальной влагой сводами, под которыми у ног неисповедимого Бога когда-то молились Иоахим Флорский и Кола ди Риенцо. В конце концов на деятельность церкви был наложен запрет, и неисправимая мятежница в течение долгого времени была закрыта, что не мешало ей постепенно обретать народное уважение, которым она, очевидно, была обязана своим экзотическим формам, своей непонятной орнаментации, а также, возможно, — если вглядеться повнимательнее в этот преисполненный тайного смысла источник — еще и желанию людей заполучить дополнительную страховку и как-то обезопасить себя перед лицом господствующего официального божества, в связи с чем Марино, способный при случае рассказать о Сирте немало интересного, тонко подметил, что Маремма «сочеталась перед Богом законным браком со Святым Виталием (кафедральный собор), а тайком — со Святым Дамасом». Похоже, однако, что со временем духовенство пришло к выводу, что в конечном счете инакомыслие представляет меньшую опасность, чем груз сновидений, накапливающийся в этой выморочной раке, слишком притягательной и слишком явно тяготеющей к Темному началу; во всяком случае, несколько лет назад после искупительной церемонии, после официального изгнания духа злокозненных искушений церковь была снова открыта для отправления служб, хотя непреклонное монастырское духовенство не задумываясь назвало случившееся замаскированной капитуляцией. Дальнейшие события отчасти подтвердили истинность такого суждения; было очевидно — собранная Бельсенцей документация не оставляла в этом никаких сомнений, — что в той весьма специфической атмосфере, которой дышала теперь Маремма, собор Святого Дамаса оказался излюбленным и с трудом поддающимся наблюдению сборным пунктом паникеров и распространителей слухов, а также модным местом встреч зимующих в городе и становящихся все более многочисленными богатых, скептически настроенных жителей столицы. Часто появлялась там и Ванесса, хотя она была неверующей; отвечая на мои вопросы по поводу этих посещений, она ограничивалась ничего не значащими ответами; она приходила туда, чтобы оказать поддержку духовенству, среди которого вдруг, словно по мановению волшебной палочки, а может быть, и не без ее участия, взошли семена ясновидчества; у меня складывалось такое впечатление, что над всем этим задымленным кострищем распространяется идущий из самых высоких орсеннских сфер принцип высшего соизволения, с которым я достаточно близко познакомился благодаря присланным мне из Синьории инструкциям. Святой Дамас оказался одной из тех трещин, через которую подозрительные испарения распространились по всем улицам города. Так что взглянуть на эту излучавшую запах серы крипту было небезынтересно.
Церковь стояла рядом с тем местом, где песчаная коса врастает в берег, посреди убогого квартала рыбаков, о чем даже в этот торжественный день напоминали наивные и намеренно бедные детали ее внутреннего убранства. Стены церкви были увешаны чинеными-перечинеными сетями, а перед алтарем в согласии с очень старой традицией моряков Сирта вместо яслей поставили рыбацкую лодку со всеми снастями; эта плывущая под пучком света пустая колыбель странным образом преображала всю крестьянскую сцену, вносила в рождение Христа новую тревожную ноту, ставила его появление на свет в зависимость от морских опасностей. В центре нефа, под центральным куполом, полыхали огни, а остальная часть храма оставалась очень темной, но оттуда шли волны того магнетического — похожего на дрожащий над горячей дорогой воздух, — почти осязаемого общения, которые обычно исходят от ревностно причащающейся толпы. В этом рвении не было ничего общего со столь хорошо знакомой мне по орсеннским воскресным службам коровьей жвачкой, не выражавшей ничего, кроме благодушия пересчитанного стада, по ноздри погруженного в собственное пищеварение; то, что на улицах иногда можно ощутить лишь как отзвук некоего экзотического, вдруг расширяющего ноздри аромата, здесь сразу ударило мне в лицо, как мощный кулак. Толпа вся бродила от могучей закваски, поднимающей высоко-высоко вверх купола; эта плотная толпа лиц с разлитым на них рвением подпирала собой мистическую лодку, и та колыхалась монотонно в ритм идущему из глубин, вновь обретенному песнопению; мне казалось, что в этой ночи, несомой, словно ночное яйцо в лоне зимы, я чувствую, как от дыхания горячих, разбуженных голосов у меня под ногами вот-вот начнет трескаться и таять лед, с бьющимся сердцем чувствую, как откуда-то, словно из-под земли, поднимается опасная лихорадка — слишком резкая оттепель, гиблая весна. Как шквал поднимает опавшие листья, так вверх неслась старая манихейская песня, похожая на прилетевший с моря ветер:
Он брал за душу, этот голос, который подхватил пришедший из глубин веков странный надгробный гимн, подобный хлопанью черного паруса над радостным праздником; он доходил до самого сердца, этот утробный голос, который так наивно старался влиться в зловещую тональность гимна с его незапамятным прошлым. И я не мог слушать его без дрожи — настолько он был весь пронизан глухой паникой. Подобно человеку, который, встретившись со смертельной опасностью, вспоминает прежде всего имя матери, Орсенна в час нависшей над ней смутной опасности решила всецело положиться на своих самых древних Праматерей. Как судно в налетевшем шквальном ветре инстинктивно встречает водяной вал всем своим прямым корпусом, она вкладывала в крик всю свою долгую историю, брала ее на вооружение; столкнувшись с небытием, она мгновенно вновь обрела и свою высокую стать, и свою неповторимую индивидуальность; и может быть, именно тут я, охваченный ужасным порывом, впервые услышал, как из ее глубин поднимается чистый тембр моего собственного голоса.
Тем временем пение прекратилось; сосредоточенное безмолвие возвещало, что теперь толпа готовится реализовать себя в более рациональных действиях и что совершающий богослужение священник собирается говорить. Я посмотрел на него с острым вниманием. На нем была белая ряса, какие носят в южных монастырях, и что-то в нем — его близорукий и затуманенный взор, отстраненно-нежный и в то же время маниакально-концентрированный, — подсказывало мне, что я вижу перед собой одного из тех самых грозных мистиков, которые столь часто появлялись в Орсенне из окаймляющих ее пустынь и, точно угли, сгорали в пламени миражей и в огне песков. Идя к кафедре, он, подобно белому пламени, вился между рядами, не касаясь их; потом, когда он поднялся наверх по ступенькам, голову его снизу осветил пучок света от свечей, и от челюстей его на стену легла жесткая хищная тень; все лицо его как бы выплыло откуда-то из глубин и появилось на зыбкой поверхности ночи; присутствующие едва заметно прижались друг к другу, так что руки всех, кто пришел в храм, теперь соприкасались, и я понял, что вновь наступило время пророков.
Сначала он вполне безразличным тоном, неуверенным либо усталым, напомнил, что в литургии этому празднику отводится совершенно особое место, и выразил радость, словно речь шла о ниспосланной провидением милости, в связи с тем, что наконец-то в этом году его можно отметить с подобающим ему блеском в Святом Дамасе, «возносящем свой голос вместе с другими голосами, соединившимися этой ночью в единый хор воинствующей церкви, имевшей всегда особое звучание и ни с чем не сравнимую отдачу в сердце нашего народа». После этого лишенного внешних эффектов вступления голос обозначил паузу и затем зазвучал выше, становясь все более пронзительным и тонким, словно медленно вытаскиваемое из ножен лезвие.
— Есть нечто глубоко тревожное, а для некоторых из вас и горько-оскорбительное в том, что этот праздник исполненного ожидания и славы божественного Упования в этом году пришел на взбудораженную, не знающую покоя землю, когда небо объято дурными снами и сердца наполнены унынием и болью, словно перед скорым явлением тех грозных Знаков, о которых говорится в Писании. И все же, братья и сестры, я призываю вас в этом овладевшем нашим духом соблазне, где нет вины нашего сердца, увидеть скрытое знамение и с трепетом обрести в своем предчувствии то, что нам дано предугадать от таинства Его рождения. Ведь разве не в самые черные дни зимы, разве не в самой середине ночи нам был вручен залог нашего Упования, разве не в пустыне расцвела Роза нашего спасения? В тот день, который нам дано пережить сегодня вновь, все творение безмолвно простерлось ниц, не было слышно ни слова, и никакое эхо не отвечало на звук голоса; в ту ночь, когда звезды склонились как можно ниже к горизонту, казалось, что дух Сна проник во все сущее и земля повсюду, даже в самом сердце человека, радуется своей Тяжести. Казалось, что и все творение стало тяжелеть, наконец всей своей массой давить, подобно неподъемному камню, на замурованное дыхание Творца и что человек вытянулся во весь свой рост на этом камне и впотьмах на ощупь тянется к месту своего сна. Ведь человек так любит прятаться с головой под одеяло; а кто из нас не стремился угнаться за собственными сновидениями, считая, что спать будет лучше, если превратить все свое тело в удобное ложе, а голову — в подушку? Существуют такие же наглухо закрытые постели и для духа. Здесь в эту ночь я проклинаю в вас это увязание. Я проклинаю человека, сотканного из сделанных им вещей, проклинаю его потворство, проклинаю его согласие. Я проклинаю чересчур тяжелую землю, длань, запутавшуюся в собственных делах, руку, оцепеневшую в ею же замешенном тесте. Этой ночью ожидания и трепета, этой самой зияющей и самой зыбкой из всех ночей мира я заклинаю вас не поддаваться Сну, заклинаю вас не поддаваться Успокоенности.
Что-то вроде дрожи внимания пробежало по телам собравшихся, и раздавшиеся кое-где покашливания задохнулись в полутьме.
— …Обратимся же в сердце своем с трепетом и надеждой — и это нам сделать легче, чем многим другим, — к той глубоко обманчивой ночи, каковой является день, обратимся к этой заре, что окутывает, подобно покрывалу, еще не сотворенный Свет. Земля уже чревата этим предчувствием рождения, но, чтобы укрыться, она выбрала ночь невнятного совета и дурных предзнаменований, и все то, что, возвещая о ней, несется впереди нее, подобно пыли перед движущейся армией, распространяет зловещий ропот, кровопролитие и несет предзнаменования разрушения и смерти. Ведь этой же самой ночью много веков назад люди бдели, и тоска сжимала им виски; они ходили от одной двери к другой и душили всех только что вышедших из лона матери новорожденных. Они бдели, чтобы не сбылось ожидание, они не оставляли ничего на волю случая, дабы не был потревожен покой и дабы камень остался лежать на прежнем месте. Ведь есть немало людей, для которых рождение всегда случается некстати, всегда разорительно и обременительно; сопряжено с кровью и криками, с болью и обеднением, с ужасной сутолокой — все становится непредсказуемым, планы нарушаются, покою приходит конец, наступают бессонные ночи, и вокруг крошечного гнездышка возникает целый вихрь случайностей, словно кто-то вдруг взял да и порвал тот самый сказочный бурдюк, в котором были заключены все ветры. (И то верю: рождение несет с собой также смерть и предзнаменование смерти. Но оно есть Смысл.) Я вам говорю об отнюдь не умершей породе людей, о расе людей с закрытой дверью, о тех, кто считает, что земля уже полна и насыщена; я изобличаю перед вами стражей вечного Покоя.
О братья и сестры, сколь редки они сейчас, те, кто в этой ужасной неисповедимости ночи празднует Рождество всеми фибрами своего сердца. Они приходят из глубин Востока и не знают ничего из того, что призваны сделать; единственный их проводник — огненный знак, что сияет равнодушно в небе и тогда, когда струится кровь виноградных лоз, и тогда, когда кровью наливаются катастрофы; у них во владении наполненное сказочными богатствами царство, и кажется, что даже от их одежд исходит сияние, похожее на сияние медленно осыпающихся в глубине пещеры несметных сокровищ. И все же они пошли, оставили все и пошли, взяв из своих сундуков самую редкую драгоценность, они шли и не знали, кому ее подарят. Преклонимся же теперь перед этим великим и ужасным символом: перед этим паломничеством наугад и этим даром чистому Пришествию. Вместе с ними по темным дорогам отправляется в путь и присущая нам частица всемогущего естества, отправляется вслед за движущейся безмолвной звездой, отправляемся мы, глубоко растерянные, ведомые чистым ожиданием. Они уже в пути, они идут в глубине этой ночи. Я призываю вас проникнуть в их Смысл и вместе с ними пожелать ослепления перед тем, что станется. В это смутное мгновение, когда, как мне кажется, все висит на волоске и даже сам час замирает в нерешительности, я призываю вас последовать за ними в их высочайшем Бегстве. Счастлив тот, кто умеет возрадоваться в самом сердце ночи, возрадоваться от одной лишь мысли, что она чревата, ибо мрак будет нести ее плод и она будет щедро одарена светом. Счастлив тот, кто оставляет все позади и вверяет себя дороге, не требуя никакого залога; счастлив тот, кто услышит в глубине своего сердца и своего чрева призыв неисповедимого освобождения, охватит взором этот иссыхающий мир, дабы возродить его. Счастлив тот, кто вытаскивает весла из воды на самой стремнине, ибо он достигнет другого берега. Счастлив тот, кто бежит от самого себя и отрекается и кто в самом средоточии мрака не преклоняется больше ни перед чем, кроме глубокого свершения…
Проповедник снова сделал паузу; теперь его голос звучал медленнее, и в нем слышались торжественные модуляции.
— …Я говорю вам о Том, кого не ждали, о Том, кто пришел, как ночной вор. Я говорю вам о нем здесь, в час, когда землю окутал мрак и когда сама земля, может быть, уже обречена. Я говорю вам о той ночи, когда не нужно спать. Я несу вам весть о рождении во мраке и сообщаю вам, что пришло наконец время, когда снова, еще раз, вся земля ляжет, как на весы, на Его длань: и близок уже тот момент, когда и вы тоже сможете сделать свой выбор. Да не отвратятся глаза наши от сверкающей в ночной глубине звезды и да будет дано нам уразуметь, что из самой глуби тоски, тоску превосходящей, по темному пути возносится неукротимый глас желания. Мысль моя отправляется вместе с вами, как к глубокому таинству, к тем, кто из глубин пустыни пришел поклониться лежащему в яслях Господу, который нес не мир, но меч, пришел покачать в колыбели столь тяжкое Бремя, что задрожала, почуяв его, вся земля. Вместе с ними я простираюсь ниц, вместе с ними поклоняюсь Сыну в лоне матери его, поклоняюсь открытому Пути и утренним Вратам.
Толпа внезапно качнулась и преклонила колени, осев неторопливо, словно стебли пшеницы от взмаха серпа, и всей своей глубиной церковь накатилась на меня, хлестнула меня по лицу мощным, неистовым ропотом молитв. Толпа молилась, тесно сомкнув плечи, сокрушительно неподвижная, превращающая все пространство под этими высокими сводами в столь плотную массу, что легким моим внезапно стало не хватать воздуха. От дыма свечей вдруг резко защипало в глазах. Я почувствовал между лопатками какое-то странное тяжелое нажатие и что-то вроде пронзительной тошноты, как та, что появляется, когда видишь истекающего кровью человека.
Я не стал искать Бельсенцу в этой толчее. От волнения у меня перехватило горло, и я с отвращением — с невыразимым отвращением — вспомнил сверление его вялого, близорукого взгляда, напомнившего мне лезвие, которое нащупывает уязвимое место в доспехах. Я прыгнул в стоявшую на приколе лодку. Тяжелая, влажная ночь притягивала меня к себе: вместо того чтобы вернуться во дворец, я поплыл к другому берегу лагуны.
Холодная, пропитанная солью ночь приятно бодрила. Прямо передо мной дворец Альдобранди с потушенными огнями походил на омываемую спокойными водами глыбу пакового льда; слева разрозненные огни Мареммы истощившимся созвездием расположились над самой поверхностью моря, водный горизонт как бы отступал перед вгрызающимся в него кишением звезд, уже поглотившим всю землю. Ощущение было такое, что Маремма растворяется в единой ночной массе, утопает в ней, принимает ее Образ и ее Час и исчезает в состоящей из крошечных огненных гвоздиков светосигнальной системе.
Я надолго затерялся в этой обетованной ночи. Я скрывался от самого себя в лоне ее неопределенности и ее далей. Влага холодными капельками скапливалась на моем плаще; лагуна неутомимо плескалась о борт слабо освещенной сигнальным фонарем лодки. Я незаметно погружался в сон. Иногда у меня перед глазами возникало лицо сидящего в своем кабинете в Адмиралтействе Марино; образ с застывшей на нем странной хитровато-осведомленной улыбкой колебался передо мной в ритме лодочных колебаний — он напоминал идущего по воде человека, похожего на смешную марионетку, — потом амплитуда колебаний уменьшилась; на какое-то мгновение лицо застыло передо мной в тягостной неподвижности, и я почувствовал, как взгляд его безмолвных и неподвижных глаз погружается в мои глаза, но тут же заснул.
Я нашел Адмиралтейство в менее дремотном состоянии, чем можно было предположить, имея в виду случившиеся накануне празднества. «Грозный» стоял у пристани, и на палубе его не осталось и следа от обычного беспорядка; около груды угля суетились люди. Фабрицио, вышедший из большого зала, заметив меня, стремительно вернулся обратно, и оттуда вдруг послышался оглушительный концерт из тех предписанных уставом свистков, которыми на флоте в особо торжественных случаях встречают адмирала.
— Свистать всех наверх! Равнение на капитана! — крикнул Фабрицио.
Я понял, что шутку готовили задолго. Три лейтенанта стояли с саблями наголо, застыв в коварном равнении; прозвучало даже несколько нот официального гимна. Под крики «ура» я тут же распорядился выдать спиртное. Меня стали хлопать по плечу. Испытывая необычное волнение, я без задних мыслей погружался в атмосферу дружбы: мы были все четверо так молоды, так жизнерадостны, так полны сил, и нас в это светлое и ясное утро так тесно сплачивали лучи солнца, что мне хотелось всех их расцеловать.
— …И он будет глав-но-ко-ман-ду-ю-щим на море… — скандировал с присвистом почтительного восхищения Фабрицио. — Между нами говоря, пора было тебе уже наконец появиться. Первым делом, — добавил он, прекращая паясничать и протягивая мне конверт, — вот: вручаю тебе послание Святейшего Престола — так мы иногда между собой называли Марино за его патриаршескую медлительность и за его совершенно очевидную склонность к сидячему образу жизни.
Записка Марино была короткой, и, похоже, писал он ее второпях. Обращаясь ко мне, он не затруднял себя казенными оборотами, в чем проявлялись сразу и его доброта, и его дружеское расположение ко мне, захлестнувшие вдруг меня такой резкой, такой явственной волной жара, что мне даже показалось, что я краснею. Я снова живо ощутил эту его неповторимую способность одним прикосновением накладывать на вещи свою печать и одной-единственной простой фразой наполнять воспоминание музыкой — да, именно той трогательной и неловкой мелодией, которая сквозила во всех его жестах; казалось, что пальцы его способны извлекать из всех вещей лишь наиболее простые и погружающие в задумчивость аккорды. Вверяя моим заботам Адмиралтейство, он предупреждал меня, что распорядился насчет ночного патрулирования, и выражал уверенность, что я справлюсь с задачей. «Береги "Грозный", — добавлял он, — я так боюсь этих проклятых мелей; флот ведь у нас не такой уж молодой. Следи за тем, чтобы при входе в мелеющий пролив тщательно контролировалось направление движения; в прошлый раз Фабрицио выполнил маневр из рук вон плохо. У всех этих молодых людей один ветер в голове, и они только воображают, что умеют управлять кораблем, но теперь там будешь ты, так что я могу спать спокойно. Не забудь — хотя я и не хочу тебе приказывать, — что выдавать водку следует только по окончании ночной вахты, и не позволяй Фабрицио убедить тебя в обратном. На этом я заканчиваю и молюсь Святому Виталию (это был предмет великого поклонения со стороны Марино и, как мне кажется, покровитель прибрежных вод), чтобы он помог тебе на море».
— И обещай мне, Альдо, — крикнул Фабрицио за моей спиной, сложив руки рупором, — что возьмешь меня с собой… Будь другом. Мы втроем тянули жребий. Я поведу тебе «Грозный» хоть вдоль, хоть поперек… куда захочешь.
Все утро прошло в лихорадочном хождении взад-вперед; глядя на выдвинутые ящики письменного стола и царящий в комнате беспорядок, можно было подумать, что я собрался в далекое путешествие. Эта деятельность держала меня на плаву, подобно тому как пловца держат совершаемые им движения; следя за тем, чтобы она не прерывалась, я почти терял из виду то, что происходило на глубине. Я вдруг не без робости и смущения подумал о том, что мне надо будет занять каюту Марино; этой сомнамбулической деятельностью и этими развороченными ящиками я лишь пытался обмануть себя и свою потребность немедленно подняться на борт корабля. Я походил на того опаздывающего пассажира, который слышит рев сирены и боится, что пароход отплывет без него: мне хотелось быть уже в пути. Торопливым шагом я дошел до пристани, и меня внезапно переполнила счастливая уверенность в том, что вот наконец он весь передо мной: разбуженный зверь, мягко вибрирующий под струей светлого дыма, но к радости тут же примешалась печаль, оттого что он выглядел таким жалким, таким маленьким.
Палуба «Грозного», большого насекомого, вид которого не предвещал ничего хорошего, была совершенно пустынна; вся жизнь его в этот момент сводилась к той неприметной, зудящей дрожи, что поднималась из его нутра, погрязшего в болотной трясине. Я плохо знал корабль — в свою первую ночь патрулирования я не сходил с капитанского мостика — и теперь бродил по омытой солнцем палубе, дотрагиваясь ладонью до уже горячих металлических поручней, с такой опаской поглядывая на эту требовательную машину, словно это была какая-нибудь зубчатая передача, от которой стараешься держать пальцы подальше. Я примерил ключ Марино к нескольким дверям; посреди царившей вокруг тишины металлический скрежет листового железа под ногами неприятно резал слух; атмосфера узких темных проходов казалась мне удушливой; я уже совсем было собрался, сдерживая досаду, отказаться от дальнейших попыток, когда одна маленькая железная дверца наконец поддалась и открылась вовнутрь такой крошечной комнатки, что я тут же едва не ткнулся носом в висевшую на противоположной стенке старую и очень хорошо знакомую мне форменную фуражку.
В каюту через задний иллюминатор проникал достаточно яркий свет, но даже еще раньше, чем я успел разглядеть в ней хотя бы одну деталь, благодаря запаху табачного дыма и сухих цветов близость Марино захлестнула меня с такой же силой — впору было закрыть глаза, — как в Адмиралтействе; она показалась мне столь же необыкновенно интимной, как снимаемые с мумии ленточки. Я ошеломленно смотрел вокруг себя, уже в который раз охваченный чувством присутствия более гнетущего, чем сама физическая сущность, которое всегда при виде Марино меня как бы приклеивало к земле. Сказать, что комната была сделана по его подобию, значит ничего не сказать: она соответствовала его образу нисколько не меньше, чем соответствует облику своего владельца какое-нибудь подземелье египетской пирамиды, с повторяющимися фигурами на стенах, с мятущейся гирляндой жестов, повисших в воздухе вокруг пустого саркофага. Однако вещей в этой тесной комнатке было немного. На стойке для оружия висели столь привычные мне трубки Марино; на маленьком столике в зеленой вазе с узким горлышком из сиртского фаянса еще стояли несколько увядших цветов; толстые тома «Навигационных инструкций» выполняли функцию клиньев, закреплявших вазу и предохранявших ее от падения во время бортовой качки; они срослись с ней, и их покрывала тонкая зеленая пленка влажного моха. Я бросил взгляд на торчащие своими роговыми дужками очки, на книгу записей рядом с ними. Марино брал с собой в море для проверки фермерские счета. У меня внезапно появилось такое острое ощущение огражденного от мира спокойствия — похожее на то ощущение, которое возникает, когда приоткрываешь гербарий и ноздри начинает щекотать пыльца вековых цветов, — спокойствия, удерживающего корабль у пристани гораздо надежнее, чем все его якоря, что я резким движением руки открыл иллюминатор, словно мне не хватало воздуха, и тут же на секунду задержался взглядом на соседней стене, чтобы рассмотреть то, что висело там в застекленной рамке. Там находился старый, весь пожелтевший диплом мореходного училища с помеченной на нем датой, а вокруг висели награды Марино: медаль Сирта (пятнадцать лет верной службы в пустыне) на голубой с красными полосками ленте, медаль «За спасение на море» и расплывшееся пятно красной, благородной медали Святого Иуды, которая, как все в Орсенне знали, достается только ценой крови. Я разглядывал их, задумавшись, — они казались какими-то лишенными субстанции, казались увядшими в своем стеклянном вместилище реликвий. Я попытался представить себе, как Марино украдкой, со свойственной только ему детской морщинкой нахмуренного внимания косится на спрятанные под стеклом медали: такое удаление, такое головокружительное отстранение от самого себя меня просто ошеломляло; мне стало как-то нехорошо в этой сонной комнатке, и я на мгновение прилег на узкую кушетку; легкое движение на потолке заставило меня вздрогнуть: это оказалась стрелка компаса, по которой Марино мог ориентироваться, даже когда отдыхал, и которая шевелилась у меня над головой, как разбуженное животное. Комната исторгала меня; я встал и от безделья стал листать один из томов «Навигационных инструкций»; нити моха склеивали влажные страницы, распространявшие сильный запах плесени: судя по всему, Марино уже с давних пор плавал только по счислению; и снова он, как галлюцинация, явился у меня перед глазами, сошел со склеенных страниц этой книги. Тяжелый, сеющий вокруг себя спокойствие, со взглядом, прикованным к тому, что находится поблизости, и в то же время с проскальзывающим в нем отсветом таинственного беспокойства больного человека. Внезапно от чьих-то шагов у меня над головой загремело листовое железо; перспектива оказаться захваченным врасплох была мне неприятна, и я приблизился к зеркалу, чтобы поправить свой китель; на какое-то мгновение я погрузился взглядом в его серые глубины и словно попал в их водоворот: мне казалось, что совершенно одинаковые образы, бесчисленное множество точно накладывающихся друг на друга образов непрерывно отслаиваются у меня перед глазами, быстро скользят один по другому, как страницы книги, как слои «Навигационных инструкций» у меня в руках. Я закрыл глаза, захлопнул от слишком яркого света створку иллюминатора и, немного поколебавшись, притворил за собой дверь каюты с ее запахом увядших цветов, притворил осторожным движением, каким закрывают комнату покойника.
Я пошел в управление Адмиралтейства отдать кое-какие распоряжения. С собой я взял Фабрицио, это было уже давно решено; я приказал проверить, чтобы на судне был полный комплект полагающихся по уставу продовольственных запасов и боеприпасов. Беппо, превратившийся из-за сельскохозяйственной безработицы в начальника корабельной интендантской службы, незаметно повел бровями: распоряжение казалось и необычным, и излишним; я тут же вспомнил, что на «Грозном» никогда не прикасались ни к каким запасам, и прикусил губу; представил себе ряд покрытых легкой зеленой плесенью запечатанных ящиков, а вот и забытый за бумагами в глубине выдвижного ящика ночного столика заряженный револьвер.
— Ты, значит, собираешься вступать в рукопашную схватку? — улыбнулся суетившийся поблизости Фабрицио, который возбуждался от одной только мысли о приготовлениях, будь то просто приготовления к игре в карты.
— Олух!.. — толкнул я его в бок и тут же не без коварства добавил: — Ты, наверное, был бы рад плавать только по безопасным проходам, да и то не больше одного раза.
— Подумаешь! Безопасные проходы… С этими-то береговыми ориентирами…
Фабрицио раздраженно пожал плечами и показал мне на сияющую белизной крепость.
— Это теперь просто детская игра, даже ночью, вот чего Марино никак не хочет понять. И при этом мне еще отказывают в медали «За преодоление опасности на море», бывает же несправедливость!.. Ну и пусть, сегодня вечером на нашем укрощенном море (так на морском жаргоне называли Сиртское море) будет прекрасная погода.
Фабрицио потирал руки, искоса поглядывая на небо и имитируя при этом излюбленное движение головой Марино. В его жестах было нечто непривычное, похожее на с трудом сдерживаемое ликование, какое можно наблюдать у очень малых детей перед долгожданным праздником.
В полдень все было готово, последние приготовления завершены вплоть до мельчайших деталей, а то немногое, что мне еще оставалось сделать, буквально горело у меня в руках, с непреодолимой и не зависящей от меня силой разматывалось, как моток веревки в руках гарпунера. Прилив должен был начаться с наступлением темноты, и поэтому отплытие назначили на весьма позднее время; таким образом, у меня оказалась масса мучительно свободного времени. Я приказал седлать мою лошадь; у меня расходились нервы, а это был удачный предлог для одиночества.
Воздух был сух и на диво светел; искрящееся, как иней, солнце заливало своим светом пески и пространства сухого ильва. Я весьма кстати вспомнил, что нам еще осталось дополучить в Ортелло небольшую сумму: остаток, образовавшийся после окончательного расчета за труды наших возвратившихся экипажей; так что я имел все основания отправиться на длительную прогулку. Серая тропа уходила в глубь суши, удивительно отчетливо выделяясь на фоне солнечного, свободного от всего лишнего, пейзажа, извиваясь между обдуваемыми морским ветром ильвовыми склонами; от разогретой земли поднималось оглушительное стрекотание цикад. Поднявшись на вершину первого песчаного холма, я повернулся лицом к морю: с каждым шагом моей лошади чернильно-синий полукруг сгущался все сильнее вокруг покрытого белым, крупнозернистым песком берега. Я видел под собой уже совсем крошечное Адмиралтейство, словно высиживаемое яйцо, притаившееся в своем тепле, растворенное в бликах сурового солончакового пейзажа; необъятное белопенное кипение настигало со всех сторон крепость, похожую на пласт негашеной извести над своим квадратом черной тени. «Грозный» стоял, вытянувшись вдоль пальца мола, приклеившись к нему, словно драгоценный камень к перстню, — все покоилось в окаменелой неподвижности, пейзаж уже поглотил человека, как поглощает влагу страждущий от жажды песок; и только тяжелый дым маленького корабля, возносящийся над его трубой, как украшенное перьями древко, привносил в эту пустыню ноту едва заметной тревоги и запах плохой кухни. Потом пейзаж нырнул за складку песка; легкий дымок продолжал еще какое-то время подниматься над горизонтом, один-одинешенек в неподвижном воздухе. Я пустил лошадь рысью по твердой почве. В этом прозрачном воздухе я чувствовал, что пылаю, как сухие дрова; все тело мое находилось в движении, жило наполненно и рискованно.
Хозяйство Ортелло появлялось вдали на склоне крутого холма в окружении оливковых насаждений и густого кустарника; его длинные каменные строения взбирались по склону, словно большие серые ступени. Запыленное гумно у самого входа и сарай, куда обычно складывали сушиться тяжелые землистые груды шерсти и где я не раз присутствовал на пиршествах по случаю облав на кроликов, пустовало. Мне показалось, что вид моей униформы, несмотря на то что она здесь уже давно примелькалась, вызвал среди фермерских рабочих, дремавших в узкой полоске тени на большом дворе, почтительную и одновременно опасливую сутолоку, словно этот истрепанный символ вдруг в полной мере обрел свой прежний смысл, словно и с него тоже сняли невидимый нарост.
— Хозяин будет рад вас видеть, — сказал мне управляющий, беря лошадь под уздцы. — Сюда так мало теперь доходит вестей, с тех пор как…
Он смущенно прервал свою речь и ускорил шаг, чтобы сообщить о моем визите.
Я нашел старого Карло на веранде, обращенной в сторону моря. Она была защищена решетчатым навесом, по которому карабкались виноградные лозы; сразу за низкой стеной резал глаза ослепительный, прокаленный солнечными лучами прямоугольник красной, в пятнах, земли; вдали, за песчаными холмами дюн, виднелась минерально-синяя, совсем вроде бы не широкая линия моря, которая, однако, поражала своим глянцем, своей необыкновенной отчетливостью: узкая прорезь взгляда дозорного, укрывшегося за своей бойницей. Старик Карло полулежал, весь сжавшись, в затененном углу на своем плетеном кресле, воплощение глубокой старости, легкое и терпеливое дуновение. Словно вяло разжигающее на этом крупном, неподвижном теле непотушенные угли, забытые в золе кузнечного горна. Около него на низком плетеном столике из испанского дрока стояли стакан и один из тех встречающихся только на юге покрытых глазурью и всегда запотевших кувшинов, которые хранят прохладу на протяжении целого дня. Время от времени хриплым шквалом проносились крики морских птиц, более безутешные на этих пепельных равнинах, чем где бы то ни было в другом месте.
— Один приехал, Альдо?
Старик прищурился вместо приветствия. Он походил теперь на остывшую планету и реагировал на все лишь складками и бороздами морщинистой кожи.
Не дожидаясь ответа, он показал легким движением пальца куда-то за мою спину. Почти тотчас же появился управляющий и, не говоря ни слова, опустил передо мной на стол сумку с золотом. Я повернулся к старику, немного озадаченный этим маневром, и, взяв его за руку, попытался улыбнуться, но улыбка застыла на полпути, словно наткнулась на кусок льда: это лицо уже отталкивало от себя взгляд с вызывающим безразличием смерти.
— Я приехал не в качестве кредитора, Карло, — тихо произнес я.
— Разумеется, Альдо, разумеется!.. — Старик дружески похлопал меня по тыльной стороне ладони. — Но просто, понимаешь, все было уже приготовлено. Просто нужно было подвести черту под всеми расчетами, — добавил он странным тоном, слегка отводя глаза в сторону, словно им стало больно от ослепительности обнаженных равнин.
Внезапно он обернулся и погрузил свой ставший вдруг необыкновенно испытующим взгляд в мои глаза, продолжая молча похлопывать меня по руке, как если бы он выравнивал дорогу для застрявшей в пути вести и ожидал вот-вот увидеть ее у меня на лице.
— Что ты хочешь, час мой уже наступает, — произнес он после паузы. — Так вот! Пустыня изнашивает людей, Альдо!
Когда он произносил эту последнюю фразу, в его глазах мелькнула хитринка: он не хотел, чтобы я ему поверил.
— …Мой час наступает, — задумчиво, с горечью в голосе продолжал старик, — рано, но ничего не поделаешь.
— Эх, Карло! Через десять лет, через десять лет мы вернемся к этому разговору. «Не раньше, чем вырастут оливковые деревья» — так ведь гласит сиртская поговорка. А Беппо как раз рассказал нам, что вы их только-только сажаете.
От его голоса мой наигранный смех тут же застыл в воздухе.
— Нет, Альдо, это случится вот-вот, хоть это и рано.
Старик замолчал и глотнул из стакана воды. Слышны были крики морских птиц, устремившихся через песчаные долины: на море начался прилив.
— Вот, значит, как! Если, Карло, это случится… — Я почувствовал, что голос у меня изменился, и с искренним чувством дружбы дотронулся до его плеча. — Что-нибудь здесь не в порядке?
Его лицо повернулось в сторону песчаного горизонта.
— Все в порядке. Только я устал от порядка, Альдо, вот и все. — Он почти бессознательно сжал мою руку. — Видишь ли, Альдо, я завершил все свои дела. Благословен был, как говорят, мой труд, и всю эту землю я приобрел честным трудом. Я накопил все свое добро законным путем, а теперь ухожу. — Он сверлящим взглядом посмотрел мне в глаза. — Если бы ты только знал, насколько здесь чувствуешь себя связанным по рукам и по ногам! За все вещи я цеплялся своими нитями, и вот теперь оказалось, что я завернут в них, как в кокон. Закреплен, перевязан, упакован. Я же сейчас не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, это ли не болезнь, Альдо? А еще какие-нибудь две недели назад я гонялся за зайцами. А все дело тут в том, что я слишком много сделал по сравнению с тем, что мне осталось сделать. Как только поймешь, так все кончено, пружина ломается. Вот что это такое, стареть, Альдо; то, что я сделал, на меня же и падает, и нет никакой возможности приподнять это… — Он повторил проникновенно: — Когда уже больше не можешь приподнять то, что сам сделал, то это уже могила.
Служанка принесла прохладительные напитки и стала хлопотать около старика, используя малейший предлог, чтобы как можно дольше не уходить. Этот безмолвный растянутый маневр после уловки управляющего постепенно обретал для меня какой-то подозрительный смысл. Можно было подумать, что они старались не терять старика из виду на долгое время, и я заметил тогда убийственный взгляд старого отшельника, прикованный к затылку девушки.
Служанка ушла. Теперь Карло застыл в неподвижности, не произнося ни слова, и мне показалось, что дыхание этого большого тела стало более натужным. Обеспокоенный, я приподнялся и, наклонившись к его уху, спросил:
— Вам нехорошо?
— Ни хорошо и ни плохо, Альдо; в самый раз, чтобы сделать то, что мне осталось сделать. Просто, понимаешь, здесь тяжело дышится, нет воздуха.
— Ну что вы, отсюда до моря прямо рукой подать.
Старик, отчаявшись добиться понимания, горько и упрямо пожал плечами.
— А я говорю: нет, нет воздуха. И никогда не было. Это Марино пытается утверждать обратное.
— Почему вы отослали его людей?
Вопрос стремительно сорвался у меня с языка, прежде чем я успел подумать, что его не стоит задавать. Старик посмотрел на меня острым глазом, куда вновь вернулась жизнь; воспоминание оказалось явно из приятных.
— А он не очень-то этому обрадовался, так ведь, Альдо? Сразу примчался ко мне. Могу сказать, он был тогда совершенно выбит из колеи.
— Но почему все-таки вы с ним так поступили?
— Почему?.. — Лицо его вдруг потемнело и как бы вернулось в состояние отупления. — Это трудно объяснить. — Он попытался напрячь мозг. — Только не подумай, что я не люблю Марино; это мой самый старый друг. Я сейчас тебе объясню. Когда я был маленький, наш старый слуга отправлялся спать в сарай без света. Он настолько привык, что шел в темноте не на ощупь, а с такой же скоростью, как посреди бела дня. Так вот! Что ты хочешь, в конце концов у меня возникло такое сильное искушение: на пути у него был люк, и вот я открыл его… — Старик размышлял, делая над собой усилие. — Мне кажется, что это сильно действует на нервы, когда люди слишком глубоко верят, что все вещи всегда будут такими, какие они есть. — Он прикрыл глаза и стал покачивать головой, как бы засыпая. — …А это, может быть, не очень хорошо, когда вещи навсегда остаются такими, какие они есть.
Между тем управляющий вернулся и уже какое-то время, ничего не говоря, стоял на своем посту в конце галереи. Я понял, что мне пора уходить. Необъяснимо взволнованный, я стал прощаться со стариком.
— …Прощай Альдо, мы больше уже не увидимся, — сказал он мне, задержав свою руку у меня на плече. — Ты не очень-то слушай Марино, — добавил он, весело покачивая головой. — Это ведь такой человек, который никогда не умел сказать слова «да».
Он проводил меня взглядом, не переставая качать головой.
…Марино — это человек, который никогда не умел сказать слова «да».
Управляющий подвел под уздцы мою лошадь. Он поблагодарил меня за мой визит и настойчиво заверил меня, как это делают от имени ребенка или инвалида, что старику визит доставил удовольствие. Меня такое обращение удивило и шокировало: Карло был отнюдь еще не в таком плачевном состоянии.
— Я вижу, вы уделяете ему много внимания, — суховато сказал я ему, поднимаясь в седло.
— Мы обязаны присматривать за ним. Он сильно сдает. Теряет рассудок… — Он приблизился к моему уху и глуховатым, виноватым голосом сказал: — Позапрошлой ночью он едва не спалил ферму.
Когда я отправился в обратный путь, солнце уже клонилось к горизонту. В предвечерней степи воцарилась тишина. Эта всевластная горизонтальность мгновенно сглаживала все движения, утихомиривала любую порывистость и суетливость, превращала их в незначительность жестов спящего человека, прильнувшего спиной к притягивающей его кровати. Время от времени пустынный тушканчик вприпрыжку, зигзагами перебегал тропу и, поднимая тонкие фонтанчики пыли, скрывался в ильвовых зарослях; эта остаточная жизнь под небом, где не осталось ни одной птицы, жалась к траве, вносила в предвечернюю неподвижность воздуха грозовое дыхание и как бы сплющивалась под невидимым куполом страха. Я возвращался из Ортелло опечаленный; я понял, что невольно искал в этих полях какой-нибудь знак, вроде того, что пытаются обнаружить, когда, услышав чересчур грозное слово, инстинктивно начинают искать взглядом опровержение ему в освещенном лучами солнца облаке, в колышущемся от ветра цветке; и я вдруг понял, какое тягостное подтверждение нес в себе этот вечер: мне вдруг показалось, что теперь я уже точно знаю, что старик Карло вот-вот умрет.
Ужин прошел в молчании. Джованни и Роберто были не у дел, как вытащенная на берег лодка. Фабрицио, занятый последними приготовлениями к отплытию, стремглав входил и так же стремглав снова исчезал. Это была прощальная трапеза; я хотел бы растянуть эти минуты покоя, которые Фабрицио урезал до мелких клочков; с сердцем, отягченным дружбой и привычкой, — я чувствовал себя отрезанным от этой простой и приятной общины, я знал, что эта трапеза последняя. Как только ужин закончился, я зажег свой фонарь и пошел в палату карт за бортжурналом и морскими документами. Эта формальность была сопряжена для меня с чувством невыносимой тревоги: я с самого начала знал, что выполню ее лишь в самый последний момент.
В полуподвальном зале было уже темно; стоило мне закрыть дверь, как весь холод зимы и уединения хлынул на меня из этого ледяного сердца, и все же, несмотря на враждебный прием этого промозглого и недоброжелательного каземата, все преобразилось во всесокрушающем и постоянно новом ощущении, что палата была тут — более реальная, чем что бы то ни было на свете, — до самого свода наполненная неотвратимым существованием, способным отличить оскаленные челюсти капкана от булыжника. Меня пугала ухмылка этого пестрого, пещерного разноцветия; я направил пучок света своего фонаря на пол и начал быстро — виски у меня сдавило, руки двигались судорожно — делать то, для чего я сюда пришел; иногда я невольно оборачивался в сторону зияющей и заглатывающей меня пустоты, словно там, на стене, что-то вдруг начинало строить мне гримасы. Я наспех собирал карты — мне было стыдно перед лицом этой неприступной тишины, которую оскверняли мои воровские жесты, напоминающие нелепый, семенящий мышиный бег, стыдно, как никогда не было стыдно ни перед одним человеком. Отныне я бесповоротно принадлежал этому кощунству; я вышел из обреченной комнаты, пятясь и прижимая к себе карты, весь бледный, похожий на гонимого безумной алчностью грабителя могил, который ощущает в своих пальцах перекатывающиеся драгоценные камни, в то время как от колдовского навета у него уже начинает медленно свертываться кровь. Вместе с ночью прилетел ветер и укутал меня, едва я вышел на орудийную площадку, в свое огромное холодное покрывало; я затянул пояс на своей морской шинели; в конце мола вокруг стоявшего под парами «Грозного» суетились маленькие огоньки; иногда из-под его клубящегося дыма вырывалось вспыхивавшее, как в кузнечном горне, яркое пламя и черными, холодными, похожими на трагическую зарю отсветами отражалось в груде угля. В темноте я наспех пожал руки Роберто и Джованни — оттого, что лица были неразличимы, голоса звучали более отрывисто и торжественно, — кто-то крикнул «счастливого возвращения!», но усиливающийся ветер зловещей ночи задул голос, словно какой-нибудь факел. На мостике не было видно ни зги; я почувствовал под ногами легкое дрожание корабля и его слепую силу, которая уже буравила темноту. «Грозный» мягко пятился назад, разворачиваясь на якоре; нечеткий мирный отблеск на воде перед причалом расширился, упавшая на плиты пирса цепь издала чистый звук, и между нами и праздными голосами на суше сразу же пролегла невидимая граница. Меня заинтриговала более черная, чем все остальное пространство, тень впереди меня: я не узнал застывшего в позе напряженного внимания Фабрицио, который в своем большом морском плаще с капюшоном превращался в неподвижную, составляющую единое целое с палубой глыбу; до меня вместе с порывом ветра донесся холодный, черный запах угля, потом поливший вдруг ливень, словно задернув штору, погасил последние редкие огни, и нас окутала ночная тьма.
Плавание
Той предвещавшей бурю ночью Сиртское море было трудно узнать. У берега зыбь еще встречала противодействие песчаных стрелок, но ее принесенное издалека черное дыхание, со спокойным неистовством терзавшее камыши, все ширилось, становилось все более угрожающим. Холодный и девственный, словно только что пронесшийся над снегами ветер свежел с каждой минутой и увесисто хлестал корабль по борту. В этих джунглях хриплых пересвистов, переваливаний с боку на бок и сурового шума ветра его черная тень скользила, как какая-нибудь прогалина безмолвия. Рассеянный, как бы идущий из морских глубин свет омывал капитанский мостик; движения вахтенных, словно приторможенные водной толщей, становились замедленными, погружались в сон. Стоящий рядом со мной Фабрицио молчал, как статуя, и только иногда дотрагивался своим пальцем пианиста до какого-то невидимого и деликатного инструмента; его отточенная и непонятная жестикуляция в этой сумбурной ночи приковывала к себе мой взгляд, как какие-нибудь арабески, выводимые витающей над полем белой ткани рукой хирурга. Он внезапно повернулся ко мне и заговорил с той идущей от самой жизни грубоватой сердечностью, от которой к лицу словно прилила кровь, но прошло некоторое время, прежде чем я понял, что его залитое потом лицо улыбается.
— Вот он, тот самый фарватер. Ты не боялся, Альдо? Если бы Марино не взял меня в тот раз сюда с собой, то можно было бы говорить, что я бросился в воду, не умея плавать.
Теперь была моя очередь посмотреть на него ошеломленным взглядом.
— Ты что, ни разу не проводил разведку нового фарватера?
Он взял меня за руку.
— Ну теперь, когда все уже позади… Я не хотел тебе об этом говорить. Очень уж мне хотелось отправиться в это плавание.
Когда он отвернулся от меня, я, щурясь от ветра, снова с любопытством посмотрел на него. Мне показалось, что Адмиралтейство вдруг отступило далеко-далеко, скрылось на горизонте за хлябью тумана.
— Ты можешь теперь пойти отдохнуть, — добавил Фабрицио сдавленным голосом. Он слегка сжал мне руку, и я догадался, что он в темноте улыбается. — …Я беру это на себя. Все будет хорошо.
В каюте Марино было холодно и влажно. Я на ощупь зажег лампу, которая слабо закачалась на потолке, шевеля на стенах комнатки тени, которые двигались равномерно и сонно. Я, не раздеваясь, вытянулся на кушетке. До меня докатывался легкий шелестящий шум воды, который, казалось, доносился откуда-то издалека специально для того, чтобы угаснуть в этом крошечном замкнутом пространстве, и который тем не менее, словно скребущий по окну палец, не давал мне заснуть. Морская шинель Марино монотонно билась о переборку. По прикрепленному к потолку компасу я механически следил за извилистым путем «Грозного» через проход; где-то далеко слабо стучали машины, делая бесконечные паузы и медленно, как ночной поезд, опять приходя в движение: можно было подумать, что пустота и тоска расположенных вокруг неподвижных степей вступают во владение и этим пустынным морем, и этой разваливающейся пыльной кабиной, похожей из-за своей уединенности и своего сладковатого керосинного запаха на заброшенную ламповую кладовую. На какое-то мгновение, словно запах цветов в темноте, всплыло воспоминание о дворце Альдобранди, о его хлопающих во влажной ночи дверях, и я опять прижимался губами к мятущимся волосам Ванессы, которые ночь подхватывала и развевала по постели, колыша их, как прилив колышет пучок водорослей. Потом я завернулся в свою шинель и начал свое мрачное бдение.
Я отодвинул от себя на столике букет сухих цветов и тома «Навигационных инструкций», развернул пакет карт. Видя, как в грязновато-желтом свете каюты вновь проступают столь знакомые мне контуры, я испытал чувство нереальности происходящего — настолько странно мне было видеть, что эти символы военных действий, которые я столь долго вопрошал в глубине их священного подземелья, теперь лежали передо мной развернутые, дабы послужить. Фабрицио вел корабль по прибрежному фарватеру; я посмотрел на часы и, высчитав приблизительно скорость, прижался кончиком пальца к той точке на карте, где мы должны были в этот момент находиться: мы были почти напротив Мареммы. Я откинул створку иллюминатора, весь во власти того невероятного счастья, с которым ребенок пробует на ощупь механизм своей игрушки; порыв неистового морского ветра, словно свора расталкивающих друг друга за дверью собак, бросился мне в лицо, схватил за плечи; на самом горизонте, вровень с иссиня-черной пахотой, которая подбрасывала на высоту моего лица свои глянцевитые комки, охраняемые воды окружал неправильный полукруг огней, спокойных огней, напоминающих ряд поплавков невода, — мягкие, умиротворяющие огни Орсенны, похожие на открытые глаза покойника, несущие вахту на прирученном море. Винт замедлил свое вращение, над моей головой прозвучал гудок «Грозного», ужасающий и смешной одновременно, подобный реву застывшего на поляне с поднятым хоботом одинокого слона; корабль мягко развернулся, огни Мареммы опрокинулись вправо и стали быстро исчезать; остались только море и чуть более светлое по сравнению с черной водой небо.
Я смотрел на небо, едва заметно окрашенное зарей, как бы затронутое под горизонтом, около нижней его каемки, трепетанием легчайшего веера света. Мне вспомнилась первая взошедшая над Сиртом ночь. Ее неразличимые складки скрывали тогда все случайное на земле, подобно выравнивающему горы и долины туману. Орсенна переселялась, сливалась с паром и пылью звезд, по которым Фабрицио читал наш путь. Они сверкали неистощимым и ровным светом. Вновь после стольких ночей Орсенна валялась в постели своих светил, непринужденно растворялась в образах своих звезд, полностью вверенная, как какая-нибудь умершая планета, миру звездной инерции. Мне вспомнились странные слова Орландо, которые он сказал в один из тех погруженных в прострацию знойных летних вечеров, когда мы пытались глотнуть хоть немного свежего воздуха на дороге рядом с крепостной стеной; он сказал, что даже в самых мирных ночах под чужим небом слышится горячее дыхание зверя и ощущается неповторимое биение каждого отдельного сердца, тогда как в Орсенне светлыми ночами кажется, что сознание наше рождено от чудодейственного возвращения ребенка в лоно матери и что там улавливается гул других миров. Корабль качнуло сильнее, чем обычно, и шинель Марино упала рядом со мной на пол; я улыбнулся, подумав о том, как же крепко, должно быть, спит капитан в эту ночь.
«Грозный» возобновил свое равномерное, сонное движение; под моим иллюминатором, находящимся в задней части судна, вода теперь образовывала глубокую борозду, которая тянулась вдоль корпуса, отделенная от него, как от лемеха плуг. Темнота не позволяла разглядеть берег, пока еще настолько близкий, что в светлой ночи слышен был лай собаки; пастухи порой теряли и неделями не могли разыскать в зарослях высоких ильвов этих животных, которые от одиночества становились полудикими и которых потом обычно обнаруживали скитающимися где-нибудь вдоль моря. Скорбный лай поднимался высоко в спокойной ночи, прерываемый неравномерными паузами, словно он отчаянно надеялся получить из глубин этой глуши какой-нибудь ответ, какое-нибудь эхо, а ответа все не было и не было. Я узнал этот крик. Мне приходилось слышать его эхо в стенах дворца Альдобранди. То не был крик страха. То не была мольба о помощи. Он легко проносился над головами, и его не приглушали даже морские равнины. То была высокая жалоба существа, теряющего почву под ногами на берегу абсолютного вакуума. То был обнаженный вызов, возникающий на границе любой пустыни, а пустыня Орсенны была обитаемой. Из интонаций этого скитающегося плача передо мной внезапно сложилась улыбка Ванессы, ее витающая, словно над помутнением разума, улыбка черного ангела; теперь у меня уже не было сомнения в том, что я сделаю все, что мне предстоит сделать.
Я снова присел к столу и тщательно, скрупулезно стал производить на морских картах подсчеты расстояний. Хотя я и старался относиться к этой работе как к привычной и автоматической, я не сумел избежать замешательства, обнаружив, насколько же измеренные мною расстояния малы, — словно все берега этого закрытого моря вдруг взяли и образовали полукруг перед носовой частью нашего корабля и внезапно оказались чуть ли не в пределах досягаемости вытянутой руки, — и мне вдруг показалось, что я наконец подвел итог одолевшим меня в палате карт и теперь воскресшим мыслям о том, как сон Орсенны и ее расслабленная рука со временем утопили ее ближайшие границы в дальних туманах; существует некий особый масштаб действий, особый масштаб решительного взгляда, который резко сокращает растянутые мечтательностью пространства. Фаргестан воздвиг, создал сказочный потусторонний мир недоступного моря, который выглядел теперь обрывистой бахромой скалистого берега, расположенного в двух днях плавания от Орсенны. Последнее искушение, мое неодолимое искушение начинало материализоваться в этом доступном призраке, в этой спящей под уже растопыренными пальцами добыче.
Когда память возвращает меня — на мгновение приподнимая покрывало над кошмаром, который возникает у меня перед глазами из красноватого, исходящего от моей разрушенной родины свечения, — возвращает к тому ночному бдению, когда еще столько вещей было скрыто завесой неопределенности, то я не устаю удивляться той необыкновенной, опьяняющей мыслительной скорости, которая как бы жгла одну за другой секунды и минуты, и на какое-то мгновение ко мне возвращается неожиданное, как тогда, так и сейчас, убеждение, что мне была дарована милость — или скорее ее гримасничающая карикатура — проникнуть в тайну тех мгновений вдохновения, которые озаряют только великих поэтов. Еще и сегодня, когда я ищу в своей отвратительной истории если не оправдание, в котором мне отказывает буквально все, то хотя бы предлог для того, чтобы попытаться представить в более выгодном свете, словно в назидание, случившееся несчастье, меня порой на миг осеняет мысль, что в истории любого народа там и сям мелькают похожие на черные камни некие темные фигуры, обреченные стать предметом особой ненависти не столько из-за избытка у них исключительного вероломства и склонности к измене, сколько из-за того, что дистанция времени как бы наделила их участью слияния, образования единого целого с несчастьем многих или же с непоправимым деянием, полную и тяжкую ответственность за которое они, по общепринятым представлениям, похоже, несут в гораздо большей степени, чем это положено человеку. Когда взгляд останавливается на этих облаченных в тень фигурах, чьи абрисы и индивидуальные особенности время размывает гораздо быстрее и основательнее, чем остальные контуры, то всеобщая ярость отречения нам подсказывает, что она объясняется не столько гражданским порицанием, о котором бесстрастно сообщают учебники истории, — сколько неотступными угрызениями совести и что она вновь и вновь обнажает открытую рану глубоко переживаемого сообщничества; все дело в том, что сила, отталкивающая эти фигуры к краю истории, туда, где свет, падает более косо, является чем-то вроде усилия находящегося в бреду больного, у которого потребность избавиться от недуга объясняется не суровыми нравственными предписаниями, а защитой от пожирающей его кровь лихорадки. Люди этого типа, возможно, повинны лишь в том, что оказались слишком терпимы к чему-то такому, что целый народ, с мертвенной бледностью на лице бросивший их на месте событий как орудие преступления, отказывается признать осуществлением какой-то своей цели, достигнутой через них; непроизвольное попятное движение людской массы, которое оставляет их в изоляции, говорит не столько об их личной мерзости, сколько о существовании многообразного источника энергии, превратившего их на какое-то мгновение в снаряды. Будь они тенью, отбрасываемой их народом, даже и тогда они не были бы связаны столь тесно с его сокровенной субстанцией; воистину они являются его проклятыми душами; внушаемый ими полурелигиозный ужас, из-за которого они выглядят величественнее, чем на самом деле, связан с дарованным им откровением, превращающим их в своих проводников, в свои конденсаторы, способные в любое мгновение собрать рассеянные, невысказанные желания в единую, чудовищную волю. Взгляд, проходящий сквозь эти силуэты, теряется в глубинах, отбивающих охоту что-либо там прочитать; притягательная сила этих силуэтов зиждется на возникающей у нас догадке, что снизошедшая на них весть — пусть дурная — подняла их на те несколько секунд, которые стоило прожить, на высшую ступень жизни; мы танцуем, подобно пробке, в океане безумных, то и дело вздымающихся над нами волн, но вот одно из мгновений мира совершенно сознательно нашло свое завершение в них — на одно мгновение погасшая тоска возможного сделалась в них ночью, грозовой мир миллионов разрозненных зарядов разрядился в них колоссальной молнией — их вселенная, со всех сторон устремляющаяся к ним, к тому проходу, где, как мы себе представляем, глубочайшая безопасность неразрывно связана с тоской и на одну секунду стала пулей в ружейном стволе.
Оставшаяся открытой створка иллюминатора внезапно ударилась о переборку, словно судно вдруг резко изменило курс; повернувшись, чтобы ее прикрыть, я увидел, что у самого горизонта небо слегка побледнело. Ветер почти совсем спал, море постепенно успокаивалось, там и сям у самого судна на волнах покачивались большие черные бакланы. Плотные стаи горластых морских птиц буквально захлестывали корабль, подобно граду камней пролетая у меня над головой; немного наклонившись, я увидел слабо вырисовывающийся на горизонте черный зуб: то был остров Веццано. Именно тут проходил определенный капитаном Марино рубеж патрулирования; пора было подняться к Фабрицио на мостик. В этот очень ранний час — ощущение было такое, как будто находишься в каком-то подземном городе, — лабиринт коридоров оставался удивительно пустынным; бледные отсветы, словно стекающие с металлических поверхностей, уменьшали и без того слабые ореолы вокруг тускловатых ламп; мне казалось, что эти ореолы витают, подобно теням, посреди серого корабля, серого рассвета, серой воды, витают, опустошенные, в хмуром штиле раннего утра.
Фабрицио был на мостике один. Его маленькая голова с детским лицом, казалось, болталась в большом опущенном капюшоне морского плаща; осунувшиеся из-за бессонной ночи черты молодили его. Услышав поскрипывание лестницы, он обернулся ко мне, когда я вылезал из люка, посмотрел на меня, подняв брови, с выражением плохо сыгранного удивления и ничего не сказал; я догадался, что он ждал меня.
— Под скамейкой в ящике есть горячий кофе, — сказал он, не оборачиваясь, когда я подошел вплотную. — Не стесняйся, наливай себе сам, — добавил он, видя, что я не двигаюсь с места. — Зори в Сирте прохладные… Спалось хорошо?
Он с подчеркнутым вниманием всматривался в горизонт впереди корабля и говорил быстро, стремясь чем-то заполнить тишину. Он был похож на девушку, которая страшится и ждет признания, и у меня сразу стало спокойнее на душе. Я не торопясь пил свой кофе и время от времени украдкой поглядывал на него. Его всматривающийся в горизонт взгляд был не слишком суров, но в горле у него словно комок застрял, и еще его выдавали нервные движения рук.
— …Веццано!.. — сказал он мне своим гортанным голосом, быстрым жестом показывая на остров.
Вершина острова выступала из плывущего над морем легкого белого тумана — теперь, на фоне светлеющего неба, она походила на кружево с острыми зубцами.
— Нехорошая у него репутация!..
Я продолжал молчать и неторопливо отпил еще глоток кофе.
— …Но говорят, что оттуда открывается красивый вид.
Я снова посмотрел на Фабрицио краем глаза, и мне показалось, что он слегка покраснел. Корабль плыл по легкой и как бы промасленной зыби; крики морских птиц, густыми тучами сновавших вокруг Веццано, буравили зарю и с рассветом вновь вступали во владение морем.
— Возможно. Только, во всяком случае, не таким вот утром, когда вокруг летает столько грязи, — Фабрицио подбородком показал на повисший клочками от поднявшегося бриза туман. — …Ты был, видел? — спросил он с деланным равнодушием.
— Тебя, вероятно, поставили бы в известность. У меня же нет личной канонерки. Я думал, что, может быть, ты…
— Ни разу.
— Мне казалось, что у тебя склонность к морскому бродяжничеству.
— Я ни разу не видел Сирт с большей высоты, чем высота капитанского мостика. Марино любовью к разглядыванию ландшафтов не отличается, — добавил он, впервые бросая мне тот, столь хорошо знакомый сообщнический взгляд, который обычно предшествовал нашим с ним беседам за обеденным столом в каземате, начинавшимся, когда Марино погружался в свою дремоту.
— Не все же в Орсенне думают так, как он, — произнес я тоном, в который постарался вложить скрытый смысл. Мне было известно, что про полученные мною секретные послания в Адмиралтействе знают уже все.
Фабрицио снова бросил на меня быстрый взгляд. Вновь наступила пауза. Дыхание Фабрицио участилось: я догадывался, что он переваривает только что услышанную серьезную новость. Утро было наполнено криками морских птиц, которые распространялись вокруг, словно дикий аромат вольных морских просторов.
— Сейчас будем поворачивать, — процедил Фабрицио сквозь зубы, с просторечной, как у Марино, интонацией; он как бы заклинал свое собственное действие, как бы старался лишить выполняемый ритуал всякого реального содержания.
Фраза лениво постояла и замерла в тишине, такая же несущественная, как клуб дыма в воздухе; руки Фабрицио продолжали игнорировать ее до такой степени, что оставили штурвал и небрежно зажгли сигарету.
— Хорошо в море, Альдо, особенно таким вот свежим утром… — Он с наслаждением потянулся. — Что ни говори, а в Адмиралтействе все же пахнет затхлостью… У тебя с собой карты? — добавил он неторопливо, показывая на рулон, который я держал под мышкой.
Я протянул ему их, не говоря ни слова.
— Патрульная линия… — с ударением и назидательным тоном произнес он, лениво поглаживая пальцем по пунктирной линии. — Это же ведь так трудно, Альдо, определить, где она здесь; у тебя-то самого есть какие-нибудь идеи на этот счет? — продолжал он, патетическим жестом показывая в сторону открывшегося перед нами морского пространства, потому что Веццано уже остался где-то довольно далеко позади. — Вот Марино, понимаешь, он все это чувствует, это у него в крови, а мне обязательно нужны ориентиры.
— А их не так уж много…
— Вот! Ты ведь согласен со мной… По существу, все это довольно условно, — оборвал он с миной осведомленного человека, причем слова эти прозвучали в его устах настолько непривычно и комично, что от своего крайнего беспокойства я чуть было не сорвался на смех.
Опять возникла пауза.
— И все-таки нужно разворачиваться, — возобновил Фабрицио, нарочито встрепенувшись и притворяясь, что он только сейчас заметил, что Веццано остался так далеко позади.
— Это никогда не поздно, — сказал я небрежным тоном, прикуривая в свою очередь сигарету.
Корабль по-прежнему плыл полным ходом на восток; солнце вставало впереди нас, светлыми ракетами выбрасывая вверх свои лучи.
— Да, это никогда не поздно…
Фабрицио сунул руки в карманы плаща и, прислонившись к перегородке, лихорадочно дымил сигаретой.
— Решительно никогда не поздно, — заключил я, помолчав, и прислонился к перегородке рядом с Фабрицио. Стоя в этой неловкой позе, чувствуя нутром исчезающие друг за другом секунды и безвозвратно устремившееся куда-то вниз по склону время, мы оба смотрели на восходящее из моря прямо перед нами солнце, моргали и глупо улыбались. Судно резво неслось по успокоившемуся морю; туман хлопьями отлетал прочь, предвещая хорошую погоду на весь день. Мне казалось, что мы только что открыли одну из тех дверей, что открывают лишь во сне. Мной овладело испытанное в детстве, а теперь утраченное чувство легкости, от которого замирал дух; горизонт впереди нас разрывался, и на его месте возникало сияние; мне казалось, что я плыву по стремнине безбрежной реки и что я весь с головы до ног восстановлен — свобода и чудодейственная простота со всех сторон омывали мир; я видел впервые, как рождается утро.
— Я был уверен, что ты совершишь глупость, — сказал Фабрицио, положив мне руку на плечо, когда — минуты уносились за минутами, словно сажени лота, — не оставалось больше сомнений в том, что Событие свершилось. — Будь что будет! — добавил он со своеобразным воодушевлением. — Мне не хотелось бы, чтобы это произошло без меня.
Утренние часы пролетали быстро. Около десяти часов из переднего люка показалась беспечная физиономия Беппо. Его оторопелый взгляд долго скользил по линии пустынного горизонта, потом остановился на нас с детским выражением растерянности и грустного любопытства; мне показалось было, что он сейчас что-нибудь скажет, но голова снова юркнула в свою ночь, как зверек, извлеченный из норы и ослепленный ярким светом, и новость тихо потекла в глубины. Фабрицио опять сосредоточенно погрузился в карты. Сонный капитанский мостик безмятежно грелся на солнце. Теперь из переднего люка торчала уже целая дюжина голов, пристально, безмолвно, вытаращенными и неподвижными глазами рассматривающих море.
Расчеты Фабрицио совпадали с моими: если не сбавлять скорости, то можно было увидеть Тэнгри незадолго до наступления темноты. Возбуждение Фабрицио возрастало с каждой минутой. Его команды сыпались как из рога изобилия. Он приказал наблюдателю занять пост на передней мачте. Подзорная труба Фабрицио больше не покидала линию горизонта.
— Нет ничего более обманчивого, чем пустынное море, — отвечал он важным тоном на мои шутки. — А здесь это важно: прежде чем тебя увидят, лучше увидеть самому. Нужно же ведь все-таки думать о последствиях.
— Ты и о них думаешь? — отвечал я, насмешливым взглядом вызывая его на ответную реакцию.
Мы оба рассмеялись, обнажив крупные белые молодые зубы, рассмеялись хищным смехом, — так смеются накануне сражения — и пошли завтракать.
Вторая половина дня прошла для нас в каком-то исступлении. Неестественную лихорадочность действий Фабрицио можно было бы сравнить с лихорадочной предприимчивостью Робинзона на своем острове, оказавшегося внезапно во главе горстки Пятниц. Марино, Адмиралтейство отступили куда-то в туман. Еще немного, и он водрузил бы на мачте черный флаг; его беготня по кораблю, ржание его ликующего, то и дело разносящегося по палубе голоса напоминали беготню и голос резвящегося на лугу жеребенка. Экипаж, внимая этому голосу, выполнял все маневры с невероятным, навевающим смутную тревогу проворством; вибрирующие от палубы до рангоута сильные, бодрые голоса, перекликаясь, сливались в настоящий хор, раздавались лукавые подзадоривания и благодушные крики; по всему насыщенному электрическими зарядами кораблю распространялось потрескивание анархической энергии, в которой было нечто и от тюремного бунта, и от маневра готовящейся к абордажу команды; и это бурление ударяло в голову не хуже любого вина, как бы возносило кильватер над волнами, заставляло весь корабль до самого киля сотрясаться от беспричинного ликования. Содержимое котла подо мной вдруг закипело, но предупреждать кого-либо о том, что крышка приподнята, не было никакой необходимости.
Однако это лихорадочное возбуждение не доходило до меня, или, точнее, шум его доносился, словно гул бушевавшей где-то далеко-далеко внизу стихии, над которой я плыл в спокойном экстазе. Мне казалось, что я вдруг обрел способность выйти за пределы, проникнуть в мир, насыщенный упоением и трепетом. Мир остался тем же самым, и равнина пустынных вод ничуть не изменила своему естеству, и взгляд на ней терялся все так же безнадежно, как и раньше. Однако теперь над этим миром сияла безмолвная благодать. То внутреннее чувство, которое с самого детства натягивало нить моей жизни, было чувством человека, все более и более сбивающегося с пути; мне казалось, что, сойдя с большой дороги детства, где жизнь, подобно плотному теплому мотку, держала меня в своих объятиях, я незаметно утратил контакт и со временем свернул на совершенно безлюдные дороги; теряя там ориентиры, я на секунду останавливался и слышал лишь скупое и расстроенное эхо пустеющей ночной улицы. Я рассеянно блуждал по унылым равнинам вдали от главного Гула, от того непрерывного рокота большой реки, который доносился до меня как от скрытого за горизонтом водопада. И вот теперь от необъяснимого ощущения того, что я вышел наконец на правильную дорогу, простирающаяся вокруг меня соленая пустыня вдруг расцвела; подобно тому как при приближении к распростертому в ночи за дальним горизонтом городу блуждающие огоньки начинают скрещивать в разных направлениях свои усики, дрожащий от жары горизонт озарился миганием опознавательных знаков — по морю, расцвеченному солнечными лучами, словно священный ковер во время коронации, пролегла королевская дорога; мне казалось, что я вдруг получил обещание и что на меня снизошло откровение, столь же недоступное для нашего разума, как обратная сторона луны для нашего глаза; казалось, что я увидел внезапно другой полюс, тот, где дороги не расходятся, а сходятся, увидел его каким-то всепроникающим взглядом духа, столкнувшимся с нашим чувством зрения, для которого даже шар земной устроен по его образу и подобию. В поднимающихся от спокойных вод теплых испарениях возникла мимолетная красота лица Ванессы: ослепительный свет моря пылал в фокусе скрестившихся на мне тысяч взглядов — мне назначили свидание в этой опасной пустыне все те голоса оттуда, чей тембр однажды не прозвучал в моих ушах и чей шепот теперь сливался во мне, словно шепот теснящейся за дверью толпы.
Между тем уже вечерело; легкая белая дымка, заволакивающая в жаркие дни сиртское небо, рассеивалась, исчезала, возвращая воздуху его чудесную прозрачность. Косые лучи света наводили глянец на мягкое, медленное колыхание шелковистого моря; казалось, что волшебное затишье тянет по воде некое подобие шарфа, прокладывает нам дорогу сквозь волны. Корабль плыл в вечерней тишине по расцвеченному, как в большой праздник, морю; он казался крошечным, растворенным в необъятном искрении пространства, исчезающим в этом странном предвестии, в туманном предзнаменовании дымки, уже столько лет поднимающейся от моря в виде длинного, гибкого и вялого пера, медленно распускающего в воздухе свои грозовые завитки.
— Надо пойти распорядиться, чтобы уменьшили огонь в топке, — озабоченным голосом сказал Фабрицио, — а то наши клубы над кораблем смахивают на провокацию. Да и вообще до наступления ночи лучше держаться оттуда подальше, если…
Взгляд его недвусмысленно вопрошал меня. На него действовала призрачная торжественность этого уходящего дня, она отрезвляла его, и в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на глубокую задумчивость.
— Хорошо, — ответил я спокойным голосом. — Я сейчас схожу туда.
— Смотри! — сказал он бесцветным, почти задыхающимся голосом, резко сжимая мне локоть.
Прямо перед нами на горизонте поднималась, рельефно выступая на фоне уже темнеющего на востоке неба, струйка дыма. Странная, неподвижная струя была, казалось, приклеена к Восточному небу; внизу тонкая и вытянутая, очень прямая, она затем утолщалась и вверху резко обрывалась, образуя плоский, цвета сажи венчик, вяло шевелящийся в воздухе и незаметно вращаемый ветром. Этот вязкий, стойкий дым не ассоциировался с кораблем; он напоминал скорее одну из тех слабеющих струек, что поднимаются очень высоко тихим вечером над затухающим костром, и в то же время в нем угадывалась какая-то исключительная живость; форма его — зонтик, раскрытый над опрокинутым, разлохмаченным конусом, как у некоторых ядовитых грибов, — производила тягостное впечатление. При этом казалось, что растет он тоже как гриб, с невероятной быстротой овладевая всем горизонтом; через какое-то мгновение он был уже здесь; очевидно, ему удавалось долго оставаться незамеченным на фоне серого вечернего неба как раз из-за его удручающей неподвижности. Внимательно всмотревшись в ту точку на горизонте, где зарождался дым, я, как мне показалось, вдруг различил над каемкой уже начавшего образовываться тумана двойную, едва заметную ресничку тени, которую я узнал по внезапному трепету своего сердца.
— Это же Тэнгри… вон там!.. — почти закричал я Фабрицио с таким неожиданным волнением, что пальцы мои вцепились в его плечо.
Он бросил на карту лихорадочный взгляд и тоже стал вглядываться в горизонт с выражением недоверчивого любопытства.
— Да, — произнес он после паузы медленно оправляющимся от удивления голосом, словно не решаясь поверить. — Это Тэнгри. А что это за дым?
В его вопросе прозвучало то же самое чувство тревоги, которое глухо, как набат, билось и во мне тоже. Хотя само по себе наличие дыма было явлением естественным и легко объяснимым, тот факт, что он поднимался над давным-давно погасшим вулканом, сбивал с толку. Его султан, который покачивался теперь, разжижаясь в усиливающемся бризе, затемнял грозовое небо сильнее, чем ночная мгла, придавал незнакомому морю зловещий вид; он ассоциировался в сознании не столько с очередным, неведомо каким по счету извержением, сколько с дождями крови, с омытыми потом статуями, с черным знаком, поднятым на гигантском древке, дабы возвестить о надвигающейся чуме или о потопе.
— Ведь он же погасший, — прошептал Фабрицио самому себе, словно озадаченный неразрешимой для него загадкой. От его веселости не осталось и следа. До нас донеслось первое слабое дуновение поднимающегося в преддверии ночи ветра; на мостике сразу похолодало. Над нами с криками пронеслась последняя туча летящих на запад морских птиц; на опустевшем небе вокруг таинственного дыма сгущалась тьма.
— Давай остановимся, — сказал Фабрицио, резко хватая меня за запястье. — Не нравится мне этот вулкан, который вдруг решил пробудиться по случаю нашего визита… Ты знаешь, где мы находимся? — добавил он со страхом в голосе, протягивая мне карту. Место, где его палец соприкасался с бумагой, находилось далеко за красной линией, и дальше, за этим выдвинутым вперед зловещим сторожевым постом, на нас со всех сторон, словно тихая волна, надвигались берега Фаргестана.
Я посмотрел ему в глаза, и на какой-то миг в моем сердце тоже поселилось сомнение. Голос Фабрицио, наполнившийся тенями и дурными предзнаменованиями на пороге недоброй ночи, прозвучал для меня как серьезное предостережение; настроение у меня, после того как спала дневная лихорадка, было тревожное. Такое было ощущение, словно порвался какой-то покров; попятное движение Фабрицио ставило меня лицом к лицу с неприкрытым безумием начатой авантюры.
— Что скажет?..
— …Марино, не так ли? — докончил я за него чересчур ласковым голосом.
Я вдруг почувствовал, как во мне нарастает холодная злость. Фабрицио, можно сказать, рубил по живому, и до меня вдруг дошло, что я, лукавя с самим собой, всю ночь упорно заклинал это имя.
— …Весьма досадно, дружище, — просвистел я сквозь зубы, — что когда человек боится, то он прячется за имя Марино.
В этот момент я отрекся от него; только теперь все было окончательно сказано: путь освободился, ночь открылась. Фабрицио все понял, и тут произошло нечто неожиданное: он на мгновение выпустил штурвал и вдруг, как если бы он был один, перекрестился, словно отвращая святотатство.
— …Марино не боится… — прошептал он затухающим голосом.
— Прямо на восток! Полный вперед, — заорал я сквозь поднимающийся ветер в ухо Фабрицио. — Ночь нас прикрывает. А потом подбросим угля и еще до рассвета будем вне пределов видимости… — Однако мой голос словно терялся по дороге, словно замедлялись все его вибрации; он походил на человека, идущего в полусне.
— Ты знаешь, что делаешь, Альдо, — произнес он своим детским голосом, где ужас смешивался с нежностью… — Но теперь это уже совсем другое дело, — добавил он, решительно вставая. — Я должен пойти отдать кое-какие распоряжения.
С наступлением темноты экипаж занял боевые позиции. Во время этого необычного церемониала передо мной в колеблющемся свете потайного фонаря мелькали лица, на которых читалось стремление сохранять неловкое достоинство. Фабрицио вызывал матросов по одному и твердым голосом объяснял каждому его задачу; последние учения подобного рода имели место на «Грозном» в самые что ни на есть незапамятные времена, и воспоминаний о том, как в такой ситуации нужно себя держать, естественно, не сохранилось.
— Ты считаешь, что это серьезно, Беппо? — прошептал где-то внизу озадаченный силуэт.
— Занимайся своим делом, — отрезал насмешливый голос. — Кончилась вахта на конюшнях, настало время посмотреть что к чему.
— Сейчас самое время этим заняться. Похоже, они там слишком расшевелились. А море, как сказали в Синьории, море принадлежит всем. Старине «Грозному» тоже нужно немного проветриться.
Послышался гул всеобщего одобрения.
— Да нет же, деревенщина, открой сначала затвор! — проворчал кто-то отчетливо на носу, посреди приглушенного смеха.
Потом все опять стихло.
— Видел, как они раскурили свою трубку, — заключил голос где-то вдалеке. — Будет где погреться.
Фабрицио опять занял свое место рядом со мной на капитанском мостике. Он насвистывал, словно для того, чтобы приободриться в окружавшей нас темноте, но я догадывался, что в настроении этого беспечного, этого еще столь юного существа опять произошла какая-то перемена: теперь он командовал «Грозным» в условиях потенциальной опасности, и рвение команды, ее жизнерадостность воодушевили его.
— Я за них отвечаю, — сказал он мне, — так что нужно смотреть в оба. К нашему счастью, ночь будет очень темная, — продолжал он, постепенно успокаиваясь, — это уменьшает риск. Да и к тому же — тут наш главный козырь — они, скорее всего, основательно утратили привычку к любознательности.
Между тем дым уже давно растворился в черном небе. На горизонте вырисовывались тяжелые завитки больших грозовых туч, сливающихся на уровне моря с остатками мертвенно-бледного дневного света.
— А теперь скажи мне, Альдо, — вновь заговорил он с неуверенной интонацией в голосе, — это, может быть, не мое дело, но все-таки что ты хочешь разглядеть там в такой близи?
Я открыл рот, как бы собираясь отвечать, но голос замер на полпути, и в темноте на лице у меня появилась рассеянная улыбка. Он, мой брат, стоял совсем рядом со мной, но у меня не было слов, чтобы объяснить ему то, что Марино или влюбленная женщина прочитали бы во взгляде. То, чего я хотел, не имело названия ни на одном из существующих языков. Подойти как можно ближе. Не быть в стороне. Растратить себя в этом свете. Прикоснуться.
— Ничего, — сказал я ему. — Простая разведка.
Теперь судно шло с погашенными огнями в густой ночи. Луна спряталась за поднявшимися высоко в небо тучами. Фабрицио не ошибся: удача была с нами. Мысль моя летела впереди одержимо пробивающего чернильную стену корабля; мне казалось, что я ощущаю, как впереди вершина стремительно увеличивается в размерах, вырастает из поглотившей ее подозрительной темноты, и мои руки то и дело непроизвольно начинали скользить вперед, с той же нервозностью, как у человека, который пытается нащупать в темноте стену.
— Еще два часа пути, — сказал мне Фабрицио сонным голосом. — Жалко, что ничего не увидим, несмотря на полнолуние…
Я догадывался, что при всей этой его показной флегматичности нервы у него натянуты нисколько не меньше, чем у меня. Экипаж, утопленный во мраке, находился под нами и, весь насторожившись, хранил глубокое молчание, но широко раскрытые глаза намагничивали темноту: в этом ночном приближении к неведомому все судно заряжалось летучим электричеством.
Фабрицио с озабоченным видом вновь погрузился в свои карты: финал нашей экспедиции ставил перед ним трудную проблему. Подступы к Тэнгри на довольно большом расстоянии от него охраняла неровная линия плохо локализованных на карте подводных скал, и в Орсенне не забыли о потерях, понесенных ее эскадрой как раз тогда, когда она возвращалась из своей знаменитой карательной экспедиции. Я пошел и сам стал подстраховывать посты в носовой части корабля, где один из матросов как раз собирался бросать лот. Склонившись над форштевнем, я долго стоял на холодном ветру, от которого шел запах снега и звезд и который, казалось, срывался порывами с ледников недоступной вершины; я вдыхал его, пытаясь ноздрями ощутить признаки близкой земли, но ночь как будто решила никогда не кончаться; вокруг меня были только неистощимое клокотание у форштевня и этот прилетевший из другого мира ветер, эта река едкого холода, которая несла с собой поскрипывание снежных полей. Неопределенность этого блуждания по морю усыпляла меня; я позволял укачивать себя этим последним минутам покоя и чистого ожидания, и мое ничем не заполненное сознание вдруг оказалось проницаемым для тонких созвучий и необъяснимых совпадений. Казалось, что привычные земные приметы отступили куда-то далеко-далеко и что в светлой ночи то и дело перекрещиваются великие знаки. Вся моя жизнь с тех пор, как я покинул Орсенну, выглядела теперь управляемой и выстраивалась в этом ночном бегстве вперед в виде цепи символов, разговаривающих со мной из глубин тьмы. Я видел вновь комнаты дворца Альдобранди, их высокомерное ожидание, их заплесневелую и вдруг как-то непонятно проснувшуюся пустоту. За моей спиной поток извергаемого из трубы дыма рвался в ночи, как черный парус. Я видел вновь призрачный порыв нашей крепости, отраженный в бегущих под ней водах. Я думал о таинственно пробудившемся вулкане. Я стоял с умытым холодной чистотой лицом посреди размывшей все контуры ночной мглы и собирался с мыслями, всем своим слепым существом отождествлял себя со своим Часом, вверял себя чувству невыразимой защищенности.
Приблизительно в час ночи вдруг наступил покой: мы вошли в зону вулканического ветра. Нас окутала со всех сторон тяжелая, застоявшаяся влажность, корабль скользил по морю разлитого масла; в этой давящей тишине, которая, казалось, отбрасывает тень даже в средоточии ночи, на нас надвигалась огромная масса, в темноте еще более угнетающая, чем при свете дня.
— Смотри внимательно! — раздался в угрожающе спокойной тени встревоженный голос Фабрицио.
Корабль сбавил скорость, клокотание у форштевня уменьшилось, стало более светлым; вдруг очень легкий порыв теплого воздуха окутал нас медоточивым запахом дикой природы, чем-то похожим на аромат оазиса, растворенный в знойном воздухе пустыни. Ночь как-то незаметно светлела, казалось, что скопления облаков над нами стремительно распадаются, в очень черных разрывах, края которых луна окаймляла теперь молочным ореолом, засверкали первые звезды, бесконечно далекие и чистые.
— Альдо! — тихо позвал меня Фабрицио.
Я вернулся к нему на капитанский мостик.
— …Тучи рассеиваются, — шепнул он, показывая мне на посветлевшее небо. — Если сейчас появится луна, будет светло, как днем. Ты почувствовал запах апельсиновых садов? — спросил он, поднимая голову. — Мы уже почти касаемся земли… Ты хочешь плыть еще дальше?
Я утвердительно кивнул головой. У меня пересохло в горле, как при виде тела, сбрасывающего в темноте один за другим свои покровы; прильнув всеми своими нервами к этому жадному ожиданию, я уже даже не мог говорить.
— Ладно! — облегченно сказал Фабрицио, и, как мне показалось, в его голосе помимо его воли прозвучало нечто вроде ликования. — Должен тебя предупредить, что это похоже на попытку покончить жизнь самоубийством. Да хранит нас Господь…
Он приказал еще немного сбавить ход и медленно, скрупулезно, в последний раз проверил свои расчеты. Время от времени я бросал на него искоса взгляд: от сосредоточенности и сознания важности происходящего он хмурился и, как маленький мальчик, прикусывал кончик языка. Ото всех его заострившихся из-за усталости и бессонной ночи черт веяло невероятным детством, и мною внезапно овладело восторженное чувство, как после одержанной победы: еще никогда это лицо, которое я уносил с собой в свое сновидение, не жило такой интенсивной жизнью, как в этот момент.
— Ты хотел бы сейчас вернуться, Фабрицио? — спросил я, глядя на нос корабля и мягко касаясь ладонью его руки.
— Теперь я даже уже и не знаю, — сказал он с гортанным смехом, выдававшим его нервозность. — Ты сущий дьявол! — добавил он, отводя взгляд, и, даже не поднимая головы, я видел, как он улыбается. Звонкий, как от кнута, удар ливня обрушился на металлическую обшивку, полоснул по капитанскому мостику, ослепил нас, но тут же в самом центре этого мощного шквала темнота вдруг стала растворяться, словно где-то высоко над ней обрамленная абажуром лампа тонкими струйками разбрызгивала свой световой душ. Дождь сразу же прекратился, и в наступившем затишье слышалось только фырканье корабля, над которым появились легкие перья пара; ночь вдруг как бы расступилась перед форштевнем, облака стремительно, словно это был театральный занавес, раздвинулись, давая дорогу свету.
— Вулкан! Вулкан! — взвыли в унисон тридцать сдавленных голосов, да так пронзительно, как если бы корабль на что-то наткнулся или попал в засаду.
Прямо перед нами, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки — так казалось, когда голова инстинктивно откидывалась назад при виде этой страшной вершины, — из моря, словно стена, поднималось видение. Луна обрела теперь свой первозданный блеск. Справа от нас лес огней Раджеса окаймлял своим неподвижным искрением оцепенелую воду. А прямо перед нами над морем, подобно ярко освещенному теплоходу, который, прежде чем затонуть, вертикально поднимает корму, нависал, устремляясь к волшебным высотам, кусок поднятой, как крышка, планеты, вертикальный, изрешеченный, многоэтажный, усеянный разлетающимися во все стороны неподвижными, как звезды, пучками огней и снопами света. Эти огни казались освещенными окнами фасада, безмятежное, но взмывающее до самых облаков отражение которых видишь на блестящей поверхности шоссе; в свежевымытом воздухе они подступали так близко к нам и вырисовывались настолько отчетливо, что без труда угадывались и аромат ночных садов, и глянцевая свежесть влажных дорог, и сверкание проспектов, вилл, дворцов, перекрестков, а еще дальше — более рассредоточенные огни предместий, на головокружительно крутых склонах прицепившихся к застывшей лаве; в ночном мраке они взбирались все выше и выше по уступам, по скалам, по карнизам от нежно фосфоресцирующего моря к горизонтальной подвижной линии тумана, который то окрашивал все в золотистый цвет, то закрывал последние очаги света, а то вдруг невзначай, наоборот, приоткрывал один из них совсем уже высоко, там, где его появление казалось почти невероятным, — так порой, глядя в подзорную трубу, вдруг неожиданно замечаешь альпиниста, еще мгновение назад невидимого за выступом ледника. Изменчивая кромка тумана, обрамлявшая эту световую шпалеру, как бы усекала вершину сверкающей пирамиды-пьедестала, делала ее похожей на алтарь с теряющимся в полумраке ликом бога. А в вышине, высоко-высоко над черным покрывалом из пены небытия, вертикально — до боли в затылке — выступало что-то вроде прилепленной к небу непристойной, прожорливой присоски, некое подобие знака конца времен: своеобразный слабо поблескивающий голубовато-молочный рог, неподвижный и в то же время как бы колышущийся, неизбывно чуждый, запредельный, похожий на нелепый натек воздуха. Вокруг этого видения, которое притягивало к себе сверлящий уши тоскливый крик, сгустилась такая тишина, словно воздух вдруг перестал пропускать звуки или же, соприкоснувшись с усеянной звездами стеной, превратился в дурной сон с его вялыми, тошнотворными падениями, когда весь мир опрокидывается, а возносящийся над нами из раскрытого рта неиссякаемый крик не доходит до наших ушей.
— Тэнгри! — произнес, вонзая мне ногти в запястье, бледный как воск Фабрицио, произнес таким тихим голосом, словно речь шла об одной из тех редких сил, одно лишь упоминание которых уже само по себе является молитвой и которые можно лишь признавать и наделять именем.
— Держи прямо! Ближе! — прошептал я ему на ухо голосом, который показался мне каким-то неожиданно гортанным и резким.
Но Фабрицио и не собирался поворачивать. Теперь уже было слишком поздно — настолько, что позднее просто не бывает. Волшебные чары уже притянули нас к этой магнитной горе. Мы находились в состоянии необыкновенно просветленного ожидания, у нас была уверенность, что вот-вот спадет последний покров, и от этого смятенные минуты тянулись особенно долго. Пущенная нашими натянутыми нервами черная стрела корабля летела к освещенному исполину.
— Полный вперед! — кричал весь вне себя Фабрицио.
Корабль вибрировал всем своим листовым железом — нос его ежеминутно вздымал свой черный силуэт над горизонтом и над уже близкими огнями; берег надвигался на нас, неподвижно рос, подобно идущему на таран кораблю. Нет, нам уже ничего не грозило — удача сопутствовала нам, и море было пустынно; ни один огонек не шевелился перед Раджесом, который казался уснувшим. Световой занавес, ослеплявший побережье, нас защищал, он помогал нашей черной тени растворяться в ночи. Еще одна минута, минута, вмещающая в себя века и неразрывно слившаяся с этим последним рывком скорого поезда — увидеть свое собственное вожделение, дотронуться до него, раствориться в ослепительном приближении, обжечься о появившееся из моря светило.
Внезапно справа от нас, в той стороне, где находился Раджес, берег задрожал от торопливого мигания нескольких горячих вспышек. Воздух над кораблем разорвался от тяжелого, мелодичного звука, и мы услышали, как над горными долинами пронеслись, словно глухие раскаты грома, три пушечных выстрела.
Посланец
Я стоял на носу корабля, вдыхал полной грудью первую утреннюю свежесть занимающегося дня и смотрел, как растет побережье Сирта. Его плоско распростертые на горизонте желтые берега с еще тянущимся по ним туманом в сумраке угрюмого и печального рассвета казались мне еще более обездоленными, чем обычно, и окрашенными в свинцовый цвет от моего внезапного отрезвления. На сердце у меня было тяжело: мне казалось, что «Грозный» тоже отяжелел и еле-еле тянется по плоскому морю, словно у него в трюмах скопились тонны воды. Слава Богу, я вел его назад невредимым. Круто изменив направление движения. Фабрицио уклонился от залпов, а внезапно появившаяся туча укрыла нас своей тенью. Неожиданное хладнокровие наших канониров — а может быть, просто оцепенение — помешало им ответить выстрелами на выстрелы и спасло нас от худшего. Однако кое-какие детали этой короткой стычки продолжали оставаться для меня загадочными. Даже если допустить, что беспечность Орсенны в этом отношении перешла все границы, было нечто удивительное в том, что на противоположном берегу столь упорно и столь бдительно подстерегали момент. Удивительно было и то, что в ночном мраке стрелявшие даже не стали выяснять, кому принадлежит подозрительный силуэт, словно все было известно заранее. Они не предварили выстрел никаким проверочным сигналом, и еще — чем больше я размышлял о случившемся, тем более странным казалось мне то обстоятельство, что, хотя сразу взявшая нас в огневое окаймление стрельба велась с короткой дистанции, она оказалась столь неэффективной. По зрелом размышлении я понял, что чрезмерно заблуждаться относительно сноровки Фабрицио не следует: в этих подчеркнуто снисходительных предупредительных выстрелах присутствовал элемент пренебрежения и насмешки: так что чересчур покладистая стрельба, над которой в конце концов смогла с облегчением посмеяться наша команда, оставила у меня впечатление весьма неоднозначное. Я стал непроизвольно усматривать смутную взаимосвязь между циркулировавшими по Маремме слухами и этой безрезультатной пальбой. Безрезультатной? Я поймал себя на том, что покачиваю головой; как бы я желал знать, чего же все-таки хотели люди с противоположного берега.
Я с беспокойством всматривался в небольшую группу людей, заметивших нас издали и скопившихся на молу: больше всего я боялся в этот момент встретиться взглядом с Марино. Но его там не оказалось, и мне сразу стало легче.
— Эй, парень, — вынимая трубку изо рта, добродушно крикнул Джованни, обращаясь к Фабрицио, когда мы отдавали швартовы, — о какую же это ты банку руль-то погнул?
Шутка была ритуальной. Ни свет ни заря охотничье ружье уже висело у него на плече; невыразимая монотонность жизни в Адмиралтействе так и нахлынула на меня.
— Не обошлось без неприятностей, — смущенно сказал растерявшийся в присутствии своей команды Фабрицио. — Сейчас мы тебе все расскажем.
Группы растянулись по молу: люди, зябко поеживаясь, шли и беспечно бросали в воду камни. Наш небольшой отряд шествовал впереди, и я невольно прислушивался к разговорам в тех группах, куда влились люди из нашего экипажа. Смущенные и неуверенные, они не очень торопились сообщать свои новости, проявляли сдержанность: можно было подумать, что, возвратившись, они оказались не в своей тарелке. Джованни и Роберто, удивленные нашим немногословием, тоже молчали, молчание становилось все более тяжелым.
— Мы были там, — сказал я вдруг резко. — В нас стреляли. — Джованни и Роберто от неожиданности раскрыли рты, остановились и уставились на меня своими еще заспанными глазами.
— Там?.. — вымолвил наконец Джованни почти естественным голосом, вспомнив про свою знаменитую невозмутимость, которая отличала его во время проведенных в засаде охотничьих ночей, но тут Фабрицио пришел мне на помощь.
— У Альдо были на то свои основания, — сухо добавил он, отметая дальнейшие расспросы.
Эти обветренные лица как-то вдруг по-детски прониклись дипломатической сдержанностью. На них вдруг отчетливо обозначилось отставание стрелок сиртских часов: государственные соображения в Синьории все еще по-прежнему вызывали полное почитание.
— Проклятые собаки! — процедил сквозь зубы Джованни, вынимая изо рта трубку.
В голосе его прозвучала нотка подобающего сочувствия, но, к моему удивлению и к моей отраде, огорчился он гораздо меньше, чем я мог ожидать.
— Вы были там?.. — недоверчиво протянул Роберто. — Ну-ка расскажи!.. — добавил он, с заговорщическим видом беря меня за руку и с неожиданной лихорадочностью открывая дверь нашего общего зала.
Рассказ и вопросы лились нескончаемым потоком. Я чувствовал себя на удивление непринужденно. Сразу же стало ясно, что ни Джованни, ни Роберто не проявляют к моим доводам ни малейшего интереса и что нет никакой необходимости перед ними отчитываться. Мы все вместе вдруг оказались в волшебной сказке, которую торопились побыстрее прожить, а о первоначальном побуждении решили пока умолчать; при этом Роберто и Джованни вовсе не стремились разрушать чары, а, как мне показалось, склонны были сами поддаться им, старались включиться в игру и присоединиться к нам. Малейшее упоминание о Марино было устранено как помеха веселью, словно и нога его никогда не ступала в Адмиралтейство. Соединив наши руки, мы легко устраняли препятствия и мешающие нам образы, освобождали склоны, по которым нам нравилось скользить вниз. Я видел, как при упоминании о Тэнгри в глазах загоралось совершенно новое любопытство. Роберто высказал несколько критических суждений по поводу методов стрельбы. Все с проникновенным покачиванием головой сошлись на том, что стрельба без предупреждения «не имела прецедента»; Фабрицио понял, что теперь можно позволить себе все, и неожиданно изрек гениальную фразу, которой подвел итоги нашей победы:
— А ведь блестящая у тебя, Роберто, тогда возникла идея — отремонтировать крепость. Ты прямо как в воду глядел.
— Я к этим людям всегда относился настороженно, — голосом пророка согласился с ним Роберто и, делая вид, что затягивается своей трубкой, скромно покраснел от удовольствия. Я понял, что выйду из зала обеленным, мало того, овеянным славой.
— Ну что ж! Вино налито, надо его пить, — сказал Джованни с нотками веселости в голосе и поднял свой стакан. — Чего эти люди добивались, то они и получили. Могу с уверенностью вам сказать, что они на этом не остановятся!
Трубка Роберто окутала его облаком Юпитера; прищурившийся, весь светящийся изнутри от далекого провидения и от проницательной прозорливости, он наблюдал через окно за морским горизонтом. В отсутствие Марино военное командование Адмиралтейством перешло к нему.
— …Я бы не слишком удивился, если бы в ближайшую ночь они приплыли к нам с ответным визитом, — в конце концов заявил он разбухшим от секретной информации тоном. — Небо начинает заволакивать: самая подходящая пора для внезапного нападения… Только к тому-то времени я уж постараюсь принять кое-какие меры предосторожности.
— Обстановка требует этого. Адмиралтейство сейчас открыто, как какой-нибудь проходной двор… — заключил Джованни посреди одобрительного молчания, и мы энергично прониклись сознанием собственной незащищенности.
Тотчас же состоялся небольшой военный совет, за развитием которого я наблюдал, не произнося ни слова, словно завороженный исподволь нараставшей нереальностью происходящего. Роберто предложил принять ряд срочных мер. Фабрицио листал различные инструкции. Теперь клубок с нитью, к которой я привязал кусочек свинца, вырвался у меня из рук и раскручивался уже без моего участия.
Было решено оставить «Грозный» на ночь под парами, чтобы он мог отплыть в любой момент. На крепостной стене учредили ночной сторожевой пост. Условились, что Роберто, не привлекая к себе внимания, произведет во второй половине дня осмотр старой, находившейся в весьма плачевном состоянии береговой батареи, которая контролировала фарватер (крепостная артиллерия уже давно пришла в полную негодность), и проверит наличие боеприпасов. Кроме того, договорились поставить на воду одну из гниющих в лужах плоскодонок, дабы использовать ее ночью для наблюдения за подходами к фарватеру. Мы бы с удовольствием предприняли и еще более демонстративные меры, но приближающееся возвращение Марино несколько сдерживало наш энтузиазм; что же касается уже начатых нами действий по приведению крепости в боевую готовность, то в случае необходимости от них можно было легко отречься, как думали все мы, не высказывая вслух эту мысль. Так нас четверых с каждой минутой все больше и больше объединял дух сообщничества.
— Ну а все остальное капитан осмыслит, — не без коварства заключил Роберто. — Я же займусь ночным патрулированием… вместо того, чтобы подкарауливать уток!..
В непрерывных хождениях от крепости к молу и батарее день пролетел очень быстро. Теперь возбуждение перекинулось и на рядовой состав; хотя теперь, завидев офицеров, молчали более почтительно, чем обычно, и более многозначительно, обрывки услышанных там и сям суждений давали некоторое представление о тех нелепых слухах, которые в этой среде нашли благоприятную почву; впечатление было такое, что в дремлющих мозгах вдруг, словно бомба, разорвалась долго вызревавшая в монотонной жизни потребность в неожиданном и неслыханном. Раза два или даже три при нашем появлении с уст срывались вопросы, но Роберто, таинственно подмигивая, уходил от них; казалось, что эти люди своим странным, чуть ли не собачьим нюхом чуют, как в небе собирается гроза; все эти лица, как добрые, так и злые, оживлялись и взывали к новостям, как земля, страдающая от длительной засухи, взывает к дождю.
Однако и следующая ночь, и еще трое суток прошли спокойно. Возбуждение спало. Марино известил нас, что вернется в конце недели, и я видел, как Джованни возвращается после дежурства все более и более разочарованным.
— Это нужно было предвидеть, — говорил он теперь раздраженно, как влюбленный при виде собственных писем, возвращенных нераспечатанными. — У них там, на том берегу, кожа не только черная, но еще и толстая. С этими людьми можно не церемониться, — добавлял он с отвращением.
Его воображение не шло дальше подобного обмена знаками внимания. Джованни, как и все в Адмиралтействе, жил текущим моментом и видел только то, что лежит на поверхности. Незапамятная дремотность Орсенны, столь долго притуплявшая всякое чувство ответственности и искоренившая саму потребность в предвидении, сформировала особую породу детей, выросших под всемогущей старческой опекой, детей, которым даже и в голову не приходило, что какое-то событие в самом деле может произойти и иметь серьезные последствия. Коль скоро возникала возможность немного поразвлечься, то пренебрегать ею не следовало. Однако рано или поздно все так или иначе возвращалось на круги своя: к охоте на уток.
Мне же в те бурные дни не давали покоя совершенно иные заботы. Зайдя в кабинет Марино, который я занимал в его отсутствие, и принявшись перелистывать традиционную стопку служебных бумаг, я вдруг почувствовал, как пожиравшая эти дни лихорадка спала, и я точно воочию увидел перед собой — так же отчетливо, так же явственно, словно возникшее на мгновение в этой обвиняющей меня комнате лицо Марино, — все безрассудство своей проделки; на какой-то миг мне даже почудилось, что глаза мои, ослепленные этой ясностью, видят хуже и сердце останавливается. Ватная тишина этой комнаты вдруг зазвучала у меня в ушах, как морской прибой; после той безумно прожитой ночи мой поступок отделился от меня; где-то далеко-далеко с легким непринужденным гудением в путь отправилась некая машина, которую остановить теперь был бы не в силах уже никто; ее отдаленный шум проникал в закрытую комнату и, как жужжание пчелы, будил затворническое безмолвие.
— Вино налито, надо его пить, — повторял я, покачивая головой и чувствуя себя ужасно протрезвевшим. Мой взгляд упал на стопку лежавших на столе нераспечатанных писем, и я вдруг подумал, что мне нужно срочно принять какое-нибудь решение.
Сообщить в Синьорию о столь недвусмысленном нарушении предписаний было равносильно самоубийству; умолчать о нем в надежде, что все останется без последствий, означало отсрочить приговор, но тем самым он стал бы еще более неминуем: все Адмиралтейство было уже в курсе. В какой-то момент ситуация показалась мне до такой степени безвыходной, что я, почувствовав головокружение, облокотился о стол, спрятал лицо в ладони и, как ребенок, захотел сна и забвения, которые превратили бы эту ночь всего лишь в дурной сон; я старался убедить себя в том, что этот кошмар вот-вот рассеется. Мне вдруг показалось, что я нашел выход, и во мне затеплилась смутная надежда если не на прощение, то хотя бы на какое-то понимание: я решил просить у Наблюдательного Совета аудиенцию по поводу серьезного дела, обстоятельства которого я хотел объяснить устно.
В тот вечер я пошел к себе в комнату сразу же после ужина: работа над текстом обещала быть трудной, а к утру ее нужно было закончить. Я ставил на свою последнюю карту и в полной мере отдавал себе отчет в том, что игра состоится именно этой ночью. Меня могло погубить любое неудачное слово; настроение у меня было скверное, и работа моя не двигалась. Адмиралтейство вокруг меня уже давным-давно спало; лишь легкое, словно шуршание корабельного жука, поскрипывание пера да еще шелест то и дело разрываемых мною листов скрепляли друг с другом медленно текущие часы. Было уже, вероятно, часов одиннадцать вечера, когда дверь моя мягко распахнулась в тихую ночь, и я едва-едва успел поднять голову: передо мной кто-то стоял.
— Время уже очень позднее, господин наблюдатель, очевидно, слишком позднее, чтобы можно было обратиться к вам с просьбой об аудиенции, — произнес незнакомый и довольно музыкальный голос.
Мне приходилось смотреть против света, и поэтому я с трудом различал черты незнакомца. Передо мной вырисовывался вполне атлетический и вместе с тем хрупкий силуэт; в движении, которое он сделал, чтобы приблизиться к столу, промелькнуло нечто вроде пластичной и бесшумной легкости, присущей тем, кто живет в пустыне. Его исключительно простая, почти нищенская одежда ничем не отличалась от одежды лодочников, которые по воскресеньям на своих плоскодонках катают отдыхающих по лагуне. Эта одежда как-то смешно диссонировала с исключительной изысканностью голоса.
— Сейчас уже действительно очень поздно, — продолжал он, бросая взгляд на перевернутый циферблат лежащих передо мной на столе часов; я понял, что он намеренно задержал на свету свое повернутое в профиль лицо. Я вдруг вспомнил эту темную кожу и этот острый, пристальный взгляд, и сердце мое забилось: это был тот самый человек, который охранял судно в Сагре.
— …Это вам подскажет, по чьему поручению я пришел, — сказал он, читая в моих глазах и внезапно меняя тон; потом, не дожидаясь приглашения, что, однако, не выглядело невежливым, он сел, приняв благородную позу, и устало вздохнул.
Я развернул протянутую мне бумагу и не поверил своим глазам. В правом углу листка красовалась печать Канцелярии Раджеса — змея, сплетенная с химерой, — точно такая, какую мне не раз приходилось видеть на старинных, покрытых пылью договорах в Дипломатической академии. Текст удостоверял мирный характер миссии подателя и, аккредитуя его, настоятельно просил, чтобы ему, как военному парламентеру, были оказаны знаки внимания и официальный прием. Теперь, когда я пытался перечесть текст, слова прыгали у меня перед глазами: мною овладело чувство неизведанной радости и чудесного избранничества; мне казалось, что наконец-то мне впервые открылся смысл выражения «подать признаки жизни».
— Мне, значит, придется вас арестовать, — произнес я, складывая бумагу, намеренно нерешительным голосом. — Вновь полученное вами звание парламентера, насколько мне известно, не освобождает вас от ответственности за шпионскую деятельность. — Я был захвачен врасплох и в смятении неуклюже пытался добиться каких-нибудь преимуществ. — …Не отрицайте! — Я остановил его жестом. — Мы с вами уже однажды встречались в другом месте. И, насколько я припоминаю, вы не были одеты в униформу, хотя и были вооружены.
— На мне была ливрея княжны Альдобранди, — поправил он учтиво, с легким наклоном головы.
Я довольно сурово нахмурил брови.
— …Оставим это, — добавил он тотчас же, как бы извиняясь. Ему явно не хотелось настраивать меня против себя. — Давайте, может быть, лучше поговорим прямо, без отступлений? — сказал он с доброжелательной улыбкой.
И пока я смотрел на него в недоумении, он встал, не спеша вынул из кармана пистолет и положил его на стол рядом со мной.
— Вот, если вам так больше нравится, то будем считать меня вашим пленником. Мы к этому вернемся чуть позже, а сейчас давайте поговорим серьезно.
Однако я в этот момент был расположен гораздо менее доброжелательно. Незнакомец получил передо мной двойное преимущество: благодаря своей четко рассчитанной наглости и благодаря моей грубоватой реакции. Я с недовольным видом поиграл немного пистолетом.
— И о чем? — сказал я, бросая на него холодный взгляд.
Незнакомец, казалось, на мгновение задумался.
— Должен вам сказать, господин наблюдатель, — начал он с колебанием в голосе, и это как-то даже прибавило ему обаяния, — что задача моя не из легких. Взаимоотношения между нашими странами служат подтверждением того, что в жизни государств, так же как в жизни людей, могут возникать весьма своеобразные ложные положения. Причем из-за своей… особой долговечности эти положения могут существовать бесконечно долго… — Он тихо и с некоторым замешательством вздохнул. — И вот, когда мы встречаемся после… длительной разлуки, то уже не знаем даже приблизительно, что же за всем этим кроется.
— Я ведь не дипломат, — довольно сухо заметил я. — Очевидно, Синьория время от времени подводит итоги своей политики. И меня в них не посвящает. Я не ставлю под сомнение ваш мандат. Но вы, похоже, ошиблись адресом.
Я не стремился облегчить его положение. Я испытывал тайное удовольствие от собственного неопределенно-сдержанного тона, от медленного нащупывания почвы под ногами. Это давало мне более надежные ориентиры, чем все то, что он собирался мне сообщить.
— Ошибки тут нет никакой, — продолжал он, опуская на мгновение глаза. — Нам нужны вы, именно вы, — добавил он, внезапно поднимая их, и мне показалось, что улыбается он, совсем как улыбался иногда Марино: отстраненной улыбкой человека, посвященного в тайну.
— У вас по меньшей мере странная манера разговаривать.
Я чувствовал себя гораздо менее разгневанным, чем мне хотелось бы. Он извинился нарочито неискренним жестом.
— Очевидно, я недостаточно хорошо владею вашим языком. Я просто хотел сказать, что, как бы мы ни относились к этому «ложному положению», на прошлой неделе произошло событие, внесшее в него нечто новое. И вы к этому новому факту отнюдь не непричастны, менее непричастны, чем кто бы то ни было.
Он подождал ответа, которого не последовало, потом, чуть помолчав, кажется, решился.
— Итак, я резюмирую факты, делающие необходимым этот наш разговор. Орсенна и Фаргестан находятся в состоянии войны…
Он как бы повертел слово в своих выразительных пальцах, как бы попробовал его на вес, вновь бросая на меня свой затуманенный едва заметным огоньком взгляд.
— …Разве не так, господин наблюдатель? От состояния войны до военных действий в случае, который нас интересует, расстояние солидное. Распря случилась очень давно. Время, как говорят, — существо благородное. Сиртское море широкое. Обе страны, как вам известно, давно избегали каких бы то ни было встреч. Война дремала; не будет даже преувеличением сказать, что она казалась спящей глубоким сном.
И снова взгляд его остался без ответа. Он любезно выдержал паузу.
— Есть ведь такая пословица, не правда ли, «спать без задних ног», которую употребляют, когда хотят сказать, что человек спит крепким сном и чувствует себя в полной безопасности. Ну а теперь вот возникает опасение, что ей осталось спать совсем-совсем недолго…
— Вам угодно представлять дело таким образом.
— А вам угодно способствовать этому. В ночь с четверга на пятницу был замечен подозрительный корабль, крейсирующий в непосредственной близости от наших берегов. Он приплыл из Орсенны. Это был военный корабль. И командовали им вы.
— Сведения верны и получены с завидной скоростью, — ответил я раздраженно. — При том, что ночь была так темна. Так что, похоже, случившееся не было для вас неожиданностью. Не вас ли я должен поздравить с успехом? — добавил я как можно более язвительным тоном.
Он снова улыбнулся, не проявляя нетерпения.
— Мы говорим о факте; я рад, что вы не отрицаете его. О факте, серьезность которого бросается в глаза. То, что где-нибудь еще и сошло бы за недоразумение, за проявление… легкомыслия, на которое просто не стоило бы обращать внимания, в данном случае можно воспринимать только как преднамеренную провокацию, и смысл ее в сложившейся ситуации вполне однозначен.
— Ситуация! Прошло столько времени… — ироническим тоном прервал я его.
— В истории, господин наблюдатель, срока давности не существует. Ваш… визит пробудил весьма давние воспоминания. Воспоминания эти безмятежностью не отличаются. И они в любую минуту могут вновь стать… жгучими.
Он пристально посмотрел мне в глаза. Я впервые различил в его голосе что-то вроде вдохновения, какую-то неожиданно торжественную ноту.
— К чему вы клоните? — спросил я его не очень уверенным голосом.
— К посланию, которое мне поручено вручить вам, — ответил он нейтральным тоном, как бы подчеркивая, что он явился сюда лишь в качестве представителя. — Правительство Раджеса считает, что период фактического мира, столь долгое время соблюдавшегося обеими сторонами, привел со временем к установлению настоящего негласного договора о неприменении военной силы. Не его вина в том — я должен категорически подчеркнуть это от его имени, — что строгое соблюдение мира оказалось нарушенным. По вине Орсенны, совершившей военный акт в полном смысле слова, этот период теперь закончился. Соответственно Раджес отныне не считает себя обязанным придерживаться фактически — как раньше он не был обязан придерживаться юридически — неукоснительного нейтралитета… — Он помолчал секунду, а потом продолжил, более отчетливо чеканя слова: — Однако он полагает, что здравый смысл, доказательства которого неоднократно предъявлялись им на протяжении столь долгого времени, требует, чтобы, прежде чем возникла цепь неконтролируемых событий, был выслушан голос разума. Он заявляет, что его миролюбивые намерения непоколебимы. Он согласен даже допустить — поскольку во время этого вторжения не было нанесено никакого материального ущерба, — что путь к разумному урегулированию остается широко открытым, если… — Голос снисходительно задержался на этом слове. — Если будет представлено соответствующим образом подкрепленное доказательство, что за этой… выходкой не скрывалось никакого реального враждебного намерения.
— А какой ему видится форма этого «доказательства»?
— Долготерпение правительства Раджеса огромно, — уронил он с забаррикадированной улыбкой (меня стала даже немного интриговать эта его обезличенная манера намекать на власть, которую он представлял). — Ничего такого, что могло бы принять оскорбительную для вас форму, ничего такого, что могло бы походить на сатисфакцию. Оно пребывает в полной неуверенности, — прокомментировал он с немного преувеличенной теплотой. — Либо факт незначителен, либо он что-нибудь значит и в таком случае перечеркивает три века спокойствия, а то и мира. Вполне понятно, господин наблюдатель, что, столкнувшись с такой вызывающей тревогу ситуацией, правительство, как я вам только что говорил, основательно задумалось, что же за всем этим кроется.
— То есть конкретно?
— Дезавуирование, — уронил он четким голосом. — Недвусмысленное заверение в том, что это вторжение в наши прибрежные воды было невольным, случайным и не имеющим в принципе никакого значения. Обещание, что столь вредящие нашему общему спокойствию факты больше не повторятся. Само собой разумеется, — добавил он небрежно, — что вам будет предоставлено достаточно времени, чтобы вы могли связаться с Синьорией. То есть, я хочу сказать, — произнес он быстро, — тридцать дней, начиная с сегодняшнего вечера.
Возникла тягостная пауза. Я понял, что официальное сообщение закончилось.
— Возможно, что нам будет труднее послать вам ответ, чем вам задать нам вопросы, — сказал я, стараясь выиграть время. — Добраться до Фаргестана, похоже, не так-то легко.
— Ваше воображение вам подскажет, — ответил он с веселой иронией. — Мне вот, скажем, пришлось бесцеремонно ворваться к вам в дом. Раджес не сомневается, что получит гарантии, а что касается их формы и средств осуществления, то здесь вам предоставляется полная свобода действий.
Вновь воцарилось молчание. Тяжелый взгляд его слегка раскосых глаз как бы предвкушал занимательное зрелище. Складывалось такое впечатление, что он свалил с плеч некую обременительную миссию, истинное значение которой он, как это ни странно, постоянно старался преуменьшить с помощью быстрой речи и равнодушного тона. Теперь он оживлялся прямо у меня на глазах: его лицо, находившееся отныне в полной власти моего любопытства, казалось подсвеченным изнутри какой-то внезапно проявившейся жизненной силой; с ролью представителя было покончено, но складывалось такое впечатление, что эту официальную миссию он использовал лишь как своего рода увертюру, как некий предлог для начинающегося после нее доверительного разговора.
Нет, ему нечего было бояться. Отпускать его в эту минуту я не собирался. На меня снизошло невыразимое чувство покоя, чувство чудесного ожидания, связанного исключительно с его присутствием, с этим возникшим и задержавшимся на мгновение в лучах моей лампы заколдованным безмолвным видением. Мне вдруг показалось, что это я вызвал этот силуэт, явившийся откуда-то из совершенно иного мира и примостившийся по ту сторону моего стола в уютном ночном полумраке. Глаза, смотревшие на меня, говорили мне больше любых слов: я чувствовал себя узнанным и признанным.
— А если нет? — произнес я странно спокойным и как бы даже заспанным голосом.
— Если нет?
— Если этот ответ, которого вы ждете, до вас не дойдет?
Взгляд иноземца сделался пристальным; ощущение было такое, словно глаза его покрылись легкой пеленой. Силуэт, однако, оставался совершенно неподвижным.
— В полученных мною инструкциях указаний на этот счет нет, — сказал он, немного помолчав. Он поднял глаза, посмотрел на меня и слегка нахмурил брови. — Я изложил официальную точку зрения. В то же время я считаю, что и… частная беседа между нами тоже была бы небесполезна. Впрочем, тут речь может идти лишь о моем личном мнении. Хотя боюсь, что уже слишком поздно, — с вежливой нерешительностью, как бы извиняясь, произнес он.
Я протянул ему сигары и с хорошо рассчитанной небрежностью оперся на подлокотник своего кресла.
— Вечера в Адмиралтействе длинные, — сказал я, адресуя ему, к своему удивлению, почти дружеский взгляд. — Когда наносят визит… раз в триста лет, то можно не опасаться наскучить хозяевам.
Я заметил, насколько все же его жестокая улыбка была обворожительной. Это колебание в голосе, которое я невольно позаимствовал у него, придавало нам некоторое сходство, и наше общение вдруг обрело какую-то неожиданную легкость. В нашей прерываемой паузами бессвязной беседе мы вдруг стали понимать друг друга с полуслова.
— А если нет? — повторил я спокойным голосом и посмотрел ему в глаза.
— В Маремме много чего говорят, господин наблюдатель. Ваше внимание ведь наверняка привлекли слухи, которые ходят по городу.
Он произнес последнюю фразу в чуть замедленном темпе, и улыбка его вновь подчеркнуто блеснула своей неподдельной притягательностью. Тут я вдруг понял — но без гнева, а скорее даже с чувством сообщнического любопытства, — почему же все-таки полиция Бельсенцы постоянно оставалась с носом.
— Полиция тоже интересуется слухами, о чем считаю небесполезным вас предупредить. Было бы ошибкой преувеличивать ее наивность. Рано или поздно она арестует тех, кто их сеет, и тогда, уверяю вас, со слухами будет покончено.
— Вот здесь вы, господин наблюдатель, не правы, — заметил он, смущенно покашливая. — Мне не верится, чтобы вы рассуждали так же, как рассуждает обычная полиция.
— Позвольте, полиция рассуждает не так уж плохо, — холодно возразил я, — когда речь идет о том, чтобы выявить источник, который представляется мне все менее и менее загадочным, и чтобы приструнить возмутителей общественного порядка. Я не сомневаюсь, что демонстрируемые вашим правительством чувства будут оценены Синьорией по достоинству. Однако я позволю себе кое-что объяснить ей, и она убедится, что намерения и дела могут находиться в разительном противоречии друг с другом. Если бы не существовало столь настойчивого стремления взбудоражить общественное мнение, то нам и в голову не пришло бы принимать необходимые меры предосторожности, которые вызвали у вас столь явное неудовольствие.
Незнакомец рассеянно посмотрел в сторону окна и вежливо-обреченно махнул рукой.
— Я вижу, нам никак не удается добиться взаимопонимания, — сказал он, выражая всем своим видом терпение и покорность.
— Я и в самом деле не очень уютно себя чувствую, разговаривая с провокатором.
Последовавшая затем короткая пауза была не столько паузой оскорбленного достоинства, сколько паузой нарушенных приличий, возникающей, например, вместе с чувством досады, когда на мелкие звонкие кусочки разбивается какой-нибудь крупный предмет из сервиза.
— Я рад, что вы высказались, — сказал он с безжалостным хладнокровием. — Мне начинает казаться, что Раджес в своем нежелании обострять обстановку проявил чрезмерное рвение.
И он снова сделал рукой виноватый, несколько небрежный жест, словно отрезал. Все более интригующее меня выражение его лица было таким, какое бывает у игрока, который осторожно, одну за другой, открывает полученные карты.
— Оставим этот разговор, — добавил он сдавленным голосом. — А то я боюсь, как бы мы не дошли до дурной ссоры.
Он снова посмотрел на меня с открытой, почти простодушной улыбкой, какой улыбаются, когда хотят согнать недовольную гримасу с лица ребенка.
— Мне кажется, что мы теряем из виду одну весьма примечательную особенность сложившейся ситуации, — продолжал он, бросая взгляд в сторону окна. — Если мы хотим добиться взаимопонимания, то в наших интересах не впадать в то, что я назвал бы официально санкционированным недоброжелательством. Нет, нет, прошу вас, ничего не говорите! — В его голосе вдруг прозвучала неожиданная поспешность, словно он испугался, как бы я опять не перевел разговор на другую тему. — Я хотел сказать: если мы продолжим разговор на казенном языке полиции и канцелярии, то у нас не окажется необходимых слов, чтобы договориться друг с другом по поводу того, что я бы назвал, если вы согласитесь, новым фактом.
Он снова бросил на меня вопрошающий взгляд, и, поскольку я хранил молчание, его лицо вдруг осветилось тонкой и беззаботной, полной обаяния улыбкой. Теперь я заметил у него в уголке рта жесткую и суровую, как шрам, складку, которая придавала его улыбке едва заметный оттенок жестокости.
— …Видите ли, господин наблюдатель, — продолжал он, — это очень трудно: говорить и думать наперекор официальным формулировкам и четко очерченным ситуациям. Там говорится о «провокации» и о «шпионаже», а ситуация называется войной. Вот вы мне только что с некоторой долей раздражения напомнили, что чувства и дела могут находиться в разительном противоречии друг с другом. А я вот слушаю вас и в свою очередь тоже думаю о том, что иногда в разительном противоречии находятся также слова и… чувства, — заключил он, глядя на меня с веселой искринкой в глазах.
— Могу я попросить вас объяснить мне, что вы имеете в виду?
— Ну вот приняли же вы здесь меня сегодня вечером.
Незнакомец медленно обвел взглядом комнату, задерживаясь на спрятавшихся в углах пятнах тени, которые едва заметно шевелил свет лампы. Вокруг нас в уснувшем Адмиралтействе царила полная тишина; мне показалось, что комната вдруг наполнилась тем теплым вечерним уютом, пронизанным паузами взаимопонимания без слов, который сближает в свете лампы двух закадычных друзей, раскуривающих по последней сигаре. Вдалеке, за крепостью, прокукарекал петух, введенный в заблуждение, как это часто с ними случалось, сиртским ослепительным лунным светом. Мне внезапно показалось, что уже очень поздно и что звуки наших вялых голосов погружаются в незапамятный мрак и растворяются в нем, сливаясь с гулом сновидений, от которого слабо вибрируют ночи пустыни.
— Вот уж есть чем гордиться, — сказал я, тоже невольно улыбаясь. — В Сирте практически не с кем поговорить, не к кому пойти.
Я с чувством неловкости прислушался к своей упавшей в тишину фразе, внезапно пораженный двусмысленностью слов «не к кому пойти». Можно было подумать, что в присутствии чужеземца слова как бы шатаются на краю скользкого склона, готовые вдруг сообщить нечто лишнее.
— …Что вы хотели сказать, говоря про «новый факт»?
— Ну, это, может быть, слишком громко сказано. По моему мнению, господин наблюдатель, — он еще раз снисходительно выделил это слово с помощью интонации, — было бы весьма плачевно, если, глядя на изменения во взаимоотношениях между нашими двумя странами, мы стали бы судить о них лишь на основании фактов. При таком подходе нет ничего удивительного в том, что правительство Раджеса обратило внимание на некоторые не обусловленные ситуацией оборонительные мероприятия. Мне кажется, что в последнее время в Адмиралтействе много строили, — пояснил он с улыбкой. — Но при этом, если глядеть отсюда, как это имею возможность делать я, то складывается впечатление, что кое-какие оборонительные сооружения скорее, наоборот, оказались… разрушенными.
Его взгляд скользнул из прищуренных глаз в мою сторону, как лезвие ножа.
— Орсенна будет благодарна вам за ваш диагноз, — усмехнулся я смущенно. — И попросит у вас извинения за то, что тем не менее пребывает в добром здравии.
Он не прореагировал на мою иронию.
— Я достаточно пожил в вашей стране, господин наблюдатель, — сказал он серьезным и грустным голосом, в котором теперь не было никакого стремления обмануть меня, — и я полюбил ее. И коль скоро я полюбил ее, то мне захотелось, чтобы у вашего народа была счастливая старость, то есть чтобы он не страдал от избытка воображения. Это нехорошо, когда воображение вдруг посещает народ, достигший глубокой старости.
— Вы слишком долго жили в Маремме, — сказал я, снова заставляя себя рассмеяться. — Я знаю, что наш славный городок немножко лихорадит. Но думаю, что если кого-нибудь ходящие там россказни и способны ввести в заблуждение, то только не вас.
— Есть риск, что эти россказни скоро обретут почву: вот что я хотел ответить на ваше «а если нет?». Лихорадка бывает заразной, — сказал он, как бы взвешивая свои слова, и поднял на меня глаза. — Постороннему наблюдателю это… наваждение может показаться просто забавным, но когда оказываешься сам объектом подобного чувства… избранности, то в конце концов начинаешь ощущать себя очень неуютно.
— Вам что же, угодно черпать свои аргументы из неконтролируемых слухов и на их основании обвинять нас в каких-то умыслах?
Гость медленно покачал головой.
— Я никого не собираюсь обвинять, — произнес он, четко артикулируя каждый звук. — Я пытаюсь предвидеть. Я пытаюсь вместе с вами угадать возможные варианты развития между нашими двумя народами новых взаимоотношений, которые, вы, очевидно, согласитесь со мной, я назвал бы пылкими.
— Вы с ума сошли! — бросил я ему и почувствовал, как краска заливает мне лицо.
— Я стараюсь облегчить вашу задачу, — сказал он, потупив взор, с хорошо рассчитанной небрежностью. — Я испытываю к вам глубокую симпатию. Мне известно, насколько иногда бывает трудно сделать… как бы это поточнее выразиться?.. — И снова, в который уже раз, блестящий взгляд устремился на меня из щелей его раскосых глаз. — …Насколько иногда бывает трудно объясниться. Я знаю, что правительство Раджеса сильно ошибается, — добавил он торопливо, стараясь не дать мне вставить слово, — в своей оценке инцидента, послужившего поводом для нашей встречи… — Его проницательный и иронический взгляд преследовал меня теперь, как муха, которую никак не удается прогнать. — …Что касается меня, то я убежден, что это вторжение не было… враждебным.
— Действительно, не было, — произнес я срывающимся, вышедшим из-под контроля голосом.
Он опустил глаза и, казалось, собирался с мыслями. От лунного света, выбеливавшего окно, ореол вокруг лампы казался теперь бледным. Ночь открывалась перед нами, словно какая-нибудь поляна; она плыла над безжизненным временем, таким же безжизненным, как время, растягивающее бессонницу; и снова где-то в глубине неправдоподобного света, похожего на слишком спокойную зарю, пропели петухи.
— Вы сообщите об этом Раджесу? — произнес незнакомец нейтральным голосом.
— А если было?
— Если было? — Он машинально повторил вопрос. — …Если было… Что же! Тогда можно не сомневаться, тогда все встает на свои места. Мы просто подумали, что у Орсенны вдруг на какое-то время возникло что-то вроде… бессонницы, — продолжал он тоном, в чрезмерной и холодной вежливости которого было нечто оскорбительное. — А так я действительно не вижу достаточных оснований, почему бы ей снова не погрузиться в сон. Трагический конец — это удел не для всякого, — добавил он с резким, неприятным присвистом в голосе.
— Конец? — спросил я оторопело. Это слово промелькнуло в моем онемевшем мозгу и глухо, как палец по двери, ударилось о мою легко проницаемую барабанную перепонку.
— Вы это прекрасно понимаете, — прошептал он, почти приподнимаясь с кресла и приближая свои губы к моему уху. — Я пришел сюда, чтобы помочь вам понять это. Вам так дешево отделаться не удастся… Я высоко ценю проповеди святого Дамаса, — произнес он, впиваясь в меня своими сверкающими глазами, в то время как я зачарованно, словно человек, читающий по губам немого, следил за четкой и изящной артикуляцией его рта, — но тут, как мне кажется, немного не хватает твердости в речах.
— Куда вы клоните? — бросил я ему, привставая в свою очередь. Я весь побледнел.
— Туда, куда вы идете, — ответил он своим все таким же спокойным, слегка музыкальным голосом. — И где мы терпеливо поджидаем вас. Туда, где вам в день вашего приезда сюда было назначено свидание с нами. Когда-нибудь вы еще будете благодарить меня за то, что вам так повезло: теперь вы будете идти туда с открытыми глазами.
Он слегка поклонился, и я понял, что он собирается уходить.
— …Запомните вот что, господин наблюдатель, дабы поразмышлять над этим во время ваших морских прогулок при луне: для народов существует лишь один способ… интимных отношений.
— Но скажите же, по какому адресу направлять вам наш ответ? — вскричал я, словно только что проснулся, в тот момент, когда он уже шел своим широким, пружинистым шагом к двери.
Узкие глаза на секунду обернулись ко мне из глубокой тени.
— Не надо выносить себе приговор. Его не будет, — сказал он спокойным голосом, и дверь снова тихо затворилась в ночи.
Я потом еще долго сидел за своим столом совершенно неподвижно. Медленное, бесшумное, как у рептилий, колыхание тени, из которой он вышел и куда вернулся, гипнотическое воздействие на меня его глаз и голоса, очень поздний час — все это позволило бы мне отнести случившееся на счет галлюцинации, позволило бы, когда бы передо мной на столе не лежала охранная грамота, испачканная красной краской большой печати Раджеса, похожая на те роковые договоры, что подписывают собственной кровью. В моем опустошенном сознании звучала вместе с последними словами чужеземца какая-то зловещая нота; теперь, когда исчезло это присутствие, наполнявшее меня столь интенсивно, как не наполняло еще ничто и никогда в моей жизни, мне показалось, что в комнату сквозь какие-то щели проскользнул черный холод заканчивающейся сиртской ночи, и я машинально подошел к приоткрытому окну. Передо мной простирался лишь выбеленный лунным светом пустырь; в светлой ночи до меня доносилось цоканье копыт удалявшейся по шоссе вдоль лагуны лошади. У меня возникло такое резкое желание кликнуть незнакомца, что я с трудом сдержал его; цоканье уже сливалось с невнятным шумом ночи; резкое звучание только что попрощавшегося со мной голоса вновь обожгло мне ухо; догонять этот мгновенно растворившийся в тени силуэт было бесполезно. Я провел рукой по лицу: оно было покрыто холодным потом; у меня закружилась голова, и в состоянии опустошенности я прилег на кровать. Клочки еще сохранившихся во мне мыслей неслись в неподвижной ночи за незнакомцем; на следующее утро, едва проснувшись, я подумал, что мне нужно срочно повидаться с Ванессой.
Когда ранним промозглым утром я вышел из машины и окликнул одного из дворцовых лодочников, которые в любое время дня находились на пристани, то мне пришла в голову мысль, что Маремма в этот день как будто проснулась раньше обычного. Ночью я практически не спал; тонизирующая свежесть морского утра и быстрая езда позволили мне на время забыть о состоявшейся ночью беседе. Лихорадочная потребность во встрече с Ванессой стала такой всепоглощающей, такой слепой, что, собираясь потребовать от нее, чтобы она сняла с себя постыднейшее из подозрений, я испытывал, быть может, не столько тоску неуверенности, сколько радость оттого, что, добавив к другим нашим общим подозрительным тайнам еще и эту, я стану ей нужнее. В Маремме был базарный день; уже столько раз, покидая на рассвете дворец и полусонно покачиваясь в лодке на сомнительного цвета воде, изгаженной овощными отбросами, я вдыхал сочный и одуряющий запах сиртских арбузов, которые привозились сюда и складывались по краям пристани в дымящиеся от тумана пирамиды; уже столько раз я внимал крестьянскому шлепанью босых ног по мокрым плитам; однако на этот раз утренний шум голосов, более прерывистый и более приглушенный, чем обычно, напоминал не столько гомон торгующихся людей, сколько тревожный ропот толпы, скопившейся на месте несчастного случая. Мне показалось, что остановившаяся на набережной машина Адмиралтейства на этот раз привлекает к себе еще более обостренное внимание, чем в другие дни; оставив на ветру свои скудно украшенные лотки, люди быстро образовали группу на некотором расстоянии. На лицах как бы застыло смешанное выражение озабоченного любопытства и уважения, и по их серьезному виду, как-то сразу их состарившему, я понял, что новость о нашей ночной экспедиции сюда уже просочилась.
— Что-нибудь случилось, Бельтран? — спросил я у лодочника, подбородком показывая ему на озабоченные лица, которые обрамляли теперь причал, напряженно следя за нами глазами.
— Несчастье, ваше превосходительство, — опуская глаза, сказал он с выражением крестьянской покорности в голосе, появляющимся у простых людей в момент скорби, и поцеловал крест, из тех, что сиртские рыбаки носят на веревочке на груди. — Все было предсказано, — добавил он, старчески покачивая головой. — На то, значит, Божья воля. В Святом Дамасе с прошлой недели молятся день и ночь.
Как я и ожидал — и, войдя, сразу же убедился, что не ошибся, — от царившего в городе возбуждения дворец Альдобранди не преминул взять свою львиную долю. Коридоры и анфилады комнат, через которые я проходил, были уже наполнены суматохой хлопающих дверей, торопливых шагов, шушуканий по углам, что вызывало ассоциации со штаб-квартирой в каком-нибудь осажденном городе или с сутолокой, царящей во дворце умирающего монарха, — этим растерянным метанием между прописанными костоправом лекарствами и регентскими комбинациями. Я ускоренным шагом проходил сквозь группы, и уже в который раз грудь моя наполнялась привычным ощущением, что здесь горение жизни происходит более интенсивно, чем где-либо в другом месте. Однако Ванесса еще не выходила, и ее горничная дремала от усталости перед закрытой дверью.
— Я приехал довольно рано, Виола, — сказал я, с улыбкой кладя руку ей на плечо. — Сможет княжна принять меня или нет?
— Слава Богу, — сказала она, восторженно хватая меня за руки. — Она ждет вас вот уже два дня.
Когда я вошел в комнату, Ванесса как раз заканчивала одеваться. Я был поражен ее бледностью, бледностью почти демонстративной, связанной не с усталостью и не с болезнью, хотя и было заметно, что в последнее время она явно недосыпала; казалось, что эта бледность снизошла на нее в торжественную минуту, как своего рода благодать: она словно облачилась в нее, как в парадную форму. На ней было черное, очень простое и строгое платье с длинными складками, а распущенные по всей спине волосы и сверкающие белизной над платьем шея и плечи подчеркивали ее прелесть; она была красива мимолетной красотой актрисы и одновременно высочайшей красотой трагедии; она походила на королеву, стоящую у подножия эшафота.
— Вот он, герой дня, — сказала она, улыбкой сдерживая возбуждение и идя навстречу мне через всю комнату своей скользящей упругой походкой. — Ты так долго не шел! — продолжала она с тихим придыханием, обхватывая мою голову обеими ладонями и поднимая мои глаза к своим глазам, к глазам, которые отвечали за меня и признавались мне во всем. — Я ждала тебя ночью и днем.
Внезапно почувствовав приступ раздражения, я слегка отстранился от нее. Ванесса прекрасно осознавала силу своего оружия, и этот слишком резко начавшийся поединок заставил меня ощетиниться.
— Я путешествовал, — сказал я немного суховатым голосом и присел на край кровати. Ванесса, не говоря ни слова, присела рядом. Взгляд мой упал на картину, так поразившую меня в первый вечер. — …Ты ведь знала, что у твоих друзей из Раджеса все еще есть пушки? — сказал я, непринужденно и не без самодовольства показывая глазами на картину. — Я даже думаю, что, прицелься они немного получше, тебе бы пришлось ждать меня здесь еще долго-долго.
Ванесса продолжала молчать.
— …Я был там, у тебя есть все основания быть довольной, — продолжал я, не скрывая своего дурного настроения. — Мне кажется, я предоставил твоим гостям захватывающий сюжет для разговора.
— Я не просто довольна, я счастлива, — сказала она и вдруг, схватив мои руки, стала осыпать их пылкими поцелуями. — …Орсенна вспомнила о своих воинских доблестях. Я горжусь тобой, — добавила она с горячностью, которая, однако, не рассеяла всех моих сомнений. В ее словах была малая толика пафоса, которого раньше я у нее не замечал; хотя, может быть, я просто слишком чутко прореагировал на то смущение, которым неизменно сопровождаются проявления женского патриотизма.
— Кто говорит о новых воинских доблестях? Мне, Ванесса, кажется, что все здесь прямо-таки живут твоим воображением, — добавил я холодно. — Должен предупредить тебя, что салоны дворца Альдобранди забежали вперед в этой истории. Не было ведь даже никакой перестрелки. Я запретил давать отпор. — Говоря это, я, конечно, немного сместил акценты; просто я вдруг оказался в роли всадника, чья лошадь внезапно закусила удила.
Ванесса дважды посмотрела на меня с выражением недоверчивого удивления, словно не веря своим глазам.
— Разумеется, Альдо, ты был так осторожен в этом деле… Ты прямо само благоразумие, — покладисто ответила она, словно успокаивая уязвленное самолюбие капризного ребенка. — Должна тебе сказать, что здесь все восхищаются тобой, тем, что ты проявил такое самообладание.
— Все? — удивленно спросил я, чувствуя, насколько ей не идет это апеллирование к прописным истинам. — Все? Но, Ванесса, что ты хочешь этим сказать? В Маремме же не произносится ни единого слова, которое исходило бы не от тебя.
Ванесса раздраженно вскочила и вдруг почуяла дичь, как я шутливо называл это в минуты нашей близости: у нее при этом был такой вид, словно она ловит дуновение ветра; она принялась расхаживать своими крупными и эластичными, как у львицы, шагами, отчего комната вдруг сразу уменьшилась в размере. И снова у меня появилось ощущение, на этот раз еще более сильное, что с того самого момента, как я вошел, она не переставала быть на сцене.
— Ты ошибаешься, Альдо, — сказала она наконец. — Еще вчера это было действительно так, но сегодня я утратила свою власть. Все это теперь ускользает от нас, — добавила она как-то очень спокойно.
— А мне кажется, что ничего до настоящего времени от тебя не ускользнуло. Это ведь ты захотела, чтобы я отправился туда. Ты дала мне понять.
Ванесса остановилась у окна и задержала свой задумчивый взгляд на канале.
— Может быть, — сказала она, равнодушно пожимая плечами. — Теперь это уже не имеет значения.
— Не имеет значения… Через два дня возвращается капитан. И мне придется что-то ему отвечать, — возразил я изменившимся голосом. — Ты думаешь, он так легко предаст случившееся забвению?
— Ты, Альдо, придаешь своей персоне слишком много значения, — заметила она далеким голосом. — В тебе нет смирения. Ни ты, ни я не значим так уж много в этом деле, — добавила она непререкаемым тоном.
— Я был там, Ванесса, и ты этого хотела, — наклоняясь к ней, сказал я тихим, терпеливым голосом, как говорят, когда пытаются привлечь внимание засыпающего человека.
— Нет, Альдо. Там был некто. Потому что не было другого выхода. Потому что пришло время. Потому что кто-то так или иначе должен был там побывать… Ты заметил, — сказала она более тихим голосом, хватая меня за запястье, — как внезапно все меняет свой смысл, когда что-то должно появиться на свет?.. Марино тебе никогда не рассказывал про свое кораблекрушение?
Она бросила на меня взгляд сбоку, и в ее голосе снова появилась та задушевная и одновременно ироническая интонация, которая непроизвольно возвращалась к ней, когда она говорила о капитане.
— Это такая вещь, которую трудно себе представить, правда ведь, Альдо? При его-то страсти к сельскому хозяйству. Но очевидно, о людях никогда не нужно судить по их внешнему виду, да и к тому же это было, может быть, в какой-то предшествующей жизни. Когда он показывает руку, где не хватает двух пальцев, потерянных во время этого приключения, то почему-то начинаешь невольно думать о нем — как бы тебе сказать? — как о человеке, на котором стоит клеймо.
Она рассмеялась своим жемчужным смехом.
— Ни у кого в Сирте нет такого послужного списка, как у Марино, — сухо возразил я.
— Не сердись, Альдо… — И снова легкий смех, в котором было что-то хищное — явно в мой адрес. — Ты же знаешь, как я его люблю. Он мой старый друг. Так вот! Вернемся к этому кораблекрушению… Альдо! Не знаю, можешь ли ты себе представить Марино в роли морского волка, который стоит со скрещенными руками на палубе тонущего корабля, — бросила она мне, словно только что невзначай заметив забавную невероятность нарисованной ею картины. — «Сначала женщины и дети…» Ну да, я представляю себе это достаточно живо.
Я улыбнулся в свою очередь, решив, что будет лучше, если я включусь в ее игру.
— В нем есть какая-то естественная величественность, которую ты недооцениваешь.
— Ни женщин, ни детей не было, только экипаж: это был военный корабль. Вода поднималась, и люди, отступая шаг за шагом, изо всех сил цеплялись за тонущее судно: разжать руки, говорил мне капитан, их не заставил бы никто, даже под страхом топора. Вода поднималась очень медленно, корабль не торопился тонуть; он наткнулся в тихую погоду на невыявленный риф. Кажется, не было слышно никакого звука удара, и Марино говорит, что картина была совершенно невпечатляющая, скорее даже мирная; такое было ощущение, как будто сделали подводную пробоину в старом проржавевшем корпусе, чтобы закрыть им вход в порт. И вдруг раздалось громкое «бух». Марино оглянулся: на выступающей из воды части корабля никого не было — все оказались в воде, барахтались в ней или уже утонули, — и тогда он стремительно бросился в воду, — закончила она с какой-то жадностью и напряженностью в голосе, вся погруженная в это видение.
— Крысы тоже покидают тонущий корабль, — сказал я, пожимая плечами. — Это говорит лишь о том, что у человека нет нюха на катастрофы.
— Ты в этом абсолютно уверен?.. А впрочем, неважно, совсем не это показалось мне странным в этом деле. Меня поразило то, — добавила она, рассеянно направляя взгляд в сторону окна, — что, очевидно, все-таки существует какая-то очередность знаков. Вот, скажем, момент, когда человек еще цепляется, а вот уже другой момент, когда он прыгает в море, увлекая за собой туда стадо баранов. Да, — продолжала она, как бы созерцая в самой себе некую спокойную очевидность, — наступает такой момент, когда человек прыгает, причем прыгает не от страха, не из-за какого-нибудь расчета и даже не ради того, чтобы выжить; просто вдруг мы слышим голос, роднее которого у нас нет на всем свете: ведь, потонув вместе с кораблем, окажешься заживо привязанным к трупу — это даже пострашнее, чем умереть; наступает такой момент, когда человек вдруг осознает, что он готов согласиться на что угодно, только чтобы оторваться от этого обреченного и пахнущего смертью предмета… У подступающей воды много терпения, — задумчиво сказала она. — Она может и подождать. Жертва всегда сокращает ей путь.
— Вот, значит, зачем ты приехала сюда, — сказал я, резко вставая. Мысли мои начали путаться. Мне казалось, что слова, вылетающие из ее уст, не раз случалось произносить и мне самому, но теперь они вызывали у меня гнев и отвращение: через них, словно через прикосновение какой-нибудь дерзкой руки, в меня проникало бесстыдство Ванессы, отчего во мне вновь крепло ожесточение, которое в конце концов прорывалось градом нежности.
— А мне кажется, что и ты тоже приехал сюда. Причем проделав даже больший путь, чем я. — Она с гордой улыбкой подняла на меня глаза, и тут же я невольно почувствовал, что расцветаю под нежным ливнем ее влажной улыбки.
— Одному Богу известно, что из всего этого выйдет, — сказал я, задумчиво глядя на нее. — Боюсь вот только, не совершили ли мы с тобой глупость, — добавил я, беря в свою очередь ее за руку, чтобы удостовериться, что она меня не покидает.
Ванесса пожала плечами, как бы прогоняя некую навязчивую мысль.
— Ты хочешь, чтобы я испытала угрызения совести? — Она повернулась ко мне лицом, и глаза ее засверкали спокойным блеском. — …А ведь Орсенна не первый день знает нас, — сказала она сквозь сжатые зубы. — Мои близкие всегда были шпорой для нее, а она всегда была изнемогающей лошадью у них между ногами, из которой выжимают последний галоп. Ничего для себя! Ничего и никогда! Только сильнейший, великолепнейший рывок, только максимум возможного в каждое из мгновений… Неужели же всадник должен извиняться перед животным, — добавила она с жестокой иронией, — за то, что сумел заставить его выложиться до конца.
— Надо сказать, не слишком удачные сравнения ты выбираешь, — заметил я холодно. — К тому же существует пословица, которая настоятельно рекомендует не стегать мертвого коня. Орсенна спит спокойным сном. Зачем ей вспоминать то, о чем она забыла?
— Вот-вот! Давай еще помоги ей просунуть голову в кормушку, — сказала она с подчеркнуто презрительной улыбкой. — А Марино тебе подсобит.
Она отвела в сторону свой лик разгневанного ангела, и снова пол комнаты зазвучал от ее размашистых шагов воительницы.
— Безумие?.. — произнесла она, внезапно останавливаясь и как бы обращаясь к самой себе. — Разве можно назвать безумцем человека, который в своем черном кошмаре пытается нащупать рукой стену? Ты думаешь, здесь было бы столько разговоров — а разговоры здесь, похоже, идут, — если бы в ушах не глохло от того, что эхо здесь, сколько ни вслушивайся, не возвращается.
— Вот тут-то ты, может быть, и ошибаешься, о чем я как раз хотел тебе сказать. Кажется, теперь у стены уже появилось эхо. До меня, если хочешь знать, одно такое эхо уже донеслось.
Взгляд Ванессы стал пристальным, а веки ее начали слегка дергаться. При виде этого обезоруженного жадным любопытством лица я вдруг почувствовал себя раскованнее.
— Эхо? — спросила она недоверчиво.
— Ты по-прежнему продолжаешь свои морские прогулки? — спросил я безразличным тоном.
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего особенного. Просто мне хотелось бы знать, в полном составе сейчас твой экипаж или нет?
Возникла небольшая пауза.
— Откуда тебе известно? — спросила наконец Ванесса удивленно.
— Тебя, вероятно, интересует, куда он отправился? Так получилось, что я мог бы тебя немного просветить.
Ванесса посмотрела на меня неуверенно и смущенно.
— Отправился? — повторила она недоверчиво. — Не хочешь ли ты сказать?..
Она резко вздрогнула, словно пораженная внезапной догадкой.
— Туда. Вот именно! — бросил я ей с тревожной надеждой увидеть у нее на лице что-то вроде отвращения, но тщетно. Глаза Ванессы снова слегка сощурились, приняв опасное выражение хитроватого и веселого сообщничества, а потом стали лучезарными. — Ванесса! — вскричал я, хватая ее за руки и тряся их, как если бы увидел у нее признаки безумия. — Ванесса! Ты понимаешь, что это значит? Понимаешь, кого ты приютила, кого покрывала?!
— Ты что, пришел требовать у меня отчета? — сказала она, с презрительным хладнокровием глядя мне в глаза. — Естественно, я ничего не знала, — продолжала она, пожав плечами. — Я думаю, моего слова тебе будет достаточно.
— Естественно, ты не знала. Ты не знала. Но может быть, ты подозревала.
Ванесса разразилась оскорбительным смехом.
— «Ты подозревала!..» — продолжала она, вызывающе передразнивая меня. — «Ты подозревала…» Клянусь, Альдо, это уже прямо настоящий допрос. Ты не можешь себе представить, как ты мне нравишься в роли великого инквизитора.
— Ты все-таки ответишь, — сказал я с холодной злостью в голосе, вставая и грубо хватая на лету ее запястье. — Уверяю тебя, Ванесса, я не смеюсь. Ты подозревала его?
Ванесса дернула головой в мою сторону.
— А если бы даже и так? — сказала она тихим и отчетливым голосом. — Пожалуй, что да, если тебе так хочется знать.
Я резко выпустил ее стиснутую в моем кулаке руку и почувствовал, что тяжело опускаюсь в кресло. У меня кружилась голова. При этом я испытывал не отвращение и не гнев, а скорее какое-то неопределенное, боязливое изумление, словно вдруг увидел шагающего по морю человека.
— Ты должен привыкнуть, Альдо, — сказала Ванесса сзади меня чистым голосом. — Не в готовом же виде все падает нам в руки.
— И ты смогла выполнить такую работу? — недоверчиво протянул я.
Я быстро обернулся к ней, удивленный тем, что она ничего не отвечает. Но Ванесса даже и не слышала меня: она разглядывала поверх моей головы висящее на стене полотно.
— Частенько ты его созерцаешь, не так ли? — продолжил я ядовитым тоном. Я встал и шагнул к ней, но тут же неловко остановился. Ванесса не смотрела на меня, и я невольно оказался во власти колдовских чар этого призывающего к молчанию портрета.
— Я нередко спрашиваю себя, о чем он все-таки думает, — сказала наконец Ванесса глубоко рассеянным тоном. — Да, я часто себя об этом спрашиваю. Ты угадал, Альдо, — сказала она, делая еще один шаг, словно зачарованная, — иногда я даже вставала ночью, вставала, чтобы посмотреть на него. И я вот спрашиваю себя: были ли мы с тобой когда-нибудь так же близки, — продолжала она тем голосом, от которого у меня всегда перехватывало в горле. — Знаешь, летом здесь иногда бывает ночью жарче, чем днем, и тогда кажется, что Сирт как бы вымачивается в собственном поту. Так вот, я вставала босыми ногами на плиты, надевала твой любимый белый пеньюар, — она обернулась и с подстрекательским огоньком в глазах посмотрела на меня, — и нередко изменяла тебе, Альдо; это было настоящее любовное свидание. В эти часы Маремма кажется по-настоящему вымершей; она не просто спит, она превращается в город, у которого перестало биться сердце, в город, подвергшийся опустошению; если посмотреть в сторону бухты, то лагуна выглядит как сплошная соляная корка, и кажется, что ты видишь лунное море. Такое ощущение, словно во время твоего сна планета остыла и ты встаешь посреди ночи, которая лежит вне времени. Кажется, что ты видишь то, во что превратится земля, — продолжала она, охваченная восторгом провидческого озарения, — когда не будет больше ни Мареммы, ни Орсенны, когда не останется даже их развалин: только лагуна, да песок, да звезды, да ветер пустыни. Такое ощущение, что ты, пройдя в одиночку сквозь века, теперь дышишь, но только более глубоко, более торжественно, вдыхая то, что было когда-то миллионами угасших и сгнивших дыханий. У тебя, Альдо, никогда не было таких ночей, когда бы тебе снилось, что земля вдруг стала кружиться для тебя одного, что она крутится все быстрее и быстрее и что ты в этой бешеной гонке бросаешь одну за другой лошадей с более слабыми легкими? Эти лошади, эти животные не любят будущего — ну а тот, кто чувствует, что у него в груди бьется сердце, созданное для такой захватывающей дух гонки, совершает преступление против своих глаз и своего инстинкта тогда и только тогда, когда пытается сдержать свой порыв. Думать, что люди живут вместе, видя, как они живут рядом друг с другом, — значит никогда не задумываться о пределах досягаемости их взглядов. Есть такие города, которые некоторым кажутся проклятыми только потому, что они зародились и выросли словно лишь для того, чтобы закрывать дали, необходимые этим людям, как воздух. Это комфортабельные города; вид на мир открывается оттуда бесподобный — как белке из ее колеса. Что же касается меня, то я люблю только такие города, где на улицах чувствуется дуновение ветра из пустыни; были такие дни, Альдо, когда я была страшно зла на Орсенну: там пахнет исключительно болотом, и иногда мне даже приходила в голову мысль, что она мешает земле вращаться.
Когда смотришь на какой-нибудь портрет ночью, при свете свечи, то возникает странное чувство. Кажется, что из глубины хаоса, из глубины тени, растворившей все лица, возникает одно четко очерченное лицо, которое торопится всплыть на поверхность, торопится придать себе выражение благодаря соприкосновению с этим малым, бледным подобием жизни, вторично отдаляющим свет от мрака; оно словно отчаянно взывает, словно пытается в самый-самый последний раз заставить узнать себя. Тому, кому случалось лицезреть подобное видение, довелось, как говорят, хотя бы один раз в жизни наблюдать, как тень становится обитаемой, как ночь оживает. С призвавшим меня сюда человеком я связана узами крови и происхождения, но я чувствовала, как, невзирая на позор, невзирая на бесчестье, распределяемые людьми порядка ради так же произвольно, как награды во время войны, эта его особая, неповторимая улыбка неодолимо влечет меня, влечет к его безмятежной тайне, против которой бессильны и ханжеский суд, и само мнение города.
Я хотела бы, Альдо, чтобы ты понял здесь нечто важное. Когда я была маленькой, отец рассказал мне одну поразившую меня историю, а сам он услышал ее от моего двоюродного дедушки Джакомо Осквернителя, того самого, который возглавлял мятеж в Сан-Доменико во времена великого восстания ремесленников. Что поделаешь! — прервалась Ванесса, устремляя на меня дерзкую, полуироническую улыбку. — Генеалогия семьи Альдобранди представляет собой нечто вроде постыдной Готы вероломных крамол, как говорят наши книги по истории. Когда Джакомо со своими вооруженными бандами овладел, как ты, может быть, припоминаешь, зданием Консульты, где они смогли продержаться всего несколько часов, ему удалось захватить архивы полиции и обнаружить полный список наемных шпионов Синьории внутри народной партии. Тут же снарядили людей, чтобы найти этих шпионов и немедленно расстрелять их; если ты помнишь, во время той заварушки и с той, и с другой стороны действовали беспощадно. И ты знаешь, где их нашли? Даю голову на отсечение, не отгадаешь… На баррикадах, где они храбро стреляли по войскам Синьории; некоторые из них были уже убиты, а остальных пришлось стаскивать вниз с бруствера и там, на мостовой, расстреливать. «Величайшая ошибка! — вроде бы сокрушался, после того как дело уже было сделано (что ты хочешь, он был не такой чувствительный, как ты), мой двоюродный дедушка, закрывая лицо руками. — Разве винодел разбивает свои бочки под предлогом, что они уже были использованы?» Надеюсь, ты его простишь, Альдо, — продолжала Ванесса, бросая на меня сбоку свой острый, демонический взгляд, — он был циником, как ты прекрасно понимаешь, то есть я хочу сказать… подобные речи говорят о том, что он отнюдь не был восторженным адептом неприкосновенной личности; он видел во всем этом только напрасно затраченные силы, и если принять его точку зрения, то не так уж он был и не прав. Ну а если, скажем, встать на более… созерцательную точку зрения и абстрагироваться от того понимания, заслуживающего самого сурового осуждения, которое наша привязанность к добродетели накладывает на такого рода поступки, — Ванесса снова кинула в мою сторону свой загадочный взгляд, — то эта столь своеобразная порода людей может предстать в несколько ином свете. Не следует, Альдо, слишком опрометчиво судить таких людей и говорить, как это часто делается в подобных случаях, что «предательство у них в крови».
Голос Ванессы вдруг стал более серьезным.
— …Не исключено, что они просто являются более зрелыми и более проницательными знатоками действия, людьми, которые в случае необходимости всегда готовы рискнуть, дабы увидеть предмет со всех сторон, и которые обладают достаточно смелым умом, чтобы понять раньше других, что за пространством глупого и слепого подстрекательства, стервенеющего в безысходной ночи своих мелких желаний, есть место, если не боишься почувствовать себя очень одиноким, для почти божественного наслаждения, наслаждения перейти также и на другую сторону, испытать одновременно и давление, и сопротивление. Тех, кого Орсенна по простоте душевной (хотя и не без лукавства) опрометчиво называет перебежчиками и предателями, мой внутренний голос порой называл поэтами события. Мне хотелось бы, чтобы ты хорошо понял эти вещи, Альдо, если ты настроен и дальше сохранять наше взаимопонимание, и чтобы ты решил, наконец, в какой мере — но не более того — ты склонен принимать во внимание свою собственную щепетильность. А если ты все же намерен упорно культивировать ее, то мне хотелось бы сказать тебе, а я ведь только что вернулась из Орсенны, — добавила она серьезным тоном, — что там все происходит иначе, чем ты себе представляешь, и что там теперь к ней могут отнестись менее терпеливо, чем раньше.
— Мне известно, что твой отец опять обрел былое влияние, — заметил я осторожно. — Должен тебе сказать, что поначалу эта новость не показалась мне слишком обнадеживающей.
По виду Ванессы нельзя было понять, поняла она намек или нет.
— Ты увидишь, что там произошли большие изменения, — продолжала она, слегка прищурив глаза. — Причем, может быть, даже не те, о которых ты думаешь… Я нашла город более разбуженным, чем ожидала, — добавила она после паузы. Она словно подыскивала слово, чтобы высказать нечто с трудом обретающее словесную форму.
— В самом деле?
— Не то чтобы это так уж бросалось в глаза, скорее даже понять происходящее можно, лишь имея хорошее зрение, — продолжала Ванесса. — Некоторые знаки могут поначалу распознать только те глаза, которые долго их подстерегали.
— В Орсенне, насколько хватает человеческой памяти, еще никто и ничего не прочитал по знакам, — сказал я ироническим тоном. — Ты же знаешь, что у нас предзнаменований не существует. Существуют одни только годовщины.
— Однако я была бы удивлена, если бы ты не прочел их так же, как читаю их я, — задумчиво произнесла Ванесса. — Не то чтобы в них содержалась какая-нибудь слишком уж точная информация…
Она снова принялась ходить взад и вперед, иногда останавливаясь и как бы пытаясь удержать какое-то мимолетное впечатление.
— …Люди не вкладывают души в то, что они делают, вот в чем дело. Кажется, что они, как говорится, находятся где-то в другом месте, что они все время думают о чем-то ином. Лица, которые попадаются теперь на улице, — а ведь ты припоминаешь, Альдо, за каждым из них раньше скрывалась такая наполненная, такая полнокровная, такая осязаемая жизнь, что ее впору было сравнить с прогулкой по аллеям утреннего сада, — иногда напоминали мне фасады покинутых домов, которые сохраняют лишь для того, чтобы не нарушать общей упорядоченности строений на улице. Теперь по Орсенне гуляешь, как по квартире, откуда люди вот-вот собираются съехать. Причем я бы не сказала, что мне это не нравилось, — добавила она с улыбкой. — В некоторые дни мне казалось, что ее улочки совсем опустели и что по ним носится вольный морской ветер.
— Я смотрю, ты в Орсенне дома не сидела, — прервал я ее раздраженно.
— Такое ощущение, что люди инстинктивно высвобождают в себе место для чего-то, что еще не произошло, — продолжала она, словно и не слыша меня. — Но искренне скажу тебе, салоны Орсенны от этого ничего не выиграли. Никогда я еще не слышала таких удручающе скучных разговоров. Знаешь, вокруг чего они обычно вертятся? Понимаешь, меня просто поразило, что даже ноябрьский бал в Консульте или приближающееся награждение медалью Святого Иуды и то обсуждаются без энтузиазма.
— Что ж, больше достанется Маремме. Надеюсь, ты дала им понять, как здесь языки работают?
Ванесса посмотрела на меня с иронической гримаской.
— У тебя плохое настроение, Альдо. Думаю, что скоро в Орсенне тем для разговоров будет нисколько не меньше, чем у нас. Ты даже и представить себе не можешь, как быстро в наше время разносятся свежие новости.
— Не хочешь ли ты сказать, что там знают? — спросил я, вставая… Я почувствовал, что лицо мое резко побледнело. — Я ведь только что отправил свое донесение.
— Какой же ты все-таки ребенок, Альдо. В Маремме все стало известно на следующий день, а мне сообщили всего на один день позже. Мне казалось, что-то витает в воздухе, и я приняла меры, чтобы меня предупредили. Что ты хочешь, Альдо, я люблю знать, что где происходит, — продолжала она, глядя на меня острым взглядом. — И у меня не было никаких причин скрывать там новость, которая рано или поздно все равно бы распространилась. Ты же знаешь, как женщинам нравится выглядеть осведомленными, — добавила она со зловещей веселостью в голосе, — вполне невинная мания.
Я дотронулся рукой до своего лба, но он был не потный. Мне казалось, что меня, голого и окоченевшего, взяли в фокус ослепительного прожектора. О последствиях я не думал: я испытывал только пронзительный ужас перед чем-то похожим на физическое прикосновение: те тысячи глаз, устремленных там на меня, теперь знали.
— Это конец! — глупо произнес я бесцветным голосом и почувствовал, что вместо констатации факта выразил пожелание: в это мгновение внезапной слабости я страстно желал, чтобы земля разверзлась у меня под ногами. В эту минуту, только в эту минуту я все понял; при свете всех этих вдруг загоревшихся дальними звездами зрачков я наконец увидел, что я наделал.
— Ты меня не понял, Альдо, — елейным голосом продолжала Ванесса. — Я приняла меры предосторожности. Я представила событие в самом выигрышном для тебя свете. Разумеется, я изобразила все чуть-чуть иначе, чем было на самом деле. Все теперь там считают, что ты подвергся вероломному нападению в открытом море.
Я смотрел на нее какое-то мгновение непонимающим взглядом, все еще не веря в ее коварство.
— Я получил оттуда серьезное предупреждение, — сказал я тихим голосом. — И ты об этом знала, разве не так, или догадывалась… Ты ведь так хорошо осведомлена. Ты хочешь, чтобы Орсенна не отступала, так ведь, Ванесса, — продолжал я, выведенный из себя ее молчанием; я встал, приблизился к ней и, почти касаясь ее лица, говорил теперь сквозь зубы. — Вот для чего ты возбудила заранее общественное мнение, вот для чего закрыла за мной все двери. Только не ври! — бросил я ей, срываясь на резкий крик. — Это сделала ты, этого хотела ты, а не я, клянусь перед Богом, и ты все прекрасно понимаешь, Ванесса, прекрасно понимаешь, что за этим скрывается.
— Война? — сказала она безразличным голосом после небольшой паузы и медленно подняла на меня глаза, в которых не было взгляда. — Насколько мне известно, она никогда и не прекращалась. Почему ты так боишься этого слова? Оставь Бога в покое; какой ты все-таки трус, Альдо, — добавила она с крайне презрительной улыбкой.
— Ты этого хотела! Не я…
Я неловко махнул рукой, как бы отводя от себя проклятие, и из глаз у меня помимо моей воли вдруг хлынули неудержимые, беззвучные слезы. Я плакал, не чувствуя стыда и не пытаясь спрятать от Ванессы свое лицо; она стояла, прямая, в темном углу комнаты и безмолвно смотрела на мои слезы.
— Ты… я… — сказала она, неестественно пожимая плечами. — Ты что, сказать ничего не можешь, кроме этих двух слов?
Она приблизилась ко мне и, опуская глаза, мягко положила мне руку на плечо.
— …Я дорожу Орсенной даже больше, чем ты, Альдо, она у меня в крови, понимаешь? Во мне больше смирения и покорности, чем в тебе, и я с большей готовностью выполняю все ее пожелания. Будь ты женщиной, у тебя было бы меньше гордыни, — добавила она с нежной настойчивостью в голосе, словно ее устами заговорил вдруг кто-то другой, какой-нибудь дух мрака и решимости, — и ты бы лучше понимал. Женщина, которая выносила ребенка, знает, как это бывает: бывает, что кто-то, неведомо кто, абсолютно неизвестно кто, начинает вдруг хотеть, чтобы что-то свершилось через нее; в этом есть нечто страшное и вместе с тем нечто глубоко успокоительное… Если бы ты умел предчувствовать, как в теле твоем отзывается то, что еще не случилось. Послушай-ка! — сказала она внезапно, и жест ее вскинутой вверх руки отразил зачарованное внимание.
В комнату теперь просачивался шум, приглушенный и в то же время отчетливый, который, казалось, проникал отовсюду; он походил на доносящийся из ночной тиши рокот далекого моря: за дверью слышался голос Мареммы; в сонном забытьи вялого утра гул охваченного лихорадкой дворца казался в тишине каким-то зловещим мурлыканьем и напоминал то ли завывание отдаленного смерча, то ли гудение несметного множества саранчи, то ли непрерывный хруст челюстей миллионов насекомых, вечно что-то грызущих.
— Слышишь? — сказала Ванесса, легко дотрагиваясь своей ладонью до моей руки. — Вот чем заполнена теперь их жизнь… Они меня прощают: я им больше не нужна, они никогда не нуждались во мне. Просто что-то произошло, вот и все; при чем здесь я? Когда порыв ветра случайно приносит пыльцу на какой-нибудь цветок, то в созревающем плоде есть нечто такое, что смеется над порывом ветра. Поскольку порыв ветра уже здесь, внутри, то появляется спокойная уверенность в том, что его никогда не было. Все эти люди никогда не нуждались во мне, а я никогда не нуждалась в тебе, Альдо, и это хорошо, — продолжала она с какой-то глубокой убежденностью. — Когда что-то появляется на свет, в этом нет ничего случайного, и все сразу становится так, будто смотрят на мир только одни-единственные глаза, его глаза, и уже не может быть и речи о том, что когда-то его не было; так что все хорошо.
Последняя инспекция
— Старик Карло умер, — скороговоркой сообщил мне Фабрицио, как только я вошел в свой кабинет в Адмиралтействе. — Его хоронят сегодня после обеда, в три часа. На военном кладбище. Джованни подумал, что ты не будешь возражать. Ты ведь знаешь, здесь такой обычай, — добавил он грустным голосом. — Кстати, Марино очень его любил…
Фраза Фабрицио прозвучала в еще более глубокой тишине, чем подобало этому ожидавшемуся со дня на день известию. Я вернулся из дворца более спокойным, словно на меня снова снизошло умиротворение, словно мне опять передались спокойствие и непостижимая уверенность Ванессы; услышанное известие омрачило для меня это светлое утро. Я вспомнил, что иногда в эти последние, тоскливые дни я подумывал о том, чтобы вновь посетить Ортелло; мне показалось, что одно уже только присутствие рядом со мной этого старика успокоило бы меня, придало бы мне уверенности и что какая-то часть моих тревог перешла бы к нему — без фраз и без усилий. И вот теперь он был мертв; и у меня в ушах снова звучали его последние слова, зачаровывающие, как рука, которую так хочется задержать в своей; мне вдруг пришла в голову мысль, что может быть, что скорее всего он перед смертью так и не узнал. «Рано, конечно, но это случится вот-вот», — сказал он мне; в свете того, что произошло потом, слова старого Карло непроизвольно стали пророческими, а новость в последний момент злобно обошла стороной единственного человека, способного ее понять; в отличие от старика Симеона, которому повезло больше, глаза Карло не увидели того единственного знака, ради которого они и оставались еще открытыми. Я вдруг отчетливо представил себе песок, выровненный на убогой безымянности могил, и по нахлынувшей жалости, по щемящей боли в груди понял вдруг, что тот, кого мы вот-вот похороним, тот, у кого еще и сейчас в гробу продолжала расти короткая и жесткая борода, был отныне более мертв, чем любой из тех, кто, пролежав в земле века, давным-давно превратился в прах.
В Сирте существовал давний обычай хоронить на военном кладбище владельцев больших окрестных хозяйств — с этими хозяйствами в гораздо большей степени, чем с бранными подвигами, исстари ассоциировалась жизнь гарнизона Адмиралтейства. И это было справедливо: еще совсем недавно, до того как утомленный орсеннский мир окончательно воцарился на этих землях, им не раз и не два приходилось отгонять выстрелами наведывавшихся сюда из пустыни последних грабителей. На протяжении долгих лет этой дальней южной окраиной управляло сильное племя солдат-земледельцев, которые твердо и решительно командовали своими подчиненными, более походившими на военных, чем те невзрачные счетоводы, что сменяли друг друга в Адмиралтействе до Марино, — племя это в столь далеких от центра пределах напоминало последние зеленые побеги, которые порой прорастают из земли на большом расстоянии от источенного ствола. Это племя тоже вымерло, угасло, подобно давным-давно угасшим старинным орсеннским родам; мы знали, что сегодня похороним последнего его представителя, и поэтому наша маленькая плотная группа шла погруженная в более глубокое, чем обычно, молчание. С бледно-молочного неба на Сирт лил свой сероватый свет спокойный день, лишь слегка потревоженный приглушенным шумом небольших волн; иногда идущее вдоль берега холодное течение день за днем собирало над морем дряблые, обманчивые туманы, которые, обещая дождь, так его и не приносили, но превращали побережье в зябкую, мокрую пустыню с влажным дыханием больного, которое размягчает мускулы и погружает в сумрак мозг.
— Старый Карло точно рассчитал час своей смерти, — рассеянно сказал Джованни, закрываясь воротником шинели от ветра, — как раз в день всех святых. — Он окинул тоскливым взглядом пустынный берег. — В это время года раем земным Сирт никак не назовешь.
Мы шли все четверо по серой дороге, и головы наши были заняты мыслями. Невидящее небо превращало все эти земли в некое безмолвное промежуточное пространство; находившееся перед нами кладбище походило на лужу, более серую, чем все вокруг, более наполненную угрюмой тоской, черным отсутствием, скорбным безразличием.
— Это был человек, старый Карло, — заметил Фабрицио проникновенным голосом, и я невольно улыбнулся, угадав, что он думает в этот момент о роскошном пиршестве, которое устроили нам в Ортелло после охоты прошлой осенью.
— Да, — подтвердил Роберто, кивнув головой, — Марино расстроится, когда узнает, что похороны состоялись в его отсутствие. Он, кстати, сообщил, что скоро возвращается, — продолжил он изменившимся голосом. — Я вот подумал…
Мы все знали, о чем он подумал. Вернувшись, я нашел Адмиралтейство в полной растерянности. Патрулирование прекратилось, и ночные сторожевые обходы тоже; все в крепости словно по мановению волшебной палочки возвращалось к прежнему порядку, все наспех закрывалось чехлами для новой зимовки; каждый уползал в свою раковину — ни о чем ином не было и речи: капитан возвращался со дня на день.
— Пожалуй, нужно пригласить семью остаться на ужин, — заключил Роберто колеблющимся голосом. — До Ортелло далеко отсюда. Капитан поступил бы именно так. — И пауза, которая последовала за этими словами, дала нам лишний раз почувствовать осиротелость нашей маленькой группы.
Мы постояли несколько мгновений, обнажив головы, у входа на кладбище. Вскоре из-за поворота дороги показалась одна из тех длинных телег с причудливыми высокими колесами, которые используют для езды по песчаной пустыне. На ней лежал раскрытый, как это принято в Сирте, гроб, и когда его поставили на землю, то я увидел, что он до краев наполнен гроздьями поздних, пахучих глициний, которыми на юге увиты решетки всех веранд; из них выступало большое, как у лесоруба, тело с пергаментным лицом, словно подхваченное пенистым водоворотом хрупких цветов. Родственники и челядь ехали за похоронной повозкой на лошадях; за спиной старшего сына сидел один из тех бродячих монахов в белых рясах, что обслуживают с большими интервалами отдаленные сиртские часовни, и мне внезапно показалось, что у меня перед глазами развертывается очень древний спектакль: глядя на эту длинную вереницу всадников, равнодушно едущих по плоской земле и тяжеловатыми жестами скитальцев погоняющих своих лошадей, видя эти обветренные лица, утратившие в пустыне и возраст, и выражение, можно было бы принять ее за один из тех караванов варваров-кочевников, которые доставляли своих вождей к далеким пастбищам с ключевой водой. Один за другим мы попрощались со стариком, дотягиваясь кончиками пальцев правой руки до его лба. Когда я проходил мимо старшего сына, великана с непокорными вихрами, он неловко подал мне знак рукой, и я понял, что он хочет что-то сказать мне.
— Мой отец будет покоиться в земле Орсенны. Вы оказываете нам большую милость.
Он со смущенным видом теребил пальцами пряжку своего охотничьего пояса. Теперь я уже понимал смысл фразы, ранее казавшейся мне загадочной: в былые времена в землю каждого военного кладбища Орсенны подмешивали немного привезенной из города глины. Он вдруг сделал рукой резкий и одновременно робкий жест, положив ее на мою руку.
— Я хотел вам сказать… нас, тех, кто живет на юге, очень мало. Будет так, как Господу угодно. Но как бы то ни было, мы люди верные. Рассчитывайте на нас — когда придет время.
Гроб опустили в выкопанную в песке яму. Легкий ветер пустыни уже начал сглаживать ее ломкие края; они осыпались вниз неиссякаемыми бесшумными ручейками. Было нечто смешное в педантично точных движениях рук, которые теперь отсчитывали одну за другой горсти песка, засыпающие гроб; эта столько раз перемешанная ветром земля была здесь прахом в большей степени, чем в каком бы то ни было ином месте, и я чувствовал, что старику понравилось бы его ненадежное жилище. Эта почва, которая, как дюны, перемещалась под своими складками песка, овладевала своей добычей не навсегда. Терпеливая и глухая жизнь, присасывающаяся к почве таким множеством корней, а потом, в самом своем конце — столь безмятежном, столь легком, — уносимая обратно каким-то таинственным веянием, приоткрывала мне бесконечно волнующий символ, который был связан и с этим кочевническим караваном, и с этой неуловимо вновь включающейся в движение землей. Здесь не было ничего, что говорило бы о последнем покое, а напротив, все дышало бодрой уверенностью в том, что все сущее вечно вновь включается в игру, но в ином предназначении, чем то, что представляется нашему разуму; мне вспомнилась рассеянная улыбка старика, отнюдь не настраивавшая на умиление, и я почувствовал себя понятым и прощенным; в этот день на кладбище было чудно, как в первый день зимы, когда сухой ветер гонит по дорогам листья.
Священник закончил читать последние латинские молитвы, и вокруг могилы установилось неловкое, тягостное молчание. За кладбищенской стеной ржали лошади, откуда-то с дороги все еще доносилось поскрипывание освобожденной от груза телеги; слабые, приглушенные теплым серым туманом шумы внезапно превратили этот крошечный уголок земли в необыкновенное запустение. Я услышал, как позади меня открылись решетчатые ворота, и нервно обернулся. На кладбище входил Марино.
Я ждал и боялся этого возвращения, как часа величайшего испытания, но теперь, когда услышал позади себя на песочной аллее тяжелые и медленные шаги, то испытал я вовсе не чувство страха: это было скорее сильное ослабление нервного напряжения, какое-то необъяснимое облегчение, словно после купания в родниковой воде.
Я украдкой наблюдал за ним, пока он по-крестьянски неспешно говорил родственникам покойного слова утешения. И снова легкий морской ветер трепал седые пряди волос над его застывшим, как удивительно тяжелая маска, лицом. Он стоял в своей длинной, пожелтевшей от времени форменной шинели, ниспадавшей жесткими складками, и, казалось, составлял с почвой единое целое, что-то вроде землистой глыбы. После столь длительного отсутствия Марино я ощутил как никогда остро, что этот уголок земли завершается в нем, что он каким-то действующим на ощупь гением слепца забирается в него и что сам Марино принадлежит ему даже не так, как прикрепленный к земле крепостной, а более сущностно, более глубоко, как один из элементов пейзажа. Он стоял посреди этого угрюмого кладбища, более живой, чем любой из присутствующих молодых людей, живой своим бессмертием приготовившегося к зиме растения; казалось, что он впитал в себя все соки этой истощенной почвы, что он так же, как и она, научился хитрить с временами года и с погодой, с засухой и с градом, слился с ней, подобно серым, цепляющимся за серый зыбкий песок ильвам. Марино в еще большей степени, чем стоящая у стены стела Орсенны, был символом этого постепенно навязанного вещам существования, которое облачало непрерывно сменяющимися поколениями неразличимую землю, неразличимую, как та пленка лака, которая после испарения всей влаги остается на прокаленных камнях пустыни. Казалось, что он застыл на самой низкой отметке жизнедеятельности, что к нему подступают пустынные пространства жизни, лишенной памяти и морщин, незаполненные пространства жизненного опыта, протяженность ночного безразличия. И все же лицо его изменилось. Я смотрел на него посторонним взглядом человека, которого почти не интересует дальнейшее развитие событий, смотрел с какой-то спокойной беспристрастностью, и вдруг я заметил — заметил так, как если бы речь шла обо мне самом, заметил, как женщина, которая впервые воспринимает свое отражение в зеркале как пугающее откровение, — насколько же он вдруг постарел. Я знал, что Марино уже не молод, но, получив сигнал из глубин своей собственной плоти и взглянув на его землистое лицо, на эту тяжелую, неподвижную маску, я увидел совсем не то, что можно назвать признаками спокойного приближения старости. Он напомнил мне скорее одного из тех легендарных королей, что, заснув на века в какой-нибудь пещере, пробуждаются от колдовского сна лишь затем, чтобы за одну минуту превратиться в прах и исчезнуть; словно для него время изменило ритм и скорость и вдруг пошатнулось под всей тяжестью веков прямо у меня на глазах. Это меченое лицо поглощало взгляд, но не так, как поглощают его окутанные туманами дали, в которых затеряется в один прекрасный день наш путь, а как трещина, образовавшаяся посреди дороги от землетрясения.
Пока немногочисленная толпа уходила с кладбища, я увидел, как шедший передо мной капитан задержался между могил, как бы поджидая меня; он подошел ко мне, когда я был уже у выхода; мы остались одни — у нас за спиной в опустевшем некрополе равнодушный ветер опять принялся теребить песок.
— Может быть, вернемся по берегу, Альдо? — предложил он мне, привычным жестом беря меня под руку. — Понимаешь, ноги как-то начали слабеть. — Он мне подмигнул, что, однако, не обмануло меня. — Наверное, из-за привычки к этой чертовой лошади; когда флот начинает ездить верхом, ничего хорошего от этого ждать не приходится.
Мы шли некоторое время молча. Было такое ощущение, что эти глухие места так же поглощают шумы, как этот песок — дождь; наша процессия уже успела раствориться где-то в расположенной вокруг скудной растительности. Вскоре мы оказались перед пустынной дугой пляжа, простиравшегося почти вровень с волнами. Похожие на оседающий пар стаи морских птиц садились и взлетали, колыхались вдали на мокрой глазури песков; это слабое трепетание было единственным знакомым здешней оцепенелой земле движением. Марино знал, как мне нравится этот пустынный, чисто вымытый берег, но на этот раз меня не могла отвлечь от моих мыслей даже его бесприютность. Все мое внимание было обращено только на одно: на все тяжелеющее прикосновение его руки к моей. Я чувствовал, что во рту у меня пересохло, а горло перехватило до боли. Марино страдал, страдал тем поразительным страданием лишенных дара речи животных, которому, чтобы дойти до нас, приходится преодолевать пространства чуть ли не иного мира. Эта рука, то расслабляющаяся, то вдруг незаметно напрягающаяся от смущения, жила рядом с моей рукой какой-то своей вегетативной жизнью, передавая мне утомительное ощущение тоски.
— Хорошее было плавание, Альдо? — спросил он наконец меня почти застенчивым голосом.
— Боюсь, что оно оказалось несколько более длительным, чем было предусмотрено… Я должен сообщить новость, которая не доставит вам удовольствия, — добавил я жестким голосом. — Маршрут не был соблюден. Мы дошли до противоположного берега.
Марино резко повернулся ко мне. В ту же самую секунду я понял, что он уже знает, и тем не менее глаза его невольно вонзились — словно прозвучал сухой выстрел — в мои глаза.
— Туда, да, я знаю, — произнес он с усилием отяжелевшим голосом. — В вас стреляли.
— Объяснить, почему я это сделал? — спросил я, нервно сжимая губы, и тут же почувствовал, как напрягся сам собой мой затылок, словно я вытянулся по команде «смирно». Я с отчаянием осознавал, что беседа по моей вине началась очень плохо. Марино это почувствовал и, тряхнув плечами, отбросил все формальности.
— Кое-кому покажется, что это было не без пользы. Но какая в этом польза? — сказал он, обращая ко мне свое невидящее лицо и стирая меня взглядом. — Я всегда знал, что ты отправишься туда… Это большое несчастье… — продолжал он после паузы блеклым, почти смущенным голосом. Меня вдруг снова поразило его старческое поведение; можно было подумать, что уста этого безнадежно старого человека уже больше не отвечают за произнесенные ими слова.
— Почему вы поручили мне это патрулирование?
Какое-то время на лице Марино можно было прочитать мучительный поиск мысли.
— Я же ведь просил тебя уехать, — сказал он почти извиняющимся голосом. — Разве ты не помнишь?
— Но если вы знали всегда, что я отправлюсь туда, то, значит, вы знали это раньше меня. Когда до нас стали доходить всякие слухи, то именно вы посоветовали… позволили мне — да, я так понял, я был уверен в этом — написать в Орсенну.
И снова мне показалось, что Марино с трудом пытается что-то вспомнить.
— Да, может быть, — сказал он наконец задумчивым голосом. — Моя доля вины в этом деле велика. Я надеялся… — Он смешно, как озадаченный ребенок, повел рукой. — Я думал, что можно будет успокоить тебя по-хорошему. Надеялся получить поддержку. Я не думал, что болезнь зашла так далеко.
— Что вы хотите сказать? — быстро спросил я и резко остановился, пораженный появившейся в его последних словах интонацией глухой боли.
— Меня выгоняют, — сказал он, отводя лицо в сторону. — Послезавтра я покину Адмиралтейство навсегда.
Сначала эти слова прозвучали в моей голове как пустой звук, как камешки в консервной банке. Потом у меня под ложечкой образовалась какая-то пустота, и я почувствовал, как мной овладевает нередко встречающееся во сне тошнотворное ощущение, когда кажется, что ты стоишь на краю пропасти, облокотившись на перила, которые медленно-медленно проваливаются вниз.
— Не может быть, — сказал я, чувствуя, как лицо мое покрывается мертвенной бледностью.
— Давай-ка присядем на минутку, а? Ветер стихает, — сказал капитан. Теперь он казался немного повеселевшим.
День уже начинал клониться к вечеру, но песок еще сохранял тепло, и сидеть на нем было приятно. Как только мы сели, пейзаж вокруг нас сразу исчез, словно мы опустились в траншею. Над нами то и дело с оглушительным криком проносились, повторяя движение прилива, стаи морских птиц. Нельзя было и представить себе более уединенного места, чем эта омываемая со всех сторон волнами дамба, и я впервые подумал о том, насколько же эта наша прогулка вдали от Адмиралтейства не вяжется с привычками Марино. Мне все больше и больше казалось, что в его слишком рассчитанных жестах проскальзывает необычная угловатость и какая-то едва заметная подражательность. Можно было подумать, что капитан играет какую-то роль. Опустив козырек фуражки на самые брови, он затуманенным взглядом смотрел на море; рука его машинально набирала песок, который сыпался сквозь раздвинутые пальцы.
— Ты, я думаю, был в курсе действующих в Сирте правил навигации? — сказал наконец капитан, кашлянув, чтобы прочистить горло. — Хотя это и формальность, — поторопился он добавить, — но положение дел теперь требует некоторых уточнений: мне предстоит тоже написать донесение.
— Я готов в письменном виде дать разъяснение, снимающее с вас всякую ответственность, — сказал я почтительным тоном. — Я действовал совершенно сознательно.
Марино повернул голову ко мне так, словно она была у него на пружине.
— Совершенно сознательно?.. — задумчиво повторил он. Я заметил, что ему тяжело дышится. — Ты не отдаешь себе отчета в том, что говоришь, — добавил он и сокрушенно покачал головой.
— Когда-то вы уже говорили это Фабрицио и действительно так думали, — сказал я мягко, потому что острая печаль, прозвучавшая в его голосе в этот момент, наполнила мое сердце жалостью. — Фабрицио был тогда еще ребенком. Но когда вы говорите это мне, то вы не верите в то, что говорите.
Старик посмотрел на меня своими глазами цвета прозрачной воды.
— Я тебя очень люблю, Альдо, — сказал он с некоторым замешательством, — разве ты этого не понимаешь? Я люблю тебя, потому что знаю тебя лучше, чем тебе кажется. В твоем возрасте люди не любят находить себе смягчающие обстоятельства, потому что у них всегда остаются сомнения, до какой степени они себя скомпрометировали, совершив тот или иной поступок. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда ты подвергаешься большой опасности быть преданным суду, ты отбросил гордыню.
— А кто будет судьей? — спросил я, неуверенно пожимая плечами, так как голос Марино вдруг стал необыкновенно твердым. — Я обязан давать отчет в своих поступках другим людям, — добавил я, отворачиваясь в сторону. — Жаль, что мне приходится принимать это во внимание впервые лишь сейчас, когда нам с вами предстоит вот-вот расстаться.
Марино слегка побледнел, и его взгляд, в котором светилась высокомерная строгость, вонзился в меня.
— Я говорю не о Синьории. У нее свои дела, о которых она ставит тебя в известность, и лучше, наверное, чем я; кстати, об этом я сейчас тебе тоже скажу. Я говорю об Орсенне.
— Вы хотите сказать, что говорите за нее?
Мне показалось, что на какое-то мгновение старик настолько глубоко погрузился в мысли, что его рука, вытянутая вдоль тела, вдруг машинально стала волочиться по песку, словно брошенное весло, оставляя там маленькую бороздку.
— Происхождение, кровь — это еще не все, Альдо, — сказал он медленным, серьезным голосом. — У тебя она горячая, и здесь всем известно, в какой семье ты родился. Я здесь состарился, — продолжал он, глядя вдаль своим немного затуманенным взглядом. — Это моя земля; я могу ходить тут с закрытыми глазами, могу назвать по имени каждую кочку. И именно поэтому я хочу тебе сказать одну вещь: она ведь не карта в руках игрока.
— Я был не один на «Грозном», — сказал я после небольшой паузы. — Вы же не хуже меня понимаете: ситуация здесь так накалилась, что нечто подобное все равно должно было случиться. Вы упрекаете меня в том, в чем виноват рок, — добавил я с легким налетом высокопарности и тут же почувствовал, что невольно краснею.
— Да, бывает, что рок приходится очень кстати, и тогда нужно вовремя им воспользоваться, — отрезал старик неожиданно энергичным тоном. — Это я не о тебе, — добавил он смущенно, — ты же прекрасно понимаешь. — Он, словно извиняясь, махнул рукой, и это меня успокоило. — Ты не мог здесь жить, да? — спросил он с выражением острого и одновременно застенчивого любопытства на лице. Такое было впечатление, что он, отчаявшись, решился наконец впервые постучать в закрытую дверь, попытался взглянуть своим близоруким глазом сквозь щелку, позволяющую увидеть иной свет.
— Нет, — сказал я, — не мог. И Маремма тоже не могла, и старый Карло.
Я увидел, как омрачился лоб старика.
— Старый Карло… Да, — сказал он вдруг задумчиво, — именно этого вот дня я и боялся. В этот день что-то треснуло, как во время обвала. Но почему?
Он поднял на меня свой взгляд, послушный и растерянный взгляд собаки, готовой повиноваться жесту своего хозяина, который она не понимает.
— Трудно сказать…
Я отвернулся и стал рассеянно смотреть на море, невыразимо смущенный и этой доверчивостью, и этой покорностью.
— …Неужели возможно, чтобы вы вот так прожили здесь годы, зная, что напротив находится… это, — прожили как ни в чем не бывало?
— Я не люблю все далекое и сомнительное, — сказал Марино более уверенным тоном. — А теперь нить оборвалась: тем лучше, раз она оборвалась. Все это было до меня, могло бы длиться и после меня. Тут ничего не поделаешь. Была Орсенна, было еще Адмиралтейство, и потом было море. Пустынное море… — сказал старик как бы самому себе, прищуриваясь из-за соленого ветра.
— А потом… ничего?
— А потом ничего, — ответил он, поворачиваясь в мою сторону и глядя мне прямо в глаза. — Зачем это желание думать о чем-то таком, что от нас уже ничего не требует?
— Адмиралтейство, и еще море, а потом ничего… — повторил я, бросая на него озадаченный взгляд. — Вчера, потом сегодня, потом еще сегодняшний вечер… а потом ничего?
— Ты находишь это абсурдным потому, что ты очень молод, — ответил Марино с какой-то странной интенсивностью в голосе. — Я уже стар, и Город уже очень старый. Наступает такой момент, когда счастье — спокойствие — заключается в том, чтобы видеть вокруг себя много изношенных вещей, чтобы они износились до основания — от долгого трения и от множества дум о них. Это-то и называется эгоизмом стариков, — добавил он с неопределенной улыбкой, — которые стали толще оттого, что многие вещи вокруг них стали тоньше. Они не изнашиваются, — капитан с упрямым видом покачал головой, — это они изнашивают находящиеся вокруг них вещи.
— Орсенна не могла вечно жить, зарывшись головой в песок, — бросил я ему запальчиво. — Только вы и могли жить здесь, не задыхаясь, — добавил я почти с ненавистью в голосе. — Даже Фабрицио поплыл, когда представилась возможность. Он, правда, не знал зачем, но все-таки поплыл. Даже старый Карло и тот сделал бы то же самое, вы это знаете. Было уже просто невозможно выдержать.
— Нет, Альдо, — ответил Марино тоном спокойной проницательности, — это было возможно. Тебе не дано этого понять, потому что ты нездешний, ты уже нездешний. Но те, кто взял у Орсенны кровь для своих вен — черпая в ее прошлом и ее будущем, — могут очень веско возразить: важно только быть. Здесь. Теперь. Орсенна находится везде, где кончается мир вещей, — продолжал Марино, сделав головой жест, выражающий неуклюжую, тяжеловатую уверенность. — Она перестала давать повод для размышлений. Она просто продолжала существовать с открытыми глазами.
— С едва приоткрытыми, — горько возразил я. — Да и то вы приписываете ей больше жизненных сил, чем их у нее есть на самом деле. Покойники тоже, если до них не дотрагиваться, лежат с открытыми глазами. Орсенна заснула с открытыми глазами.
— Навсегда, — сказал старик тоном, каким читают молитвы или обращаются к кому-то с мольбой, задумчиво скользнув взглядом по морской поверхности. — Ты не знаешь, что такое избавление: это состояние, за которым нет уже ничего.
Он махнул рукой в сторону песчаной косы. Вода прибавлялась, уже совсем рядом с нами шуршала песком и полировала плоские валики пузырящейся пены.
— Это земля, в которую приятно лечь спать, — добавил он, погруженный в ту глубокую задумчивость, которая была ему присуща почти органически и, похоже, означала у него крайнюю концентрацию внимания. И он тут же продолжил, словно в бреду: —…Когда меня туда опустят, то мне кажется, я буду подгребать ее обеими руками на лицо и она совсем не будет на меня давить: настолько она легкая, оттого что я забрал у нее ее вес.
Кивком головы я показал Марино на кладбище. Оно теперь казалось на фоне низкого горизонта всего лишь тонкой черной линией, прочерченной над песками его каменной оградой.
— Орсенна находится там! — сказал я, беря его за руку. — Повсюду, где она рассеяла свою кладбищенскую землю. Это и есть то самое, что вы защищаете?
— Она существовала долго, — продолжал старик с религиозной дрожью в голосе. Он обратил на меня свои наводящие тоску глаза слепца. — …Здесь, когда тело падает в яму, то вздрагивают пять миллионов останков, которые оживают до самых глубоких песчаных глубин и чувствуют его, как мать чувствует тяжесть своего покойного ребенка, когда его опускают в могилу и укладывают над ней. И нет другой вечной жизни.
— Есть, — сказал я ему, бледнея, — есть другая вечная жизнь. Но только над последышами слишком старого города тяготеет проклятие.
— Он не старый, — отрезал старик лишенным тембра голосом. — Он не имеет возраста. Так же, как и я.
Он прошептал сквозь зубы, как бы только для себя, девиз города. И я на миг почувствовал вдруг что-то вроде ослепления; мои глаза заморгали, и в течение секунды мне казалось, что он говорит истину и что его тяжелый силуэт цепенеет, каменеет в своей чудовищной неподвижности прямо у меня на глазах.
— Я думаю, что нам нечего больше друг другу сказать, — произнес я, вставая и нервно передергиваясь.
Мы молча тронулись в путь. Солнце находилось уже в самой нижней части посветлевшего неба; прямо над землей красный горизонт подернулся туманом: это означало, что назавтра ожидается один из тех светлых, как оконное стекло, дней с сухим ветром, несущим иногда на протяжении целых недель дыхание пустыни. Мы в полном молчании шли по узкой полоске сухого песка, оставленной у подножия дюн приливом, и убыстряли шаг, торопясь покончить со всем как можно скорее.
— Мы сейчас зайдем в крепость, — отрывисто сказал Марино. — Я должен показать тебе, что там нужно сделать; ведь после моего отъезда и в ожидании моего преемника командовать всем здесь, я думаю, будешь ты. Нам посылают подкрепление, — добавил он совершенно безразличным тоном, — мне сообщили, что через неделю пришлют две канонерки и начнут приводить в порядок часть береговой артиллерии. А это требует проведения кое-каких работ на суше: нужно найти помещение для боеприпасов и обустроить временное жилье для персонала на период ремонтных работ.
— Подкрепление… — произнес я, недоверчиво глядя на Марино. — А предусматривается ли?..
— Я не знаю, — отрывисто сказал он упавшим голосом. — Мне ничего не сказали. В Орсенне что-то произошло… У меня было такое ощущение, как будто я разговариваю с незнакомыми людьми.
— Что вы хотите этим сказать?
Я резко остановился. Проскользнувшая в жалобном тоне его голоса нотка отчаяния подавала мне какой-то смутный знак, предупреждала меня, что Марино из глубины своей растерянности призывает меня на помощь.
— Что-то изменилось в Орсенне, — ответил старик.
— В ее голове?
— Нет, насколько я понимаю, Альдо, это не голова, — он опустил голову и тяжело уронил подбородок на грудь, — …это сердце. Сдает сердце, как перед грозой, когда поднимается лихой ветер. Ты не видел пустыню, когда там начинается песчаная буря… Глаза режет, перед глазами кровавая пелена, все видишь, как в тумане. Нервы завязываются узлом, в горле пересыхает, всматриваешься в горизонт, и хочется, чтобы буря уже была над тобой.
Старик машинально щурился от ветра, словно всматриваясь в мглистый горизонт.
— Невеселая это пора, — продолжал он. — Наши экипажи, отправлявшиеся работать на фермах Сирта, называли такую пору песочным авралом.
Марино вздохнул и немного помолчал.
— Но тебе-то, может быть, удастся узнать, — сказал он наконец с оттенком почтительной робости. — Тебя хотят послушать в Синьории. Я привез для тебя с почтой вызов.
— В связи с чем?
— Сам знаешь. Это тебя Наблюдательный Совет приглашает.
Слово вылетело из уст Марино, и на него сразу легла тень, которая по обыкновению вырастала в сознании жителей Орсенны при упоминании этой таинственной и внушающей страх власти.
— Значит, это так серьезно? — произнес я с тоской в голосе, спрашивая его взглядом.
— Да, — сказал Марино, останавливаясь и медленно поднимая на меня глаза, как если бы он узнавал при свете лампы одну за другой мои черты. — И даже зная, кто ты есть, я все-таки удивлен тем, что тебя вызывают. Совет обычно разбирается только с вещественными доказательствами в руках. Так что в тот день все и будет решено.
Я увидел, как глаза Марино сурово заблестели, и в этом блеске был целый мир тревожных чувств: чувство страха, настоящего панического страха перед лицом неведомой власти, и одновременно что-то вроде наполненного тоской благоговения перед человеком, которому предстояло столкнуться с этой властью лицом к лицу, — словно через меня он со слепым обожанием почти дотрагивался до высших инстанций Города, до его черного сердца.
— Им ты тоже не сможешь сказать ничего сверх того, что сказал мне? — спросил он невольно изменившимся голосом. — Ведь не все же еще сказано… Умоляю тебя… — произнес он наконец, опуская глаза.
— Что сказать? — и я невольно пожал плечами.
— Есть время вмешиваться в ход событий и время предоставлять их самим себе. Что-то пришло, воспользовалось мной, а теперь покидает меня — и все теперь будет созревать без меня.
Мы снова тронулись в путь. Капитан опять основательно замолчал, словно решил, что высказал все, что нужно было сказать.
В этот рано наступивший зимний вечер в коридорах крепости было уже темно. Марино по-прежнему молча зажег висевший в комнате охраны фонарь, и при свете, едва пробивавшемся сквозь желтизну запотевших стекол, я, как мне показалось, прочитал на его лице и в лихорадочных жестах руки, высекающей огонь, признаки необычной нервозности. Несмотря на произведенный Фабрицио ремонт, стены, как и в иные зимы, сочились холодной сыростью, и раз или два я явственно увидел, как по прикрытым тяжелой шинелью плечам Марино прошла дрожь.
— Давайте вернемся завтра, — сказал я ему. — Время ждет. Сегодня такой леденящий вечер.
— Нет, — сказал капитан сквозь зубы, даже не поворачивая головы. — Мы быстро закончим.
Хотя свет фонаря едва-едва пробивался сквозь белесый мрак, высокие своды вдруг подступили к нам из темноты благодаря глухой вибрации голосов, которые звучали, как дрожащие оконные стекла.
— Я бы не сказал, что это место выглядит чересчур гостеприимно… сегодня вечером, — добавил он таким приветливым тоном, словно показывал эти залы какому-нибудь туристу. К нему, должно быть, вернулось его хорошее настроение, которое он проявлял так бурно и несдержанно, что было тревожно. — Но это мой последний дозор. И к тому же, — добавил он, покачивая фонарем и бросая сбоку взгляд в мою сторону, — мне кажется, что тебе здесь нравилось.
Внезапно он остановился, и его поднятый фонарь слабо осветил высеченный внутри свода девиз.
— «In sanguine vivo…» — прочитал он по слогам, как бы расшифровывая их один за другим. Остальное растворилось в неясном и долгом бормотании. На этот раз в его мимике было нечто настолько явно ненормальное, что я готов был дать волю своему раздражению.
— Ну и что? — спросил я, глядя на него с почти невежливым нетерпением.
— Смысл не совсем ясен, Альдо, — сказал он гортанным голосом, дотрагиваясь до моей руки, — ты никогда не обращал внимания? Смысл можно истолковать и так, что город продолжает жить в своем народе, и так, что в случае необходимости нужно не пожалеть крови.
— Вам не кажется, что сейчас не время для разных толкований? — отрезал я, все больше и больше теряя терпение. С каждой минутой мне становилось все неуютнее. В глазах у Марино появилось — может быть, из-за этого призрачного освещения — что-то пристальное и скорбное, контрастирующее с шутовскими речами. Стоящий между нами на земле фонарь едва освещал наши лица, окруженные ореолом белого пара; длинные тени изгибались и терялись где-то очень высоко на сводах — холодные капли одна за другой стекали со своих камней и проскальзывали мне на шею за воротник шинели.
— Как хочешь, — сказал старик, не настаивая. Он опять взял в руки фонарь и пошел дальше своей размашистой, сбивчивой походкой — в сырые дни капитану давала о себе знать одна старая рана; наши тени снова закачались. Марино, не произнося ни слова, копался в проржавевших замках, которые производили громкий холодный металлический скрежет, открывал одну за другой двери: из раскупоренных спустя века казематов в лицо плотной струей ударял запах заплесневелого мха и сгнившего железа, холодный, лишенный бродильного фермента жизни запах, который, настоявшись за несколько веков ядовитого гниения, вызывал тошноту. Я молча переходил за Марино из каземата в каземат; наши тяжелые сапоги вдавливались, как в губку, в зловонную подстилку. Тишина становилась все более тяжелой. Пламя фонаря потрескивало и оставляло в тошнотворном воздухе черный след, на испачканных сводах кишели какие-то подозрительные тени. То, что этот великан, которого мы потревожили на его тяжелом ложе, выделял так агрессивно ударявший нам в нос свой сокровенный запах гроба, походило на зловещее предзнаменование.
— Запах Орсенны, — бросил я Марино враждебным тоном.
Марино продолжал молча раскачивать фонарем, и тут вдруг на его губах появилась странная улыбка, та самая, которая была у него в палате карт.
— Нам остается осмотреть батарею на платформе, — сказал он сонным голосом, — именно там хотят заменить орудия.
Когда, попав в эту каменную массу, побродишь там по лабиринту лестничных маршей крепости, то уже почти невозможно определить, на каком этаже ты находишься в тот или иной момент; к моему удивлению, наши шинели вдруг ощутили напор морского ветра: заполненные непроницаемым мраком углубления слева от меня, которые я поначалу принял за входы в казематы, были на самом деле заброшенными бойницами. Марино поставил свой фонарь на загораживающую проход массивную тень, морской ветер резко колыхнул пламя, и вспыхнувший луч стрелой скользнул вдоль металлического чрева; еще не успев узнать саму пушку и орудийную платформу, я уже понял, куда после стольких петляний привел меня капитан.
— Ночь будет спокойная, но завтра начнется ветер, — машинально сказал Марино своим безапелляционным тоном, сунув голову в бойницу и совершенно непроизвольно понюхав воздух; однако место и время прихватили морозом мою наметившуюся было улыбку. Уже окончательно вступившая в свои права ночь была очень темной, а снизу, сквозь голубоватый туман, до нас доходило дыхание пронизывающей сырости и легкий плеск спокойной воды, похожий на шелест тополиных листьев. Высунувшись из бойницы, я увидел справа неподвижные огни мола: время от времени пустынную ночь прорезала цепляющаяся за груду угля яркая вспышка. Было такое ощущение, что эта ночь не должна закончиться: все сущее располагалось в черной замкнутости колокола мрака; дремлющие огни плавали в тумане так же спокойно и неподвижно, как звезды. Ничего не произошло: Адмиралтейство вновь обретало невыразимый покой корабля, который бросает якорь, покой стены, до которой дотрагивается рука, чтобы пробудиться от кошмара.
— Ты помнишь тот вечер, когда я увидел тебя в палате карт? — спросил Марино низким чистым голосом.
— Так же хорошо, как тот день, когда вы привели меня сюда… — Я повернулся к Марино; в темноте черты его лица были едва различимы. — Я много раз спрашивал себя об одной вещи: что вас так поразило в тот вечер?
— Твой взгляд, — ответил Марино уверенным тоном. — Взгляд, который пробуждал слишком многое. Мне не понравилась твоя манера смотреть. Хотя я любил тебя, Альдо, — сказал он вдруг с необычной серьезностью, словно выступая в качестве свидетеля.
Я почувствовал какое-то странное волнение и, отведя глаза в сторону, посмотрел туда, где было море.
— Вы правы, — сказал я. — Вдвоем нам здесь было тесно.
— Да, — сказал он приглушенным голосом. — Вдвоем здесь было тесно.
Наступила пауза, продлившаяся несколько секунд. Внезапно у меня в затылке появилась какая-то странная напряженность, которая тут же распространилась на плечи, словно кто-то направил на меня ружье или пистолет, и одновременно грудь мою сдавило резкое ощущение неминуемой опасности. Я стремительно бросился на пол и уцепился за низкую каменную кладку над самой бездной. В то же мгновение что-то тяжело дышащее споткнулось о мою ногу и перекувырнулось через меня, задев край стены. Я лежал, прижавшись к камням, втянув голову в плечи; в этот миг сверхъестественной тишины мое сердце приостановилось и я услышал, как тело дрябло и тяжело хлестнуло спокойные воды.
Несколько мгновений я лежал не шевелясь. Я висел над пучиной; абсолютное безмолвие этого плотно закрытого, как люк, вакуума и парализовавшее мой мозг оцепенение заставили меня машинально поднести руку к голове, как если бы на нее был надет матерчатый капюшон. Потом я неторопливо встал на ноги и с недоверчивостью, доходящей до абсурда, медленно поднял фонарь над головой. Желтый луч скользнул по мокрым плитам, резко высветил на фоне ночи пустую бойницу, настолько интригующе пустую, что я, как слепой, повел рукой и дотронулся до края камня, словно до рамы, за которой проломали стену. Никого больше не было.
Поиски продолжались до поздней ночи. На воду были спущены находившиеся на суше плоскодонки и все имеющиеся в наличности лодки Адмиралтейства, включая шлюпки «Грозного», которые спасательная команда, поднятая на ноги доносившимися с берега призывами, вывела в море, не дожидаясь приказания. Порой из тумана, словно призрак, скользящий по спокойным маслянистым водам, возникал человек, который плыл, выпрямившись во весь рост на носу лодки, держа в руках потрескивающий в тяжелом влажном воздухе факел; и долго-долго в тихой ночи пересекались друг с другом гортанные крики, полные тоски, понемногу переходившей в совсем неуверенное смирение. Труп не нашли; по мнению Джованни, а потом, по мере того как поиски представлялись все более и более тщетными, то и по всеобщему мнению, тяжелые сапоги и одежда капитана, вероятно, увлекли его сразу, как только он потерял сознание, в глубь вязкого ила лагуны, откуда на памяти людской не всплыло еще ни одно тело, — и кажется, никто не подверг сомнению мой рассказ о несчастном случае, о том, что капитан, пытаясь обогнуть пушку, поскользнулся на мокрых плитах. Сам же я в этом бесследном исчезновении видел скрытый смысл: мне казалось, что капитан, который никогда не жил по-настоящему в Адмиралтействе, а только наведывался туда наподобие скованного оцепенением духа земли, перешел в лоно черной ночи и спящей лагуны слишком подозрительным способом: его нельзя было не принять за один из тех знаков, к которым жизнь в Адмиралтействе научила меня присматриваться, словно сам дух тяжелых вод и заплесневелых камней, дух, в котором, казалось, цепенело само движение времени, в назначенный час и в заранее отведенном месте ушел в приют черных глубин, дабы наложить на них печать согласия и сна.
Тайные инстанции города
Я прибыл в Орсенну в поздний ненастный вечер. Тряска на размытых дорогах привела меня в дурное настроение; упадок и безлюдье этих пустынных территорий, через которые на сей раз машина в течение долгих часов ехала днем, навевали на меня дурные предчувствия: в тот момент, когда приближался, быть может, последний час Орсенны, мне, созерцающему дождливую серость ее глухих дорог, ее приютившиеся в ложбинах хилые и обваливающиеся овчарни, казалось, что я могу в полной мере оценить, какая же она все-таки обездоленная и слабая, — я словно почувствовал, как ее вместе с гуляющими по зябким степям ветрами осеняет само крыло Распада. У меня было такое ощущение, что даже взгляд мой как-то изменился: теперь при виде всех этих пейзажей меня уже поражали не замерзшие когти Города, повсюду тяжело вцепившиеся в рыхлую землю, а наблюдавшееся повсюду столь терпеливое стремление устранить все случайное и призрачное, что казалось, будто истертое лицо земли приоткрывает здесь завесу вечности. Эта земля теперь боязливо съеживалась под перегруженным лихими облаками небом; у меня было такое ощущение, словно небеса вдруг заняли все место и погрузившаяся в прострацию и погребенная в своей слишком долгой памяти жизнь этого пустынного края обратила наконец сонное любопытство своего пустого взгляда к тем растрепанным формам, к тем предзнаменованиям, которые неслись над ней вместе с ветром. Иногда возле жалких контор, где мы останавливались, чтобы забрать почту, стояли небольшие группы людей; может быть, эти погруженные в какие-то свои пассивные размышления степные пастухи провели там целую ночь, завернувшись в заменяющие им плащи тяжелые одеяла и неподвижно, как статуи, застыв под струящимся с неба ливнем. Они не разговаривали и не смотрели — тонкая струйка воды стекала у них с головных уборов и текла по носу, как по мраморной плите фонтана; и только когда наша машина медленно трогалась с места, они неторопливо поворачивали в нашу сторону свои праздные зрачки. По забрызгавшей их до самого лица грязи можно было догадаться, что некоторые из них пришли сюда издалека, и от их безмолвного стояния на часах, пока кто-то хлопотал вокруг нашей машины, на душе у меня делалось нехорошо: чувствовалось, через эти пристальные зрачки за нами исподтишка наблюдает весь край.
— Что они делают? — спросил я однажды, пока в машину укладывали мешки одного из начальников почты, покрытого почти такой же коркой грязи, как и они.
Начальник почты утомленно пожал плечами.
— О! Слухи! Слухи!.. Глупости! — добавил он во весь голос, упершись ладонями в бока и с раздражением глядя в сторону группы. — Иногда даже трудно себе представить, что творится в их бедных головах, — шепнул он мне на ухо доверительным тоном, — они живут здесь так изолированно… Вы только посмотрите на них: эти молодцы ожидают конца света или чего-то в этом роде, каково, а? Можно сказать, что к работе их руки не тянутся. Поверите ли, они видели знаки на луне! Не так ли, Фаусто?
Он похлопал по плечу одного из пастухов и соболезнующе подмигнул в мою сторону. Пастух важно вскинул голову.
— Да, знаки… — произнес он голосом ржавого замка. — Дурные знаки… Смерть, — продолжал он, качая головой и по-старчески, уже более высоким голосом, припевая, — смерть в пламени, которое придет по воде. Они назначили Орсенне семь раз по семь дней.
— Ладно, проваливайте отсюда, бездельники! — заорал выведенный из себя начальник почты. Он начал бросать в них камнями. Группа медленно, волоча ноги, словно гонимая усилившимся дождем, отошла на несколько шагов и там снова застыла в своем тупом ожидании.
— Их невозможно отогнать от дороги!
Начальник почты, весь раскрасневшийся, вытер лоб.
— Старые вороны! — разгневанно крикнул он им. — «Смерть в пламени, которое придет по воде». Послушаешь их и в конце концов сам тоже начинаешь бояться, — продолжал он, внезапно почувствовав себя неловко. — Я знаю, что здесь ничего не происходит, ничего не случается. Но бывают моменты, что даже я начинаю невольно всматриваться, не появится ли кто из-за поворота дороги.
Машина тронулась с места. Я увидел, как начальник почты вяло, как бы по привычке бросил в них еще два или три камня. Широкие плащи едва пошевелились, и я понял, что забава эта началась не сегодня и не вчера. Этот тип нашел свой наркотик.
В Орсенну я приехал поздно вечером. Улицы под сводами из нависших деревьев выглядели пустынными и зябкими; мне показалось, что город стал прятаться по домам раньше, чем обычно. В нижних кварталах рано поднимающийся над болотами туман уже заволакивал улицы; знакомый гнилостный запах коснулся моего лица, как чья-то незрячая рука, и кольнул меня в самое сердце: я вернулся к себе. Едва машина остановилась перед домом, как по ту сторону решетчатой ограды появились мой отец и Орландо, а по соседству распахнулись некоторые ставни. По острым взглядам обоих и по лихорадочно дрожавшим рукам моего отца, пока он возился с замком, я понял, с какой тревогой меня здесь ждали: чтобы отец вдруг пошел лично открывать посетителю дверь, такого здесь не припоминал никто.
— Приехал! Наконец-то, — сказал он, сжимая мне руки с чувством, которое он уже не контролировал, и большими шагами пошел к дому, увлекая меня за собой. Орландо, смущенный, инстинктивно пошел сзади, как бы уступив дорогу главному действующему лицу; я чувствовал у себя на затылке его полный смущения, уважения и сосредоточенности взгляд.
По мере того как я приближался к городу, я все больше и больше опасался этой встречи с отцом: зная его горячую кровь и его привязанность к официальной политике инертности, которой придерживался город, я боялся, как бы старик, от которого было уже невозможно скрыть что бы то ни было из моих проделок, не набросился на меня с яростными упреками; на зубах у меня заранее появлялась оскомина при одной только мысли о слегка театральной патетике, которую он умело привносил в свои наставления; во взаимоотношениях со мной он всегда любил (причем именно это-то и оказывало наиболее отрицательное воздействие на мои сыновние чувства) входить в роль, и я прекрасно знал заранее, насколько заманчивым могло для него оказаться амплуа отца, встречающего блудного сына. В легком нервном напряжении я ждал грозы, которая так и не разразилась. После того как меня быстро покормили ужином, мы все трое присели у камина, в воцарившейся тишине было что-то торжественное; отец зажег сигару, чего я никак не ожидал, ибо для него это был признак едва сдерживаемого приятного возбуждения; я еще заметил, что смущающая меня живость этих голубых глаз молодила его. Такое было ощущение, что он то и дело с трудом удерживает себя от резких, буйных жестов, и я почувствовал, что ошибся относительно его нетерпения: он был рад видеть меня, и в его отцовском взгляде, который он время от времени останавливал на мне, присутствовало чувство нескрываемого удовлетворения, словно к нему в коллекцию только что вернулся один из его драгоценнейших экспонатов.
— Мне кажется, Альдо, что сейчас о тебе много говорят, — произнес он наконец, и глаза его сощурились, с трудом пряча детское ликование. — Ты здесь растревожил все хоть сколько-нибудь романтические головы, правда же, Орландо? — сказал он, вынимая сигару изо рта. Глаза его смеялись. Орландо утвердительно кивнул с сосредоточенным выражением лица. Подобный прием со стороны моего отца, который мыслил, если можно так выразиться, категориями улицы и который обладал прекрасным басом, словно только для того и созданным, чтобы придавать органное звучание популярным песенкам, заставил меня задуматься. Я вспомнил о том, что сказала мне Ванесса про дующий на улицах ветер.
— А что, собственно, думают об этой истории? — спросил я уже менее неуверенным тоном и, решив включиться в игру, тяжело вздохнул, чтобы дать понять, скольких бессонных ночей стоила она мне. Мой отец больше всего на свете любил объяснять различные ситуации тем людям, которым они в силу каких-либо естественных причин были известны лучше, чем ему. — …В Адмиралтействе все пребывают в недоумении.
Старик кашлянул, чтобы прочистить голос, и принял свою позу прорицателя, то есть его стыдливо-таинственный взгляд остановился на лепном карнизе у потолка, выражая душевную уравновешенность и дипломатическую тонкость.
— Адмиралтейство является исполнительным органом, — уронил он с капелькой снисходительной иронии в голосе, расставившей все по своим местам, — от которого никому и в голову не приходит требовать, чтобы он думал. Надо сказать, что с тех пор, как я перестал официально выполнять свои весьма скромные функции, у меня больше нет доступа к секретам Наблюдательного (тон и преувеличенно небрежное сокращение давали понять, хотя и безо всякого на то основания, что дело обстоит вовсе не так). Я могу лишь сообщить тебе свободное и независимое мнение, абсолютно независимое, ты меня понимаешь, и никого ни к чему не обязывающее (в его голосе прошла энергичная и горькая вибрация Цинцинната, вернувшегося к своему плугу), — мнение человека, немного разбирающегося в делах и побывавшего не в одном водовороте.
Еще не будучи полностью уверенным в своей только что обретенной аудитории, он повернулся к Орландо, по чьему покорному виду я понял, что на протяжении последней недели ему пришлось играть весьма отвечающую его склонностям роль испытательного стенда для этого красноречия.
— …Твой друг Орландо, который в один прекрасный день станет одним из светил нашей Синьории, но который пока что еще не отказывается иногда черпать в опыте старика, знает, что я думаю обо всем этом. Я с беспокойством наблюдаю, как Синьория плавает сейчас между рифами, где, как мне кажется, можно вполне выбрать золотую середину. Да, Альдо, — произнес он озабоченно, желая быть абсолютно искренним, — я ведь не сегодня начал высказывать сожаления по поводу того, что традиции, естественно, достойные уважения традиции, слишком уж часто позволяют Синьории смешивать осторожность с бездеятельностью. Для Орсенны наступают новые времена, — продолжал он уверенным тоном, читая будущее, как в раскрытой книге, — и она должна встретить их лицом к лицу, но только без излишней горячности, должна взять в свои руки всю необходимую инициативу, хотя и проявляя осторожность, тут я вполне согласен. Кровь молодая, но опытная. Не надо себя обманывать: ситуация серьезная, хотя и не драматическая. И я опасаюсь, что персонал, сформировавшийся в рутинной обстановке иной эпохи, будет не на высоте той задачи, которую с бесспорной очевидностью ставит перед нами современность: пе-ре-смо-треть ситуацию в свете нового события. Кстати, как я уже не раз говорил твоему другу Орландо, это было чистым ребячеством: спать, засунув голову под крыло, и думать, что это новое событие заставит себя ждать бесконечно долго. Меня не пожелали вовремя услышать, — продолжал он с саркастической гримасой. — «Jam proximus ardet Ucalegon»[3]. Я-то всегда считал, что рано или поздно это все равно случится. Нужно было принимать решение; теперь это произошло, и что же мы видим?
Он выдержал риторическую паузу.
— …В наш сад упал камень, и вот наши лягушки заквакали, как будто они находятся в болоте. Где оно, правило всякой доброй дипломатии: «Знать, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы принять меры»? Не смыкается ли такая бездеятельность с бездумностью?
Предчувствуя, что поток может изливаться еще долго, я сослался на усталость и, не пытаясь разыгрывать чрезмерную вежливость, встал. Орландо стремительно последовал моему примеру. Старик после некоторого колебания задержал меня робким движением руки. Орландо понял, что его присутствие стесняет моего отца, и вышел в коридор первым.
— …Вызов тебе пришел сюда. Наблюдательный Совет переносит слушание твоего дела на послезавтра, — быстро произнес отец.
Он смущенно кашлянул. Его взгляд избегал моего взгляда; голос его вдруг опять стал торопливым и сбивчивым.
— …Я хотел сказать тебе, Альдо, поскольку у тебя, вероятно, будет случай поговорить там с моим старым другом Даниэло… Тридцатилетняя дружба… только вот мы мало встречались в последнее время… что я тебе разрешаю от всего сердца — эх!.. ну как-нибудь смягчая… необходимая корректность, — рассказать ему о нашей сегодняшней беседе. И сообщи ему, я хочу сказать… напомни ему, что все благородные люди сплачиваются вокруг Синьории… в общем, я хочу сказать… что я весь в распоряжении Города, учитывая такие серьезные обстоятельства… хотя и не драматические. Тревожные, хотя и не драматические, запомни. Ситуация требует мужества, хладнокровия, уравновешенности… и опытности. И дерзновенности! — воскликнул он после паузы.
Я вышел к Орландо в коридор.
— Он начинает сильно сдавать, — шепнул он мне безразличным голосом, — но, как видишь, флюгер вертится по-прежнему исправно.
— Уже, значит, так обстоят дела?.. — спросил я, по старой привычке беря его под руку, что сразу дало мне заряд бодрости, так как картина старческой деградации моего отца расстроила меня ужасно.
— Да, — сказал Орландо. — «Для Орсенны наступают новые времена». Твой отец имеет в виду вторую карьеру для себя, но я-то думаю, что-то здесь сейчас сходит с рельсов.
— Ты хочешь сказать, что здесь опасаются серьезных последствий этой истории?
Я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. Орландо остановился на секунду и задумчиво посмотрел на меня. Ночь уже полностью вступила в свои права, ленивый ветер теребил деревья в саду, и ветви там и сям сбрасывали на нас тяжелые капли. В его любезном, дружеском голосе сохранялась какая-то нота холодности, и я почувствовал, что он не решается говорить.
— Не знаю, самостоятельно ты действовал или по чьей-то подсказке, но в любом случае и твое поведение в этой истории, — начал он не спеша, — и сама эта стычка являются такой мелочью, что сами по себе не представляют ничего опасного. Кстати, о намерениях Синьории мне не известно ничего конкретного, хотя Бог ее знает: здесь ведь никто не отказывает себе в удовольствии что-нибудь приписать ей. Но климат плохой… Самое любопытное и дающее основание для некоторых опасений, — продолжал он, опустив глаза и играя цепочкой своих часов, — состоит как раз в том, насколько мало оказалось здесь людей, которые при первых известиях смогли взглянуть на эту историю трезвым взглядом.
— Орсенна изнывает от скуки, я знаю, — сказал я, неуверенно пожимая плечами.
— Да, как ни странно, но эти известия были восприняты ими положительно, — сказал Орландо задумчиво. — А тебе известно, — спросил он, силясь улыбнуться, — что, пребывая там, в своем Адмиралтействе, ты вошел здесь в моду? Твой отец не ошибся, когда попросил именно тебя порекомендовать и его тоже Синьории.
— Мне кажется, — сказал я с иронией, — что в былые времена ты не придавал такого значения мнению улицы. Я, кажется, даже припоминаю твои теории. Непроницаемые перегородки… Более тонкое сознание, находящее приют на вершинах…
— Они-то как раз меня и беспокоят, — сказал Орландо с озабоченным видом. — Обычно здесь просачивается достаточно слухов о том, что происходит в Синьории, и до меня они благодаря моей должности доходят раньше, чем до всех остальных. Надо сказать, что государственные секреты превратились у нас в нечто невинное — ты же помнишь, как мы в Академии смеялись над ними. Но сейчас произошли серьезные изменения. С некоторого времени возникла какая-то изоляция, обособленность… Твой отец глубоко уязвлен, ты сам заметил, оттого, что у него больше нет доступа к старику Даниэло.
— Послезавтра я его увижу.
Орландо задумчиво посмотрел на меня:
— Бог свидетель, я стараюсь не грешить излишним пиететом к влиятельным людям. И все же сейчас я тебе завидую. И многие орсеннцы позавидовали бы.
— Орландо вернулся к поклонению идолам?
— Не совсем, — сказал Орландо, нахмурив брови. — Шутки продолжаются, как и раньше, но смысл их уже не тот. Бывают дни, когда шутят, сознавая свою силу, и дни, когда шутят, чтобы найти утешение от черной тоски. Я вот упомянул влиятельных людей. Не исключено, что мы именно сейчас заново узнаем, что же это такое, власть.
Орландо остановился и положил руку мне на плечо. Я понял, что здесь нам нужно будет расстаться.
— Посмотри хорошенько вокруг себя, раз уж ты оказался на несколько дней в городе. Ничего не изменилось, а кажется, что все предстает в ином свете. На некоторых зданиях появляются никогда раньше не встречавшиеся огоньки, нечто вроде тех, что можно приметить на громоотводах перед грозой: такое ощущение, что земля собирает по своим источникам энергии в единый пучок все, что только у нее есть самого летучего, чтобы могла возникнуть молния. Люди и вещи остались те же, и тем не менее все изменилось. Присмотрись-ка.
Следующие два дня я практически целиком провел в городе. Известие о моем возвращении распространилось очень быстро; меня настойчиво звали к себе мои друзья; мало того, к своему удивлению, я стал получать приглашения даже в кланы, испокон веков закрытые для моей семьи, но похоже, что в Орсенне некоторые социальные запреты начали частично смягчаться. Всеобщее любопытство было сосредоточено на моей дальней экспедиции; я говорил мало, ссылаясь на то, что сначала обязан представить отчет Синьории. Как правило, стоило мне войти в какой-нибудь салон, там сразу же воцарялась тишина, причем по легко читаемому на лицах возбуждению я видел, что эта волна вымершей на минуту жизни принимается с радостью, словно порыв свежего ветра; в момент нашего расставания хозяева выглядели странно успокоившимися; иногда я ловил на лицах внимающих мне людей какое-то совершенно новое выражение: такое было ощущение, словно зрачки, напрягшиеся в усилии непривычного для них приспособления к освещению, устремились к такой далекой точке своего нормального поля зрения, что это придало им, как в какой-нибудь момент крайней усталости, беззащитное и непривычно отсутствующее выражение. Особенно безудержно предавались этому женщины; наблюдая за искрением их электризующихся по ходу моего рассказа глаз и за нарастающей злостью на меня, прочитываемой в глазах мужчин, я понимал, что в женщине заложены гораздо большие запасы эмоциональности и пылкости, которые не находят себе выхода в обыденной жизни и высвобождаются только во время глубочайших революций, тех, что освобождают сердца, тех, которым, дабы по-настоящему появиться на свет, похоже, требуется долго купаться в слепом тепле роженицы: так ореол, окружающий великие исторические фигуры, видится нам сначала, до их рождения, в зрачках женщин, получивших предначертание судьбы. Теперь я понимал, почему Ванесса оказалась моим проводником и почему такой бесполезной для меня стала попавшая в ее тень светлая часть моего духа: она принадлежала к тому полу, что всем своим весом виснет на вратах тоски, к таинственно покорному полу, заранее принимающему все, что начинается по ту сторону катастрофы и ночи.
Я был буквально потрясен, когда с помощью услышанных там и сям речей обнаружил, насколько же малая доля критической мысли участвовала в оценке того, что знали — с весьма приблизительной и весьма несовершенной точностью (распространенная заботами Ванессы версия сделала свое дело) — об инциденте в Сиртском море, и как же все-таки мало — к моему удивлению и к моей превеликой радости — люди заботились о том, чтобы беспристрастно распределить ответственность между участниками событий. До последнего времени наше общее достояние, формировавшее нашу политическую мысль, состояло из мелочного, крохоборческого пережевывания былых приоритетов и былых заслуг: каждый из орсеннцев, ощущая на себе почти физически вес нескольких веков, посвященных накапливанию невиданной массы богатств и опыта, считал себя соучастником в наследстве и вел себя — более или менее инстинктивно — соответствующим образом. Близость, ощущаемая в Орсенне более явственно, чем где-нибудь в других местах, к длинной веренице своих предков, даже нечто вроде сообщничества с ними, делая взгляд на происходящее неспособным к какой бы то ни было стихийной изменчивости, заражала дряхлостью любое рассуждение, не оплодотворенное пиететом к этой непрерывной и плодовитой длительности, накопление которой — и лишь оно одно — определяло истинную весомость каждого: все без исключения орсеннские партии были партиями исторических прав. После своего столь долгого отсутствия я был поражен, как же все-таки много появилось подспудных изменений. При этом в данный момент речь шла не столько о мелочном сведении счетов, сколько о появлении новых кредитов доверия. Новые, порой внушающие беспокойство лица дерзких говорунов вдруг возникали в самых что ни на есть герметически замкнутых кругах города, причем, похоже, никому даже и в голову не приходило потребовать у них рекомендации света, так что, глядя на то, как доверчиво их слушают, когда они без всякого стеснения разглашают и обсуждают якобы принимаемые Синьорией решения, допуская при этом кучу неточностей, только лишь ради того, чтобы поразить чье-то воображение, трудно было избавиться от чувства тревоги. Умами вдруг овладела потребность в чем-то неслыханном, и здесь, в этой скептической, старой столице, она проявлялась более сухо и сдержанно, чем в Маремме, которую захлестнула волна эмоций; казалось, что все наслаждаются, наслаждаются, как где-нибудь высоко в горах, где дышишь иным воздухом, где чувствуешь, что тело твое раскрепощено больше и воображение парит выше, чем ты смел надеяться; и людей меньше всего интересовало, откуда же берутся эти фантастические новости, почти ежечасно облетающие город: то обстоятельство, что они стремительно распространялись, исходя из сотен уст, придавало им такую устойчивую основательность, что ни у кого не возникало и мысли проверить их на прочность; создавалось такое впечатление, что они с каждой минутой становятся все тверже, что они застывают, как лед на пруду, по которому можно ходить, и они действительно свидетельствовали о необычайном изменении температуры. Одурманенный дух требовал от Орсенны, как воздуха, которым дышат, свою привычную дозу ежедневных перемен: отсутствие таких перемен могло привести его в состояние неудовлетворенной потребности, правда не переходящее в тоску, поскольку недостатка в поставщиках наркотика не было. Особенно много их оказалось — что не могло меня удивить — в окружении старого Альдобранди, чей авторитет в свете как раз в этот момент достиг апогея. Теперь уже больше никто и не вспоминал ни о его изгнании, ни о его отягощенном интригами прошлом: в этом обществе, которое перестраивалось, отдав швартовы, подобно снимающемуся с якоря теплоходу, все упования и все безмерное доверие сконцентрировались исключительно на людях, от которых ждали, что они придадут бодрости экипажу во время плавания, и тут, в такой момент, когда каждый предчувствовал, что всем им вот-вот предстоит погрузиться в стихию, тревожное и порочное прошлое этого скитальца, немало поплававшего по подозрительным морям, сразу сделало его фигурой гораздо более престижной, чем засидевшиеся в Орсенне ее именитые граждане. Я мельком, в течение нескольких минут видел его в салоне матери Орландо, которой я нанес краткий визит, и меня поразила его внешность, поразила тем, что он выглядел не как человек, подхваченный идиотским поветрием успеха, а как человек, моментально и лихорадочно осознавший, что вдруг пришел его заранее отмеченный на циферблате час. Он казался необыкновенно помолодевшим; правой рукой он порывисто дотрагивался до своей короткой черной бороды, а его сверкающие, как у мрачного волка, глаза во время беседы поражали своей живостью и молниеносной реакцией фехтовальщика. Он говорил, небрежно роняя короткие, отрывистые фразы, как человек, уже привыкший к тому, что его слушатели подбирают за ним крохи; вокруг него беспрестанно сновали, входя и выходя, люди, которым он иногда, не прекращая разговора, писал на бумажке какие-то слова. Его силуэт, окруженный чем-то вроде маленькой группы раболепных придворных, возвышался над ними и, казалось, расцветал, как цветок, в конце каждого из его призывных жестов, словно удлиняясь и расширяясь, в то время как город вокруг него сжимался и уменьшался, отчего казалось, что он, преодолевая стены, мгновенно устанавливает прямой контакт с каждой из живых точек Орсенны. Его мимика и речи выглядели причудливыми из-за того, что они как бы соотносились с нормами уважения и презрения, надежд и опасений, совершенно неадекватными тем, которые считались нормальными в Орсенне; уже один только его взгляд вместе с модуляцией его голоса сообщали новизну всему; так на глазах варвара из войска Византийской империи на неподвижных, состарившихся землях рождался более молодой, не существовавший даже в воображении пейзаж: города, которые будут стерты с лица земли, возделанные поля, снова превращенные в пастбища, земли, где обоснуется его племя. Под его взглядом возникало новое социальное расслоение; он походил одновременно на мистагога, на руководящего операцией военачальника и на биржевого маклера. Он принадлежал к той фауне, что постепенно, дом за домом, овладевала самыми горделивыми кварталами города.
В Орсенне чем ближе люди находились к видимому центру власти, тем меньше — особенно по сравнению с Мареммой — там думали о Фаргестане. Наиболее страстные дискуссии разгорались о том, будет ли Синьория демонстрировать свою военную силу или же возобладает традиционная политика и не воспользуется ли она недавним инцидентом как поводом для возобновления контактов и прекращения старой ссоры: в этой Срединной империи, которая для укрывшегося за стеной пустынь Города стала формой самовосприятия, похоже, никто не мог допустить и мысли о том, что противник рассуждает и принимает решения совершенно самостоятельно, независимо от намерений, формирующихся у города — у города, с давних пор не имеющего никаких намерений. Так что по выходе из атмосферы панического страха, наполнявшей легкие в Маремме, в Орсенне по контрасту казалось, что мысли движутся в обстановке ирреальной, почти фантасмагорической безопасности — из-за печати, налагаемой на людей повседневным общением с трухлявым, но сохранившим оболочку городом, все обращали внимание прежде всего на знак, а не на то, что за ним скрывалось. Внешняя убедительность доносившихся до меня рассуждений, похоже, черпала свои ресурсы в своеобразной и уже ставшей для меня непонятной логике: за привычно звучавшими в ушах словами я постоянно различал след какой-то неизвестной величины, всеобщее признание которой давало мне некоторое представление о ней, — и сколь же велик был разрыв между «Сиртским флотом», от безупречной весомости которого распухали уверенно говорившие о нем уста, и гниющими в илистых лужах нашего порта плоскодонками; между небрежно роняемым замечанием о «дикарях», которых следует хорошенько проучить, и тревожным воспоминанием об ироничном и самоуверенном силуэте, нанесшем мне визит в полночь несколько дней назад. Овладевшее городом лихорадочное возбуждение не имело никаких благоприятных внешних факторов для распространения — обедненное воображение даже не представляло себе, что это такое, — а то, что имелось в этом салонном возбуждении наивно-детского, объяснялось тем, что Орсенна как бы стращала саму себя, оказываясь неспособной найти какое-либо иное средство избавления от скуки. К возможности экспедиции или же войны относились с тем большим попустительством, что почти у всех представление о том и о другом было абстрактное, бесцветное и даже несколько фантастическое: уже больше не существовало глаз, способных воспринимать и оживлять образ мощно занесенного для удара орсеннского кулака, который долгое время разгонял непрестанно заволакивавшие границы хлопчатые туманы; а вот что касается возможного влияния происшествия на ход внутренних дел, то тут, напротив, происходили постоянные прикидки и имели место самые что ни на есть неистовые преувеличения; возможность серьезного внешнего кризиса рассматривалась почти исключительно сквозь призму переброски личного состава: порой случается наблюдать, как согнутый годами столетний старик, забывший, что ему теперь уже никак не поспеть за ритмом планеты, вдруг с комическим вниманием принимается изучать проспект только что появившегося нового средства против болезни печени — так разваливающаяся и на три четверти уже завоеванная империя реагирует (государства всегда свято верят в то, что они умирают стоя) на свою абсолютную неспособность к дальнейшему существованию какой-нибудь бойкой заменой кабинета министров. Одним словом, в Орсенне я обнаружил народ, которого ничто и никогда не предрасполагало мыслить трагически. Столкнувшись со столь не вписывающейся в обычное понимание задачей, в которой неизвестных оказалось больше, чем заданных величин, Орсенна реагировала с упрямой близорукостью дряхлого организма: подобно тому как пожилой человек по мере старения все успешнее и успешнее отодвигает на задний план столь неотложные и важные заботы, как заботы о смерти и вечности, рассуждая при этом, что дело чести в его случае состоит в том, чтобы продолжать двигаться, подобно «нормальному человеку», город, не подозревая, что он давным-давно отодвинул себя на задний план, даже и не помышлял о том, чтобы спросить себя, откуда же это, из-за каких пустынь прилетел поднявшийся накануне ветер и почему все-таки дрожат руки, берущие, казалось бы, столь хорошо знакомые карты, постоянно одни и те же, которые он так долго, до отвращения перемешивал, пребывая в наивной уверенности, что все, что относится к нему, там уже фигурирует и может быть в любой момент легко прочитано. Поскольку долгая, превратившаяся в науку техника игры, все больше и больше нарушающая сам ее дух существующими в ней правилами, бессознательно убеждает его, что неукоснительность правил никогда не будет подвергнута сомнению — хотя бы уже только потому, что и он сам многое принес им в жертву, и потому, что они существуют реально и уже сумели перекосить его наподобие какого-нибудь дерева или камня, — комбинации в Орсенне могли меняться, но никому с давних пор и в голову не приходило, что могут измениться сами правила: для того чтобы это произошло, нужно было бы сначала понять, что речь идет всего лишь о правилах.
А когда, покидая салоны с их парадными, скованными светским притворством беседами, и отправляясь бродить наугад по улицам города, я старался наполнить легкие и дать им пропитаться новым воздухом, которым теперь дышали в Орсенне, то я чувствовал, что светлая часть идей, та, что еще осталась, уже перестала быть самой значимой и что повседневная жизнь лепечет на каком-то странном, не зафиксированном ни в одном из словарей языке. В этом раскинувшемся на теплых землях городе жизнь вне дома всегда несла на себе — возможно, то был отблеск древней военной дисциплины, впитанной им еще в эпоху становления, — отчетливо проступающую печать суровости и холодности: Орсенна, где в одежде преобладали темные тона и строгие покрои, где женщин отличала высокомерная сдержанность, а мужчины не завязывали бесед на улице и не скапливались в толпы, в глазах экспансивного населения южных областей, удивляющихся подобной сухой гордыне, Орсенна выглядела «ледяным сердцем» Синьории: здесь, как ни в какой другой столице, почти физически ощущалась давняя близость великой власти, частицу которой в себе склонен был уважать каждый житель, а тем более каждый гражданин. Однако теперь, к моему удивлению, орсеннская улица стала оживать. Казалось, она притягивала людей сильнее, чем обычно; теперь люди обращались там друг к другу, даже не будучи знакомыми, и стоило только какому-нибудь голосу прозвучать громче обычного, как равнодушный беспорядок уличного снования, казалось, тут же начинал намагничиваться: черные силуэты слипались вместе, напрягая слух и как бы надеясь, что эти же уста донесут до них звук далекого голоса, что вот-вот раздастся шепот оракула, который, может быть, высвободит в них самих нечто такое, что они не смогли высказать и что, будучи высказанным, принесло бы им какое-то смутное облегчение. Теперь погруженный в вечерние улицы взгляд уловил бы в движении кишащих там черных точек уже не разобщенную и нестройно жужжащую в сумерках массу насекомых, а скорее мелкую металлическую пыль, которую непрерывно подхватывали и слепляли в комки невидимые магниты; в этот час, несущий более тяжелое, чем обычно, бремя судьбы, иногда возникало такое ощущение, словно начертанные историей на земле Орсенны главные силовые линии вдруг вновь начали заряжаться активной электрической энергией, вдруг вновь обретали способность повелевать этими остававшимися в течение долгого времени разрозненными тенями, внемлющими теперь, помимо своей воли, доносившемуся из зоны прописных истин шепоту. В результате верхний город — то ядро, из которого когда-то выросла Орсенна, — теснившийся среди болот на крутом холме вокруг собора Святого Иуды и сурового феодального замка Наблюдательного Совета, по вечерам снова видел, как по его извилистым улочкам течет толпа, которая уже давным-давно покинула его ради более просторных и более деятельных кварталов низин, куда переместилась большая торговля; казалось, что город вновь каким-то таинственным образом восстановил свою нервную систему и что после нескольких часов работы сердце его вновь обрело свой нормальный ритм. Мелкий люд из предместья, толкавшийся до позднего вечера на этих темных улочках с глухими и гулкими фасадами, превратил их в биржу новостей, в учебный плац и в открытый для всех вольных ораторов театр; с тех же самых перекрестков и из тех же подворотен, откуда в былые времена взметнувшиеся цеховые стяги подавали сигнал к мятежам, теперь неслись воинственные крики и шовинистические подстрекательства, а открытые, кричащие рты порой зияли такой беспросветной чернотой, словно через них извергался весь тот мрак, что таился до этого в могилах города. Как пользующиеся дурной славой места прячутся порой в тени святилищ, так и старый Альдобранди перебрался в верхний город и расположился там в своем логовище, в своем городском доме, покинув ради него свой угрюмый дворец в Борго, и по мере приближения к нему на близлежащих улочках все больше чувствовалось какое-то особое брожение толпы: речи там становились грубее, слова категоричнее, оттуда шло множество воинственных призывов, и нередко там возникали драки; поговаривали, что с наступлением ночи в ход там идут менее возвышенные аргументы, что кто-то щедрой рукой раздает серебро и разливает вино; особенно тревожный знак увидел я в том, что на подступах к дворцу упорно избегала появляться совершающая свои ночные обходы полиция: это значит, что там уже создавалось — как всякий раз при ослаблении власти — в результате сложного взаимодействия страхов, расчета и инертности нечто вроде концессии, или свободной зоны, куда инстинктивно тянулся всякий сброд, растягивая ее края, отчего зона все расширялась и расширялась, как какое-нибудь истертое там и сям полотно, на котором, едва его немного потянешь, обнаруживаются места истонченной фактуры, готовые вот-вот порваться; хотя никто и не желал этого признавать, но в Орсенне уже появились островки неповиновения. Днем там гневно возмущались общепризнанной слабостью Синьории перед лицом провокаций, а ночью старались аргументировать свое мнение, взламывая пустые лавочки и воруя часы: подобные доводы оказывались довольно эффективными.
Однако это, похоже, никого не волновало, поскольку даже среди чиновников, ответственных за безопасность города, на такие симптомы, как ни странно, смотрели вполне благодушно; мало того, смутьяны могли даже рассчитывать как минимум на полусообщничество. Городом овладело нечто вроде ускорения: все, что, казалось, шло вперед, двигалось быстрее, вызывало у людей тайную зависть или восхищение, в чем, правда, они признавались не всегда. В самых что ни на есть закрытых салонах появился новый предрассудок, издержки которого Альдобранди, пользовавшийся теперь в этих салонах полной свободой действий, покрывал с непревзойденным цинизмом: малейшее порицание действий его банд было бы расценено как признак дурного тона, как проявление безнадежно устарелого мышления, как безоговорочное осуждение того исторического момента, о котором модно было говорить словами «времена изменились». А почему они изменились, этого не смог бы сказать никто, но не исключено, что люди так выражались вовсе не ради красного словца и не ради того, чтобы констатировать какое-то конкретное изменение порядка вещей: скорее, то было своего рода притязанием на способность улавливать момент зарождения ветра, момент, когда незаметно тяжелеет воздух и когда, не имея никакого материального доказательства, мы все же безошибочно узнаем об «изменении» погоды. Причем новым казался не только более зловещий грозовой тон, омрачивший внутренний пейзаж каждого жителя — словно все они теперь принялись читать загорающееся сполохами будущее сквозь затемненные очки, — но и сам явно изменившийся ритм орсеннского времени. Посреди высоких стен, то замкнутых и строгих в своей средневековой наготе, то убранных в немыслимые гипюры, которые, словно наряд безумной ночи, разбросали по фасадам века изобилия и радостной лихорадки накопления, когда нездоровый, поднимающийся в Орсенне по вечерам ветер сметал с дороги последние опавшие листья, а последние прохожие нижних кварталов исчезали из виду под редкое хлопанье тяжелых дверей, в такое время у меня появлялось — от ходьбы по расширявшимся в вечернем свете улицам, которые казались подметенными специально для того, чтобы их мостовую покрывали шаги новой толпы и освещало солнце нового дня, — никогда ранее не испытанное ощущение того, что по улицам, пересекая их, течет само время, течет, струится потоками, как кровь. И складывалось такое впечатление, словно каждый, прильнув к этому источнику, черпает там надежду и силу, как в первом порыве ветра открытого моря; такое естественное братство, объединяющее людей на улице, независимо от того, к какому они принадлежали классу, независимо от их бедности либо богатства, походило на братство людей, плывущих на одном судне и связанных друг с другом единой жизнедеятельностью всего экипажа корабля в тот момент, когда он снимается с якоря и когда в воображении слова «смерть» или «болезнь» бледнеют, а их место занимают слова «тайфун» или «кораблекрушение». Великое исключительное право, принадлежащее всем людям, ослабляло натяжение пружин ревности и зависти, выравнивало ряды и перемешивало податливую массу бушующей толпы, а народ, целый народ, получивший это право, прильнул к земле, внутренним слухом уловил, что настало время выйти на сцену, и, повинуясь инстинкту, вырвался из трущоб и подземелий и стремглав, не разбирая пути, бросился на свет, на свет того великого дня, который стоит того, чтобы в нем сгореть.
Такие мысли приходили мне в голову, когда в уже густых сумерках короткого зимнего вечера я направлялся по улочкам верхнего города к старому дворцу Совета. Неожиданно возникшее у меня желание пройтись пешком заставило меня отослать назад традиционную закрытую машину, которую из осторожности присылал Наблюдательный Совет, предпочитавший не привлекать внимания прохожих к тем редким, переступающим его порог силуэтам, которых он считал нужным приглашать. Погода стояла ясная и холодная; сухой северный ветер рассеивал поднимавшийся с болот туман, и иногда из постоянно меняющего направление городского лабиринта, за узкой, как траншея, потоком сбегающей по склону улочкой, открывался вид на голубоватый, распластавшийся внизу город с его первыми светящимися звездами, которые окаймляли похожие на тучи в небе черные пятна близлежащих лесов, а из казарм в прозрачном воздухе разносились кристальные, словно очищенные расстоянием протяжные ноты труб; такой же вот тяжелой лавой тек по земле укрывшийся за горизонтом ото всех взглядов Город, едва заметным профилем вырисовывавшийся в глубинах каждой мысли, когда на него смотрели из своих орлиных гнезд древние правители. Из далеких домиков, затерявшихся на кромке лесов, поднимались одна за другой струйки дыма, которые, сливаясь воедино, покрывали легким маревом выставивший вверх свои башни и колокольни центр города. Горизонт, ставший на севере уже неотчетливым, сливал свою извилистую линию с высокими лесами, а в просветах улочек, спускавшихся в противоположном направлении, вдали еще можно было различить более светлые полоски: невозделанные южные степи, которые начинались за Мерканцей; старые торговые дороги все еще поблескивали слабо там и сям, покрывая глубокими рубцами убегающую перспективу спящих равнин; рынки, крепости, склады, места битв согласовывали свой ритм со шрамами этой мертвой лунной поверхности, распростершейся под спокойной невозмутимостью звездного неба; тот, кто читал Орсенну, как открытую книгу, сказал бы, что она в этот час повернула к небу свою раскрытую ладонь. Идя в этот час по продуваемым ветром, резко меняющим свое направление улицам, пересекая закованные в латы твердокаменных фасадов и похожие на глубокие колодцы маленькие площади, глядя на все это скопление суровых, четко очерченных глыб, из которых состоял начинавшийся недалеко от монастыря и от крепости верхний город, я остро ощущал присутствие их строгой мощи и печальной суровости. Из этой обсерватории, расположившейся под твердым, как бы остекленевшим небом, по которому были прочерчены строгие линии, остальная земля, морщинистая, с бегущими по ней размягченными тенями, виделась, как с мостика военного корабля: здесь должны были обитать, питаясь лишенным вкуса и аромата воздухом, который омывает высокие скопления голых камней, дух высоты и засухи, лишенные влаги, никогда не моргающие веки, подолгу сощуренные над своими таинственными и точными визуальными приборами, и отвердевшие зрачки, созданные для того, чтобы расшифровать точки и линии — тот бесплотный чертеж, каковым представала отсюда земля Орсенны.
Сколько я ни повторял себе, что меня вызвали в Наблюдательный Совет, скорее всего, лишь затем, чтобы получить от меня дополнительные сведения по поводу отправленного мною донесения, и что для меня, занимающего столь скромную должность, не могло быть и речи о том, чтобы прикоснуться к тайнам событий, все же, по мере того как я приближался к дворцу, мною овладевали лихорадочная дрожь и сильнейшее любопытство. Накануне у меня состоялась более конкретная, чем до сих пор, беседа с Орландо, который, как и прежде, обладал всей, какую только можно было получить, информацией о борьбе влияний и о дисбалансах, имевших место в высших эшелонах власти. Даже делая скидку на страсть Орландо окружать ореолом таинственности и романтизма все политические дела — обычно присущую людям, находящимся на обочинах большой политики и склонным инстинктивно преувеличивать ее блеск, дабы отсвет его упал и на них самих, — я вынужден был признать, что в последнее время незаметно для орсеннцев в Наблюдательном Совете почти все пространство оказалось заполненным одним силуэтом, причем как раз силуэтом старого Даниэло, который «некогда был» таким близким другом моего отца. Как объяснил мне Орландо, смысл, который вкладывала в его продвижение находящаяся у власти группа, становился ясным при сопоставлении — как при игре в детскую мозаику — результатов нескольких, с подтасовками, голосований, проведенных в последние месяцы для обновления Совета и нацеленных на то, чтобы ощутимо усиливать его позицию, не привлекая внимания к очевидным изменениям. Благодаря своему отцу я уже давно знал о существовании подобной, более тонкой, чем кулинарное искусство, практики «дозирования», с помощью которой победившая партия — а средствами для этого Синьория обладала поистине неограниченными — крошечными вкраплениями включала в политическое тело на первый взгляд совершенно чужеродные ему элементы, и я был вполне готов разделить мнение Орландо о том, что эта столь осторожно проводимая операция могла иметь весьма далеко идущие последствия. По его мнению, провокационную суету вокруг фигуры Альдобранди умышленно организовали для того, чтобы замаскировать эту подрывную деятельность и чтобы спровоцировать создание очагов сопротивления где угодно, но только не там, где сопротивление могло бы дать результаты; он давал мне понять, что эта операция по овладению позициями уже на три четверти завершена и что даже тех сведений, которыми располагал он сам, было достаточно, чтобы назвать ее «абсолютно удачной»: как он считал, старый Даниэло уже располагает безусловной поддержкой семи членов Наблюдательного Совета, что представляет собой в момент решающих голосований «необходимое большинство» и делает практически бесполезными любые возражения меньшинства. Так что со вчерашнего дня личность старого Даниэло вызывала у меня особый интерес: что-то подсказывало мне, что полученная в Адмиралтействе инструкция, столь поразительно отличавшаяся от обычной безликой писанины Синьории, вышла из-под его руки; теперь мне захотелось отнестись к старческой болтовне моего отца не столь легкомысленно — хотя бы уже только потому, что именно отец высказал, как нечто естественное, льстящую моему самолюбию мысль о том, что я, может быть, встречусь с ним. Я попытался сконцентрировать свои мысли на том, что мне о нем известно, в частности на том, что я почерпнул из разговоров с отцом, и теперь я сердился на себя, что слушал его речи не столь внимательно, как следовало бы; малая толика, оставшаяся в моем сознании, выглядела, при всей разрозненности воспоминаний, достаточно рельефно, но то были хотя и живописные, но не стыкующиеся друг с другом детали, как все, что доходит до нас сквозь дымку детства. Наиболее примечательным фактом его карьеры было то, что, выбрав с юных лет путь чисто научных и философских изысканий (он был автором «Истории истоков», считавшейся в Орсенне самым авторитетным исследованием о периоде становления), он уже в шестьдесят с лишним лет — то есть тогда, когда большинство государственных мужей, состарившись, скорее уже начинают в биографиях Агафокла или Марка Антония искать оправдание своим былым деяниям, — принялся вмешиваться в политические интриги города, но предрассудки этого ученого мужа, такие, как выжидательность и инертность, надолго взяли верх, сдерживая ход второй его карьеры, несмотря на все доказательства настойчивости и целеустремленной воли, которые он не замедлил представить. Из-за тяжелого характера друзей у него было мало; за исключением тех часов, что он был вынужден проводить на государственной службе в городе, все остальное время он, как говорили, жил почти совершенно один среди книг на своей вилле в Бордеге. На основании нескольких рассказанных мне отцом или услышанных в городе анекдотов возникал портрет человека, обладающего неиссякаемым запасом мизантропии и презрения к людям, человека резкого, почти безумного; однако после того, как стихал в салонах вежливо-сдержанный смех, раздавались голоса, признававшие за ним «характер», в них неизбежно скользило — будто тень хищной птицы с мощными когтями вдруг промелькнет над овечьим стадом — что-то вроде робости и осторожности. Впрочем, было много странного в том, что в Орсенне, где от претендентов на власть в качестве непременного условия требовалось, чтобы их родственные связи, их более или менее тайные изъяны, их верность тем или иным кланам составляли в сумме солидный залог, позволили подняться на самые высшие ступени власти столь независимому во всех отношениях человеку. У него не было ни жены, ни любовницы, ни друзей, ни явных пороков, ни беспокойного прошлого; казалось, что у него нет и признаков той покрытой шрамами корки, вяло дотрагиваясь до которой политики начинают чувствовать себя увереннее, проявляя свою привычную, не лишенную вульгарности цепкость; эта нагая и гладкая, но долгое время не обнаруживавшая себя, тщательно скрываемая сила напоминала скорее, по словам Орландо, покоящийся в ножнах меч. Однако Даниэло нес на себе проклятие города: он был стар, он состарился в Орсенне; я рисовал себе в воображении тщедушный силуэт, дряблые и сухие руки, зябкие шажки под длинной мантией члена Совета — Орсенна износила немало других таких до него, — и я знал, что нередко оставалось от человека, после того как он, превратившись в эту величественную и изможденную тень, расставался, дабы пролезть в игольное ушко власти, с неприемлемыми для нее независимостью, волей и надеждами.
На подступах к самому Совету не было заметно ни малейшего признака суетливости или каких-либо хождений, по которым можно распознать нервные центры городов в момент кризиса. В этот час, когда дворец уже покинули и мелкие чиновники, и обслуживающий персонал, он казался почти пустынным, а редкие встречавшиеся мне за поворотами коридоров силуэты после отработанных ими положенных часов теперь перемещались с пугающей непринужденностью, даже с небрежностью, с той франкмасонской фамильярностью, которая со временем устанавливается у гостей с хозяйкой; эти тени, эти знаменитые фамилии то и дело приветливо перекликались, называя друг друга по имени, обменивались чем-то вроде паролей и короткими, казенными, непонятными мне репликами, никак не способствовавшими восстановлению моего душевного равновесия; я чувствовал, что оказался в особом, замкнутом мире: даже сам воздух, которым дышали в этих зияющих, чопорных залах — очень сумрачных из-за темных ромбовидных оконных переплетов, которые как бы ускоряли наступление ночи, отчего осмелившиеся проникнуть в эти дремотные пространства шаги тут же глохли, — воздух, казалось, нес слабую примесь особой, более летучей эссенции, одной из тех, о которых говорят, что они существуют в виде воспоминания; едва обратив на себя внимание, она тут же исчезала, причем чувствовалось, что в ее тончайшей гамме — время, которое, вместо того чтобы пожирать самое себя, казалось, здесь осветляется, сгущается, подобно отстою старого вина, и обретает тот почти духовный аромат некоторых очень благородных напитков, выдержанных долгие годы, которые, если можно так выразиться, взрываются прямо на языке это все или почти все; было такое ощущение, словно не воздух содержится в пространстве между стенами, а сами старые стены сохраняются благодаря ему, совсем как те сваи, которым прогнившие болота придают вечность камня, — словно этой нематериальной, состарившейся субстанцией продолжали питаться и позолота на угасших потолках, и толстая потрескавшаяся кожа стен, и плотная материя тесаных столов, и варварские, грубо сколоченные дубовые стулья с высокими спинками; продолжали питаться, незаметно черпая в ней и глянец, и жизнь, покидавшую призрачные тени, в которых еще продолжал слабо, как во время зимней спячки, биться пульс. Подобно некоторым памятникам старины, более витиевато закрученным, чем колонии полипов, более органично покрытым коркой веков, чем все остальное, подобно тем памятникам, с которыми народ связывает конкретное выживание очень древних городов, дворец этот был дном Орсенны и почти материальным воплощением непрерывно образовывавшихся в ней слоев, он был ее питательной почвой, обеспечивавшей рост почти живого рифа веков, который все еще удерживал на поверхности ее огромную массу.
Служащий, сопровождавший меня от самого входа во дворец (в одиночку в коридорах Наблюдательного Совета не ходили), провел меня в темную и довольно низкую комнату на самом верхнем этаже. Один из ее углов занимал тяжелый, старинной формы стол; необычно массивный и разукрашенный драгоценными чеканными пластинами, он странным образом воскрешал в этом одряхлевшем дворце память о варварских веках Орсенны, об инкрустированных необработанными драгоценными камнями железных коронах, о цветшей пышным цветом дикости средневековья. Стены, как и во всем дворце, были снизу доверху обиты темной кожей со стеганой прокладкой внутри; сквозь окна, в которые были вставлены узкие рамы с закрепленными в них помутневшими стеклами, проникал теперь лишь очень слабый, наводящий тоску свет, словно дворец стоял посреди глубокого, как колодец, двора; между тем одно из них было приоткрыто, и узкий прямоугольный просвет позволял видеть очень чистое, уже темневшее небо, и прикованный к нему взгляд, как взгляд заключенного, внезапно устремлялся через спускающийся вниз по склону город к горизонту дальних лесов; постепенно слабое мерцание стоящей около стола на консоли лампы погасило остатки дневного света и придало комнате нечто вроде поборовшего сон равновесия и неизъяснимого уюта — такого, которым порой мы дышим в часовнях, — проникавшего в меня вместе с едва осознаваемым ощущением душевной защищенности, вместе с неожиданно возникшей полной доверчивостью человека, понимающего, что его здесь ждут. Я услышал рядом с собой скользящие, приглушенные шаги, строгие и вместе с тем полные какой-то непостижимой легкости, как у отслужившего мессу и идущего по своей церкви священника; мне на плечо опустилась рука, точнее, не опустилась, а лишь слегка коснулась его, но с определенным нюансом — исключительно тонким, словно сыгранным на клавиатуре, — сдержанной и доброжелательной непринужденности, отчего, даже еще не успев обернуться, я уже понял, как находящееся сзади меня лицо улыбается.
— Так это, значит, вы… — произнес голос, очарование которого заключалось в его невыразимой непринужденности, словно все легко касающиеся ушей слоги, отчетливые, гладкие, новые, выныривали один за другим из какой-то прозрачной жидкости.
Старый Даниэло скользящим жестом снял руку с моего плеча и, неторопливо обойдя мой стул, встал передо мной, не произнося ни слова. Мне показалось, что на мгновение его доброжелательная улыбка стала какой-то натянутой; когда я попытался встать, рука его снова опустилась мне на плечо с такой мягкостью и снисходительностью, какие позволительны лишь человеку, перед которым все ходят по струнке.
Он, казалось, совсем не торопился сесть и, стоя передо мной на фоне теперь уже совсем побледневших окон, как бы играл своим чуть склоненным надо мной странным и длинным силуэтом, не без некоторого самолюбования человека, отдающего себе отчет в своих преимуществах. Черты его лица и взгляд терялись в почти непроницаемой тени, но в напряженной неподвижности его фигуры — кстати, весьма гибкой, которую длинная мантия Совета делала почти элегантной, — было что-то гнетущее. По некоторому едва заметному налету театральности, с которой начинался наш разговор, я почувствовал, что в этих стенах, где утонченные традиции тайной полиции переплетались с опытом крупных процессов (в былые времена немало орсеннских лиц бледнело при одном лишь воспоминании о допросах в Наблюдательном Совете), игра велась вплотную к человеку, почти без запрещенных приемов, и что во время бесед с глазу на глаз самым неприятным зачастую был их слишком конкретный характер.
— Я очень любил вашего отца, Альдо. И уже давно хотел с вами познакомиться…
Когда он садился, свет лампы косо скользнул по его лицу и зацепился за блеснувшую грань знаменитого царственного носа рода Даниэло, настолько резко бросающегося в глаза, что я испытал своего рода шок, как если бы узнал гуляющего по улице короля по его выгравированному на монетах профилю. Вокруг его затуманенных, как бы объятых тяжелой дремотой, но вместе с тем настороженных серых глаз — глаз охотника на диких зверей и в то же время глаз видящего наяву сны мечтателя — витало что-то вроде дымки. У него было лицо человека с тяжелой кровью, человека, полного грубых страстей и полновесных земных аппетитов. Тем не менее складывалось такое впечатление, что какая-то присущая ему горячность все время испепеляет в нем некие тяжкие, лежащие на всем отметины: некую почти изысканность, выглядевшую еще более неестественной оттого, что она была явно неуместной, некую неловкую, почти неуклюжую кротость, печать которой ложится на лицо обращенного в веру наемного солдата, когда за ним после многих лет свирепой войны надолго захлопывается дверь монастыря.
— …Жаль, что это происходит при столь печальных обстоятельствах.
Он резко вскинул голову, посмотрел на меня своими серыми глазами, и я весь напрягся на стуле, но следующие слова изрядно меня озадачили.
— Не смогли найти, как мне сказали, тело капитана Марино. Мы все очень переживали. Он был прекрасным офицером и преданным солдатом.
Голос как бы нашел нужную тональность и стал тоньше, как просунутый в щель ноготь.
— Я знаю, что вы подружились с ним.
— Капитан был человеком прямым, лишенным изъянов. Я его действительно любил и был благодарен ему за то, что он сильно облегчал выполнение моих функций в Адмиралтействе.
— Мне известно, что капитан предпочел бы покоиться в орсеннской земле, — с неожиданной торжественностью продолжал голос. — Он заслужил это право, как никто другой. Прошу вас проследить, когда вы вернетесь в Адмиралтейство, чтобы поиски были продолжены.
Пальцы его нерешительно, скучающе постукивали по столу, и мне даже на какой-то миг показалось, что аудиенция вот-вот закончится. В серых глазах промелькнуло сонное, усталое выражение. Мне вдруг стало как-то очень неуютно.
— Сны вам не снятся, господин Наблюдатель?
Тон вопроса был бесстрастно-вежливым. На какую-то долю секунды я замер с глупым выражением, потом почувствовал, как кровь отлила у меня от лица и пальцы мои вцепились в подлокотник.
— Я полагал… — начал я срывающимся голосом. Я чувствовал, что во рту у меня пересохло. — Бог свидетель тому, что я полагал…
Я наполовину привстал со стула, охваченный внезапной паникой.
— …Инструкции, которые я получил, показались мне… я хочу сказать, позволили мне предположить… Я подумал, что в них между строк было выражено желание, чтобы я отправился туда посмотреть, — сказал я ему с пересохшим от волнения горлом.
Серые глаза смотрели не моргая, но на его полупросветлевшем лице обозначилось что-то вроде улыбки.
— Успокойтесь, сядьте… Кровь у вас горячая, что вполне естественно для очень молодого человека. Ну, ну! — добавил он, слегка наклоняясь ко мне, с иронией и почти ласковой благосклонностью. — Я же не говорю, что сам я сплю спокойно.
С груди моей сразу свалился огромный груз, и я понял, что на протяжении уже многих дней я жил, стараясь не дышать. Тот, кто сидел напротив меня, обладал властью связывать и развязывать. Мною овладело безумное желание: поцеловать сухую и длинную руку, свисавшую передо мной в тени с подлокотника кресла.
— Каким количеством моряков, находящихся в настоящее время на суше, располагает сейчас Адмиралтейство? — спросил вдруг меня отрывистым и четким голосом старый Даниэло, поднимая голову.
Он держал в руке карандаш и тихо постукивал его острием по письменному столу.
— Двумя сотнями, если не считать тех, кто занят приведением в боевую готовность береговых батарей.
— Марино, вероятно, известил вас о том, что в ближайшее время в ваше распоряжение поступят две канонерские лодки. А два только что отремонтированных сторожевых корабля прибудут к вам с недоукомплектованными экипажами; вы укомплектуете их на месте.
— Но…
— Я знаю, — отрезал внезапно спокойным и довольно низким голосом черный силуэт, обнаруживший вдруг свою усталость. — Это выходит за рамки ваших обязанностей. Однако обстоятельства диктуют нам свои условия. Преемник капитана Марино пока еще не назначен. К тому же на месте вы располагаете помощью опытных офицеров.
Что-то в доброжелательной интонации его голоса подсказало мне, что преемника назначат еще очень и очень нескоро. Я почтительно и несколько скованно поклонился.
— Я сделаю все, что в моих силах, если я заслужил доверие Синьории.
— Доверием «нашим» вы не располагаете, — возразил голос, в котором теперь заиграла нота убийственной иронии. — Вы не заслужили его и никогда не располагали им. Вы располагаете нашим… признанием. Это все, что может сделать государство, оказавшееся в неопределенной ситуации, когда многое зависит от воли случая.
От усталости у него передернулось лицо, и он сразу показался мне очень старым.
— …Я поведаю вам один правительственный секрет, — продолжал он, поднимая голову и улыбаясь куда-то в пространство, — секрет, раскрывать который перед исполнителями не очень-то желательно, — это секрет слабости. Когда случается какой-нибудь непредвиденный инцидент и дела принимают дурной оборот, то поначалу на месте всегда сохраняют человека, с которого все началось. Это вам не кажется странным? — спросил он, вдруг пытаясь поймать мой взгляд.
— Может быть, для этого существуют какие-либо неизвестные мне основания, — сказал я смущенно и осторожно.
— Я вижу несколько оснований, — сказал он медленно и отчетливо. — Естественная леность ума, присущая славным правительствам. Инстинктивное стремление обезопасить себя по отношению к общественному мнению, которое всегда, когда вожжи натягивают слишком быстро, склонно считать, что раньше «было проявлено попустительство», и для которого, однако, если дела принимают слишком уж дурной оборот, стоит иметь в запасе весьма и весьма черного козла отпущения. Нет, в данном случае я думаю не о вас… — улыбнулся он, видя, как я без особого удовольствия морщу лоб.
Казалось, он на миг задумался, и взгляд его принял неопределенное, почти отсутствующее выражение, которое просто поражало меня на этом лице с мощными челюстями.
— …Есть, быть может, и еще одно основание, более неопределенное, с трудом поддающееся логическому объяснению. Когда какой-то человек оказывается по-настоящему замешанным в некоторых слишком крупных для него, выходящих за рамки его возможностей делах, убеждение, что некая часть его личности осталась недопонятой — коль скоро по ее вине произошли такие вещи, — заставляет опасаться кощунства, заключающегося в стремлении разделить по полочкам то, что было объединено событием. Вам не кажется, господин Наблюдатель, что есть люди, принадлежащие определенным деяниям, деяниям труднодоступным и непостижимым из-за того, что оказалась убранной лестница, без которой перебраться от них к нему уже невозможно?
— Если я и принадлежу этому деянию, то принадлежу не один, — сказал я бесцветным голосом. — Одно-единственное недвусмысленное слово со стороны Синьории, и ничего бы не случилось. Но я не могу сказать, что мне представлялась возможность прочитать такое слово.
Резко, словно вдруг перестав контролировать свои движения, старый Даниэло встал со своего кресла и принялся медленно ходить по комнате. Он выглядел каким-то особенно молчаливым. Когда он поворачивался, то вся его черная мантия легко шуршала, и пламя лампы слегка колебалось. Он походил на человека, который встает посреди ночи и ходит по комнате, сгибаясь под бременем слишком тяжелой мысли; такое было впечатление, словно он забыл о моем присутствии.
— Нет, вы не ошиблись, — сказал он наконец глухим голосом, — напрасно я бы стал отрицать. Вам дали и повод, и разрешение. Я не знал, отправитесь ли вы туда или нет. Но я знал, что это не исключено. Я знал, что оставляю дверь открытой.
— Почему вы позволили случиться этому? — тихо спросил я, наклонившись к нему.
Он бросил на меня подозрительный и высокомерный взгляд, взгляд человека, находящегося у руля власти, которого неожиданный вопрос застал врасплох; получилось, что я расспрашиваю его, и в течение нескольких мгновений он колебался, не принять ли ему величественную позу, но потом едва заметным жестом опустил голову.
— Есть такие вопросы, которые здесь, в общем-то, не задают. Но я пригласил вас без свидетелей…
Он опять улыбнулся какой-то отсутствующей улыбкой, как человек, продолжающий вести учтивую беседу, пряча в рукаве оружие. На миг в голове у меня промелькнуло воспоминание о тюрьмах Наблюдательного Совета и о тайно приведенных в исполнение приговорах, но теперь я испытывал уже не чувство страха, а полностью заглушившее его чувство острого, почти болезненного любопытства.
— Кому еще и давать объяснение, как не тому, кто способен его понять? — сказал он вдруг с необыкновенно задушевной улыбкой. — То, что я тебе сейчас скажу, здесь бы никто не услышал. И никто не услышит от тебя, — добавил он быстро и резко, — я здесь хозяин, Альдо, и вздумай ты рассказать кому-нибудь что-то из услышанного, это тебе дорого бы обошлось. Мне хочется поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной, потому что ты мне близок, потому что я час за часом следил за тобой издалека, потому что я был той силой, которая поддерживает тебя и продвигает вперед, потому что я был вместе с тобой на корабле…
Он опять принялся медленно ходить взад и вперед.
— …Я любил власть, — продолжал он довольно громким голосом, плохо согласующимся — как у человека, говорящего во сне, — с резонансом и размерами комнаты, отчего приходилось напрягать слух. — Грех жаловаться на собственное удовольствие… Она тешила меня на протяжении долгих лет. Власть, Альдо, значит очень много; поскольку ты здесь тоже можешь в свою очередь добиться большого влияния, то не верь тем, кто захочет внушить тебе отвращение к власти. Существует такая философия, которая разрастается, как лишайник на развалинах; ее сторонники прославляют воздушные субстанции и предают анафеме то, что зарождается на плодородных почвах; они будут предостерегать тебя против суетности опыта и отвращать от всего, что проросло не от засухи; но только поверь мне: не стоит жалеть усилий, потраченных на то, чтобы пустить корни, и государство всегда стоит того, чтобы им управлять, даже если это государство разваливается. Понимаешь: движешься между двумя живыми изгородями склонившихся людей, а когда ты интересуешься людьми, то зрелище склонившего голову человека действительно заслуживает того, чтобы задержать на нем свое внимание: выигрываешь время — они ведь лишь в таком положении выделяют свой собственный аромат, без примесей; чтобы побыстрее узнать характерный запах какой-нибудь древесной породы, нужно сломать ветку пополам. Таким вот образом, совсем недавно, Альдо, я узнал твоего отца — оказалось, что я совершенно не знал его: он просто был в течение двадцати лет моим другом; понадобилось, чтобы он пришел попросить меня назначить его на должность. Я получил живейшее наслаждение, а кроме того, меня привлекла еще одна вещь: в течение тридцати лет я был человеком книг, ну и что! Я знал историю во всех ее подробностях, взаимосвязь, объективную необходимость и механизм событий, знал все, за исключением одной вещи, являющейся великой тайной — тайной детской, потому что ее понять можно, лишь попробовав ее руками; меня озадачивала ошеломляющая легкость, с какой все делается. Обнаружил я и еще один, почти неиссякаемый источник наслаждения: констатировать, что машина работает, что стоит только нажать на кнопку, и в движение сразу приходят тысячи винтиков. Вначале было такое ощущение, будто то, что я вижу, происходит не наяву: оказаться перед всеми этими ручками и крутить их, крутить… даже голова немного кружилась; а потом появляется еще одно развлечение: когда к одной и той же цели стараешься прийти разными путями. Можно долго-долго без устали смотреть, как шестерни впиваются в тело: выделения разминаемой человеческой материи — это, уверяю тебя, аромат, который бьет прямо в нос, это совсем не то, что понять устройство мельницы. В общем, она доставила мне немало приятных моментов, вся эта механика, от которой визжали не только зубчатые колеса; то было хорошее время, я о нем не жалею. А потом, потом пришло нечто другое…
Он немного помолчал; казалось, пытался настигнуть в складках своего лба какую-то раздражающую его мысль.
— …Это приходит не сразу, Альдо. Это возвещает о своем появлении издалека, причем только пунктирно, — потому что жизнь, скажу я тебе, всегда бывает заполнена, — поначалу возвещает о себе чем-то вроде отрывистых, очень неотчетливых мерцаний, напоминающих первые зарницы в конце летнего дня. Нечто, располагающее временем. Нечто такое, что не торопится, а сначала набирает вес в одиночку, потому что может подождать, потому что знает, что ему будет принадлежать все. Как своеобразная заботливость, которая таковой, собственно, и не является, или пока что не является, которая дает тебе большие передышки, дает больше передышек, чем все остальное, но при этом упорно отказывается смешиваться с остальным, которая высокомерно отходит в сторону и предпочитает даже исчезнуть, чтобы только не входить ни в какую сделку, и для которой, как ты в конце концов поймешь, ничто не имеет значения, кроме одного-единственного конкретного часа, но такого часа, по сравнению с которым все остальное не имеет никакого смысла, часа, когда это нечто набросится на тебя и станет для тебя всем. Женщина, которой суждено испепелить всю твою жизнь, нередко заявляет о себе с помощью каких-нибудь небрежных отлучек: время от времени тихий стук в окно, почти неслышный, но отчетливый, резкий, с легким отзвуком стук, от которого слегка вздрагиваешь и который не спутаешь ни с каким шумом; вот она прошла перед тобой, и в глубине души ты уже понял, понял раз и навсегда: может быть, придется еще ждать, ждать очень долго, но отныне один нерв в тебе, притаившись, будет всегда настороже, будет без устали ждать, не реагируя ни на какие другие шумы, когда повторится тот единственный звук. Что касается меня, то я ждал этого удара согнутым пальцем по стеклу со стороны Фаргестана.
В затишье, сменяющем время от времени гул ткущейся вокруг меня деловой суматохи, вдруг проскальзывало какое-то странное, почти бестактное безмолвие — некий озадачивающий провал, как во время оживленной беседы, который, если поддаться искушению и соскользнуть в его образовавшуюся пустоту, заставляет тебя совершенно неожиданно встретиться взглядом с двумя открытыми глазами, двумя взирающими на тебя в полной тишине глазами, умеющими смотреть так, что вокруг них воцаряется полное безмолвие. Именно с таким вот безмолвием я и столкнулся. За ним скрывалось нечто такое, что шевелилось, надвигалось, поворачивалось так и сяк, подавало мне знаки, иногда, как мне казалось, отступало вглубь, но ни на миг не теряло меня из виду; с этим «нечто» мне было назначено свидание, была назначена не обещающая ничего хорошего встреча с глазу на глаз. Когда оно приближалось ко мне, в груди у меня зарождалось острое ощущение собственной силы: среди всех остальных возможных деяний было одно такое деяние, о котором уже никто не думал и которое я мог совершить. Это деяние словно крестило мир. Оно отнюдь не было завершением чего-то, напротив, с него все начиналось заново. Оно было чревато опасностями, казалось неосмотрительным: оно претило и людскому благоразумию, и интересам города… Мир, Альдо, ждет от некоторых людей и в некоторые часы, чтобы они вернули ему его молодость; у врат невнятное клокотанье и толкотня, и эти врата ждут не дождутся, когда же их наконец распахнут, ждут позволения, которое прольет бальзам на души; мог ли я тут предаваться мыслям о безопасности старого, загнивающего города? Города, замурованного в своих недвижных камнях, города, окоченело лежащего под своим саваном, — а чему способен возрадоваться недвижный камень, как не возможности вновь нестись в русле потока?
Старый Даниэло устало опустил руки на подлокотник и, обхватив лоб ладонями, немного помолчал. Меня вдруг поразила глубина окружавшей нас тишины; отдаленные шумы совсем опустевшего дворца давно уже стихли, и теперь комнату наполнял отчетливый звук качающегося маятника, который легкими движениями, словно лапка насекомого, царапал гладкое безмолвие. Я смотрел на очерченный оконной рамой квадрат теперь уже совсем черного неба: тихий свет нескольких сверкающих на нем звезд падал, как в колодец, в душную комнату. Мне внезапно показалось, что такого безмятежного покоя, как в этот вечер, не было еще нигде и никогда: слабый, ровный свет теплой комнаты зачаровывал своим магическим безмолвием уснувший город.
— …Зачем мне вдруг понадобилось рассказать тебе все это? Рассказать тебе?.. — задумчиво, ровным голосом продолжал Даниэло. — Наступает такой момент, когда для нас становится невыносимой мысль о том, что смысл какого-либо уникального поступка — самого уникального в нашей жизни поступка — может оказаться навсегда утраченным. Я думаю, что момент давать свидетельские показания уже наступил, — сказал он с какой-то странной улыбкой.
Я хранил молчание. Мне нечего было сказать — да старик и не ждал от меня никакого ответа, — уже на протяжении нескольких минут я чувствовал, что мое присутствие воспринимается им все менее отчетливо и что он говорит с самим собой, проявляя удивительное невнимание к моим словам и к моим жестам; казалось, что он говорит над смертным одром.
— …Город… — сказал он, и на лицо его упал холодный блик, похожий на отсвет далекого пожара. — Мне кажется, что я могу говорить о Городе. Он был для них чем-то вроде наследства, передаваемого в целости и сохранности тем, кто вправе на него претендовать, был неким уголком земли, за которым ухаживают и с которым расстаются; для меня же он был костром, дожидавшимся моего факела, — некоей вещью, которая ждала от меня, чтобы я придал ей смысл и предал ее огню. У меня, как мне кажется, были с ним более тесные отношения, чем у всех остальных.
Я, Альдо, все время издалека наблюдал за тобой. Я знал, что ты что-то замыслил и что достаточно будет всего лишь отпустить поводья. Я то и дело думал об этом предприятии — даже вовсе и не о предприятии, а так, о каком-то позволении, о простом согласии, — и через него лавиной устремлялось все потенциально возможное, все то, из-за чего, вздумай я вдруг воспрепятствовать этому мероприятию, мир стал бы беднее. Вздумай я ставить на его пути препоны, мир обеднел бы безвозвратно. А вне этого предприятия не было ничего, только мумифицированный покой этого призрака, только пустота, усиливающая непристойную зевоту да обостряющая слух, который возник лишь затем, чтобы внимать слабому привычному скрипению гроба. Это ужасно, когда человеку приходится быть дамбой, когда он вынужден одевать в броню вакуум и превращать свою волю в брошенный поперек потока камень. У меня было время набраться серьезности, и я успел избавиться от желания преуспеть, а тут речь шла лишь о том, чтобы поторопить приход… Мир, Альдо, цветет благодаря тем, кто поддается искушению. Мир оправдывает свое существование только тогда, когда его безопасность постоянно ставится под вопрос. Я хотел просто рассказать тебе, как все происходило, — продолжал он чуть-чуть более непринужденно по сравнению со всей остальной беседой, тон которой не выходил за рамки светского разговора, — и именно поэтому-то мы и встретились здесь сегодня.
— А теперь? — спросил я с неуверенной интонацией в голосе, скорее лишь для того, чтобы нарушить тяжелое молчание, потому что я не знал, как мне реагировать на это непринужденное и вежливое признание, сделанное стариком словно бы и не мне, а кому-то другому, за кого он ошибочно меня принимал на протяжении целого вечера.
— Теперь? — сказал Даниэло, с некоторым оттенком удивления поднимая брови. — Когда ты отправился в это свое… плавание, ты ведь, кажется, Альдо, не задумывался над тем, что стоит за твоей спиной. И никто здесь не задумывался. Есть нечто более настоятельное.
— Более настоятельное?
Глаза Даниэло сощурились, и лицо его обрело какое-то острое, почти болезненное выражение.
— Есть нечто более настоятельное, чем сохранение жизни, так ведь, Альдо, коль скоро Орсенна продолжает жить. Есть еще ее спасение. Не все же кончается на том пороге, на котором ты сконцентрировал все свое внимание.
Взгляд старика на миг задержался на красной печати лежавшего на столе пропуска. В его глазах не было ни ненависти, ни страха, а только какой-то очищенный от примесей отблеск созерцательности. В моем сознании вдруг возникла странная параллель: я вспомнил про то общество, которое в Маремме распоряжалось теперь всей информацией о Раджесе; вспомнились мне и слова Орландо про «дозированное» проникновение в Орсенну нового духа, точно вдруг перемычка какая-то образовалась — лицо того ночного гостя из Фаргестана — между этими двумя крепнущими в тени силами. Такое было ощущение, словно старый Даниэло вновь натянул нить того оставившего меня в недоумении разговора, который я не сумел поддержать из-за отсутствия ориентиров, а потом взял да и спрятал в глубине своих затуманенных зрачков его тайный смысл.
— Это не тот ли самый пакт, к которому вы апеллируете? — спросил я его, пораженный внезапно всплывшим в моей памяти словом. — Тот пакт, от которого вроде бы зависит судьба города?.. Следует ли понимать так, что вы уже решили за него его судьбу и выбрали самый худший вариант?
Старик пожал плечами.
— Выбирать… Решать… В моей ли это было власти? То, что город сейчас получил, дал себе он сам. А что касается пакта, то лишь он и мог вернуть городу его мощь. Нужно было только, чтобы он в нее поверил, и здесь уж повлиять на ход событий не мог абсолютно никто.
— Что же город получил?
— Он получил свою судьбу, — сказал Даниэло, отводя взгляд в сторону, как врач, сообщающий роковой диагноз. — Неужели же ты не видел Знаков? Разве ты не видел, — продолжил он с мечтательной иронией, — как здесь все чудесно омолодилось?
— Это невозможно, — страстно вскричал я. — Нет такой судьбы, которая отказывала бы в праве выжить.
— Ошибаешься, Альдо, речь идет не о том, чтобы выжить, — холодно сказал старик. — Я не политик. У политиков есть свое время. Время, когда нужно лавировать между подводными скалами; а есть еще время, когда нужно пробираться сквозь мрак, зажав в кулаке нить. Ту самую нить, за которую ты держался и которая привела тебя туда, где ты побывал.
— Я выполнял распоряжение, — сказал я резким тоном, — или, во всяком случае, считал, что выполняю. На мне не лежало бремя ответственности за город. А на вас лежало.
Даниэло устало и раздраженно пожал плечами.
— Ты действительно так считаешь?
Мне показалось, что на мгновение он глубоко задумался, и морщины у него на лбу снова устремились в погоню за навязчивой мыслью.
— …Видишь ли, когда ты держишь в своих руках руль государственной машины, то нет большей незадачи, как позволить разойтись сцеплению; один раз такое со мной случилось, и я был очень удивлен, когда обнаружил, что у Орсенны сцепление срабатывает только в одном месте. Все, что направляло внимание в сторону Сирта, все, что способствовало развитию связанных с ним процессов, заставляло крутиться старый механизм с почти фантастической легкостью, а все, что не касалось их, неожиданно упиралось в стену инерции и незаинтересованности. Эти процессы стремились извлечь пользу из всего — из жестов ускоряющих, из жестов тормозящих, — словно человек, скользящий по склону крыши. Едва речь заходила о Сирте — как бы тебе это описать? — все мобилизовывалось, словно по мановению волшебной палочки. На заседаниях Совета эта тема, как муха, которую тщетно пытаются прогнать, вдруг садилась, казалось бы, без всякого на то повода или с помощью какой-нибудь уловки: на стыке фраз или в глупом каламбуре — садилась на мертвые уста, на угасшие и неожиданно, подобно головне, загорающиеся лица. Когда стоишь у власти, приходится постоянно заниматься самым срочным, а самое срочное, как это ни парадоксально, всегда оказывалось той самой несуществующей вещью, что издает свой немой крик — более энергичный, чем все остальные шумы, потому что больше, чем все остальное, он похож на чистый голос, — вещью, спящей в чреве Города, и заранее, еще до своего рождения, искавшей себе место, деформируя все вокруг себя и создавая в чреве чудовищное зияние будущего… Мы все несли ее в себе.
— Да, — сказал Даниэло, и снова мне показалось, что он смотрит прямо перед собой, куда-то в пустоту, — в этом деле все были сообщниками, все помогали. Даже тогда, когда полагали, что противодействуют ему.
— Старый Альдобранди, как мне показалось, и наверняка кто-нибудь еще отнюдь не полагали.
Даниэло снова пожал плечами.
— Временами, когда я гляжу на Альдобранди и его клику, мне кажется, что я наблюдаю эффект самозарождения. Если бы Альдобранди не было, Орсенна придумала бы его… Да и тебя тоже, — продолжал он, поворачивая ко мне свои невидящие глаза, — если бы тебя не было, город придумал бы тебя.
— Возможно, — ответил я, немного помолчав. — Но здесь-то! Неужели и в самом деле никто ничего не взвешивал? Ничего не подсчитывали, прежде чем… рискнуть?
— Ничего, Альдо. Только делали вид. Либо подсчитали, но исходя из ложных данных, ориентируясь на неверные цифры, которые никого не обманывали, но позволяли сохранять видимость достоинства. Ведь если бы подсчитывать, то это помешало бы пойти на риск, а как раз риск-то и притягивал к себе. Да даже и не риск… — добавил он бесцветным голосом. — Возможно, бывают в жизни такие моменты, когда к будущему устремляются, как на пожар, в панике. Такие моменты, когда оно отравляет организм, как наркотик, и когда у ослабленного организма нет сил ему сопротивляться.
— Знаю, — сказал я с усилием. — Я видел, как эта болезнь распространялась в Маремме. Возможно, заразился ею и я сам… К счастью, пока еще есть время. Вы же знаете, что у вас есть средство вновь все усыпить.
Старик медленно выпрямился и с ледяной, почти нечеловеческой решимостью уперся своим взглядом в мой взгляд.
— Ты ошибаешься, Альдо. Слишком поздно.
— Слишком поздно?..
Я сильно побледнел и невольно встал.
— Слишком поздно, Альдо, теперь уже я ничего не решаю. Теперь на сцену вышла Орсенна. И Орсенна не отступит.
— То есть вы хотите…
— Да, что бы ни произошло; и хочу еще, чтобы Бог был нам в помощь, так как он нам очень понадобится.
— Вы с ума сошли!
Даниэло медленно, без удивления и без обиды, поднял на меня глаза, которые, казалось, моргнув один-единственный раз, омылись в каком-то глубоком, ледяном источнике и стали внезапно необыкновенно далекими.
— Похоже, ты очень сильно ошибаешься в том, что касается смысла моего присутствия на этом месте, — холодно и спокойно возразил он мне. — Я здесь нахожусь не случайно. Неужели ты думаешь, что Орсенна сейчас не решится крупно играть?
— Я думаю, что теперь я отчетливо вижу, куда ведет ваша собственная игра, для которой во всех странах мира есть только одно название.
— Ну так произнеси его… — сказал старик тем же удивительно спокойным голосом. — Не решаешься?
Скупым жестом он отодвинул несколько лежавших перед ним на столе бумажек.
— Пойми меня, Альдо. То, что я говорю тебе здесь, не услышит никто. Временами это бывает так ужасно: чувствовать себя абсолютно одиноким; а с кем еще мне поговорить, как не с человеком, который ближе мне, чем кто бы то ни было другой, и который побывал там. Все будет представлено наилучшим образом, все будет облечено в безукоризненные формы, и старые благородные парики, которые впору вообразить выгравированными на дереве, один за другим кивнут в Сенате в знак одобрения, когда я буду читать свой доклад, словно всю жизнь они только этим и занимались: разве можно не верить голосу самой Родины? Голос Родины?.. Громче всего он звучит именно тогда, когда речь идет о том, чтобы подвергнуть себя опасности без всякой на то необходимости; а что касается языка, на котором этот голос будет вещать, то мне не составит труда дать тебе общее представление о нем; это будут здравые и приличествующие обстоятельствам голоса покойников — вот она, азбука мудрого правления, — к которым Орсенна — ей всегда кажется немного нелепым, если к ней обращаются в настоящем времени, — питает некоторую слабость и прислушивается. «Честь Орсенны»… Наглый вызов неверных… Богу было угодно рассудить этот спор несколько веков назад, и не наша вина в том, что он разгорается вновь… Усиливающаяся угроза первооткрывателям Сирта… Наши вооруженные силы, крепнущие (что им весьма пригодится) от спокойной уверенности в нашей правоте. Уже одна только угроза отделения — даже не говоря о десятке других, еще более существенных причин — требует, чтобы мы проявили твердость…
Он снова засмеялся своим странным гортанным смехом, и снова этот резкий, печальный смех оборвался, словно задохнувшись.
— Нет, ты не думай, что я такой циник. Все то, что будет произнесено, будет полуправдой. Как обычно. Война никогда не бывает полностью проигранной заранее, и, естественно, признавая себя не правым, государство рискует потерпеть поражение при отягчающих обстоятельствах. Именно такими вот полуразумными доводами и занимаются канцелярии: фабрикуют аргументы, которые способны выполнять не только декоративные функции, но и помогают заткнуть брешь. Они, конечно, фальшивые, я с тобой согласен, но фальшивые прежде всего потому, что они здесь оказались вместо других.
— Неприемлемых?
— Не принятых. Нет такого языка, Альдо, на котором дряхлеющее государство могло бы рассказать о своих сокровенных недугах, подобно тому как больной рассказывает о них врачу. И это очень плохо, что нет такого языка. Обычно правителей старых государств считают коварными и лицемерными от рождения. Словно никто и не заточает в темницу лицемерия старика, у которого рушится буквально все и от которого требуют, чтобы он продолжал держать себя в руках! Словно и не существует заговора — причем близкие ведут себя более жестоко, чем все остальные, — призванного помешать ему говорить о своих маленьких недомоганиях, от которых он вот-вот умрет. А ведь ему так хочется. А ведь иногда это ему так необходимо. Болезни-то его вовсе не мнимые. А вокруг него все говорят, говорят; ведут с ним, как ни в чем не бывало, разговоры о наследствах и семейных неурядицах, о дивидендах, бракосочетаниях, судебных процессах, о текущих делах. Словно дела так и останутся вместе с ним, словно они нагонят его там, куда он вот-вот уйдет! Иногда — все чаще и чаще — посреди суматохи наступает затишье и доносится шум, слышимый лишь ему одному, шум накатывающихся на берег волн, которые стремительно уносятся в открытое море вслед за уплывающим кораблем. Я говорю тебе эти вещи, потому что я старый, говорю тебе как человек, испытавший все это на себе, потому что старился я не в уединении.
— Мысль, подводящая итог? — произнес я, невольно пожав плечами. — Что за глупость!
— Это не мысль, Альдо. Ты понял уже многое, но для того, чтобы понять это, ты еще слишком молод. Это даже и не навязчивая идея. Это последнее волеизъявление.
— Вы хотите сказать…
Его уверенный тон взбудоражил меня сильнее, чем мне хотелось бы в этом признаться.
— …Никто в Орсенне не жаждет покончить жизнь самоубийством, уверяю вас. Насколько мне известно, никто. Все это нелепо.
— Ты, Альдо, говоришь не совсем то, что думаешь. «Самоубийство» — это слишком сильно сказано. Государство не умирает, просто исчезает определенная его форма. Распадается пучок. Наступает такой момент, когда то, что было связано, начинает хотеть, чтобы его развязали, а слишком отчетливая форма испытывает желание вновь раствориться в неопределенности. И когда наступает такой час, то я считаю это желанным и хорошим делом. Это называется умереть хорошей смертью.
— Чтобы Орсенна распалась? И кто же этим займется?
— Одиночество, — задумчиво произнес Даниэло. — Усталость от самой себя, которая рано или поздно наваливается на все то, что на протяжении слишком долгого времени жило в тисках слишком абсолютной сплоченности. Вакуум, образующийся у нее на границах — нечто вроде потери чувствительности, которая появляется на онемевших участках кожи, словно она утратила осязание, — приводит к утрате контактов: вокруг Орсенны образовались пустыни. Мир — это зеркало, в котором она пытается разглядеть свое отражение и не обнаруживает его. Вот уже многие годы, Альдо, я живу, прижав ухо к ее сердцу; там не прослушивается уже больше ничего, кроме погребального стука да шума черной волны, которой суждено ее накрыть. Уже столько времени Орсенна избегала всякого риска. Уже столько времени Орсенна не участвовала в игре. Живое тело облегает кожа, благодаря которой оно и осязает, и дышит; а вот когда возраст государства исчисляется многими веками, то уплотнившаяся кожа превращается в стену, в великую стену; это значит, что настало время протрубить трубам, чтобы стены обрушились, чтобы века ушли в небытие и чтобы сквозь пролом появились всадники, прекрасные, пахнущие дикими травами и ночной свежестью всадники с потусторонним взглядом в глазах и развевающимися на ветру плащами.
— Разумеется, — нервно сказал я. — А спустя какое-нибудь мгновение на остриях пик уже вздымаются головы. От таких событий лучше держаться подальше.
Даниэло выдержал небольшую паузу и высокомерно посмотрел на меня.
— Моя кровь принадлежит Городу, — произнес он с оттенком холодной решимости и одновременно с дрожью в голосе. — Все, что я делал, было служением ему… преступным служением. Неужели ты думаешь, что я мог бы пережить его, если дойдет до этого?
— До этого?.. Но кто же вас заставляет? — бросил я ему с какой-то отчаянной яростью. — Достаточно одного вашего жеста, одного только жеста, никак не компрометирующего вашу гордыню, и все успокоилось бы. Жеста, который вы в состоянии сделать. Который также вы можете сделать, так как здесь вам подчиняется все.
На миг старик как бы заколебался, потом выдвинул ящик стола и протянул мне бумажный свиток.
— На вот, прочти, — коротко сказал он.
Это был полицейский рапорт из Энгадды, жалкого селеньица в глубине Сирта, которое служило перевалочной базой для перемещавшихся по крайнему югу караванов. Рапорт был краток и конкретен. В нем сообщалось, что один из прибывших в Энгадду караванов имел у водного источника Сарепта контакт с группой пеших кочевых гасанидов, которые зимой в тех краях — где извивается существующая лишь теоретически линия границы — появляются исключительно редко. Отряды фаргестанской армии согнали их скот с расположенных далеко на востоке пастбищ, реквизировав при этом часть лошадей для своей кавалерии; согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, фаргестанская армия, численность которой не поддается определению — но «многочисленная», — двигалась в течение нескольких дней вслед за ними в направлении границы, огибая Сиртское море с востока. На вопрос о том, когда гасаниды могут возвратиться на свои пастбища, предводитель головной группы, улыбаясь, ответил, что и скот, и лошади, которых они запрягают в свои повозки, пробудут здесь очень недолго, потому что «всем известно, что хорошие зимние пастбища находятся по ту сторону границы». Когда эти новости распространились, населением Энгадды овладела паника; полиции, дабы успокоить людей, пришлось срочно эвакуировать женщин и детей в Маремму и раздать оружие годным к военной службе мужчинам. Начальник полиции просил срочно направить ему инструкции относительно того, как вести себя «перед лицом этой новой ситуации».
— Стало быть, они уже идут! — сказал я, и весь мой гнев сразу пропал, уступив место ощущению уверенности и необыкновенного спокойствия, словно оцепенение пустыни вдруг пронзил шум тысяч фонтанов, словно пустыня вокруг меня, услышав топот многомиллионной армии, вдруг расцвела.
— Да, — сказал старый Даниэло, и мне показалось, что лицо его вдруг наполнилось светом. Он с сосредоточенным видом встал и подошел к окну. В темном прямоугольнике виднелся все тот же кусок черного неба, спокойно поблескивали все те же звезды. Напряженное ожидание, пронизывавшее ночной покой, было таким глубоким и таким сокровенным, что казалось: вот-вот раздадутся чьи-то шаги.
Покинул я дворец Совета очень поздно. Старый Даниэло пригласил в свой кабинет офицера связи при службах Наблюдения, и мы долго говорили о том, какие меры нужно срочно принять в Адмиралтействе. Было решено организовать ежедневное патрулирование и отныне совершенно забыть о предусмотренной регламентом «линии», которая ограничивала их диапазон в направлении открытого моря; в сложившейся ситуации, когда ощущение напряженности усиливалось с каждым часом, было, конечно же, смешно по-прежнему соблюдать правила предосторожности, чреватые для Адмиралтейства пренеприятными неожиданностями. Особенно внимательно надлежало следить за районом Веццано. В Маремме предстояло без промедления объявить осадное положение, так как в условиях все возраставшего волнения прибытие беженцев из Энгадды могло перерасти в опасную смуту; было решено направить туда для поддержания порядка подразделение из Адмиралтейства. Всем судам, за исключением военных, покидать свои порты отныне воспрещалось. Предполагалось также в кратчайшие сроки укомплектовать все орудийные расчеты оставшихся в распоряжении Адмиралтейства батарей. Всем боеспособным кораблям — с учетом подкреплений их число возрастало до четырех — предписывалось быть готовыми к тому, чтобы сняться с якоря не позже, чем через два часа. После того как объявляющий осадное положение указ был написан и скреплен печатью, Даниэло отпустил офицера, а меня попросил немного задержаться.
— Итак, Альдо, мы расстаемся. Завтра рано утром ты отправишься в Сирт. Одному Богу известно, где и когда мы теперь увидимся, да и увидимся ли вообще.
— Богу известно, — сказал я, пожимая его сухую ладонь. Она слегка дрожала, словно ночной холод проник вдруг в комнату через открытое окно. — Последнее слово еще не сказано, — добавил я не очень уверенным голосом, — границу армия еще не перешла, и, может быть, они остановятся…
— Нет, Альдо.
Старик тяжело тряхнул головой.
— …Теперь им так же трудно остановиться, как вот этим звездам. Так же трудно, как двум телам, слившимся в любви. Теперь уже ни страх, ни гнев, ни снисходительность, ни бегство не спасут Орсенну от вожделенно устремленных на нее широко раскрытых глаз: она обещана и выдана. И сама она тоже не пожелала бы спастись. Память обо мне, если таковой суждено остаться, возможно, будет проклята…
Даниэло резко пожал плечами.
— …Когда кто-то бросает в волны гниющую на берегу лодку… то о нем можно сказать, что эта потеря его не волнует, но нельзя утверждать, что его не заботит, куда она поплывет… Не жалей ни о чем, — сказал он, опять неожиданно горячо пожимая мне руку, — сам я не жалею. Дело не в возможном суде. Дело не в хорошей или плохой политике. Дело в том, чтобы ответить на один вопрос, на тревожащий всякого человека вопрос, на который все мы отвечаем до самого последнего дыхания.
— Какой?
— «Кто живет?» — сказал старик, погружая в мои глаза свой неподвижный взгляд. — Так говорят французские часовые, когда нужно спросить: «Кто идет?»
Выйдя из безлюдного дворца, я окунулся в светлую, гулкую ночь. Холодный кристальный свет резко очерчивал грани жестких каменных глыб, проецируя на чернильную решетку мостовой замысловатые чугунные узоры, венчающие старинные, расположенные вровень с землей колодцы, которые еще сохранились на крошечных площадях верхнего города. Сквозь ночное безмолвие, поверх голых стен, из нижнего города время от времени доносились легкие шумы: шум текущей воды, запоздалое гудение спешащей где-то вдали машины — отчетливые и в то же время загадочные, как вздохи и движения во время неспокойного сна, как время от времени появляющийся скрип сжимаемых ночным холодом пустынь; а здесь, в насыщенных горным воздухом и суховеями верхних кварталах, к камням прижимались, льнули, как краска, немигающие жесткие сечения голубовато-молочного света. Я шел с бьющимся сердцем, с пересохшим горлом, и столь совершенным было простиравшееся вокруг меня каменное безмолвие; столь плотным — бесцветный, гулкий мороз этой голубой ночи; столь загадочными — мои казавшиеся бесшумными и ступавшие где-то выше уровня мостовой шаги; мне казалось, что я иду по причудливым, извилистым проходам посреди сбивающих с толку световых пятен какого-то пустого театра — но мне еще долго-долго озаряло путь отскакивавшее от фасадов гулкое эхо, и не обманул ожиданий этой пустой ночи самый последний мой шаг: теперь-то я знал, для чего были воздвигнуты эти декорации.
Перевод к. ф. н. В. А. Никитина
Редактор Т. М. Любимова