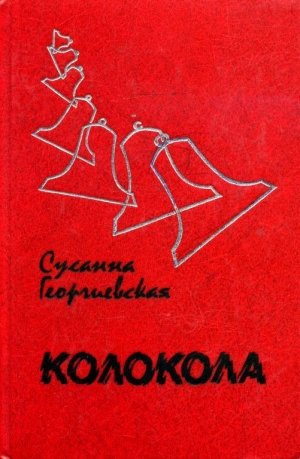
В сборник С. Георгиевской (1916—1974) «Колокола» вошли лучшие произведения писательницы: «Колокола», «Монолог», «Любовь и кибернетика», «Пека» и другие, уже известные читателю произведения.
С. Георгиевская — своеобразная, интересная писательница, ее глубоко волнует мир человеческих чувств и переживаний.
Разные по темам, по времени действия, по характерам и возрасту героев повести С. Георгиевской объединены гуманным подходом к человеку, добротой и осторожностью, с которой писательница касается скрытой, затаенной жизни своих героев. Она умеет увидеть в повседневности необычность, то неповторимое чудо жизни, которое всегда удивляет и радует.
БЕЗ ВРАНЬЯ
Мне кажется, что у человека бывают как бы две биографии: первая — всего лишь рассказ о том, когда человек родился, когда окончил школу, в каком году пошел на фронт...
Вторая — тайное тайных о человеке.
Однако, как ни быть откровенным, что-то все же остается за пределом памяти, за пределом нашего понимания
Лишь в редкие минуты озарения приоткроется занавес, жгуче и больно сожмется сердце.
Что же это такое? Характер? Судьба? Мера радостей и печалей?
Нет. Это и есть рассказ о жизни, рассказ, с великим доверием отданный писателем своему первому другу — читателю.
Первое, что я помню, — был свет. Пять острых язычков пламени над керосиновой лампой. Она голубая, а горела золотенькая. Каждый зубчик пламени окружен коротким сияньицем.
Я стояла без башмаков на диване, я чувствовала сквозь толстые чулки прикосновение не то кожи, не то клеенки дивана.
Свет!..
И вот я протянула руку к огню и сказала: «Се-ек».
Бабушка, папина мама, удивленно повернула ко мне коричневое от старости лицо. Оно попало в сияние огня и выразило любовь.
Эта ранняя память явилась ко мне, подобно озарению, во время войны. Она воскресла в минуту как бы наивысшего душевного потрясения.
Из темноты землянки выпорхнуло пять колеблющихся язычков огня, а в их свету коричневое от старости лицо моей бабушки.
Пламя вспыхнуло — и погасло.
Там же, на фронте, я вдруг услыхала шумы одесской улицы времени самого раннего моего детства. Просыпаюсь и вместе с сознанием возвращающегося дня слышу грохот одесской мостовой. Мостовая покрыта булыжником. Ой, как громко и радостно она грохочет! Кто-то вопит, не иначе — мороженщик.
От шума и синевы звенели стекла в окне. Я хотела встать, но не могла, я вцепилась в сетку кровати.
До сих пор я люблю дальний уличный шум, он для меня как звук тишины, как звук моего беззащитного детства и ясного пробуждения.
В белый свет тундры, на фронте, вместе с грохотом мостовых, как бы врывался желтый свет одесского солнца. Сейчас пошире открою глаза, и меня зальет сиянием и теплотой.
— Чего бы вы больше всего хотели? — спросил меня как-то раз мой начальник.
— Прежде всего — как все — я хочу победы. А для себя... еще раз увидеть жаркое солнце.
...Случилось так, что в день, когда освободили нашу Одессу, в газете появилось сообщение о том, что я награждена. Газету я не успела прочесть и о награждении не имела понятия.
Все меня поздравляли.
«До чего хорошие люди! Помнят, откуда я!»
Только к обеду мне стало известно, что я получила медаль «За отвагу».
...Помнится, мир раннего детства состоял для меня из множества разных предметов: например, из качалки с продавленным сиденьем.
Рядом с качалкой — большущий фикус. (Я считала, что его толстые листки — не растение, а мебель.)
«Я» была мирозданием, пупом вселенной. Во мне жила уверенность, что весь мир притворяется. Если крепко зажмуриться, а потом побыстрее раскрыть глаза — «оно» еще не успеет начать притворяться и застынет остановившееся, смущенное... Беда лишь в том, что я не успевала достаточно быстро разлепить веки. «Оно» было много хитрее меня, всегда успевало меня обдурить.
Я не знала еще, что значит «спектакль», но в этом единении — я и мир — «Я» как будто бы была зрителем, а все остальные — вплоть до солнца, извозчика, лошади — играли свой удивительный спектакль существования.
...Далеко в моем детстве остался мир запахов, — у меня, должно быть от природы, было хорошее обоняние, которое я испортила курением. Прекраснее всего для меня был запах книжного магазина, запах типографской краски. Он кружил мне голову.
Но выросши, я не стала собирать книги. Для меня книга — не вещь, не предмет, — она живая душа, мне не нужно, чтобы она стояла на полке. Я не коллекционер книг, даже самых любимых (и не коллекционер душ).
Когда мама выходила замуж за моего папу, ее отец, мой дед, дал ей приданое. Среди маминого приданого были книги. Они привычно стояли в книжном шкафу, как зеленая декорация, никто их никогда не читал.
Сопротивление такому понятию о книге родило во мне протест против книжных полок. Книга — часть моих радостей и страданий: она не вещь.
Семья воспитывает в нас не только сходство с собой, но и страстное сопротивление: я не ценю почти ничего из того, что было ценимо моими родителями; я ценю все то, чему они цены не знали.
...А еще я помню особый запах, который стоял в квартире у другой моей бабушки — маминой мамы. Там пахло чем-то вроде прокисшего теста. Запах был стойкий. Его не могла стереть ни доброта выражения бабушкиного лица, ни то, что она меня всегда брала под свою защиту. Мама ей обо мне говорила, что у меня «зверское выражение лица и злой взгляд». А бабушка отвечала: «Неправда! Чего ты хочешь? Глаза очень даже хорошие: черные».
Они обе обо мне говорили при мне, словно я была глухонемая. А я все слышала и запомнила на всю жизнь.
Мамина мама была большая и толстая, шаг у нее — тяжелый. Она, ее дом, его запах не соответствовали моему понятию о красоте. Моему понятию о красоте соответствовали жестяные квадраты с пробитыми в них кружочками, которые валялись неподалеку от бабушкиного дома, на тротуаре. Там, видно, была какая-то мастерская, отходы от производства мастерская выбрасывала на улицу. Квадраты из жести чуть грохотали. В них были пробиты красивые дырочки. Наклоняясь, я поднимала вздрагивающий серебряный лист. (Я была уверена в том, что он из чистого серебра.) Я его поднимаю, а мне говорят: «Брось!» Но на эти серебряные квадраты можно было все-таки осторожненько наступать ногами; они шуршали, сталкиваясь друг с дружкой. Серебряный клад в дырочках лежал по дороге к дому маминой мамы. Я была уверена, что эта бабушка ужасно богатая. А другая бабушка — папина мама — была бедная, старая. Мой папа у нее родился, когда ей было пятьдесят восемь лет. Папина мама была замужем три раза и всех своих мужей пережила. Фамилия моего самого старшего дяди — Москвич. Он написал путеводитель по Крыму. Этот путеводитель лежит до сих пор на письменном столе в музее у Антона Павловича Чехова.
Я знала и до сих пор знаю, что папина мама очень сильно меня любила. Ведь я была дочкой ее самого младшего сына.
Все бабушки любят своих внучек и внуков. Но душа наша знает часто больше, чем разум. Из внучат моя бабка любила меня одну. До сих пор, если я чувствую себя одинокой, я словно бы снова делаюсь маленькой и призываю ее на помощь себе.
«Не оставь меня, бабушка! Сделай так, чтоб медленней билось мое старое сердце. Бабушка!.. Ба-а-буш-ка!»
«Я тут», — отвечает мне бабушкина любовь.
Ее глаза были прикрыты стеклами толстых очков (эти глаза, которые сдали от возраста, оперировал знаменитый в Одессе доктор Филатов).
Лицо у бабушки было в глубоких бороздах, седые, очень густые волосы коротко стрижены, а поверх волос надет «очипок». Руки у бабушки темно-коричневые. В руках она держала палку даже тогда, когда сидела на стуле. Палка опиралась об пол, а сверху, на ее круглом конце, — рука, и на ней — другая рука (этажами).
Бабушка прекрасно владела речью, любила поговорить и рассказывала разные разности. Она говорила, а ее коричневое лицо с полуслепыми глазами казалось совсем неподвижным. Двигались, двигались только коричневые бабушкины пальцы, как бы пытаясь вылепить что-то.
Она мне рассказывала о том, как однажды в «Местечке» они переходили реку. Тронулся лед, люди стали тонуть. Они громко кричали и звали на помощь. С берега кинули им канат.
«Ты — первый! Нет, ты! Нет, ты!!!»
— Э-эх, детка, знала бы, какая в ту минуту была любовь!
Месяцев через пять у бабки родился сынок. Он ходил на реку, не отходил от берега. И вот однажды он вошел в воду и утонул.
— Ты плакала?
— Нет. А может, и плакала. Это было давно. Не помню.
Покою мне не было от бабушкиных рассказов..
Я выросла и записала их. Рассказы пропали во время блокады. Я не жалею о них: мне просто надо было спеть свою песню о бабушке.
Когда мне минуло четыре года, мама привела меня в детский сад. Там я подолгу (нет, вечно!) сидела над манной кашей. И там-то определились черты моего будущего ремесла.
Однажды учительница нам показала картинки и попросила, чтоб мы ей что-нибудь о них рассказали. Очередь дошла до меня. Я принялась рассказывать. Я всё знала про эти картинки. Я говорила, говорила и говорила... Учительница на меня поглядела, глаза у нее стали круглые. А я говорила... Как видите, я говорю до сих пор.
Мир вокруг себя мы измеряем самими собой. Я была уверена в том, что все, точно так же как я, рассказывают себе какие-нибудь истории.
Часть моих историй оживала в темноте и тишине ночи.
...Якобы я и Лёня — знакомый мальчик (он теперь капитан-наставник) — гуляем по зоосаду и заходим в клетку со львом. (Никто про это не знает, но мы хорошо говорим по-звериному.)
Удивительно, но во всех этих дурацких историях я не бывала девочкой — только мальчиком. Выросши, я не пыталась писать стихов, потому что стихи — это «Я». Но мне невозможно и неинтересно было говорить о себе: «я думала, чувствовала, была». Я хотела говорить только: «думал, чувствовал, был». Так я и говорю, разумеется... по ночам. Когда беседую в зоопарке со львами.
Один раз я одиноко сидела в комнате под качалкой и рассказывала себе «только правду». Моя игра была бесконечной. Она начиналась с подступов к игре: я искала «правдивого звука». Для этого я начинала игру всё сначала, сначала...
...И вот я работаю на Преображенской улице и... якобы я ломовой извозчик.
Проезжаю по улице, грохочу жестяными ведрами.
У собора сидит на земле рябая, слепая нищенка, она просит молитвенно: «Обратите внимание на мое калецтво вецное...» — и улыбается в темноту.
— Мы обратили! — шепотом говорю я ей. — Тетенька, возьмите себе ведро!
И вдруг — короткий всамделишный, резкий звонок у двери парадного хода. Я бегу отворять, привстаю на цыпочки...
В дверях — отец и две мои двоюродные сестры. Отец вздыхает. Он говорит:
— Принеси-ка из кухни кружку воды и полей нам на руки.
Галопом, счастливая, я бегу на кухню, набираю в ковшик воды.
Отец берет руки моих сестер чуть повлажневшими руками...
Все трое шагают во мглу передней.
— Санечка! У них умерла мама. Теперь они всегда будут жить у нас.
От счастья я закружилась, запрыгала. У меня — сестры! Перелистнулось для меня одиночество, сбылась моя давнишняя мечта. Сестры! Вот. Стоят. И молчат. И мнутся.
Теперь их кровати стояли рядом с моей кроватью. Когда в комнате становилось темно, мы шептались. Мы открыли общество «Кок» и спорили, у кого красивее скрипят ботинки.
Скоро дядя Петр, чьим именем я назвала впоследствии своего сына, раздобыл для своих дочек, моих двоюродных сестер, воспитательницу. А сам уехал в Москву.
— Он влюбился в телеграфистку, — сказала мама: — В телеграфистку из Вышнего Волочка.
— Он ей купил лису! — возмутился папа.
— И колечко, — вскинулась мама.
Швейцарка, которую дядя Петр нашел для своих детей, велела себя называть — мадам. Но мы прозвали ее «Кудесой».
«Девочки, показать вам альбом? Что ж! У Жюли Бланкур не бывает секрет. Этот альбом я собой привезла из Швейцарии, из Кантон де Лёвё. Я его иногда вынимаю (в восемь часов утра) и смотрю картинки... Хотите, я покажу вам Лютреф? Каждый знает, что значит Лютреф. Очень белый, очень высоки гора...»
Я была совершенно уверена, что больше всего на свете Кудеса любит меня (за то, что я самая младшая). Я нуждалась в любви, в доверии и в уважении для того, чтобы мое детство расправило крылья.
И оно их расправило.
Вот я бегу со двора по лестнице. В парадном тихо, темно, прохладно. Я скачу через три ступеньки, я объясняю самой себе, до чего я счастливая. Мои ноги, в красивых туфлях, мчатся все вверх, они мчатся в небо, в солнце, в вершины всех на земле деревьев.
Летом мы ходим с Кудесой на Ланжерон. Дорога длинная, улицы залиты солнцем, от зноя становится пыльной листва... Жарко, ой жарко!.. На Кудесе — шапочка «канотье».
Вот поворот дороги, еще поворот, еще... Впереди — море. Нет, нет, не может этого быть!
Зажмурившись, я сейчас плюхнусь в воду. В воде от счастья я буду себе рассказывать всяческие истории. Я — в Швейцарии, на вершине Лютрефа. Раз, два! Я сейчас с головой окунусь в снег. Мо-оре! Хочу — ногами дрыгаю, хочу — полощусь в его пене, хочу — могу стоять на мокрых камешках головою вниз. Рыбы — серебряные. Рыбы — они тоже счастливые; вот целый косячок рыб. Вильнули и скрылись. А вот медуза — переливается на солнце всеми цветами радуги. Каждый камешек счастливо чавкает, обточенный и влажный: ему хорошо! Он купается целый день. Море, море! Волна в белесых пупырышках Я плыву, как птицы летят по небу, вытянув ноги, размахивая руками вместо крыльев. Зной. Желтизна. Волны. Песок. Ракушки.
Кудеса тайно надеялась, что дядя Петр возьмет ее себе в жены (ради детей-сирот). Все говорили, будто ему решительно все равно, хороша ли женщина или нет: лишь бы юбка. Но ведь Кудеса ходила в юбке!..
Он приехал, привез нам кораллы, а Кудесе большой оренбургский платок. Он ей подарил платок, но не подумал взять ее в жены.
Тогда Кудеса решила, что следует самой о себе позаботиться. Она взяла у дворника тачку, сложила в тачку свой чемодан, голубое сатиновое одеяло, впряглась в эту тачку и поехала на вокзал.
Провожала ее я одна. Только я — бежала рядом, перебирая коротенькими ногами.
— Кудеса-а-а!
Она мне не отвечала. Я была уже ее прошлое. Серые глаза Кудесы смотрели вперед, вперед.
Но я не могла, не хотела стать ее прошлым. Ведь я ее любила! Кудеса доехала до угла. Красное солнце залило последним светом булыжники мостовой. Въехала в переулок... Я стояла и плакала.
Так окончилось мое детство.
Ушло. На смену ему пришла пора страстей и гроз. Но со мной случилось второе детство: я стала мамой.
Моим миром сделалось вот что: я бегу с работы домой; на работе я беспокоюсь за тебя, мальчик. Няня тебя приносит, и я тебя кормлю. Мой огромный мир — корыто, в котором тебя купают, песня няни и скрип коляски (няня ее подталкивает, как люльку).
Не надо оглядываться. Надо жить. Жить!
Хорошо, когда много дела, много забот: ты делаешь, делаешь дело и не успеваешь задуматься. Вот еще это я сделаю, вот еще это я сделаю. Итак — одно дело за другим, одно дело за другим делом...
И не успеваешь открывать шкаф и смотреть на бечевку, где галстуки, и стоять возле шкафа — зажмурившись, прижавшись головой к дверке шкафа, растянув рот, замерев, как будто прислушиваясь к чему-то.
Это... Ну, в общем, примерно как смерть родного человека. Ушел — и нету. А жизнь продолжается. Надо жить. А об ушедшем говорят вещи. Книги на полке. Коробка из-под табака.
Ночь приходит, чтобы, дать людям покой и отдых. А Петя плакал. И то мне бывало страшно, что нельзя ни о чем у него спросить. Как хочешь! Догадывайся сама.
Я вставала по ночам к Пете, я говорила хрипло и ласково: «Спите, нянечка. Спите! У вас и днем хлопот полон рот... Спи, Петька!.. А то твоя мама сейчас упадет и заснет на полу».
Он приехал. Пришел, увидел коляску. Подошел. И замер. Мальчик спал.
Он смотрел на сына. Лицо у него было грустное. Может, ушел в тепло этой детской кровати? От бурь. От тяжелой необходимости все на свете решать самому — даже то, как бросить родного сына. Вплыл в его дыхание, оделся в чепчик, слился с тем, чему мы так завидуем в маленьких...
Странно, но я не испытывала к нему решительно никакой ненависти, — я успела пережить наедине с собой все фазы отчаяния, сказать ему в воображении все на свете горькие и мстительные слова.
Рядом со мной сидел не муж, не возлюбленный, а близкий мне человек. Родственник. Мечась когда-то одна по комнате, выкликая его, призывая, я не учла своей сестринской привязанности к нему.
Мне было жалко, что он не брит, что лицо у него измученное, что весь он словно покрылся серым налетом — поблек, постарел.
«...Знаешь, — прищурившись, думала я, — а ведь мне и заплакать-то было негде».
Как-то — это уж позже было — мы с няней Васильевной пеленали мальчика, и вдруг — одиночество, сознание, что мы с ним на свете одни, шагнуло из окон, из сумерек, — и на меня, на меня!.. Горло перехватило. И я заплакала при Васильевне. Я плакала и причитала, и спрашивала, повернувшись к окну, к дворовой стенке: «Что будет с нами? Что будет с нами?»
Но стена ничего не ответила. А Васильевна: «Нет! Я так не согласная! Все нервы перевернете...» — и затикала тощей шеей, и зашлепала шлепанцами, и задрожала седым пучком...
Я работала на сверлильном станке (это не требовало высокой квалификации); носила красную сатиновую косынку. Мои руки были в неотмывающемся машинном масле и глубоких царапинах (ведь тогда еще не было на заводе душа, тогда и не слыхивали про душ).
Мой отец болел. Он болел сердцем. Лицо матери выражало, что в дом пришло несчастье и что ни на минуту не надо этого забывать.
На меня сердились за то, что голос у меня громкий и смех громкий. Отец корил, что по вечерам я одеваюсь и ухожу. «Так, так, дольше щеткой води, аккуратней води, — говорил отец. — А в зеркало смотрись до тех пор, пока не проглядишь дырку».
Я вся сжималась. Я чувствовала себя виноватой за то, что хочу жить. Чем настойчивей требовали от меня сострадания, тем меньше я была способна на него.
Вечер был мой. Это была та жизнь, которую отнять у меня невозможно было, — жизнь молодости.
...Моя макушка доставала ему до груди. Снизу я видела, какой большой, красивый и сильный у него подбородок.
И теперь, в чутком сне, похожем на бодрствование, мне мнилась былая одушевленность предметов. Все во сне металось и плакало. Оживало детство со всей остротой его чувств, словно там, далеко, была настоящая я, а не вот эта — выросшая и ставшая мамой.
О чем я плакала?
Чего хотела?
«...Бабушка!.. Ты родила двенадцатерых сыновей и не знала тревоги и страха. А мой ушел и оставил сына. Я знаю, бабушка, ты мне скажешь: время было другое, детка...»
«Я этого не скажу.
Жизнь — это жизнь... Ты думаешь, в мое время не было страстей? Они были. Только их называли «срамом».
«Бабушка!.. Я разучилась верить, ожесточилась».
«Ты сильная. И я была сильная. А я у тебя в крови. Потому что я твоя бабушка...»
«Да. Я сильная. Я смогла вместить эту тишину, и этот кувшин, и это корыто, и эту коляску, и каждое колесико этой коляски, и ее скрип. И сдобную булочку для Васильевны... Пьет по утрам «кофею». Жует булочку и молчит. Счастлива. И это я смогла. Я! Я!
Я могу все!..»
В чувствах любви и дружеского расположения правды нет. Чувства — несправедливы. Я догадалась еще тогда, что есть на земле вины, за которые не судят людей.
В добре и любви есть хоть малая, а все-таки слабина. Любящий — уязвим, так же точно, как уязвим человек добра, потому что он человек совести.
...Словно гроза, излившая на землю весь скопленный ею дождь, истратила я на отца своего ребенка все силы женского чувства, отпущенные мне на долгую жизнь. И я поняла, что за предательство чувств человека не судят. Здесь право сильнейшего, то есть чувствующего бедней, а не право правого.
Но разве бывают на свете химические лаборатории, где производят анализ чувств?
С тех пор, как родился ты, — что бы я ни делала, куда бы ни шла, — во мне поет сила: покупаю хлеб — а во мне поет сила. Иду на работу, бегом бегу — а во мне поет сила. Это сила здоровья, да?..
...Лестница. Дверь открывает Васильевна. Отопрет и тихо заковыляет на тонких ногах, переваливаясь, как утка... «Каши наелся и спать завалился», — скажет она тонюсеньким голоском (как будто ты можешь сам завалиться спать!). Ну и чудачка наша Васильевна!..
Каждый вечер загораются окна. Мое сердце уверенно. Мне спокойно. Много лет будут загораться они. Возвращаясь домой, подниму голову, гляну вверх... Светло. Зажег светляк свой фонарь.
Я знаю, сейчас ко мне протянутся твои руки. Ты капризно откинешь назад полулысую голову. И вдруг прижмешь ее ко мне.
Я любима. Нужна. Я — есть. Меня ждали... Я все для тебя. Ведь правда? Опора, защита... Я как бог для тебя. Ведь правда?
Два окна. Из которых одно угловое. Стена его загораживает.
Я тут. Я — бегу. Ну и длинный у нас коридор! Я расстегиваю пальто. А мне вслед хохочут соседки:
«Бедный!.. Он своей мамки никогда без шляпы-то и не видел. Небось думает, так она и родилась — в шляпе!»
Война!
Как резко повернулось колесо... Как все изменилось.
...Я ли та девочка, которая от нечего делать привстала на цыпочки и заглянула в корзину цветочницы?
Тогда мне стукнуло десять. В те очень близкие от сегодняшних времена я вытягивала из волос прядку и сооружала себе на лбу загогулину. Для вящей красоты. А глаза и рот я готова была раззявить по каждому поводу. Не ребенок, а обезоруживающая невинность. И странное дело — она была подлинной. Было — было такое дело. Могу засвидетельствовать.
Возвращаясь тогда из школы, я размахивала портфелем. И все думали: «Вот идет девочка. Хорошая девочка».
«Возьми-ка цветик, милая девочка», — так сказала цветочница. Слова умиления, слова любви из глубины старости. Нежность, обращенная к святости детства, к толстым ножкам в полосатых чулках.
Так это я была?!
Словно две жизни, прожитые одним и тем же человеком.
В то время тело мое еще не было «бренным». Оно источало силу. Властное молодое животное.
...Где же та часть земли, где было надобно мне родиться, чтобы остаться той девочкой?
Черноглазая девочка и вдруг — вот те здрасте! — какое-то колесо истории. Ни назад, ни вперед. Только на той планете, в том времени, где ты, девочка, родилась!
А вы знаете, что это значит — совсем не бояться смерти на войне? А спать на противогазе? На противогазе вместо подушки?
А знаете, что это значит: голод и чтобы во сне тебе снился хлеб? А знаете, что это значит для городского человека — по два месяца не снимать с себя ватной одежды? А кровоточащие десны?.. И ты выплевываешь кровь. Плюешь-плюешь кровь.
Нет меры, нет разума у слова «плохо». А ты искала сочувствия, дитя человеческое.
Ан нет его.
А что это значит — Смерть? Смерть — это значит не худшее из того, что предстоит человеку. А что такое жизнь?
А так... Ничего особенного. Жизнь — это значит: любовь.
...Пламя коптилки. Всхрапывания и вздохи.
Полярная ночь. Землянка на самой передовой. Мы — морская пехота.
Двое в землянке не спят.
Два шепота. Два скрещенных сострадания. И я вам никогда не расскажу, господин Шляух, господин пленный, что расстреляли в Германии ваших родителей за то, что вы перебежчик. Этого я вам не скажу, господин Шляух. Но я жалею вас, имейте это в виду.
А вы?.. Вы тоже жалеете меня, господин Шляух?.. А вы знаете, что лет мне мало и что я женщина?
Нет.
И вы не знаете, господин Шляух, что ноги мои, в мокрых кирзовых сапогах, похожи на ступни ребенка? И вы не знаете этого:
«Милая девочка, возьми-ка цветик».
И этого: «Спите, нянюшка, спите, у вас и так хлопот полон рот... Спи, Петенька, спи!»
В причуде теней, в причуде пламени, в причуде храпов и морозных узоров на окнах против вас, господин Шляух, — самое причудливое из причудливых существ на земле.
Но время, убившее ваших родителей, и убившее моего сына, и погнавшее вас сквозь минное поле, не хочет причуды.
Оно хочет устойчивости.
Двери пламени, двери морозов, двери страданий и свинца, приоткройтесь, приотворитесь. Я гляну в щелку. А в щель я увижу девочку. Руки — короткопалые. Зубы — белые и кривые. Живое — среди живых.
Седина остается на гребешке. Потому что быть такого не может, чтобы это была моя седина! И быть не может, чтобы голос не получал отклика.
И было — чувство. А вослед ему пришла мысль.
А чувство и мысль родили слово.
Берлин — в огне.
«Мы дошли до Берлина!» — пыталась я себе объяснить.
Горящий город был окружен цветущей сиренью. Я отломила ветку... И вдруг мне стало жалко куста, красоту которого я нарушила.
Множество рук в бушлатах — рук моих однополчан — потянулось к сирени вслед за моей рукой. Они ломали кусты, отдавая мне чуть вздрагивающие ветки.
Нас заметила армия. Солдаты сказали:
— А это флот!.. Ей-ей! Это — флот. Флот!
Меня подхватили на руки, окрестили «сестренкой» и понесли. Я сидела на плечах у солдат, придерживая рукой свой флотский беретик, свесив вниз ноги, и крепко обнимала ветки сирени.
Так я вошла в Берлин.
Создание книги, рассказа, повести — как бы своеобразное возвращение к детству, к его непосредственности, остроте детской памяти, ясности первых чувств.
Поэтому к кому бы ни было обращено признание, его источник — детство.
Недаром ребенок стал моим первым поверенным слушателем, собеседником; недаром ему — ребенку я пыталась первому отдать пережитое и выстраданное и обратилась к нему, чтобы выкричать свою боль.
Не так давно я побывала в маленьком городе Паневежисе (Литва) и пыталась вызнать у Юозаса Мильтиниса «секрет», сделавший известным на всю страну его провинциальный театр. Секрет этот оказался отсутствием какого бы то ни было секрета.
А между тем, как это ни парадоксально, секрет все же есть — безоговорочное, безоглядное, страстное служение делу, которому ты отдал жизнь. Безоглядное — даже в том случае, если дело это не платит тебе сторицей, если ты остаешься неизвестным (или мало известным), если не удается тебе полностью осуществить свои замыслы.
Вряд ли кто-нибудь говорит себе в начале пути: «А отдам-ка я себя всего, целиком своему делу». Так, разумеется, не бывает. Все проще и таинственнее. Дело само забирает человека, забирает его без остатка — с часами сна и бессонницы, со вторыми, бессознательными, никогда не оставляющими человека мыслями о том, над чем он сейчас работает.
Прав или не прав человек? Разве в том дело? Дело в силе страсти, его ведущей, — в силе страсти, с которой он не в силах бороться. Здесь существуют частные законы, связанные с характером и складом создающего, и законы о б щ и е, действующие как бы для каждого.
Один из о б щ и х законов для писателя, думается мне, состоит в том, что если тебе по каким-либо причинам скучно писать страницу, даже если она необходима, нужна (как тебе кажется) по логике повествования, — то скучно будет ее и читать. Она «не получится», не станет держать читающего. Можно, как видно, испытывать отчаяние, недовольство, ощущение того, что до конца не удается тебе высказаться (хотя полезней все же этого не испытывать!), — но не скуку, не холод.
Страстность увлечения ничем не может быть подменена — ни «мастерством» (это понятие условное), ни опытом, ни великолепной ясностью головы.
Мастерство писателя — так кажется мне — заключается в совершенном (или более или менее совершенном) знании себя (ибо абсолютного совершенства, как известно, нет), при этом «знании», знании своего рабочего аппарата, появляется более полное умение управлять собой — умение создать ту внутреннюю собранность и вместе «приподнятость», которые нужны для написания любой страницы в книге, даже как будто страницы логической, ибо здесь действует логика не обычная, а эмоциональная, как бы спокоен и ровен ни был ход повествования. Мастерство — по моему разумению — заключается еще и в том, чтобы не приходить в полнейшее отчаяние, даже если ты к нему склонен. Отчаяние занимает много времени, а работа прозаика — трудоемка, здесь времени терять нельзя.
Высказывая все эти соображения как «общие», я между тем понимаю, что они глубоко индивидуальны, что здесь многое зависит от жанра прозы и характера пишущего.
Больше всего я знаю о ремесле прозаика-лирика. Думаю, что «лирик» — вовсе не тот человек, который постоянно пишет о себе. Лирик-актер — это тот человек, тот прозаик, который может сыграть роль другого, как бы полностью растворившись в ней. Тяжела эта форма прозы — электрическим током должен пропустить через себя пишущий все, что чувствует и думает его герой. И никакая логика знания, выдумки здесь помочь не в силах — закон е д и н: ты д о л ж е н стать своим героем, иначе будет нарушено равновесие правды и верить тебе читатель не станет.
Чего ждет читатель от автора? Я имею в виду не детективные романы (хотя в лучших случаях и это романы психологические, то есть рассказы о чувствах и мыслях людей). Читатель ждет от пишущего не п р а в д ы — он ждет чего-то гораздо большего: откровенности. Лишь безоговорочная откровенность, как бы умело спрятана она ни была, утолит читающего, заставит его думать о книге и после того, как она будет прочтена. Человек хочет в написанном. — стихах или прозе — хоть отдаленно узнавать себя. Этим и диктуются наши вкусы в искусстве: «Я узнаю себя: это точно». Но люди — разные, и вкусы разные, и откровенность разных людей (писателей) найдет разных людей-читателей, которым требуются большие или малые открытия именно этого писателя. Закон лишь один — при полной откровенности (а не есть ли способность к этой неестественной и полной откровенности собственно писательский талант?) не может быть, чтобы не нашлись читатели, которые откликнутся на то, что было пишущим поведано.
Память? Да. Она безмерно важна. Память бывает многосторонней, разной, как сами люди, как их таланты. «Волка ноги кормят» — можно легко перефразировать: «А писателя — память». Память чувств, мыслей, обстоятельств, физического холода и тепла, мелочная и странная память простого человеческого движения — все это и многое, многое другое создает подлинность повествования, заставляющую верить. Не веря в написанное, я имею в виду своеобразную веру, — ведь в сказку, к примеру, кроме ребенка малого, не верит никто, а надо верить и ей, иначе никто увлеченно книги читать не станет, одним словом, чтобы создать эту вторую реальность — реальность искусства, она должна жить в пишущем, не всегда осознанная им, она должна лежать в нем и быть им отдана.
Всегда ли и по первому ли мановению вызывается она писателем, чтобы лечь на страницу?
Нет. Искусство в том, чтобы ее вызвать, найти в себе, о чем бы ни вздумал пишущий рассказать.
Сразу ли приходит к нам это умение? Нет. До конца ему не научается никто, как бы долго ни жил, сколько бы ни написал книг.
Ты сел и пишешь.
Легко писать. Очень легко. Если ты опытен, ты сразу заподозришь неладное: легко толчется в ступе вода — без всякого сопротивления, в то время как духовный материал, извлекаемый нами на поверхность, всегда хоть несколько сопротивляется, даже в лучшие наши минуты мгновенных (редких!) удач.
Ты садишься и пишешь. Трудно. Очень трудно. Снова и снова возвращаешься ты к началу своего повествования, пытаясь трудолюбием превозмочь затор. Но нет. Трудолюбием — и только — этого не превозмочь. При решительном сопротивлении материала ты можешь сделать вывод, что неверно тебя повела рука. Недостаточно хорошо и верно п р и д у м а т ь. Надо з н а т ь. Материал должен быть твоим. И, коль скоро ты дотронулся до своего «знания» — до своей стихии духовного понимания, работа сейчас же даст тебе отклик. Становится в меру легко и трудно. Ты пишешь. Наступили лучшие для тебя минуты и часы. Но как подойти к этому «знанию»? Как научиться писать?
В противоположность многим другим, я полагаю, что технически н а у ч и т ь с я п и с а т ь — возможно. При одном обязательном условии — большого духовного запаса. Без этого можно, как говорится, «иметь перо» или родиться на Волге, где речь безупречна; можно быть вообще замечательно способным человеком и множество раз вводить в невольный обман того, кто читает тебя, и себя самого — и все же п и с а т е л е м не стать.
Чтобы стать писателем, кроме прочих данных, надо иметь свой мир, свою вселенную — малую или большую, — мир, как бы рвущий тебя, мир, требующий того, чтобы быть отданным. И все тогда, пусть для некоторых с великой трудностью, а для других — с меньшей, становится преодолимо, и, поскольку живущее в тебе, крича (или шепча), обязательно требует выхода, выражение ему ты скоро или с годами — найдешь, то есть технически писать — научишься. И какое дело, в конце концов, читателю до того, трудно или легко тебе было?..
Никакие внешние, блестящие способности не заменят подлинности таланта — то есть неодолимого горения — потребности с к а з а т ь. Каждый пишущий глубоко субъективен; быть может, и даже наверное, субъективна и я, впервые делящаяся своими мыслями о работе писателя, так сказать, о сути писательского дела.
Себя я, помимо своего желания, рассматриваю не в отрыве от современного потока литературы, а лишь как часть ее. Это ощущение — иррационально, но оно есть, и тут ничего не поделаешь. Поэтому я радуюсь чужой удаче в области современной прозы, словно сама к этой удаче причастна. Поэтому мне трудно рассказать что-либо о себе, не говоря о ремесле писателя в целом.
Мое «ремесло» мною выбрано не было. Оно жестоко схватило меня за горло в достаточно раннем возрасте и научило отказываться от множества радостей ради дела, которое приковало меня к столу.
Писать и печататься я начала рано (мне было двадцать два года, когда появились мои первые рассказы). Я никогда не писала стихов — сразу стала работать прозу. Но часто гул стихов, их звучание как бы проносятся у меня в ушах, и в лучшие минуты мне кажется, что это «стены поют» — наговором, звуком, ритмикой стиха. К поэтам я отношусь, как к «шаманам», завидую им, ибо часто мне кажется, есть нечто, что не может быть выражено прозой.
Меня заставило сесть к столу «сострадание» — любовь к людям, меня окружающим. Мера моего сочувствия была комически велика, — она не могла быть выражена одной только жизнью. Кроме того (признаюсь!), люди плохо умеют слушать, терпелива одна лишь бумага, — а я была «переполнена», мне хотелось говорить, говорить, говорить...
Вещи мои грешат непростительными для серьезного писателя недостатками: проходя рядом с моими героями сквозь различные жизненные перипетии, я склонна оправдывать их. Другими словами, я — адвокат, не прокурор (отлично при этом сознаю, что лучше было бы для моего дела содержать в себе двух, равно достойных работников юстиции: и адвоката, и прокурора).
Мои самые первые рассказы были о детях и стариках. Я глубоко сочувствую человеческому одиночеству. Это рвущее душу чувство и усадило меня к столу. Смешно ссылаться на мои первые рассказы, хотя бы на «Песню о трех барабанщиках», они недостаточно известны, поэтому придется читателю поверить моей искренности и слову.
Садясь за работу, мне приходится искать единственный, необходимый для данной вещи «звук» — внутреннюю мелодию, мелодию повествования. Логически продумать вещь для меня далеко не достаточно, и работа не пойдет. Коль скоро «звук» найден — работа пойдет легко и быстро. Это можно сравнить с несравнимым — с внутривенным вливанием, которое нам делают, если мы больны. Мимо вены идет игла — больно. Игла попала в вену — все просто. А между тем как сложно! Где он, этот единственный звук, который даст возможность повествованию слиться с твоей кровью?! Где он — звук, единственный звук правды, как колдовское слово, как чудо. Рядом — а как долго порой его приходится искать.
Главные затруднения (чисто внешние, частично одолимые с годами), которые я испытывала, — это общие затруднения малоопытных писателей: постройка вещи. Для того чтобы вещь легко читалась, кроме прочего, она должна быть умело построена (словно дом, в котором возможно было бы жить). Крыша венчает любое строение — ей невозможно стать фундаментом. А между тем сколько раз я начинала строить свои здания с крыш!
В погоне за неизбежной, обязательной правдивостью «звука», выражающего вещь в целом, я часто упускала из виду правильную постройку вещи. Это я испытала с повестью «Отрочество», в которой из-за неумелой постройки мне пришлось отказаться от многих удавшихся «кусков» — глав, от десятка страниц, затруднявших чтение: они органически не лезли в общее здание повести — я не умела их собрать.
Неумение «строить» — недостаток многих молодых писателей.
Прошло много времени, пока я поняла, что жанр лирической прозы вообще, по-видимому, не терпит большой длины. Книга лирика хочет быть по возможности краткой и емкой. В лирическом повествовании, то есть рассказе о человека или людях — их характерах, поступках и чувствах, — практически может и не быть прямого сюжета, ничего «сенсационного» на протяжении повествования может и не происходить: это всего лишь кусок жизни, ее «отрывок». Если человек, о котором пишет лирик, совершенно ясен с самого начала, если он не раскрывается впоследствии более полно, то писать, собственно, не о чем. Люди, их характеры, мотивы их поступков — как бы содержание книги в целом.
Разумеется, я говорю о «сути дела» — грубо, весьма общо, — здесь возможно множество колебаний в ту или другую сторону, может появиться и некоторая острота сюжета, но главное остается все же: действующий, живущий в этих обстоятельствах человек (или люди) — мир их чувств, ошибок, их понимание мира, их восприятие действительности.
У людей бывают разные профессии, они населяют множество точек нашей страны, и чтобы поставить их в те или иные условия, кроме моего частного знания людей — меры их радостей и страданий, — мне приходится многое, по мере сил моих, узнавать для того, чтобы родилась книга, Я езжу по стране и без поездок работать совсем не могу. Это относится к каждому (или почти к каждому) рассказу и повести, написанным мною. Я начинаю книгу со «сбора материала» — будь то школа, рыболовецкий совхоз или Тува. Мой герой (или героиня), о которых я по-человечески заранее все знаю, должны быть поставлены в обстоятельства, знакомые мне. Мой личный, «биографический» опыт использовать не удается почти никогда. Я с е б я н е и н т е р е с у ю. Поэтому в моей работе почти что нет элементов биографических, хотя я не могу писать на материале, который не знала бы превосходно (не объективно, но, хоть для себя, субъективно). Это относится главным образом к малому количеству моих вещей о войне, производящих впечатление биографической записи, не будучи ею.
До войны, в 1941 году, в марте месяце, в Москве, мне довелось однажды встретиться с писателем В. Вересаевым, вызвавшим меня к себе. Викентий Викентьевич очень интересно говорил о «судьбах» книг, судьбах, словно от их авторов не зависящих. (Это как судьбы людей — мало зависящие от матери, их родившей.) «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» и т. д. Наше дело — работать. И жить. Как можно мужественнее и честнее.
Лишена ли недостатков хорошая книга? Нет. Книга, как и человек, может быть полна недостатков и быть при этом хорошей, даже прекрасной, покорять. Книга может быть лишена или почти лишена зримых недостатков, но не затрагивать человеческое сердце.
Позволю себе привести для примера прекраснейшую книгу Хемингуэя «По ком звонит колокол». В этой повести рассказ одного из героев (героини Пилар) торчит повестью в повести. Не она это говорит. Говорит, и видит, и делится увиденным Э. Хемингуэй. Это недостаток (внешний), который заметит любой мало-мальски опытный литератор. А между тем спасибо, огромное спасибо и за книгу, и за рассказ Пилар. Пусть остается внешним нарушением всех возможных канонов — но существует.
Какой из этого можно сделать вывод? Множество — и почти никакого. «Жар сердца», — повторю снова, — обязательное условие существования любого литературного произведения. Лишь без него нельзя обойтись. Для того, чтобы жить, — и книга, и человек не могут быть мертворожденными. Живой пульс передается книге ее автором. Как? Искренностью, — отвечу я снова, — безмерным доверием к читателю — это е д и н с т в е н н о е и непременное условие для существования, для живучести любой книги вообще. Сложный это вопрос, о нем можно было бы говорить бесконечно. Но все в этом мире имеет форму — и человек, и книга, и письмо, и статья. Поэтому я, «дорвавшись» до того, чтобы поговорить о работе писателя, закончу все же перечень открытых мною «секретов».
Мне могут бросить упрек в том, что, делясь своими мыслями о ремесле прозаика, я говорю об этом ремесле как о категории внесоциальной.
Отвечу: выделять этот вопрос из общих вопросов жизни, смерти, труда, радостей и горя мне кажется немыслимым, невозможным. Я — человек своего времени, дитя своей страны, о них и пишу. Нельзя сказать себе, садясь за стол: «А напишу-ка я вещь социальную, сегодняшнюю». Надо быть сердцем и помыслами человеком с в о е й страны, той действительности, в которой ты живешь, болея за нее, любя, страдая и радуясь, чтобы написать книгу о людях своего времени. Это знание как бы сам состав твоей крови, твоей логики, а значит, и твоей книги. Поэтому я этот вопрос и не выделяю особо из вопросов о писательской профессии в целом, он разумеется сам собой.
Вот то немногое, что я могу сказать сознательно о своей работе. Многого в ней я не знаю, но, быть может, пойму, когда стану совсем уже старой.
Как о личной особенности мне следует сказать еще и о том, что я помню каждого сказавшего мне на протяжении всей моей жизни о моем труде, хоть случайное, доброе слово. Эти слова я помню — с большой и никогда не остывающей благодарностью. Вероятно, подобная благодарность и «страстная» память живут во мне потому, что, будучи человеком крайне в себе неуверенным (более того, чем это допустимо профессией), я бессознательно нуждаюсь в словах поддержки для пользы своего дела.
Приходится, как это ни грустно, сознаться в том, что я (увы!) в достаточной мере слабый человек.
Я не в ладах с цифрами. Плохо запоминаю даты. «Это было... одну минуту... в... году... Я, кажется, тогда писала «Тарасика»? Нет, «Молодые»... Да, да. Это было в том самом году...»
Признаками моей биографии стали книги. Сегодня (в 73-м) — мне 57 лет. Книг мною написано — двадцать две. Однако я знаю, что напишу их тридцать три. Ровно тридцать три. Понимаете?
Странно, не правда ли? Откуда такая уверенность?
От суеверия. Я — суеверна, как все матросы.
Однажды я лежала в больнице, «отдавала концы» — умирала.
На дворе был день. Свет причинял мне боль. Лежа в палате, я ушла во тьму, где была одинока, как всегда бывает одиноким тяжко больной человек. Одна. Среди расплывчатых видений, о которых люди потом никогда никому не рассказывают.
То, что делалось со мной и во мне, было много торжественнее и больше того, что умеет о себе рассказать человек.
«Мне жарко, — думала я. — Мне очень жарко. Мне недостает воздуха».
Закрыв глаза, я как будто неслась над землей, над трубами, крышами, как это бывает в детских снах. Напрягшись, я расталкивала воздух руками.
И вдруг попала в Ленинград в Публичную библиотеку, в которой когда-то написала свой первый рассказ.
Я поднимаюсь по лестнице библиотеки и думаю, как тогда:
...Интересно, а будет ли в каталоге стоять когда-нибудь хоть одна моя карточка?
И вот я медленно, осторожно подхожу к тому ящику, который на «Ге».
Ге-ор-гиевская, С. М.
Принимаюсь считать... Пятнадцать! (Довольно!) Двадцать! (Довольно!) Двадцать де-вять!.. Тридцать... Тридцать две. Тридцать три!..
Черт знает что!.. Как долго мне еще предстоит жить.
ЛГУНЬЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КИРА, ДОЛИНОВ, МАЯКОВСКИЙ И ПАСТЕРНАК
Светлые капли дождя лениво ударялись об оконные стекла. Время было весеннее.
Сева Костырик — студент последнего курса Архитектурного института имени зодчего Воронихина — циклевал пол в квартире Зиновьевых.
Сам Зиновьев, Иван Иванович, с которым Сева не однажды ремонтировал квартиры тех, кто хорошо за это платит, напевал и, насмешливо щурясь, грунтовал стены своей новехонькой, только что полученной кооперативной квартиры.
Он пел:
Маляр Зиновьев — первейший мастер своего дела, бывал в Чехословакии, Польше, Болгарии. Дочь его Кира не теряла надежды, что придет время и батю пошлют в Париж.
— Замерзал, а не «помирал». И что вам за охота, право, Иван Иваныч!
— Ага... Значит, ты говоришь, Всеволод, чтобы стены в спальной — багровые?.. Ну, а годы куда? Лета свои куда, говорю! Может, в скрытую электропроводку?.. Или я похож на молодожена?.. Багряные! Ничего не скажешь — эффектно, броско!.. Э-эх, Всеволод, Всеволод, разве ты имеешь понятие, до чего я люблю красоту! Вот вырастешь ты... А к себе в маляры возьмешь ли меня, товарищ строитель?
— Да будет вам! Вместе станем работать, художник... Мэтр!
— Чего?
— Мэтр, ну мэтр, мэтр... По-французски — учитель. Прибегу советоваться. Заломлю шапку. Не оставьте, мол, окажите такую милость зодчему сиволапому... Вместе халтурили у Пьятровского, у Шестопалова... Или запамятовали?..
Дождь стал наотмашь биться о стекла окон. Комната потемнела. Пришлось зажечь электричество.
Вплетаясь в бормотание дождя, послышались на лестнице шаги. Лифт, отнесенный к наружной стене, подальше от квартир — с целью смягчения шумов, — еще не начал работать...
Кто-то быстро и нетерпеливо поднялся наверх.
Зиновьев узнал шаги своей дочери Киры.
Ее звали Кирой (она была глубоко огорчена, что Кирой и вдруг — Ивановной!). Ей пошел восемнадцатый год. Она была взбалмошна, как батя, и скрыто высокомерна.
«Кем ты хочешь быть, Кира?» — дознавались у нее взрослые.
Чуть расширив глаза, она не задумываясь отвечала:
«Стервой».
Отец ее баловал тайно (от матери), любовался броской ее красотой, значительностью лица и великолепной формой всегда чуть откинутой назад головы. С годами она дурнела. От быстрого роста стала сутуловатой... Но спросите любого школьника, он вам разъяснит, что сегодня важны не линии, не пропорции, как в отсталые времена греков. Сегодня женщина начинается с ног.
Длина Кириных ног была поистине удивляющей. Тем более что год от года ноги ее становились все длинней и длинней. (Ведь она росла!)
Но главным очарованием Киры было неколебимое сознание своей неповторимости на этой «пошлой» земле, в этом мире, начисто лишенном причуд и поэзии.
Девочки говорили, что Кира умна, чуть ленива, много читала и все здорово помнит.
Как все ее поколение, она была заворожена магией поэзии.
...Рожденные после войны, откуда вам знать, что до войны стихи не имели спроса?
Неужели мужество, смерть, горький запах пожарищ донесли до вас дыхание поэзии?
Памятник грубо-элегантному Маяковскому — место нынешних частых свиданий школьниц и школьников. Но кто помнит, что эти каменные, когда-то живые глаза не раз подергивались от обиды слезами?
Кто знает, что, глянув однажды, в пролетке, на длинные свои ноги в американских полуботинках, памятник скорбно-насмешливо спросил своего попутчика: «А есть ли у вас та женщина, что готова без отвращения выстирать ваши носки?»
Сегодня десятый класс любой школы почитал бы за честь простирнуть носки Маяковского.
А ведь, по вашим понятиям, нелюбимый — слаб!
Стихи... Они стали вашей школой чувств и вашей энциклопедией. Вы их бормочете по ночам, а иной раз поете тихим речитативом, и вашему голосу вторит гитара.
...Москва. Литературные диспуты. (Конная милиция не всегда бывала для вас преградой.)
И вот однажды отцу пришлось вызволять из милиции свою Киру и двух ее кавалеров. Всех троих схватили за то, что Кира рванула за рукав постового.
Кавалеры стояли подавленно рядом с ней. Она сидела на милицейской лавке. Лицо ее было бледно и высокомерно.
— Ты что, ошалела? — строго спросил Зиновьев у Киры. — А вы? Неужто не можете разобраться, кто девица, а кто подонок?..
— Извините, но она дернула за рукав постового.
— Кира, сознайся, ты дернула постового?!
Молчание.
— А может, она не дернула. Мои дети — они, знаете ли, не приучены, чтобы дергать. И что ж получается: сегодня она в дежурке, а завтра у вас за решеткой! Извините меня, конечно, как старшего, но вы несолидно с ней поступили... Нехорошо!
Киру вывели под руку из милиции. За всю дорогу она не сказала ни слова. Не возмущалась. И не оправдывалась.
На ночь ее укрыли двумя одеялами, напоили горячим чаем.
Мать на кухне тихонько всхлипывала.
...Однажды Кира с подругами из десятого класса пробралась в университет на выступление поэта Долинова. Вырвавшись на эстраду, она преподнесла поэту цветы.
Встав на одно колено, на европейский лад, поэт взял фиалки и дотронулся губами до руки своей юной поклонницы. Его шелковистые, легкие, как пух одуванчика, волосы коснулись ее ладони. От губ поэта шло сухое тепло, от тонкого запаха склоненной его головы перехватывало дыхание.
— Руки не мой. Никогда! Слышишь! — шептали Кире девочки-десятиклассницы.
И разболтали в школе об этом сверхзнаменательном происшествии.
— Сам Долинов? Врете.
— А я тебе говорю, говорю!.. Ведь он же при всех свидетелях.
— Кира, правда?
Она пожимала плечами. Она молчала.
Вопли школьников докатились до Кириного отца.
— Кира! Я тебе кто? Отец? Сознайся: вот так-таки бух на колени, при всем народе?!
— Ну и что тут особенного?
— Нет, позволь... Как же так? Не кто-нибудь — сам Долинов!
— Папа, я отказываюсь тебя понимать.
— Ну извини, извини... Ты, конечно, девушка интересная. Если не ты, так какая тогда достойна? Но все ж таки на глазах у всех?! Мы в эти годы, надо сознаться, были поаккуратней.
О коленопреклонении поэта стало известно всей рабочей бригаде Зиновьева.
— Вот дочка-то у Ивана Иваныча! — увлеченно рассказывали заказчикам маляры. — Сам Долинов увидел — и бух! — не снес. Зверь девка.
...Кира любила грозу. В ливень, в дождь выходила одна на улицу, растрепанная, простоволосая.
Откинув голову, подставляла дождю лицо, ступала в лужи чуть косолапо, большими своими ногами в коротких ботах.
— Ты это куда собралась? Ополоумела? — кричала мать, увидев, что Кира опять норовит улизнуть из дому в грозу и дождь.
— Мама, оставь. Отстань.
И девочка громко хлопала дверью.
Мать в тревоге бродила по дому.
— Ну что ты с ней делать будешь!.. Драть, что ли? Так уж вроде бы великовата.
Под проливным дождем Кира ездила в Переделкино, шла на кладбище и долго-долго стояла там, прислонившись к влажному от дождя стволу.
Мир вокруг становился мигающей пеленой дождя. Небеса рассекали молнии. Расширенными глазами смотрела девочка на сиянье серной огромной спички.
Мир лежал у ног Киры весь в тающих облаках.
Встав на колени, она вытаскивала прихваченную из дома свечу, тихонько, влажными пальцами оправляла фитиль.
Не колебалось робкое пламя на могиле поэта, его защищали стекла запотевшего от дождей фонаря.
— Где ты была?
— Гуляла.
— Да какие такие гулянки в грозу?! С ума от тебя сойдешь.
— Мама, а я — лягушка. Сама меня такой родила, а теперь смеешься. Это же гены, мама!
— Че-го?!
— Гены, гены! — шутливо и нежно, словно недавно еще не захлопнула двери перед носом матери, отвечала Кира.
КИРА И ТО, ЧТО ЕЙ ХОРОШО УДАЕТСЯ
Итак, Иван Иванович, насвистывая, готовил под клеевую стены и потолок, а Сева, его подручный, сосредоточенно циклевал пол.
В комнату вошла Кира и увидела незнакомого юношу.
Гроза и дождь в этот день пришли неожиданно. Облепившее Киру влажное платье выдавало ее резкую худобу. С волос стекала вода, лицо было мокрое, напряженное, как у ныряльщицы.
— Ты словно чуешь грозу, — покачав головой, сказа отец.
— Угу.
— Поди-ка переоденься... Простынешь, Кира.
— Ладно. Сейчас.
Прислонилась к двери, скрестила руки по-наполеоновски, задумчиво и небрежно перекинула ногу на ногу. (Ноги в больших туфлях, чуть искривленных. Походка у Киры была косолапая.)
На светлой двери красиво вырисовывался силуэт девочки в юбке выше колен, с поэтическими ногами «тонколодыжной девы». Стояла, щурилась, разглядывая незнакомого малого. И вдруг сказала лениво:
— Я знаю, что вы студент и что ваша фамилия — Костырик... А почему бы вам, собственно, не поменять фамилию?
— Недосуг, — ответил студент.
— Иди-ка лучше переоденься! — прикрикнул отец.
— Иду. Ушла.
— Мама! Если б ты только видела Фалька, — послышалось из соседней комнаты. — Нет. Ты не можешь себе представить, как это остро!
(Кирина мама, Марья Ивановна, только тем и была озабочена, как бы ей повидать Фалька. Она с ним, понимаете ли, пивала чаи. Она имела полное разумение о том кто такое Фальк.)
— Супу хочешь?
— Ну что ты, мама.
— А гречневой каши?
— Да нет же. Какие каши?!
— Ты у нас вроде Кощея Бессмертного. Отощала, одни мослы. Разве можно — с утра не евши!
— Мама!.. Ну как ты можешь?! Я.. Я...
Сделалось тихо.
Минут десять спустя, подколов волосы и надев розовое платье с белым воротником, Кира снова вошла в ту комнату, где колдовали отец и его помощник.
Студент был среднего роста, широк в плечах. Красивый? Пожалуй. Волосы коротко стрижены, очень коротко, как соответствовало моде (архитекторы — свободные и перегруженные работой, развитые и ограниченные, — все как один пижоны).
— Костырик! Вы уже были на выставке Фалька?
— Нет, — ответил он, не поднимая на нее глаз. — Я бывал у них на дому, у вдовы художника. Интересно, конечно... Но, говорят, на выставке он бедновато представлен...
Сева был несколько озадачен. Но продолжал старательно циклевать пол. Видно, очень любил работать.
Каждый любит то, что хорошо ему удается. Не иначе как студенту Костырику хорошо удавалась циклевка полов.
...А Кире — обратить на себя внимание любого, пусть самого упрямого человека.
Она уронила книгу.
Сева не поднял головы.
Задела стол. Лампа, стоявшая на столе, со стуком грохнулась о стул.
— Кирилл, ты рехнулся? — спросил отец.
— Я с ума сошел, — ответила Кира.
Сева не оглянулся, не сдвинулся с места. Продолжал циклевать пол.
«Он — корова! — решила Кира, разглядывая красивое, хорошо слепленное, наклоненное к полу лицо студента. — Корова!.. Корова!..» И вышла из комнаты.
Эх, если б. Сева видел, с каким аппетитом Кира хлебала суп и уписывала гречневую кашу с поджаренным луком.
Он не видел этого... А вдруг он и гитары не слышал и грудного, неожиданно низкого голоса!
— До свиданья, Иван Иваныч. До завтра. В половине шестого, так, что ли?
О ФРЕЙДЕ И О САДИСТАХ
Из соображений практичности потолок в кухне решили окрасить масляной краской. Споткнулись на цветовом решении стен.
— Пижон! — усмехался Зиновьев. — Ведь надоест, надоест... Утомит глаз. Ладно. Ну, а что там слышно новенького, как его... ну на вашем архитектурном фронте?
— Я уже вам говорил про балконную дверь из сплошного стекла.
— Действительно. Говорил... Нет! Для нас не пойдет... Во-первых, мы — север, а не Флорида. А второе — кое-кто задастся вопросом: «А не рехнулся ли, делом, Зиновьев на заграничной почве?» — «Он и до Запада был «с приветом», не замечали?..» Эх-эх... Ну был бы ты, Костырик, хоть со второго курса!.. Мы бы не только мою квартиру — мы бы, может, всю Москву перекомпоновали на новый лад. А так — втянусь... А дальше что! Спросят: «Где твой советчик, товарищ Зиновьев?» — «Где? Очень просто. Выбыл в архитектора...» — «Ребята, а мастер Зиновьев где?» — «А вон там. На своей стремянке. Остался с похлебкой... При бороде!»
...Перед окраской кухонного потолка пол из пластика следовало тщательно застелить.
Явилась Кира, внесла газеты и мешковину.
Была она одета для этого случая следующим образом: узкая юбка, английская мужская рубаха (непрозрачный нейлон), широкая клетчатая жилетка. Жилетку Кира сшила сама. Очень свободная, она скрывала Кирину худобу и сутулость.
— Какая досада, папа... — вздыхая, сказала Кира, расстилая по полу газету. — У меня на сегодня билеты в кино на «Красную бороду», а Зойку из дома не выпускают. Домострой! У ее матери мания преследования. Ее надо отправить к Фрейду. Вчера она побила Зойку по морде... Я бы на Зойкином месте с собой покончила.
— Эко ты, дочка, дешево ценишь жизнь.
— Да. Дешево... Но я завещаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над сосновым бором. Запомнил?
— Костырик, слыхал, до чего умна?! Самая вредная изо всех моих детей! Ну?! А как же с этим... с «Зеленой бородой»? — подмигнул он дочери с высоты стремянки. — Мне, что ли, прикажешь с тобой пойти, а то как бы твоим пеплом не пришлось удобрять леса!
— При чем тут ты? — пожав плечами, ответила дочь. — Я просто делюсь, вот и все!.. Зойку жаль... Потому что Зойкина мать — садистка.
— Зря не побьют. Это будьте спокойны. Небось знала, за что побила. Мать! Не чужой человек.
— Папа, ты так говоришь, как будто бы избиваешь нас каждый день.
— Не надо — не бью. Надо будет — так излупцую, как Сидорову козу, — рассеянно и певуче ответил Иван Иванович. — А сеанс-то какой?.. В часу, говорю, котором?
— В девять тридцать.
— Может, Сева пойдет на эту, как его... «Синюю бороду»? Пойдешь, что ли?
— Да что вы! Некогда. Большое спасибо. Как-нибудь в другой раз.
— Ладно, будет тебе... Всей работы все равно не переработаешь.
Сева молчал.
— Пойдет, Кируша. Что ж так... Нельзя, чтобы каждый день до самой до поздней ночи.
— Как хотите, Иван Иваныч.
— Зачем ты его заставляешь, папа? Ведь ему совершенно неинтересно!
— Что-о-о?! Тебе интересно, а Всеволоду неинтересно? Да ты понимаешь, что говоришь?
— Если б ты знал, как трудно было достать билеты. Как много желающих... До начала сеанса еще два часа с четвертью. Я кого-нибудь вызвоню!
— Что-о-о?
— Хорошо бы... А то я и переодеться-то не успею. Неудобно в рабочих брюках и куртке.
— Да будет, будет тебе, Костырик, — огорчился Иван Иваныч. — Приоденешься как-нибудь в другой раз... Все гуляют, а ты работать?.. Весна! Гуляй. Я смолоду, как бы это выразить... Я вроде бы поэнергичней был. Мы хорошо гуляли. Красиво гуляли. А на нее ты внимания не обращай. Она ж не со зла. Просто набалована до невозможности. Да и какой тебе оппонент — школьник!
ИЗБИТАЯ ЗОЙКА
Сделав великое одолжение Иван Иванычу и согласившись пойти в кино с его дочкой, Сева съездил домой и переоделся: отутюжил единственную пару выходных брюк, начистил полуботинки (еще вполне элегантные, современной формы, с туповатыми и вместе вытянутыми носами), надел импортный пиджачок.
Когда он вернулся к Зиновьевым, Иван Иваныч уже по третьему разу обрабатывал стены над чешским кафелем.
— Учитель! Вот кнопки... Для детской. Гляньте! По-моему — блеск.
— О-го-о-о! А где ты такими разжился?
— На заводе у бати. Да и много ли надо для детской? Штук тридцать — сорок — у них небольшая дверь.
— Не знаешь моих бандитов. Обивать будем с двух сторон, иначе не достигнуть звуковой изоляции.
Замолчали.
Отвернувшись от Севы, Зиновьев энергично орудовал щетками.
И вдруг щетки в руках у Зиновьева на минуту остановились.
— Сева, а может, для стен светло!.. Светловато, а? Да ладно! Кухня — не филармония.
Скрипнула дверь, вошла Кира.
— Отец! У меня немыслимо болит голова.
— То есть как это так «немыслимо»? Может, простыла? Ну так легла бы, сказала матери.
— Нет. Не стану ее волновать. Сева! Привет. То есть, извините, пожалуйста, добрый вечер. Я все перепутала, перепутала... Так болит голова!
Ее лицо искривилось, изображая боль. (Стало похоже, будто не Кира, а Сева купил билеты и долго-долго ее упрашивал... И она с трудом согласилась, что называется — снизошла, а теперь колеблется... Но отказать, если ты уже обещал, невежливо, нехорошо!.. Правда?)
— Ну что ж... Я охотно пойду один. Отдыхайте, Кира. Хорошо бы, знаете ли, выпить малинки и пропотеть.
— Я не пью малинок... И не потею!..
— А что вы пьете, когда простужаетесь? Самогон?
— Да вы не сердитесь! Не надо... — И шепотом: — Не в моих привычках ранить людей. Всем нужны тепло, доброта.
— Ха-ха-ха! — глядя в лицо этой лгунье и фарисейке, не удержавшись, захохотал Костырик.
— Ну как?.. Прошла там у вас голова, что ли? — спросил из кухни Зиновьев.
— Не совсем, папа. Попробую погулять.
Когда оба они, не глядя один на другого, спускались с лестницы, навстречу им поднялась девочка. Белокурая, толстощекая.
— Здравствуй, Кирок!
— Зойка, ты, как всегда, опаздываешь. Я уже отдала билет...
— А может, мне зайцем, Кирочек, как в прошлый раз?
— Не знаю, что тебе посоветовать... Нет! Я бы на твоем месте не стала этого делать.
— Скажите, пожалуйста, Зоя, это вас сегодня избила мама? — спросил Костырик.
— Меня?! За что?.. И как вам только не стыдно!.. Что я вам сделала? Вы меня видите в первый раз, в первый раз!
И толстая девочка, разрыдавшись, сбежала с лестницы.
— Это же совершенно другая Зоя, — огорченно сказала Кира. — У нас в классе — четыре Зои. Это жестоко, жестоко! У нее плохая фигура. Она так уязвима!
— Кира! Ты скоро бросишь валять петрушку!.. Или я поверну домой. Отчего ты нас всех считаешь за дураков?
— Зачем же всех?.. Не всех. Ну? Как ты решил? Домой?.. А если в кино, так давай побыстрей на троллейбусную остановку.
— Могу тебе предложить такси. Не хочешь?.. А может, тебе желательно у меня на закорках? Ну так давай!.. Не стесняйся!.. Садись. Валяй!
— Успокойся, Сева... Веди себя как мужчина.
Было видно, что он разъярен.
...Но и то было видно, что парень он славный, «первого класса» — прямой, бесхитростный... И что бриться начал недавно. Остатки недобритого пушка проступали на щеках, на ямке у подбородка (другая, твердая часть подбородка была еще совершенно девственной: не тронутая бородой).
— Пошли, — зевнув, сказала Кира. — Сева, этот зевок к тебе не относится. Я сегодня заснула в шестом часу, читала Цветаеву. Кого ты любишь больше всего? Я имею в виду из наших, из современных?
— Знаешь ли, недосуг читать... Институт. Стенгазета. Работа.
— А летом? Ах, да... Я забыла: у студентов летняя практика...
— И вдобавок у нас садовый участок. Приходится помогать отцу.
Он сиял. Каждое его слово сопровождала улыбка. Казалось бы, нет на земле ничего веселей, как помогать отцу сажать и полоть петрушку.
Зажегся зеленый свет.
Уверенно и спокойно он взял ее под руку, не раздумывая, инстинктивным, быстрым движением...
— Ну а спорт? — лениво спросила она.
— На лыжах хожу, конечно. Но как-то, знаешь ли, несерьезно... Разряда нет. Не стремлюсь. Нет времени для разряда.
— Сева!.. Слабо сорвать мне вот эту ветку!
— Нас оштрафуют. И прямиком — в милицию. Под конвоем.
— По-одумаешь — невидаль. У меня уж есть привод.
— Врешь.
— Не вру. Спроси у отца.
— Ну и фруктец же ты, Кирочек!
— Сева!.. Ты любишь фрукты? Я люблю. Фейхоа. Ты ел?
— Не те ли фейхоа, Кирок, что растут у вас на дворовой липе?
— Нет... Настоящие. Южноамериканские. Я бы хотела в Африку... А ты?
Задумавшись, она наклонилась к его лицу, он услышал ее дыхание.
— Вся моя цель — это Африка!
(«Это она нечаянно или нарочно?.. С ума от нее сойти!..»)
— Подожди, Кира...
Она продолжала шагать опустив голову, подбрасывая носком искривленной туфли камень, валявшийся на дорожке сквера. Он нагнал ее. В руках у него была ветка.
— На. Возьми.
— Не хочу.
— Отчего?
— Сама не знаю... Должно быть, слишком долго пришлось просить.
Наивное лицо его, не занятое тем, чтобы управлять собою, выразило растерянность. Рука играла веткой. Пальцы не знали, что делать с ней.
Он кинул ветку на мостовую.
И веточку, с чуть распустившимися весенними почками, тотчас затоптали люди. И пришла ее смерть. Но из четырех желтоватых почек заплакала только одна. У нее был скверный характер. К тому же, как самая молодая, она еще не знала слова «смирение». Почки вообще не знают слов...
— Весна! — удивившись, сказала Кира. И вскинула голову. — Вчера еще не было... А сегодня — весна.
БЕЗ ВРАНЬЯ
Да. Конечно. Весна. Эка невидаль!
Ночью она подошла к деревьям и дыхнула на них зеленым своим дыханием.
Пустынными были улицы в этот час, и никто не видал, как ложились первые отсветы дня на тихую поверхность рек; и как благодарно, и тайно, и счастливо подхватывали московские воды свет раннего, самого раннего утра; и как бережно мчали его вперед, все вперед-вперед, каждой каплей своей.
А зубчатые стены Кремля, очерченные светлеющими небесами! Это лучший час Красной площади. В этот час Кремлевские стены хороши до щемоты в сердце.
Светлеет. Светло... Загорелись от первого солнца купола Василия Блаженного. Зевая, подхватывают отблески утра окна жилых домов. Пораженные, не понимая, что же это такое нынче с ними творится, стоят на постах молодые милиционеры, охваченные смутным предчувствием счастья.
Минута! И вот уж выскочила из-за угла поливочная машина... Грузовик. И еще один.
Побелел край неба. Звякнул трамвай. Хлынули на улицу москвичи.
Они переполнят сейчас метро, троллейбусы и автобусы, заслонят Москву, заслонят утро.
Но разве им заслонить весну?
Она не спала всю ночь. Работала. Она снимет свой номерок в проходной года только тогда, когда повесит на табель свой номерок лето.
Она работяга, весна. Ни одно деревце, ни один лопух не обойдены ею.
Набухла каждая древесная почка. А запахи!.. Плохо разве она поработала над их оттенками!... А человечьи лица!
Но она не тщеславна. Нет. Не честолюбива. А всего лишь старательна. Труд ее — труд высококвалифицированный. И темпов она не снизит, независимо от наших вздохов, влюбленностей и переэкзаменовок.
— Весна! — сказала Кира.
И на этот раз не солгала. Рядом с ней, над ней, под ее ногами — со сбитым каблуком левой туфли — была весна.
К ВОПРОСУ О ПОЦЕЛУЯХ
— А нет ли билетика лишнего? — унижалась очередь.
— Биле-етик. Биле-етик... Нет ли билетика?
В фойе был джаз. Дирижер, искусно просияв унылым своим лицом, объявил солистку.
Она вышла на авансцену, немолодая, усталая... И приступила к делу: улыбнулась губами, накрашенными нежно-лиловой помадой.
— Бедняга! Да кто ж это согласится ее целовать?
— Странно ты говоришь, Кира. А вдруг она замужем?
— Разве твои папа с мамой целуются?
— ...?
— И мои никогда не целуются. Мой папа любит только красивых и молодых.
— Полно врать! Уж будто я не знаю Иван Иваныча!..
— Нет. Ты не знаешь. Он любит цветы... И музыку. И балерин. Он мужчина, но здорово на меня похож!
— Да будет тебе. И уж во всяком случае не он на тебя, а ты на него.
— Пусть по-твоему. Я знаю, что говорю!
Открылась дверь в кинозал. Подхваченные толпой, они вплыли в его полумглу, жуя на ходу пирожные с заварным кремом.
Свет погас. Темноту рассек круглый глаз ручного фонарика. Билетерша, пригнувшись указывала места, зрители бодро ругали каждого опоздавшего.
— Тишина... Наконец-то!
В зал вместе с юным самураем, облаченным в парадные шальвары хаканги, шагнуло искусство.
...Опыт требуется не только для понимания какого-нибудь сложнейшего обстоятельства. Нет. Он нужен и для того, чтобы ощутить теплоту чьих-то пальцев, необходим, чтоб засечь едва уловимое: то, к примеру, что сидящий рядом с тобой человек прижался к тебе плечом чуть сильней, чем надо. Само собой разумеется, что люди, вообще не похожие один на другого, разнятся и врожденными темпераментами.
Зрелость и та выбирает свои пути. (Один становится хорошим рабочим, другой — квалифицированным ухажером.)
Картина «Красная борода» была экранизацией классического японского романа девятнадцатого столетия. Плохие люди здесь были мерзавцами, хорошие — неуязвимы в своей победительной доброте. Одним словом — никаких льгот. Легко догадаться, что фильму предстояла счастливая концовка. (Вспомните о романах Диккенса. XIX век.)
Нынче — мы шустрые. Мы знаем, что не все на свете кончается хорошо. И все же искусство сохраняет для нас свою магию, ибо в искусстве всегда есть магия — даже если оно печально.
Кира вздрагивала; в том месте, где женщины склоняются над колодцем, посылая в его глубину имя больного мальчика для того, чтобы услыхала их просьбу Земля и сохранила ребенку жизнь, ногти ее вонзились в Севину ладонь. Он ей ответил мягким пожатием и зашуршал оберткой от шоколада.
Картина окончилась. Люди хлынули к выходу. В ярком свете Кира увидела спокойное, рассеянное лицо своего провожатого. Отгораживая Киру локтями, он вел ее сквозь толпу.
...Вот и бульвар. В его центре — пенсионеры, в дальних углах — влюбленные. Ну, а может, это и не влюбленные вовсе!.. Ведь не только любовь, даже самые крошечные влюбленности далеко не всегда рассиживают на скамейках в скверах, точно так же как подлинные влюбленности далеко не всегда «валяются на дорогах».
Весна... Ее ловит глаз вон той одиноко шагающей по бульвару семнадцатилетней девочки. Ладони девочки скрещены на затылке. Она идет, рассекая весну, занятая только собой, собой, своими тревогами и сомнениями... (Если бы ей сказали, что та прогулка, этот ее бессмысленный, торопливый шаг и есть счастье, что редко достанутся ей такие минуты, — потому что счастье, как и влюбленность, на улице не валяется, — она засмеялась бы вам в глаза.)
...Бредет по бульвару женщина. Усталая, немолодая. И радуется весне. Нет у нее и не будет спутника. Ее спутник — весна. Но женщина знает — это вовсе не мало. Она успела понять высокую ценность жизни, научилась признательности.
Шагают, шагают, шагают люди. Шуршит под ногами песок и гравий... Зажигается красный, зеленый и желтый свет мигающих светофоров.
Город не видит луны и звезд. Они — дети лесов и полей. Не снизойдут они до большого города.
У городов свои звезды и полумесяцы.
...Дошли до подъезда, и остановились. Кира почему-то не протянула ему руки. Она чертила на тротуаре полосы и квадраты носком своей сбитой туфли.
И вдруг — закрыла глаза и откинула голову.
Потерянный, он стоял рядом с ней, не зная, что делать.
— Ну!
И Сева первый раз в жизни поцеловал девочку. Он не был тем человеком, которому дано изобрести поцелуй. Он не изобрел бы его, если бы эта форма человеческого общения не была бы открыта до нас, нашими прапрадедами.
— А почему ты мне не сказал ни разу, что я красивая?
— Красивая?! Ты?.. Да когда я увидел тебя в первый раз, мне показалось, что ты похожа на мокрого суслика.
— А потом?
— А потом, что ты худая... и очень бледная.
— Значит, ты считаешь меня уродиной?! — в восторге сказала она. — Хорошо. Тогда доставь мне, пожалуйста, удовольствие — поволочись-ка за нашей Зойкой! Ну я же тебя прошу. Из человечности, из человеколюбия... Ну и что тебе стоит? Мы за это тебе всем классом при жизни воздвигнем памятник.
Она засмеялась. Свет фонаря осветил ее нежные щеки и рот.
Очарование неведомое, очарование тонкой и вместе гордой, уверенной в себе красоты поразило Севу.
— Кира...
— Нет, Сева... Нет, нет!..
Долог и нежен был их второй поцелуй.
— До свиданья, Кира.
— А наверх ты меня не проводишь?.. Не тресну — дойду одна!
Медленно поднимались они на седьмой этаж. Он обнимал ее за плечи так осторожно, так бережно. Поди догадайся — а можно ли это? А вдруг обидится?
— До завтра, Сева.
— До завтра, Кира.
...Стоял и глядел ей вслед, пока не раскрылась и не закрылась за нею дверь.
Обыкновенная дверь. В самом что ни на есть обыкновенном подъезде.
Стоял (как дурак!) и глядел, глядел на эту обыкновенную, закрывшуюся за девочкой дверь.
...Речь пойдет о небезызвестном нам современном характере.
«Ты меня любишь?»
«...А иначе почему бы я был с тобой!»
Способность к любви — достояние не каждого человека (точно так же, как достояние не каждого — безоговорочная приверженность делу, которому ты отдал жизнь).
Добросовестность, трудолюбие и с т р а с т ь — вещи, или, вернее, понятия, разные.
Костырик-младший рисовал с детства. На эту склонность ученика обратила внимание еще в пятом классе школы учительница рисования. Когда Сева перешел в седьмой класс, она показала его работы художнику-живописцу и, придя к Костырикам, переговорила о Севе с отцом...
«Ну?.. И что ж из этого вытекает?» — спокойно сказал отец.
...Костырики не отличались ни широтой, ни «богемностью». Это были люди практические и замкнутые благодаря суровому характеру Костырика-старшего. Как говорится, «семья — в себе».
В девятом классе Сева постановил, что будет строителем. Он решил податься в архитектурный.
Шагая по улицам, он теперь останавливался у каждого красивого здания; замирал, как будто его оглоушили; просиживал по вечерам в строительной библиотеке, знакомился с последними работами бразильца Нимейера (по Севиным понятиям, счастливца, ибо Нимейер спроектировал целый город — Бразилиа).
Как у многих будущих архитекторов, у Севы руки были умелые, «золотые». Если он обивал дверь — то не хуже подлинного обойщика; умел собрать из сучков красивую и добротную дачную мебель, отполировать ее не хуже краснодеревца...
И все это не как-нибудь. Все это — преотлично.
Расход душевных сил был велик. На влюбленность в девочек не хватало ни воображения, ни досуга...
...И вот он стоит (как дурак!) и смотрит на обыкновенную дверь в самом что ни на есть обыкновенном подъезде.
Стоял, стоял и глядел на эту обыкновенную, закрывшуюся за девочкой дверь...
Кира разделась, не зажигая света, кое-как побросала одежку. Легла, подложила руки под голову.
Не спалось.
Мы уже говорили о том, что луна — гость полей и лесов. Но редким гостем бывает она пусть не на городских улицах, но в городских квартирах.
Нагло — совершенно так, как бы сделала это Кира, — не спросив разрешения, луна вступила в квартиру Зиновьевых.
Кира вздохнула, забормотала:
То есть как это «что»?
Разве ты не одна из тех девочек, для которых чужое спокойствие — нарушение общественного приличия! Разве мир — не твой раб? Весь! Братья, сестры, соученики; книги, музыка, ветки дерева... Даже трава и пыль.
— Душно, — сказала Кира.
Трубы парового отопления пиликали тоненьким звуком скрипок: «цвивирк-цвивирк...» Отец рассказывал, что будто бы там живет домовой (взял и переселился в щелку труб центрального отопления, потому что разве может такое быть, чтобы добрый дом и вдруг безо всякого домового?)... Под русской печкой домовой был, конечно, побольше, полохматей... А здесь... Здесь он маленький, серенький, с всклокоченными волосами и точечными глазами — синими, как два озерца.
Домовой! Дух огня, очага, семьи... Он старый, куда же ему, бедняге, деваться, если люди взяли и отменили печь?
А вдруг в щелях тех печей, где нынче все еще топят дровами, живет не старик домовой, а молодая красивая девушка?.. А вдруг ее зовут Берюлюной, Милой или Огнивкой?
— Душно, — сказала Кира и, прошлепав босыми ногами по полу, распахнула форточку.
Она распахнула фортку, а оттуда, ясное дело, возьми и шагни весна. Шагнула и принялась переговариваться со своей старой знакомой — луной, лежащей отблеском на полу, в комнате.
Луна:
«Дрянь девка?!»
Весна:
«Больно просто... Знаешь что! Поживем — увидим...»
Дело в том, что луна не особо опытна, поскольку она небожитель. Ну а весна... Нет у нее прямого ответа на то, что хорошо, а что плохо в вопросах чувств. Милостивая к деревьям, травам, хлебам и будущему картофелю, она не всегда бывает милостивой к человеческим детям, но, многоопытная, понимает: «дрянь девки» (красивые и дурные) не что иное, как музы. Ради них воздвигают дома, мосты; открывают сложные физические законы; пишут книги, летят на Марсы.
Несправедливо?
Увы! Разумеется. Но что ж поделать? Такова жизнь.
О НОВОСТРОЙКАХ
Если в квартире семь человек постоянных жильцов и если пятеро из них дети и к каждому, кроме младшенького, приходят товарищи, можно легко представить себе, что значит проходной двор.
Если учесть, что мебель в доме еще не расставлена, что в квартире производится внутренняя отделка, если принять во внимание взбалмошный характер старшего из детей — Киры, чуть что — она принимается причитать, словно бы над покойником, по поводу каждого исчезнувшего чулка, косынки, штанов, обвиняя в этом своих сестер, — одним словом, если вообразить обстановку в доме Зиновьевых, легко догадаться: Ивану Ивановичу здорово повезло — у его супруги, Марии Ивановны, многотерпеливый русский характер.
Ей приходилось закупать и тащить на седьмой этаж продукты на всю ораву (лифты еще не работали). Приходилось готовить, мирить детей (младшие девочки, Ксана и Вероника, дрались часто и с необыкновенной энергией). Им было — одной восемь, другой девять лет. Они лупили друг друга коварно, тем способом, который свойствен только слабому полу, — мальчики, согласитесь, не царапают друг другу лица ногтями, не щиплются и не визжат так пронзительно, чтобы всю семью могли проклясть соседи с нижних этажей.
Кешка лупил их обеих совсем иначе: усердно. Честно.
Одним словом, всего лишь две недели живут в новом доме Зиновьевы, а их знает вся лестница.
— Невозможная обстановка, невозможная обстановка!.. «Ты этого хотел, Жорж Дандэн, ты этого хотел, Жорж Дандэн!» — страдальчески говорила Кира. — У меня экзамены!.. Мама, скажи им, ма-а-а-ма...
— Какому еще Даниле и что я, детка, должна сказать? — вопрошала Мария Ивановна.
На водворенном в кухне большом столе она кормила своих и чужих ребят. Дети занимались в разные смены. По этой причине день супруги Зиновьева смахивал на уплотненный рабочий день подавальщицы из столовой.
Ребята ели и громко переговаривались. Поспорив, ударяли друг друга — для краткости — ложкой по лбу. (Изобретение Вероники.)
Недавно еще пустынны были эти квартиры... По лестницам дома спускались только женщины-штукатуры со строительными носилками, переругиваясь, каждая бригада только со своим (и редко с чужим) прорабом. В то давнее время лестница подхватывала только сиплые голоса строителей... Недавно (совсем недавно) водопроводчик Семен забыл в квартире тридцать четвертой несколько стульчаков. Хозяин квартиры — фрезеровщик Ксаверьев, умеющий уважать чужой труд, — лелеял забытые стульчаки. Он думал: «Строительство! А стульчак, как ни говорите, вещь первой необходимости!»
В то время окна и стены нового дома еще спрашивали себя: кто будет нашим хозяином? Стены знали, что люди вдохнут в них жизнь, что с приходом людей забьются сердца и у них, у кирпичных стен.
И вот забились сердца у стен.
Большой грузовик вывез из дома утильсырье.
Во двор явилась весна. Следом за ней невесть откуда явился давно уже было пропавший лудильщик. Он громко запел:
— Лу-удить-пая-ать, кастрюли; паяйте нужные ве-ещи-и!
А женщинам, которые мыли окна, показалось, что мужской тоскливый голос поет:
«Лю-юбить — стра-адать, поцелуи — объятья — нежные речи!»
— Маладой чел-авек!.. То есть дяденька... Пожалуйте на второй этаж.
«Лю-юби-ить — страдать, поцелуи-объятия — нежные речи!»
— На шестой!
— На восьмой!
— На третий!
...Зазвенели под старым дубом острые в весеннем воздухе голоса детей, вздохнуло широким дыханием дерево (его сберегли потому, что: «Граждане, граждане, давайте-ка сбережем, давайте-ка сбережем зеленого друга!»).
Ветки друга тянулись к солнцу. Солнце — к почкам и дереву.
Это были почки и ветки очень старого и почтенного дуба. Право же, Сева Костырик ни за что ни про что нарек его сгоряча женским именем: «Липа».
ПОМЕР ЯМЩИК
Звонок. Дверь распахнула младшая — Вероника (Зиновьевы звали ее Вероничкой).
Вошла Кира с двумя ребятами, соучениками. Один из них нес за нею ее видавший виды портфель.
Сидя на корточках в углу коридора, Сева промывал керосином малярные кисти.
Она вошла. Он сказал:
— Здравствуй.
Его лицу и шее сделалось жарко. Он почувствовал это. И ужаснулся.
Она не ответила.
— Ма-ама, есть хочу. Щец! Картошки! Быка! Цыпленка! Жареного оленя! А чаю можно?
— Почему же нельзя. Ясно, можно. Ребята тоже, должно быть, проголодались.
Пробежав мимо Севы, Кира чуть не задела его лицо юбкой форменного платья.
— Здравствуй, Кира! («Что с нею!.. Оглохла, что ли?»)
Она громко смеялась, обнимала и целовала мать. (Двери в кухню были распахнуты.)
Сева домыл малярные кисти, обернул их в бумагу и возвратился в спальню к Ивану Ивановичу.
Зиновьев пел. Он заканчивал окраску четвертой, последней стены.
— Ну что ж... Я, пожалуй, займусь подоконником, — сказал Сева.
— Ну ладно. Чего уж там!.. Во всяком случае, на кухне и у детей перекрывать по третьему разу не станем, и так сойдет. Просвежу на другую весну.
Сева, насвистывая, принялся подправлять голубоватой (венгерской) краской — белила «мат» — узкий сверкающий подоконник.
— Иван Иванович, вы правы! Он действительно не замерзал постепенно, а «помирал». Он взял и умер. Мгновенно.
— Что случилось? У тебя нездоровые настроения, Всеволод. Ударился в меланхолию?..
— Нет. Вы просто меня убедили... Давайте-ка на два голоса!
Они пели очень прекрасно. Под их дружное пение была закончена внутренняя отделка квартиры — столь блистательная, что свободно могла при каких-нибудь международных (или не международных) соревнованиях получить приз. А впрочем, такие соревнования не вошли в жизнь. До них еще не додумались. Они, как говорится, «не привились».
О ЛЮБВИ И СТЕНДАЛЕ
Каждый знает, что Стендаль написал знаменитую книгу. Она называется «О любви». В этой книге, знакомой не первому поколению студентов и десятиклассников, умным Стендалем высказано: «надежда + сомнение = и родилась любовь».
Гений Стендаля был гением мыслителя и художника. (А не палатой мер и весов.) Хотя сам Стендаль мнил себя к тому же и математиком. Однако Стендаль не сообщает в своей знаменитой книге, сколько надежд и какое именно количество разнообразных сомнений следует применять к различным индивидуальностям.
Психологический закон, открытый великим французом, не вобрал в себя, как он, бедняга, этого ни желал, закона арифметического.
К тому же его книга написана в другой век. В ней ни слова не сказано о «сублимации» (переводе духовной часовой стрелки). Стендалем не приняты во внимание законы, так сказать, социальные: например, законы учебы...
У людей такого склада, как Сева, самолюбие, подшибленное девчонкой, ноет не больше чем полчаса.
Жизнь полна другими радостями и заботами, иной любовью — более глубокой, более честолюбивой...
И только когда вновь коснется его вихрь чужих причуд, он спросит себя: «А как же я жил без этого?! Отчего я сейчас так счастлив?!»
Но сколько же надо истратить сил и воображения, чтобы стать неотъемлемой частью его души!
...Готовясь к экзаменам, Сева забыл о Кире.
Жизнь, ее темп, темперамент ее накала сдули с него случайность Кириного детского прикосновения.
Сева вставал очень рано и поздно ложился спать.
«...Кира?! Какая Кира?!. Кира!.. Ах, да...» Но оказывается, на свете славно живется без всяких Кир.
Она была первой девочкой, с которой Сева поцеловался. (Неслыханно, но бывает!) Мы уже говорили о том, что склонность к влюбленности — достояние людей совершенно другого склада.
Встретившись первый раз в жизни с таким особенным человеком, Кира не смогла подсчитать с истинно математической точностью количество надежды, которое следовало ему отпустить.
Таким образом, «кристаллизация» (так называет зарождение любви писатель Стендаль) в данном случае не имела места. На почве экзаменов Севе пришлось отказаться не только что от влюбленности, но даже от славной «халтуры», которую ему предложил Зиновьев.
Заботы, заботы, заботы...
Жизнь шла...
Из почек образовались листки. Кире минуло ровно семнадцать. В этот торжественный день соученики протащили ее на плечах и руках с верхнего этажа школы № 127 до нижнего этажа школы, а с нижнего этажа — на верхний. Вслед за мальчиками неслись и громко вопили девочки — десятый, девятый, восьмые классы.
Время шло.
Несмотря на «отсутствие условий», Кира благополучно вытянула экзамены, заработала шесть пятерок. (Дело несколько осложнилось английским. К английскому Кира не подготовилась, но, придя на экзамен, она разыграла обморок.) Весна! Напряжение, напряжение... Учительница поставила ей четверку.
Время шло. Оно шло и шло...
— Отец! Куда ты подевал Севу?
— Подевал! Он не вещь, — усмехнувшись, ответил Иван Иванович и отхлебнул супу. — У него экзамены. А второе то, что скоро ему на военную службу... Строитель... Отслужит два месяца — отхватит звание младшего лейтенанта.
Кира пожала плечами. И вдруг шепотом, твердо глядя отцу в глаза:
— Скажи, пожалуйста, он теленок?
— Что?
— Теленок... Безрогий, безрогий — вот что!
— Ты уж скажешь, Кирилл, — растерянно ответил отец. — Ты у нас мастер сказать... До Костырика, детка, ты еще не достигла. Он — талант, трудолюбие... Все вы — хихоньки-хахоньки, а он — кормилец семьи... А какой живописец! Видела его картину?
— И что?
— А то, моя детка, что, помнишь, ко мне приходил договариваться художник? «Это чья ж, говорит, работа? Ваших детей?.. В высшей степени интересно!» А я: «Мои дети до таких талантов не доросли. Я бы условия создал. Но чего нет — того нет». Вот так-то, Кирилл.
— Пра-авильно, пра-авильно, — ответила вместо Киры Мария Ивановна. — Ей самое что ни на есть время выходить замуж. Нахваливай. Задуривай девке голову.
— На что это ты намекаешь, мать? — изумился Иван Иванович. — Какое еще задуривание? Наша девушка и так без женихов не останется. Больно надо. Да и какое нахваливание? Просто другой характер... На другом, на серьезном, сосредоточенный человек.
— Мама, ты странная... Он же абсолютно неинтересен. Нет у него темперамента! Ты женщина, неужели не ощущаешь?..
— Чего-о-о? Только мне и заботы, дочка, что вникать в температуры твоих парней.
— Мой!..
Кира хлопнула дверью и вышла из комнаты.
— Вот всегда ты эдак, — сказал с досадой Иван Иванович. — Все же надо мал-мала сознание иметь. Ведь она ж — девица.
— Спи-ка спокойно. Твоя девица кого угодно затюкает. Не бессловесная. Чересчур разбитная и языкатая.
...На том бы, может, дело и кончилось, но Сева достал для Ивана Ивановича сепию (Зиновьев отделывал квартиру композитора Лапина).
И вот однажды вечером бедняга Костырик занес Зиновьевым банку с этим остродефицитным товаром.
Был конец июня. Через три недели Костырик отбывал в лагерь.
Они пили с Зиновьевым чай, Зиновьев, посмеиваясь, рассказывал, что кабинет Лапина оклеили мешковиной.
— Красиво, — прищурившись и отхлебнув чаю, одобрил Сева.
— Красиво, кто спорит! Но как не учесть клопов!
— Сева, здравствуйте, — выходя на кухню, сказала Кира. — А я про вас спрашивала. Папа, подтверди!
— Да, да... Действительно. Она вроде справлялась.
Кира присела к столу.
— Знаете, Сева, мы в воскресенье всем классом ездили за город. Сплотили плот и вниз — по реке... Блеск.
Он продолжал смиренно пить чай, не поднимая на нее глаз.
— А гулять как хочется!.. А погода какая чудесная-расчудесная, — тихо сказала Кира.
Сева молчал.
Она уронила локоть на стол, прижалась щекой к опрокинутой тонкой голой руке... Из щелки глянули на него глаза — искрившиеся и вместе доверчивые, смеющиеся и простодушные.
— А я все знаю. Вы едете в лагерь. — Она вздохнула. — Мне папа сказал.
— Ага. Через три недели.
— А гулять как хочется... Сегодня мы целый день занимались. Скоро опять экзамены. Папка, если я умру, не забудь мне в гроб положить книгу.
— Скажешь тоже, — умилился Иван Иванович.
— Когда будете уходить, Сева, — вставая и потягиваясь, сказала она, — пожалуйста, кликнете по дороге: я провожу. Хочется хоть немного подышать воздухом.
— Ага. Обязательно.
Ленивым шагом вышла она из кухни. Это была походка усталого человека. Человека, подкошенного экзаменами.
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Среди шепотков, молчаний, среди миллионов и миллионов людей (каждому известно, что население Москвы — оно многомиллионное) шагают пары.
Среди пар, соединяющихся и расстающихся; среди пар пожилых супругов; школьников; рабочих; студентов; спортсменов; среди пар, и не слыхавших о влюбленности; среди пар, изобретших влюбленность; среди пар, постигших, что значит дружба; среди пар, усвоивших нынче вечером (именно нынче вечером!), что и дружба вечною не бывает, шагают (видите?.. Нет?.. А вы поглядите!) — это они!
— ...Я ждала, ждала. Я всю ночь в тот раз проревела. А ты даже не помнишь... Забыл, что мы целовались!
Молчание.
— Ну что ж, ну что ж... Все вы, ребята, одним миром мазаны.
— Между прочим, Кира... откуда у тебя эта отвратительная привычка — не здороваться с человеком?
— Не знаю... Иногда я словно какая-то сумасшедшая. Как будто бы меня нет.
— До того вырождаешься, что забываешь такие слова, как «здравствуйте» и «до свидания»?
— Севка, брось!.. Я хотела тебе рассказать, пока не забыла... Помнишь Зойку?
— И далась же тебе эта Зойка!
— И вовсе она не «эта»... Я Зойку люблю и ею горжусь. Погоди, погоди... В общем, когда мы были в седьмом, нам задали Евгения Онегина. И она написала, что это произведение нереалистическое, потому что по настоящей правде активная роль в любви принадлежит самцу.
Он остановился и захохотал. Хохотал так громко, так искренне, что все на него оглядывались.
— Что с тобой. Ты с ума сошел?
— Извини. Минутку. Ха-ха-ха-ха!..
Широко раскрыв глаза, она озабоченно наклонилась к нему. И он ее бегло и быстро поцеловал.
— Да ты что? Посредине улицы?.. На глазах у народа?.. Какой ты... циничный, циничный!
— Прости, Кирок... В самом деле, это нехорошо.
Она зажмурилась и, прикрывая лицо, побежала прочь...
Бодро мчались они вдоль улицы.
Выбившись из сил, она ворвалась в чужой подъезд. Остановилась раздавленная. Якобы подкошенная стыдом.
Помолчали.
— Поклянись, что больше ты никогда, никогда, никогда... Что это было в последний раз!
— Клянусь! Если хочешь — пожую землю.
Она сделала над собой усилие и расплакалась. У доброго малого сжалось сердце. Он принялся целовать ее плачущие глаза, платье, руки; гладил Кирины брови, влажные щеки.
— Но ты же клялся... Клялся! Ты землю ел...
— Да. Но что же мне делать, если активная роль...
...Пустынными стали улицы. Тут и там раздавались чьи-то шаги, такие отчетливые в тишине городской ночи...
Солдаты, несшие караул у Ленинского Мавзолея, стояли недвижные, бессменные, как мгновения, — ибо время движется, солдаты сменяются, но неизменны мгновения во времени: в каждых сутках — часы; в месяцах — сутки; а год дробится на месяцы... Такова жизнь...
Дробятся темные воды Москвы-реки... Погасло одно окно, четыре, шесть, десять... Редкими стали световые дробящиеся дороги.
Ночь. На смену ей, как оно и положено, грядет утро.
— Сева, я пить хочу.
— Здесь, Кирилл, понимаешь ли, где-то близко был автомат. Вот! Погоди, у меня в кармане есть мелочишка.
Они пили воду с сиропом и без сиропа. Они чокались и, сталкиваясь носами, пили одновременно из одного стакана.
Он все бросал и бросал в автомат трехкопеечные монеты... Подставив руки, она набрала в ладони пузырившейся воды, умыла лицо.
Осторожны шаги городского солнца. Тихо выкатило оно на площадь. Проехал, твердо помня свои дневные обязанности, грузовичок, развозящий хлеб. Промчалась «скорая помощь».
Прохожий. Еще один...
— Значит, сегодня вечером?
Взмах ресниц.
— Где?.. Давай на площади Пушкина.
— Что ж. Давай.
— В котором часу?
— В шесть. Только, пожалуйста, не опаздывай, Севка...
Она поднимается вверх по лестнице. Как ни странно, но двери распахиваются мгновенно. У дверей — одетая Мария Ивановна. Глаза ее сухи и страшны. А лицо заплакано.
— Ты... Ты жива?!
— Ой, мама... Какая ты скучная!
— Знаешь ли, раньше сама народи детей... А потом, потом...
Слов недостало. Мария Ивановна размахнулась и отпустила Кире увесистую пощечину.
— А-а! — заорала Кира.
...Сделалось тихо.
— Погляди-ка в щель... Как же так, не узнала, не расспросила? Если что с ней случится, я... я... — бормотал подвыпивший от тоски и тревоги Зиновьев. — Ты думаешь, наша дочь — обыкновенная девушка?.. Нет!.. А ну погляди-ка в щель... Помнишь, в школе у них девчонка спрыгнула с лестницы! С четвертого этажа... Из-за матери. Крикнула: «Пожалеешь!» — и головой вниз... Пусть как хочет, что хочет... Пойди погляди-ка в щель! Тоже мать... Э-эх! Да лучше бы ты меня варом обварила!.. Да лучше бы ты у меня руку оттяпала... Правую. На, бери.
— Пара пятак, — отвечала Мария Ивановна. — Яблочко от яблоньки недалеко катится. Отцова дочка — вот она кто, твоя «необыкновенная»!
О СОСТРАДАНИИ
— Это ты, Всеволод? А мы-то думали, может, ты укатил в Питер.
— Надо будет — укачу в Питер.
(Старик и Сева, одинаково властные, не давали друг другу спуску.)
— Когда же и погулять-то, если не смолоду! — осторожно вмешалась мать. — Он ни разу не приходил выпивши. Нет у нас на него обиды.
— Молчи! Ты ему не судья! Ты ему потатчик!.. Еще бы недоставало, чтоб выпивши!.. Не время вроде бы для гулянок... А ежели подоспело — пусть женится. Что ж!..
— Ты уж скажешь, отец, — заскрипев пружинами, робко сказала мать.
Сева, не соизволяя ответить, прошел к себе. Он хлопнул дверью так громко, что разбудил Катю.
— Сева!.. Она меня била... Била!..
— Кто избил? Что случилось? Говори толком. Тише, на нас оглядываются... Ну? Говори.
Кира не в силах была говорить. Упав на скамейку, она заплакала и вдруг — он не сразу понял это и от срама зажмурился — прижалась с маху к его плечу.
Они сидели в одном из самых людных городских скверов, в час пик. Он чувствовал сквозь рубаху тепло ее слез, она жалась к нему, как будто хотела в него вдавиться. И... такова уж беспримерная несправедливость жизни — в эту минуту первой (и полной) Кириной искренности ему захотелось отодрать ее от себя, как отдирают вцепившегося котенка... Только то он и видел, что ее сутулую спину и острые, шершавые, вздрагивающие локти.
— Кира, тише... Ты соберешь толпу.
— Наплевать! Пусть.
Поморщившись, он вспомнил о Кате, своей сестре. Разве она могла бы — какое бы с ней ни случилось горе — так открыто его выплескивать! Нет. Их Катя... Одним словом, совсем, совсем другой она человек...
...Никто из ребят никогда не бывал у Костыриков. К Кате не приходили в гости даже подруги. «Мой дом вам не проходной двор», — говорил отец.
Однажды, возвращаясь с вечерней смены, старик Костырик застал внизу, у подъезда, Катю с каким-то мальчиком. Мальчик робко держал в руках Катин школьный портфель.
— Домой, непутевая! — заорал отец. И, сдвигая брови, поволок ее вверх по лестнице.
Катя тихо плакала, но не сказала отцу ни слова. Перечить она не смела.
Сева не подошел к сестре, чтоб утешить ее, Он считал, что отец поступил хоть и грубо, но по существу правильно. Девушка!.. Оба они несли за нее ответ.
— Кира, ты на меня не сердись... Неужто родители никогда и пальцем до вас не дотрагивались?
— Дотрагивались... Только не до меня. Я — старшая... И я думала, что меня в семье ува... уважают... Севка!.. Я целый день ничего, ничего не ела!
Он с облегчением отстранился, слетал до угла и купил ей в будке хрустящий картофель.
Отойдя в сторонку, Кира принялась есть. Съела все, до последнего ломтика.
— Вытри! — И она протянула ему ладони.
Он подобрал кулек, который она швырнула на мостовую, скомкал его, положил в урну...
— Прошу! — Он подал ей сложенный вчетверо носовой платок.
— Целый день ничего-ничего-ничего... Даже кусочка хлеба...
Он неторопливо зашагал к булочной и принес ей сдобы.
На этот раз она ела медленно и лениво, повернув в его сторону задумчивые, совершенно детские, опухшие от слез глаза.
— Сева, уйдем... Все отчего-то на нас уставились...
— Еще бы! Ничего, Кирилка, не унывай! У меня как раз билеты в «Россию».
— Нет, лучше куда-нибудь, где никого-никого. Я их всех ненавижу... Понял? Всех! Всех!
Погасшим взором глядела она в окна раскачивавшегося трамвая.
Молчали.
«Ничего не скажешь, славно развлекся перед экзаменом. Неплохо провел вечерок, Костырик!»
Конечная остановка.
Нежно и жалобно шелестели кроны деревьев, похожие на метелки. Голыми были их общипанные стволы. Вот надпись на старом ясене: «Саша + Таня = Любовь».
Кира сидела, опершись о ствол, глядя злыми, невидящими глазами на эту дурацкую надпись. И вдруг, сощурившись, заговорила о матери... Говорила шепотом, проклиная ее, обзывая дурой. Лицо у девочки побледнело, ноздри раздулись...
— Сева! Она меня бьет... Бьет, бьет!..
Он слушал, не поднимая глаз, стиснув губы.
По Севиному разумению, мать была понятием святым, неприкосновенным даже в тайная тайных мысли. За всю свою жизнь он никогда не повысил на нее голоса, «жалел», приносил ей с получки то пирожок, то конфету.
Мать — это факт, обсуждению не поддающийся. Как луна и солнце. Если б она его и ударила... Что ж... Он бы жаловаться не смел.
«Мать!.. Ударила!.. Стало быть — довел».
— Кира, ты ошалела!.. Ведь не чужая она тебе. Ждала. Беспокоилась... Разве можно не понимать?
— Что ты сказал?.. А ну — повтори!
И она приблизила свое побелевшее, яростное лицо совсем близко к его лицу.
— А ну, повтори!
Глаза ее сузились, волосы растрепались... Вскочила и, злая, страшная как колдунья, ударила его кулаком в грудь. Дрожащая от ненависти рука вцепилась в его парадную нейлоновую рубаху, дернула, оторвала пуговицу...
— Иди-ка целуйся с ними!.. Обнимайся, целуйся. Пожалуйста. Хоть с матерью, хоть с отцом! Валяй! Иди... Ну! Чего же ты сидишь?.. Иди.
И, размахнувшись снова, яростно и беспомощно — совершенно по-детски — толкнула его кулаком в грудь.
Он пытался перехватить ее руки. Когда она заорала: «Целуйся с ними!» — вспомнил почему-то Ивана Иваныча...
Хорошо... Ну, а что бы сказал отец, что бы сказал он сам, если бы кто-нибудь ни с того ни с сего уволок на всю ночь их Катю?.. По его понятиям о чести, ему следовало сейчас же пойти к Зиновьевым и признаться, что это именно он, Костырик Всеволод, бродил вчера по ночной Москве с его дочкой Кирой.
«Некрасиво. Нехорошо. Нечестно», — говорило что-то в глубине его уязвимой совести.
«Да ведь я не люблю ее вовсе!.. Или это зовется любовью?.. Жениться?.. Да как же я буду на ней женат?.. Она нас всех взбаламутит!.. Ну а работа?.. Я буду зависеть от ее вздорности, от ее причуд...
А вдруг я все же люблю ее?! Может, это зовется любовью?»
Кира, всхлипывая, лежала на выступающих из земли корнях.
Пролетел шмель.
С ужасом поглядела она на вспыхивающие под солнцем крошечные шмелиные крылья. Шмель кружился низко, над самой ее головой, почти касаясь ее лица.
— Севка!.. Шмель.
Он отогнал шмеля. Кира перевела дыхание... И вдруг ему стало так жалко ее, что он ее осторожно поцеловал.
Стоило Севе приблизить свое лицо к заплаканному, сердитому лицу Киры, как у них мигом нашлось и общее дело, и общий язык, и взаимное понимание. Они помедлили... И поцеловались опять. Худая рука, к которой пристали прошлогодние иглы хвои, обвила его шею. Он гладил ее нечесаные, жесткие волосы, потом, обняв, принялся осторожно и нежно ее укачивать...
Кира уснула. Он сидел не дыша, боялся пошевелиться.
Во сне лицо ее приняло знакомое ему таинственное выражение. Растрепанная, заплаканная, — наперекор всему, — как она все же была хороша!
Спала. А небо темнело, темнело... И вот уже зажглась в его полотняной глуби первая точка: звезда.
«...Марья Ивановна будет тревожиться... Как бы эдак поосторожнее разбудить Киру?»
Он сорвал травинку, провел травинкой по ее лбу, глазам. Она поморщилась, но продолжала спать.
Он прямо-таки страшился поглядеть вверх: над деревьями светлыми гальками прыгали звезды... Время от времени тишину прорезал дальний скрежет трамвая.
Что делать?
Он осторожно высвободил занемевший локоть, распрямил спину. Кира сонно перевернулась на другой бок.
— Кира!
Не слышит. Спит.
Делать нечего... Приподняв, он взял ее на руки и понес. Кто бы думал, что она такая тяжелая?.. (И такая лукавая.) Притворяясь спящей, чуть приоткрыв глаза, она щекотала его шею ресницами.
Нести ее, длинноногую и большую, было все тяжелей.
Завиднелась улица. Сева осторожно поставил Киру на землю.
Бедняга! — она продолжала спать: как конь — на ходу, стоя. Взгляд ее, как бы глядящий из глубины сна, сказал ему об ее беззащитной юности, об ее беспомощности... И Сева всей силой бережного, нежного чувства понял вдруг, что Кира не только лгунья. Он понял, что Кира — девочка.
Сидя в трамвае, они перешептывались, почти касаясь друг друга лбами.
Она:
— Не прощу.
Он:
— Да полно тебе.
А за окнами мелькали деревья.
Вот улица. И еще одна... Фонари уже осветили город. Влюбленные молодые милиционеры, творя свой долг, энергично дирижировали движением легковых машин. «За город едут, черти!»
Вот Кирин подъезд. Они обнялись и поцеловались, осторожно, бегло, как брат и сестра.
— Поклянись, что будешь хорошо спать.
— Клянусь!
— Нет. Не так... Ты отмахиваешься. Давай по-серьезному.
— Я по-серьезному. Хочешь, пожую землю!
— До завтра, Кира.
— Угу.
— На том же месте! У памятника!
(Легкий выдох.)
— Только, пожалуйста, не опаздывай. Помни! Я не люблю ждать.
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛЫЧ
— Напрасно думаешь, дочка, что все дело в красивой мордочке. Дело — в счастье.
— Верно, мам. Какое может быть счастье, если славная мордочка и плохая фигура?
— Зачем ты ее задираешь, мать? Все равно, кроме дерзостей, ничего от нее не услышишь. Вредная! Однако не беспокойся: при ней и хорошая мордочка и хорошая голова.
— И неплохие ноги, отец, что тоже имеет, не правда ли, некоторое значение!
— Кира, как мужчина тебе скажу, — скромность самое первое украшение девушки.
— Неверно, пап... Отметки — ее первое украшение, а второе — скромность. Ну а в общем-то... давай-ка вместе прикинем... Ага! Все ясно: гибкость и артистичность.
— Чего, чего?
— Пап, ты воробышек! (И с глубоким, тяжелым вздохом.) Я и о завтрашнем дне никогда не думаю, поскольку эпоха атома... Разве можно загадывать на сто лет вперед! Вот если я была бы гадалкой...
— Полно врать. Надоела.
— Отец, жениться бы тебе на цыганке, я подалась бы в театр «Ромэн»... Пап, а пап, сознайся, как ты насчет цыганок?
...Но отцу ли было не знать, что на самом деле она далеко не так легкомысленно относится к своему будущему. Еще в десятом классе Кира настойчиво (и тайно!) просила его переговорить с профессором-экзаменатором, в чьей квартире он делал внутреннюю отделку.
— Отец, пойми, без протекции нынче — хана. Ты идеалист, безнадежный идеалист!
Когда-то, очень давно (еще до истории с пощечиной), Кира хотела в педагогический, на факультет по дефектологии.
Об этом прослышали в школе, ребята стали ее дразнить: «Закон взаимного притяжения, Кирок!»
Мало кто мечтал о такой профессии. Но в этом году, еще задолго до начала приемных экзаменов, пединститут объявил о повышении стипендий для дефектологов.
Ладно. Пусть... Ей-то, ей-то какое дело? Кира жила затаившись, сделав свои какие-то тайные (и горькие) выводы... Она не станет держать экзаменов, у нее теперь совершенно другие планы.
Если Зиновьева спрашивали: «Ну, как там твои пацаны?» — он, прищурившись, отвечал: «А чего ж им сделается? Живут — хлеб жуют. Старшая кончила, готовится в педагогический».
Готовится? Как бы не так!
Утром, объявив, что идет в районную библиотеку, она ленивым шагом отправлялась к кому-нибудь из ребят... Полеживая на тахте, курила, читала Ремарка и Хемингуэя...
— Ребята!.. Я бы, пожалуй, выпила кальвадосу... Или, в крайнем случае, утолилась рюмкой ликеру...
— До чего испорченная девчонка! — вздыхали матери.
И невдомек им была полудетская, безупречная чистота Киры; невдомек им было, что она балаболка, не вникавшая в то, о чем говорит.
— Поймите, мальчики, экзамены — это пошлость. Где ваша самостоятельность мышления? — насмешливо спрашивала у мальчиков Кира.
...У книг бывает подстрочье. У действий человека, его слов и поступков тоже есть основа, подчас глубокая и таинственная. Люди попросту не дают себе труда разобраться в ней: не всякий так вдумчив и опытен, чтобы сказать себе правду о самом себе.
Говоря по чести, все мальчики, кроме Севы, были Кире чуток скучны. Но вынести отсутствие подчинения себе от кого бы то ни было она не хотела и не могла.
«Оставь его, Кира!.. Ему так плохо!»
«Ты уверена, Зойка?.. А я хочу, чтоб ему было плохо!»
«...Ни черта не жрет, — сплетничали за спиной у Киры девчонки, — сыта мужской кровью и мармеладками».
У нее было много «подруг» — своеобразная женская армия преданных ей поклонниц. Но Кира уж как-то очень беспечно с ними рвала.
«Что делать, девочки! Я, видимо, человек дуэльный».
«Хорошо, Кирок. Ну вот, например, мы пошли на какую-нибудь вечеринку... Нас — двое. А мальчиков — десять. Все за тобой увиваются, приглашают, то-се... А меня какой-нибудь один — завалящий. Ты б рассердилась, да?»
Взмах ресниц:
«Он сразу станет мне нужен, Зойка. Именно этот мальчик».
«А как же я?.. Ведь ты меня любишь, Кира?»
«Люблю. Конечно. Но... ничего не поделаешь. Это нашему государству не надо чужого. Мне отчего-то «надо чужого»... И только чужого!..»
По-настоящему Кира любила только своего младшего брата Сашку.
— Поймите, он еще не успел научиться тупости! — наивно (и лживо) оправдывалась она.
...Мать жгуче стыдилась старших своих детей, когда носила его.
— Господи!.. Пропади он пропадом...
— Ты слышал, Кешка?
— Еще бы! Ничего, Кира. Мы над ним установим шефство... Ежели что, так есть, между прочим, охрана младенчества. Не кто-нибудь... Не собака. Родные сестренка или братишка!..
Он родился слабый, чуть что не обреченный.
Увидев Сашу, когда мать купала его в корыте, Кира зажмурилась. От жалости у нее перехватило дыхание. В носу защекотало, будто гусиным перышком... «Подслушал, должно быть, что мама его не любила и не ждала!..»
Так думала Кира, которой было в то время тринадцать лет. На деньги от завтраков она принялась покупать ему апельсины. Апельсины Кира подкладывала в коляску, под Сашкино одеяло. Вечером, глубоко вздыхая, она съедала Сашкины апельсины... Они были согреты его теплом.
И это она научила его смеяться.
Ему шел пятый месяц, он уже неплохо держал головку... Мать носила его по комнате, на руках. Кира взяла братишку из маминых рук, подошла к окну. Прикидывая, чем бы его развлечь, тринадцатилетняя нянька побарабанила по стеклу пальцами, подергала листок герани. Когда пальцы ее коснулись листка, Саша беззвучно захохотал. Он смеялся, откинув назад тяжелую, полулысую голову, глаза у него сощурились.
— Мама, мама, смотри... Гогочет...
— Отстань! — ответила мать. — Какое такое может быть гоготанье в четыре месяца.
И опять протянулась вперед рука девочки. Кира щелкнула пальцем по вздрагивавшему листку...
Что казалось ему смешным в трепете этой тощей листвы? Можно было подумать, что листки герани щекочут его. Когда бы Кира ни подходила к окну, держа на руках братишку, ей стоило протянуть руку и дернуть листок — как он заходился беззубым, беззвучным хохотом.
Ему шел третий год. Он заболел дифтерией. Потом — воспалением легких.
— Это ты виновата!.. Ты! Ты не хотела, чтоб он родился. Все вы, все вы его ненавидите!..
— Бога побойся, Кира!
— Не боюсь. Никого не боюсь, ничего не боюсь. Это вы боитесь, а я — не боюсь. Все взрослые — лицемеры и трусы, трусы!
Саша поправился.
— Сашенька!
Ребенок не повернул головы на зов матери.
Страшные предположения ее подтвердились: оглох.
Кире сказали об этом самой-последней. Она забилась в угол дивана... Слезы катились по ее вздрагивавшему лицу и попадали за ворот платья.
Она учила его говорить, проявляя неслыханное для себя терпение.
— Плюнь на них!.. Плюнь, моя детка, плюнь, плюнь... Он прижимался к сестре теплым лбом, щекой, подбородком.
— Сашуня, запомни: все они стервы, стервы...
Вот как хорошо, как красиво она учила его смыслу жизни и артикуляции.
Он рос. Кира повсюду тискала его за собой, озлобленно приглядываясь, не заметил ли кто, что ребенок неполноценен.
Редко кто это замечал. Всем было не до него.
«Мой сын», — говорила Кира. (Увы! Ни один человек не верил ей.)
Он был строптив (как она). Голос его был деревянным голосом, без модуляций.
К тому же был он великий сплетник.
— Сашенька, это — шампанское, — говорила Кира, приложив губы к его щеке.
— Ма-а!.. Шапа-а-а...
Что значило: «Мама! Они пили шампанское». (Донос по поводу кафе «Молодежное». По воскресеньям Кира и туда волокла его за собой.)
Кому бы она простила такое? Ему — прощала.
Отец задумал отдать малыша в специальную школу для глухонемых дошкольников.
Опасаясь Сашиных унижений, Кира настроила против родителей Кешку, Ксану и Вероничку.
— Вы хотите избавиться от него! — хором вопили дети.
Отец поступил по-своему.
— Мыть полы пойду, — угрожала Кира. — Дам объявление — и в домработницы, в домработницы!.. Все равно все они ни черта не умеют... Вот я выучусь, сделаюсь дефектологом, тогда дело другое, тогда...
Если он плохо ел, Кира стучала кулаком по столу. Если заболевал — тревожилась сильней, чем Марья Ивановна.
Маленькие Зиновьевы прозвали Сашку: «Александр Кириллыч» (Кирин Сашка).
— Не троньте его! — говорили дворовым мальчишкам Ксана и Вероника. — Кира придет — он сейчас же наябедничает. Он — ябеда.
Когда она возвращалась домой, он бежал ей навстречу, обхватывал ее ноги, утыкался носом в ее подол.
Летом, по настоянию Киры, Сашу отдавали тетке — в деревню.
...А Кира воображала, что выбрала «дефектологический» назло девчонкам из десятого класса. Она не догадывалась об инстинкте. О слухе души...
Она им покажет, покажет... (Кому? Чему? Несущественно.) Все они от нее наплачутся!
О СЧАСТЬЕ
— ...Севка, я даже вообразить, вообразить не могу — утром я просыпаюсь и знаю: нету тебя!.. Ты — в лагере... Я — к Маяковскому!.. Тебя нет... И нет в нашем сквере, и нету во всей Москве... Я хожу по улицам, ищу, но ты мне не откликаешься...
Чтобы лучше это вообразить, Кира остановилась, закрыла глаза кулаками.
Не помогло. Не воображалось.
— Кирилл, ты так говоришь, будто я отдаю концы! И не стыдно тебе? Каких-то жалких два месяца!.. Моргнуть не успеешь...
— А я не хочу моргать! Можно мне будет хоть приезжать в лагерь?
Он глянул искоса в ее сторону, польщенный, растроганный.
— Разве что по воскресеньям... С мамой и Катей.
И вдруг:
— Кира, ты не обидишься?
— Нет.
— Ты это все придумала? Ну, скажи!
— Да. Я — вру! Все я вру. И ты мне не верь, не верь...
Он нежно и благодарно прижал к себе ее локоть.
— Погляди: вот речка...
Странная речка — без песка и без гальки на берегах. Высокие, влажные травы ее опоясывают. Ни души кругом. (Две души — разве это одна душа?)
Раздевшись, «души» щупают воду пальцами разутых ног.
Дно мягкое, топкое. На воде какие-то листки величиной с ноготь. Неспешно и величаво гнется к земле нежнейшее зарево, небо будто просвечивает.
Вокруг много-много деревьев. Ни единой сосны: ольха, береза, клен, ясень.
От земли поднимаются испарения. Остроголовый дымок улетает в лес, выглядывает из-за каждого дерева... Стоит и раскачивается.
Сейчас уйдет солнце. Но небо не потемнело: светлое, плывет оно над рекой и лесом. Вот стадо коров на том берегу. Пастух оперся спиной о дерево.
— Ах, чтоб вы окосели, проклятые! — что есть мочи орет пастух.
И должно быть, коровы со страху взяли да окосели. Ка-ак замычат — и домой, домой, опустив головы, тупо разглядывая длинные, влажные, колышущиеся стебли.
Кто-то осторожно, протяжно запел на ветке.
Кто это?.. Что это?
Полно. Уж будто не знаешь, что соловей. Дрожит в соловьином горле память о всех на свете закатах. Откинул голову и предался воспоминаниям. Задохнулся, не снеся восхищения, — выгнул горлышко, закатил глаза...
Это и был конец. Что же еще сказать?
Он сказал все.
— Сева, мне холодно.
Он накинул ей на плечи свой пиджак.
Они сидели в траве, прижавшись друг к другу, она — в его пиджаке, он — в рубахе с засученными рукавами.
И вдруг, зажмурившись, сам не зная, как это случилось, он прижался носом и подбородком к ее ногам. Кира боялась пошевелиться. Он слышал сквозь платье тепло ее ног, она — его остановившееся дыхание.
— Сева!.. Ты бы хотел, чтоб мы стали сиамскими близнецами?
— Чего-о-о!!
— Ну, чтоб у нас, например, одно туловище и два носа... Или — нет. Лучше вот как: чтобы мы плечами срослись... Мы — такие, как есть, но у нас одно общее кровообращение. Не хотел бы?.. Нет?
— Кира, и откуда только у тебя силы берутся? С утра во рту ни росинки, а ты говоришь, говоришь...
— Ты голоден, да?
— А ты?
— Мне бы хлебца.
Голод погнал их к железнодорожной станции.
...Ожидая поезда, они жевали булку, отщипывая кусочки от свежей плетенки. Пожевав, повздыхав, она вспомнила, что ей чего-то недостает. Воды, что ли?
Нет. Вот чего ей хочется: целоваться.
И, глянув снизу на его движущийся подбородок, она осторожно принялась его целовать.
— Ты что, ошалела, Кира?
— Да.
Пассажиры, ждавшие поезда, проходя мимо них, останавливались и с большим интересом вглядывались в целующихся. При этом они горестно покачивали головами:
— Тьфу! Ни стыда, ни совести... Экая нынче пошла молодежь!
МЕТЕОРИТ
...Садовые участки отгорожены друг от друга заборами и заборчиками. Меж них — переулки. Глубокие колеи заросли травой. Тонко пахнет медовой пылью.
И вдруг осторожно дрогнула огнистая полоса, небо сделалось стеклянно-зеленое. По левую сторону встала первая темнота. Около домиков появились другие — вторые домики. Это были тени от настоящих домов — приплюснутые и кривые.
Посредине сада, наклонившись над грядкой, орудуя садовыми ножницами, стоит девчонка лет эдак шестнадцати. Увидев их, неожиданно выступивших из мглы, девочка растерянно выпрямляется... Беспомощно и робко звенят у нее в руках садовые ножницы.
— Знакомься, Катюша.
— Кира.
— Катя. Очень рада... Он мне говорил...
В доме быстро распахиваются двери. Белеют, будто освещенные изнутри, березовые поленья, тянет нежным запахом бересты.
На пороге — старик: маленький, лысый, с мягкими волосиками, едва прикрывающими голое темя.
— Тебя Кирой звать? Ладно, чего ж топтаться, раз пришла — заходи, — весело разглядывая ее, говорит старик.
...В комнате над столом неяркая лампа без абажура. Вокруг, наподобие сиянья, вьется белая мошкара. Из кухни в комнату прорублено небольшое окно («архитектурные» новшества Севки). Среди грубо сколоченной, самодельной мебели, на столе — драгоценный подсвечник с модной свечой. Подсвечник — старинный, бронзовый, потемневший от времени, местами позеленевший.
В шезлонге — высокая, рыхлая женщина, похожая на крестьянку.
— Я... Я — Кира, — опустив глаза, говорит Кира.
— Очень даже приятно, — отвечает женщина, сияя добрым взглядом голубых глаз. («...Красива! Ничего не скажешь — красавица!.. Божья матерь. Словно сошла с иконы. Только больно уж молода. И худа... А брови-то, брови!.. Воистину соболиные. Зарделась. Застрамотилась... Скромница».) — Садись-ка, детка. Чего ж стоять.
Кира садится на краешек стула, опускает глаза, теребит платье.
И вдруг глаза ее, глядящие исподлобья, соединяются с глазами шустрого старика.
— Айда девка, — смеется он. — Не подкачала, не подкачала!.. Кира!.. Я что-то такого имени не слыхал. Не русское это имя. А ты, видать, удалая... Удалая и развеселая. В глазах у тебя — и болото и черти.
— Я... я должна была родиться Кириллом. Так папа хотел... И вдруг родилась Кирой.
— Уж право! А так-то чем ты ему не потрафила? — вздыхает мать, — Садись-ка поближе, детка. (Ты бы чаю, Катюша!) Вот и я тоже со Всеволодом с твоим намаялась бог знат как... Двое было у нас парней. Грудных... Полненьких, чернобровых. Нарекали Сергеями. Померли, один за другим. Я — к святому отцу: так, мол, и так, мол... А он: как меня, давай нареки — Всеволод... Трудолюбец родился. — Мать утерла глаза. — Всем вышел. Жаловаться грешно...
— Ма-а, — сказала Катя, и за Кириными плечами сердито звякнули ножницы. — Ма-а, зачем вы расхваливаете своих?
— Расхваливай не расхваливай, — вмешался отец, — а характер у Всеволода претяжелый... Другой раз по целым дням и слова не вымолвит... Это — раз... А второе — что «ихнему святейшеству» не перечь. Они обсуждению не поддаются.
— Весь в папашу! — сердито сказала мать.
— Дорогие родители!.. Может, вы перестанете в моем присутствии обо мне разговаривать, как о покойнике?! Или мне удалиться, а вы меня «осветите» Кире?
— Да чего там, сиди!.. Куда ж тебе удаляться! — сердито глянув на старика Костырика и покачав головою, сказала мать.
В окошечке, соединявшем кухню с жилым помещением, появились хлеб, сахар, маринованные грибы.
Кира с готовностью принимала то, что выбрасывало окошко.
— Ты где учишься? Или работаешь? — дознавался старик.
— Знаете ли... У меня одна мысль, никому я еще про это не говорила. Хочу устроиться на одну интересную для себя работу... На днях разведаю почву и начну хлопотать.
— Ну что ж... Почему ж не похлопотать, обязательно хлопочи, раз у тебя идея. У молодых, погляжу, все идеи, идеи... Борись! Достигнешь.
— Спасибо, — сказала Кира.
Глядя на нее глазами родителей, Сева, все время молчавший и дувшийся, оценил ее такт: она была воплощением искренности и скромности.
Из кухонного оконца глядели на Киру восхищенные глаза Кати. «Надо же! — говорили эти детские восторженные глаза. — До чего красивая!»
Из двери в сад тянуло душистым дымом вишневых сучьев, где-то, видимо, жгли костер. Ветви яблонь живою сеткой волновались от легкого ветра. Звенели чашки и блюдца, вились вокруг электрической лампы ошалевшие бабочки. Иногда одна из них, получив инфаркт, падала прямо на белую скатерть.
— Очумелые! — проворчал старик, размышляя что-то свое. — Право же, очумелые... Словно люди!..
Брови его шевелились все живей и живей.
— Ты, стало быть, Зиновьева?.. Верно? Зиновьева дочь? Твой батька — Зиновьев, Иван Иваныч?
— Да, — сказала она, лучась и плавясь от мнимой застенчивости.
— Неплохой, говорят, человек... Только люди сказывают, маленько чудаковатый. С амбицией...
— Па-а-а! — громко ахнула Катя.
— Не знаю, — сказала Кира. — Как мне судить отца?
— Это правильно, что ты отца уважаешь, — одобрил старик. — Без уважения к родителям нет и не будет благословения. Мастер первой статьи, говорят. И состоятельный. Стало быть — работяга...
— Наверно. Только не «работяга». Отец у меня — художник.
— Хорошая ты, погляжу, дочь. Это ты — хорошо, хорошо... Он маляр, сказывают. Со Всеволодом работает... Маляр, рабочий... А ты говоришь — художник? Как тебя следует понимать?
— Па-а-а! — простонала Катя — Па-а-а... Пожалуйста...
— Вот тебе и уважение к родителю. Не пикни и не спроси.
— Маляр-художник, — веско сказала Кира. — Мне, однако, пора. Дома будут тревожиться. Они не привыкли, чтоб я опаздывала.
— Что же ты так мало поела, детка! — засуетилась Севина мать. — Попили бы еще чайку.
— Да что вы! Дома я и того не ем. Как у вас хорошо... А сад, сад...
— Ну так ты давай наезжай, — предложил старик. — Сева — в армию, а ты — наезжай.
— Спасибо большое, — обрадованно сказала она. — Можно мне с младшим братом?.. Он до того забавный! Сашкой зовут.
— Чего ж нельзя!.. В это же воскресенье бери его под мышку и приезжай.
Они выбрались на дорогу сквозь шелестящую зелень сада.
Свинцово отсвечивали в темноте стекла в доме Костыриков. Теплое небо над домом было как темный, тяжелый полог.
Костырик-старший вышел их провожать. Он зажег фонарь. Луч фонаря уперся в обочину проезжей дороги, вспорхнул, погас.
Прижавшись друг к другу, шагнули они во мглу, оступаясь, побрели по полю, заросшему росистой травой.
Во тьме, к которой они пригляделись, стал смутно виден далекий лес.
Что-то вокруг гудело так глухо, так сонно, что казалось, уж никогда не наступит утро.
Свет впереди, на станции, — они знали, — должен был им открыться мгновенно.
Задрожала земля. Дрожь перешла в грохот. Где-то пронесся поезд.
Кира прыгнула в электричку. От быстрого бега стекла вагонов начали перезваниваться.
Забившись в угол и опустив голову, она задремала.
И приснилось ей вот что.
Сева достал халтуру — рисунки какой-то странной кухонной мебели. За эту работу он должен получить сто рублей. Он спрашивает ее: «Скажи мне, Кира, есть ли такой дурак, чтобы отказаться от сторублевого заработка?» Она отвечает: «Ты их отдашь старикам?» А он: «И немножко тебе на мороженое. Ты и Сашка, кажется, любите шоколадное?» И она отвечает: «Да».
Во сне она понимает, что он ей сдался, ослабел, стал частью ее... «Ты теперь работаешь на меня! — смеясь, говорит Кира. — А мороженое настоящее? Шоколадное?... Я тебе кусочек оставила. Вот! Осторожно... Не урони!..»
И вдруг во сне вместо Севы появляется какой-то странный метеорит. Кира вздрагивает от страха и напряжения.
...Качаясь на бегу поезда, она чувствовала сквозь сон, как в сердце ей заползает тоска. Все вокруг грохотало, ломко и звонко.
К небу рванулись комья земли. «Это — лава!» — решила Кира. Сумрак какого-то странного острова переполнился голубоватым свечением. В небе замелькали красные молнии.
Она быстро укрылась в воронке. Наверху, над ней, стояло чистое небо. Она даже видела Млечный Путь.
Радость, страсть и вместе отчаяние достигли в ней такого сильного напряжения, что она проснулась.
За окном показался тоненький полумесяц. Арки лунного света, ломаясь, лежали на крышах одноэтажных строений. Вагон раскачивало.
ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ
— Я слушаю, — сказала трубка
— Разрешите справиться, не нужен ли Институту дефектологии лаборант?
— Минуточку... Сотрудница, у которой есть единица, вне института. Попробуйте позвонить завтра.
Звонить она больше не стала. На следующий день пришла в институт.
В кабинете, куда ее провели, сидела женщина лет пятидесяти.
Сочетание тяжелой нижней части лица и лба, широкого и большого, делало эту голову чем-то похожей на голову льва.
— Прошу. Садитесь.
Кира присела на краешек стула, переплетя пальцы, обхватила колени. Ноги, длинные, голые ноги (платье было выше колен), пришлось подобрать под стул.
— Я вас слушаю.
— Мне сказали, что вам нужна лаборантка.
— Нужна. Вы хотели бы поступить непременно к нам?
— Да.
— У вас есть на это свои причины?
— Есть... У вас неважные дефектологи...
— Сколько вам лет?
— Семнадцать.
— Когда окончили школу?
— В этом году.
— Ну что ж... Готовитесь к конкурсному экзамену в педагогический?
— Нет, не готовлюсь. В этом году я не собираюсь держать экзаменов. Решила пойти работать.
— Можно, знаете ли, совместить и то и другое... Извините... Не знаю, как вас величать.
— Зиновьева, Кира Ивановна... Если хотите, вы можете говорить мне «ты».
— Спасибо. Я действительно ищу молодого помощника. У меня уже два заявления. Одна из девушек окончила институт. Другая — студентка третьего курса.
Кира вздохнула.
— Ты не могла бы коротенько мне рассказать, почему твой выбор пал на дефектологию?
— Причина, должно быть, очень смешная... И странная. У меня глухонемой брат. Но когда я сделаюсь дефектологом... В общем, дела будут обстоять иначе.
Пожилая женщина внимательно рассматривала ее. И вдруг улыбнулась...
— Знаешь ли ты о том, уважаемая Кира Ивановна, будущий дефектолог, что ты вовсе не Кира Ивановна, а Мадонна Веласкеса?
— Да. Я знаю.
— Гм... Я бы сказала, скромностью ты не грешишь! Ни скромностью, ни притворством, ни лицемерием.
— С вами я не лицемерка.
— Спасибо. А с кем ты... как бы это... ну, даешь себе, что ли, этот неблагодарный труд!..
— Со всеми! Кроме тех, кого люблю.
— Извини меня за интимный вопрос... Но сколько же их, примерно?..
— Брат Сашка... И, кажется.... В общем, еще один человек.
— Этот «один человек», погляжу, — счастливец!
— Нет... Потому что я ему часто лгу.
Глаза ученой женщины хохотали.
— Девочка, а отчего ты такая худенькая?
— Я — вегетарианка... Ненавижу рыбу и мясо.
— А икру?
— Не знаю.
Улыбка ученой стала как-то еще отчетливей. Лицо ее выразило нескрываемое расположение.
— Из какой ты семьи?
— Я? Из обыкновенной.
— Превосходно! Что может быть лучше обыкновенной семьи? Но я, знаешь ли, то имею в виду, кем,работает твой отец и сколько вас, ребятни. Ты и брат?
— Нет. Нас пятеро... Папа — рабочий. Маляр. В общем, художник... У него превосходный вкус.
— Это замечательно, Кира, что у твоего отца отработанный вкус. Твоя мать, должно быть, красивая женщина?
Кира опустила глаза. Потом подняла глаза.
— Нет. Некрасивая. И никогда не была красивой.
— Ах вот оно что! Ты еще в том возрасте, когда дети и матери антагонисты?!
— Что вы? Ведь я вам уже сказала, что мне семнадцать лет.
— Да, да... Я вижу, что ты растешь и что это случай бурного роста... Не чувствуешь ли ты себя утомленной по временам?
— Чувствую. А все надо мною смеются. Все говорят, что я человек с ленцой.
— Напрасно смеются. А что ты читаешь, Кира? Нет ли у нас случайного совпадения вкусов?
— Я читаю вообще порядочно... Больше всего, пожалуй, люблю стихи...
— Да!.. Значит, у тебя, как и у твоего отца, отработанный вкус?.. А кого ты любишь больше всего?..
— Пастернака... Цветаеву... Из молодых — Юнну Гравиц.
— И хороший поэт эта Юнна Гравиц?
— Обещающий. Но пока она печаталась только в «Юности».
— Надо бы подписаться на «Юность». Ну что ж... Может быть, ты расскажешь мне в двух словах, что с твоим братом, Кира?
— Он родился... То есть не совсем так... Он говорит немного. Мы научили его говорить.
— Кто именно?..
— Я и Кешка. И детский сад для глухонемых. Кешка — это мой старший брат.
— Значит, ты не самая старшая из детей?
— Я старшая. Кешка идет за мной.
— Все дети у вас здоровы?
— Да... Младший, Сашка, тоже, может быть, родился здоровым. Родился он семимесячным, а когда ему было два года — он заболел. У него был ужасный жар. Вот тогда, мне кажется, это случилось... Мама вообще не хотела, чтоб он родился.
Женщина слушала не перебивая, чуть сощурив глаза. Помолчали.
— Отчего ваш институт называется «Дефектологический»? Кто же хочет быть дефективным? Сами подумайте!.. И вообще все не так берутся за дело... Я бы...
— Очень правильно, Кира. Твои соображения — соображения гуманиста. За границей таких детей называют «особыми». Они действительно отличаются от других, но часто оказываются наделенными замечательными способностями... У нас, к сожалению, нет времени для более пространного разговора. Ты очень любишь братишку?
— Больше всех! — И в потупленных глазах Киры сверкнул недобрый огонь. — Иногда я смотрю на него, и мне хотелось бы отомстить. Всем! Всем! Я знаю, что это глупо, несообразно... Но я так чувствую и все спрашиваю и спрашиваю себя: «Почему же он?.. Вот именно — он... Почему?.. Почему?..» Это такая большая беда... Иногда мне кажется...
— Полно, Кира. Полно, дружок... Жизнь — величайший дар, даже в тех случаях, когда человеку приходится испытывать всяческие страдания. А глухонемые — они жизнерадостны.
— Нет! Уж лучше вовсе не жить...
— Юность, Кира, легко расшвыривает богатства — свои и чужие. Наивно, что зрелые люди завидуют юности...
— Скажите, пожалуйста, вы заметили, что люди вообще не умеют думать? Они любят брать друг у друга — готовенькое.
— Нет, признаться, я этого не заметила... У тебя серьезные основания, Кира, быть зачисленной в Дефектологический институт. Я думаю и, более того, уверена, что ты бы работала хорошо... Но прикинь — смею ли я сделать выбор по внутреннему своему чувству!.. Вот если ты была бы студенткой, хоть вечернего факультета... Кстати, время еще не упущено. Ты могла бы попробовать... Конкурс в этом году большой, но что-то мне говорит...
— Лгать не стану... Не буду держать экзаменов. У меня на это есть веские основания.
— Не хочу быть назойливой. Подумай. Решишь сама.
— Я уже решила. Решила твердо. Значит, вы меня не берете?
— Нет. К сожалению, сейчас зачислить тебя не смогу... А кстати, тебе известно, что здесь зарплата невелика? Шестьдесят рублей. Может быть, это покажется маловато твоим родителям?
— Да что вы! Папа вообще и думать о том не думает, чтобы я работала. Он и мама хотели, чтоб я училась. Именно я... Мы... В общем, мы не нуждаемся. У нас даже квартира кооперативная. У меня отдельная комната. Но жить со своими я не хочу. И не буду... Мать третирует мое право на самостоятельность...
— Ага, — ответила женщина. — Разумеется, очень обидно, если тебя третируют. По-видимому, перед тем как тебя зачислить, мне бы следовало поговорить с твоими домашними. С отцом или с матерью?
— Нет!.. Прошу вас. Я этого не хочу. Мне семнадцать... Своей судьбой я распоряжусь сама.
— Ну что ж... Понимаю, Кира. До свиданья. Рада была с тобой познакомиться...
— Я тоже! — улыбнувшись, сказала Кира и, опустив голову, тихо пошла к двери.
Когда, открывая дверь, она оглянулась, ученая, словно забыв о ней, продолжала дописывать ту страницу, от которой Кира ее оторвала.
«Отделалась!» — пожала плечами Кира.
— Дружок, — сказала женщина, поднимая голову, — оставь-ка свой адресок у секретаря... И не уходи такая сердитая... Надеюсь, мы еще встретимся. Если захочешь, можешь как-нибудь привести брата.
«СЕКСУАЛЬНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ»
— Скажи мне, Кира, по-доброму, как отцу: откуда ты вербуешь толпы этих мальчишек?
— Во-первых, я вовсе их не «вербую»... А во-вторых, в моем возрасте совершенно естественна некоторая сексуальная озабоченность... «Я очень, очень, очень сексуально озабочен. Не до шуток мне те-перь, не до-о стихо-ов...»
— Чего-о-о?!
— «Сексуальная озабоченность»! Не понимаешь?
— Понял! Настолько-то я тяну... Так вот: нет у тебя никакой... такой озабоченности. Все врешь, Вы-ыдумают: «сексуальная озабоченность»!.. Пойди проспись.
Белое солнце стояло над самой головой Киры.
Жара.
Москвичи-служащие, сидя за письменными столами, обмахивались газетами, тетрадями, бухгалтерскими отчетами; в учреждениях посолидней включали электрические вентиляторы. Ветер, бегущий от вентиляторов, вздымал листки на столах.
Осоловев от летнего зноя, взмокшие люди внимательно следили за часовой стрелкой.
Жарко дышали московские мостовые. Не шелестели листья деревьев, припорошенные желтоватой пылью. Все ныло, все поджидало ночи, с ее обманчивой прохладой.
Неподалеку от рек, ручьев, луж легковые машины теснили друг друга. На пляжах и пляжиках молодые и старые москвичи безропотно и беззлобно касались один другого — задами и голыми пятками.
Хорошо окунуться, нырнуть и плыть, плыть, не глядя на берег, похожий на консервную банку с аккуратно выложенной штучной продукцией.
Словно крыло какой-то большущей птицы мелькает вдалеке парус... Бывают на свете яхты! Есть на земле нехоженые пути, есть верблюды и мулы.
И вот, допустим, остановился мул. Наклонил голову. А верблюд глядит своим личиком, древним и маленьким, печальным верблюжьим личиком, вперед, вдаль. Покорны верблюжьи глаза. А ноги — шарк, шарк...
Приходит ночь. И вот, допустим, загораются над пустынями и над тайгой звезды.
Двое лежат у костра. Расседланный мул бродит тихо по сочной лесной поляне. Нет! По горному кряжу в Кастили... Нет!.. В Ламанче. В Ламанче... Только в Ламанче!
Ночь-ночь; хруп-хруп.
Спят белки, медведи... Тигры и все такое.
А люди не спят.
Отчего?
Вы думаете небось, они не спят потому, что готовятся к конкурсу: решают задачи, изучают классиков — Шолохова и др. ...
...Кира шла, не глядя по сторонам, и все говорила себе: «Я, кажется, что-то забыла, забыла... Но что же, что?...»
Ей накануне приснилось страшное межпланетное одиночество — великая чернота неба.
«Не нужно мне стратосфер. Я хочу умереть на земле, чтоб меня хоронили под кленом или каким-нибудь старым вязом».
И вот она умерла. И ее хоронят. «Как убивается бедная мать!» — говорит учительница английского.
Нежно-голубой (или розовый) гроб несут мальчики. Сева поддерживает отца. Нет! Лучше пусть отец поддерживает Севу. «Иван Иваныч, — говорит Сева, — я вашу дочь любил, но ни разу ей не сказал «люблю». — «Уж больно вы все учены! Ты что же думал, моя дочь какая-нибудь обыкновенная девочка? Нет. Она от этого умерла».
Кира идет по улице. Она размахивает голубой сумкой.
...Вот и метро. Подумав, Кира заходит в метро. Спускается вниз. Поднимается вверх. И тот эскалатор, что бежит вниз, видит девушку в белом платье — правой рукой она опирается о перила, левой размахивает красивой голубой сумкой.
Воробьевы горы... Здесь где-то неподалеку дом ее друга — артистки Ржевской.
Ржевской пятьдесят лет. С Кирой они познакомились зимою этого года.
Девочка шла по улице и вдруг заметила женщину в шубке из светлой норки. Женщина задыхалась. Она оперлась рукой о дерево.
— Что с вами?
— Астма.
— А меня зовут Кира, — сказала Кира.
— Если хочешь, девочка, ты можешь меня проводить Я — актриса... Меня зовут Валентиной Петровной.
Они подружились.
— Запомни, Кира, величайший женский успех — это один-единственный муж. Не два и не три... О д и н... Человек, который сделается твоим родственником; отношения, которые перерастут масштабы обычной влюбленности — с ее болью и недолговечностью... Тяжко бремя любви — даже если его несет не один, а двое... Но, к сожалению, постоянная, глубокая, истинная привязанность достается женщинам необаятельным, для которых чужое внимание — дар. Брак — терпение... Счастье — когда много-много детей. Не один, не два... Недаром же Чарли Чаплин... Ты знаешь историю Чаплина?
— Знаю.
— Ты — молодец! Ты все знаешь... Дети, дети, много детей!.. Чтобы радовались с тобой, волновались во время твоей премьеры. Дети, Кира, — единственная возможная форма бессмертия. И молодости. (Ржевская была бездетна.) Я знаю, ты меня слушаешь и думаешь: мир — велик, я его обуздаю! Верно?
— Нет. Что вы? Где мне его обуздать?
— Кира, ты, должно быть, очень нравишься мальчишкам?
— Никому я не нравлюсь. С мальчиком я еще ни разу даже в кино не была...
— Ну знаешь ли, Кира... Это — немыслимо. Это — глупо.
Ржевская лежала на низкой тахте, почти совершенно раздетая — в лифчике и трусах.
Окна были завешены шторами из соломы. На шестой этаж рвался дальний говорок улицы. За каждой шторой — Москва...
— Это ты, моя девочка? А я-то думала — ты уехала в лагерь.
— Да что вы! В этом году я окончила школу. Ой, если б вы знали, как я по вас соскучилась!..
...Вечером были гости: артист из Малого, актриса-танцовщица из театра оперы и балета.
Взрослые болтали, актер рассказывал анекдоты.
Скромно, неторопливо, опустив ресницы, отчего ей на щеки ложились тени, Кира сервировала стол, наливала чай.
— А нельзя ли чего-нибудь эдакого?.. Я, знаешь ли, давненько вышел из чайного возраста, — ворчливо, сказал актер.
Кира принесла рюмки, достала из шкафа коньяк.
— Девочка, ты не заметила, нет ли в холодильнике чего-нибудь веселого на закуску? — поинтересовалась Ржевская.
— Есть. Сейчас принесу крабов.
— Она на самом деле такая славная или это мне кажется от пристрастия? — спросила Ржевская, когда Кира вышла из комнаты. — Иногда я смотрю на нее, и мне грустно... Что-то есть грустное в правильной красоте.
— Хороша! Ничего не скажешь, — выпив рюмку и крякнув, с готовностью подтвердил актер.
Включили магнитофон. В комнату ворвалась музыка из «Шербурских зонтиков». И вдруг к горлу девочки подступила тоска. Большая. Огромная. Полетели бумажки по мостовой. Пошел гулять ветер.
И эти двое — они продолжали жить! Нет! — кричало в Кире. Нет, нет!..
Два голоса утешали друг друга. Юные. Рвущие сердце.
«...Значит, я все же люблю его! Но кто же такое «я», которая его любит! Что такое «я?»
Ответа не было.
«Пусть, если я люблю, если это значит «люблю», — загорится внизу костер! Сейчас же. Сию минуту!»
И вдруг с балкона напротив полетел фейерверк.
«Если... если он мне скажет «люблю», пусть мальчишка с того балкона зажжет еще одну бенгальскую свечку!»
Кира ждала... Но мальчишка больше не зажигал никаких свечей.
О ВЕСЕЛЬЕ
Москва была охвачена пожаром экзаменов.
Время от времени у памятника Пушкину собирались подростки и сообщали друг другу темы сочинений. Дома абитуриентов подкармливали кто как мог: сырыми желтками,сливками, апельсинами.
Родители со связями разворачивались. Некоторые матери (с высшим образованием), плача, рассказывали подругам об интригах и несправедливостях. С другого края земли прибыла свежая партия негров. У миловидных полек, поступавших в Московский университет, было торжественно-задумчивое выражение лиц. Такое лицо покорит любого профессора. Не правда ли? Особенно немолодого.
С Белого моря вернулся Кешка, он томился бездельем, приставал к Кире.
Однажды вечером Кешка вышел во двор и там — эдак примерно через полчасика — провалился в тартарары! Отодвинул крышку от люка и свалился в подвал.
Пенсионеры рассказывали, что первые минуты после падения было тихо. Кешка, видимо, потерял сознание. Потом раздался истошный вопль. Преисподняя источала стоны.
Доктор из неотложки, вызванный Кирой, установил сохранность Кешкиных рук и ног. Кешке забинтовали колени. На этой почве он двое суток безвыходно просидел дома, всячески изводя Киру.
Когда он уснул, Кира в припадке задумчивости схватила ножницы и выстригла ему плешь.
Разразился скандал. Кира сообщила матери, что дня четыре тому назад столкнулась на Трубной площади с гадалкой-цыганкой и та якобы ей предсказала вот что: если ты не выстрижешь волосы старшему своему брату — худо будет. Как бы не заболел.
Мать вытаращила на Киру глаза и сплюнула. Слушая Кирины враки, она беспомощно взмахивала руками. Кешка нудил: «Поди-ка, ведьма!.. Ты у меня наплачешься!»
Вокруг Киры образовалась непривычная пустота. Было весело. Весело и разнообразно...
От нечего делать в сквере напротив она познакомилась со студентами-чехами. Один из чехов, пожилой и дородный, принялся дежурить на улице против Кириных окон.
Мария Ивановна, увидев чеха, сказала дочери:
— Женат! По глазам вижу. Не спровадишь — дам телеграмму отцу. (Отец был в Киеве.)
Становилось все веселее и веселее.
...Ночью, перед тем как заснуть, оживала Кирина комната.
Через улицу, напротив их дома, было кино.
Неоновая зеленая надпись над этим кино то вспыхивала, то угасала. Ее отсвет врывался в комнату Киры. Комната превращалась в аквариум. Над аквариумом слышался шепот: «Кирилл!.. Кирюшка».
...Однажды (не вечером — утром) Кира заметила, что небо подернуто тучами. Комната потемнела.
Она выбежала на улицу и пошла в грозу.
Пригород. Ноги Киры тонут в какой-то прелой листве. Кира шла под темными сводами леса, склоняя от ветра голову.
Что-то в лесу стонало так тихо и одиноко: «Я сыч, но я совершенно в этом не виноват».
...У запахов есть язык. Запах свежих трав рассказывал Кире, что жили-были на свете два человека, которые ели когда-то на станции свежую булку.
Кира шла. А земля ей нашептывала про некоего сиамского близнеца с одним туловищем и двумя головами... Ну, а может, лучше два туловища и одна голова? Ладно? Пусть будет общая голова.
Все вокруг говорило Кире об одиночестве, о высокой девочке — одной среди полей. О девочке в коричневых тапках и розовом платье. О девочке, чьи мокрые волосы растрепал ветер.
«Экая большущая тишина!»
Кира вскинула голову, поглядела в небо и тихо сказала:
«Ма-ама!»
«Кира! Вытри лицо и обдерни платье, — вздохнула мама, — тебе холодно. А я-то — жду, жду...»
ПРИЗНАНИЕ
«Глубокоуважаемая Анастасия Дмитриевна! Когда я ушла от Вас (это было две-три недели тому назад), около Вашего института стояла белая машина. Я ею залюбовалась, и шофер — Вы легко догадаетесь, что это был Георгий Васильевич, — он ехал развозить Вашу почту, — предложил захватить с собой и меня. От него я узнала, что Вы крупнейший специалист мира в области дефектологии и что Вы отказались от должности директора института ради той научной работы, которую считаете делом всей своей жизни.
— Она меня не берет к себе, Георгий Васильевич.
— А ты нажимай, нажимай... Она того... Она, надо сознаться, добрая...
И вот я «жму». Я пишу Вам ночью. Знаете, как это бывает — ночью решаешься думать и делать то, на что не решишься днем. Дела мои следующие:
Вскоре по окончании школы мама меня ударила. Я ее возненавидела, решила воспользоваться аттестатом зрелости, уйти из дома, работать и стать совершенно самостоятельной. Поэтому я и не готовилась в институт. Мне было не до экзаменов. Я ненавидела свою маму, свой дом. Когда я к Вам пришла, до конкурса оставалось всего пять дней. Я понимала, что как следует подготовиться не успею, а дерзнуть — не хотела. Я знаю, что излишне самолюбива, часто ложно самолюбива. Когда я была у Вас и с Вами поговорила, мое желание стало еще сильней. Эта работа захватила бы меня. Она мне по сердцу. Есть много хороших профессий. Но Ваше дело мне нравится! Должна признаться, что я нетерпеливый человек. А работа с такими ребятами — я это знаю — требует большого терпения. И вот я прочла в трудах об Ушинском, что он был тоже очень нетерпелив. Уроки вели его ученики. Он подслушивал и, когда кто-нибудь чего-нибудь не понимал, грыз ногти от нетерпения. Это меня успокоило... Хочу Вам сознаться еще в одной, очень тяжелой черте своего характера: это началось примерно с шестого класса. Я чувствовала себя взрослее других ребят, все говорили, что я умная (должно быть, неэтично об этом помнить, но что ж поделать!). Я и сама понимала разницу между собой и своими сверстниками и начала — как бы это выразить? — в общем, я начала «придуриваться» — у нас говорят: «придуряться».
Зачем я «придуривалась»? Не знаю. Прошли годы, и жизнь меня покарала. Со мной случилось вот что: я сделалась той, второй Кирой, которой хотела стать. А не той, которой родилась. Но вернуться в свою старую шкуру оказалось не так-то легко. И стала я настоящей дурой. Вот это — главное мое признание Вам. И себе.
Анастасия Дмитриевна! Примите меня на работу, я вас очень прошу. Вы не раскаетесь. Я Вам обещаю. А со мной и мамой за это время случилось вот что: я простила ее. Разжигала себя. Не хотела прощать. А оно простилось. В будущем году я поступлю в институт (потеряв год!..). Эка дура!
Я бы на вечерний могла пойти, тогда бы вам проще меня оформить! Верно? А в этом году — возьмите меня хоть уборщицей. Я согласна.
Не оставляйте меня, пожалуйста.
Вот мой адрес, который я тогда не оставила Вам. От злости.
С величайшим уважением
Ваша Кира.
Три часа ночи.
Светает».
Профессор Тюленева не ответила на письмо. Она находилась в командировке в Лондоне. Кириного письма не раскрыли, на его конверте стояло: «Л и ч н о».
Слово «лично» было трижды подчеркнуто.
СВИДАНИЕ
На листке из общей тетради — несколько слов, таких бедных, таких холодных... (Кира еще не знала, что облечь свои чувства в слова — наука, требующая беззастенчивости и опыта.)
И это все?! Все!.. Неужели ему больше нечего мне сказать?..
...Вот наша улица, сквер. На коленях вон у того парнишки в голубой майке — транзистор. Транзистор орет... Вот двое супругов. Женщина вынула из сумочки бутерброды. «Питаются». Дышат воздухом.
Все вокруг — живут! А я, я...
— Товарищ дежурный, пожалуйста, вызовите солдата Костырика. Всеволода Костырика. Скажите ему, что сестра приехала... У нас заболела мама!.. Только вы не прямо ему скажите, а как-нибудь поосторожней, ладно?!
...Они успели отвыкнуть один от другого за двадцать дней. Кира почти не узнала его. Лицо его с округлившимися от страха глазами сказало ей: «Это я — Сева!»
А слова:
— Что с мамой? Кира!.. Говори правду.
— Если хочешь, ударь меня! Я солгала. Клянусь, давай пожую землю. Сева, на нас смотрит вон тот... с винтовкой.
Они отошли в сторонку.
— Давай-ка уйдем подальше.
— Кира, ты будто маленькая... Не хочешь понять, что без увольнительной мне уходить нельзя. Я — солдат.
— Хорошо, хорошо... А если я тебя при нем поцелую, как ты думаешь, ничего?
...Если б она была в силах думать, то, пожалуй, солгала себе, что все эти дни только то и делала, что не ела и не спала, а бежала, бежала навстречу этим рукам, глазам, этой шее, так беспомощно торчавшей из ворота гимнастерки...
— Отчего ты не приехала вместе с Катей... В воскресенье... Я ждал.
— Не хотела. Я бы при ней расплакалась.
...За высокой изгородью военной части — поля, уже голые по-осеннему. Вдалеке неровная полоса деревьев.
Прижавшись друг к другу, они шли и шли, удаляясь от части, — не один человек с двумя головами, а два существа, два сердца.
— Кира! Мне нужно назад.
— Хорошо. Я пойду с тобой.
Их окружал прелый запах озябшего леса. Они шагали, шурша по листве. И мнилось Кире, что только теперь все вокруг приобрело свой истинный лик, перестав притворяться, едва дождавшись тьмы и тишины ночи. Она слышала под ногами хруст опавших сучков, ее обдавало душным теплом толстоствольного дуба... И вдруг наверху, будто чиркнуло лунной спичкой и подожгло деревья.
Они остановились и обнялись.
Сияя глазами, она глядела вверх задумавшись, перекусывая стебелек.
— Как ты думаешь, кто мы, Севка, «земляне» или «дети Земли», как Иенох?..
— Какой такой евнух?.. Кирилл, идем... Нам надо назад... Надо — в часть.
— Хорошо. Ладно.
Слепо и отчаянно она целовала его пилотку, стянув ее у него с головы, по-детски прижимая пилотку к себе...
— Я устала, Сева. Я посижу. Ладно?
«Что со мной?.. Неужели ее беспримерная наглость заставила меня полюбить ее?..»
— Хорошо. Давай посидим, Кира. Только одну минутку...
Они присели на мшистую землю.
— Севка, мне очень холодно!
Но ему не во что было ее одеть... Костер бы! Да где ж разживешься спичками?
Ему было жаль ее покрытых пупырышками от ночной свежести худеньких плеч, ее нежного подбородка, ее ситцевого платьишка, к которому прилипли сухие листья; жалко было стоптанных туфель на ее голых, детских, больших ногах... И он не знал, что эта нелепая жалость имеет кличку, имя, название...
Во влажном мху осторожно зашевелились желтоватые искры. Стало видно, что листки у деревьев желтые. Где-то запел петух. Раздалась осенняя птичья трель.
И пошло, и пошло. Лес верещал чириканьем и жидкими трелями. Это проснулись птицы.
ВДОВА
«Если мама меня ударит, я выброшусь из окна», — решила Кира.
Думая так, она вошла в какой-то маленький сквер, пристроилась на скамье... И уснула.
— Эй, девка, ты что?
Против Киры стояла женщина в белом фартуке, с огромной метлой в руках.
Кира посмотрела ей в глаза и задумалась.
— У меня сегодня умер жених! — сказала она. Встала, схватилась за голову и пошла прочь.
За ее плечами раздался то ли стон, то ли выкрик женщины-дворника:
— Уф ты!.. Горе-то, горе какое!.. Молодые, красивые, а вдовицы...
Дверь Кире открыла мама. Не сказав ни слова, прошла к себе. Но девочке показалось, что у материнской спины тревожный и скорбный лик.
ДИСЦИПЛИНА
Все спят. В огромной комнате, что зовется казармой, слышится равномерное дыхание тридцати молодых людей.
Стоящие в ряд кровати, аккуратно сложенная на стульях одежда напоминают дневальному... Да, да!.. Разумеется. В детском саду кровати были короткие, там не было верхних нар. Но так же торжественно и спокойно обходил дядька Сон в сиянии лунной ночи свои покои. В сердце каждого спящего вспархивали глубоко спрятанные секреты этого спящего. Кто летал над крышами, кто проходил военные дисциплины; кто сражался с врагом; кто удирал из дому; кто плакал, а кто целовался с девочкой.
Властно ступал дядька Сон огромными, черными, меховыми ногами меж кроватей (коек), где лежали солдаты. Кто-то вздохнул, кто-то перевернулся на другой бок. А кто-то, вздрогнув, раскрыл глаза, стал оглядываться...
Одна кровать (то есть койка) была пуста. Костырик ушел на десять минут и не возвратился.
Час, полтора... Все спит. Пустует одна-единственная кровать.
Тревоги грызут дневального. Обязан ли он доложить, что во время его дежурства смылся Костырик?.. Ну а как же с долгом товарищества, с долгом «недоносительства»? Как быть? Военная служба все же... Не шутка, не детский сад.
И вот случись, что именно в эту ночь офицер обошел казармы.
— Товарищ лейтенант! Во время ночного дежурства обнаружено отсутствие наличия рядового Костырика.
— То есть как это так — «отсутствие наличия»!.. Он же был на поверке!
— Был... «Сергеев, я на минутку! С мамой что-то случилось!» И вышел. И вот... Пропал.
— Пропал?
— Так точно.
— Сколько времени, Сергеев, как Костырика нет в казармах?
— Три часа.
Офицер связался по телефону с местным отделением милиции и военной комендатурой.
Костырик отсутствовал без малого пять часов.
Утром, еще до поверки, лейтенант доложил о происшествии старшему офицеру подразделения.
Когда Сева вернулся в часть, его тотчас вызвали в кабинет полковника.
— Рядовой Костырик по вашему приказанию явился.
— Доложи, где был.
Солдат опустил глаза.
— Молчишь?! А как же! Кто я тебе? Всего лишь начальник! Ты «всего лишь» в армии на военных сборах. Молчи, молчи!
— Разрешите обратиться, товарищ полковник?
— Да.
Но Костырик молчал.
— Что ж... На наших плечах устояла Родина. Я и такие, как я, преподнесли тебе на блюде твое высшее образование... Я... солдат! Солдат. А ты... Как ты думаешь, кто ты сейчас, Костырик?..
— Извините, товарищ полковник, я бродил по опушке леса... Обдумывал свой диплом... Это было практически на территории нашей части.
— «Опушка леса»!.. «Территория нашей части»!.. Зачем ты лжешь?.. Как стоишь?.. В каком состоянии гимнастерка?! Где твоя совесть? Ведь ты уже принимал присягу!.. Понятие о том имеешь, что значит воинский долг! Нет мужества сознаться в своем поступке!.. Храбрецы! Защитнички... Смена. Надежда. «Детки»!..
Полковник схватился за сердце. Его захлестнуло невыразимо горькое, жгучее чувство...
Не столкнись командир части так непосредственно с солдатом Костыриком, он бы остался при убеждении, что это мягкий, старательный молодой человек. Полковнику не пришло бы в голову, что Костырик невыносимо высокомерен (такого рода высокомерие называют в просторечии «амбиция»).
Самодур, как отец, Костырик-младший полагал, что имел большие основания для самовлюбленности... «Талант». Он слышал эту кличку с четвертого класса школы.
Сын — поздний, — «божье благословение», — единственный жданный, любимец и баловень матери, Сева был так тих, так трудолюбив...
Он считал, что у него нет товарищей потому, что на «трепотню» у него не хватает времени. Дела, однако, обстояли сложней. Товарищи подозревали его в недостаточной общей культуре, столь необходимой для архитектора.
...Сева чувствовал это... И что-то в нем восставало.
«Общей культуры» не наберешься ни в день, ни в два. Его товарищи были детьми родителей интеллигентных. Он — сыном рабочего. И Сева этим гордился. Тем малым, что было при нем, он был обязан только себе самому. Ни отцу, ни матери.
Успокаивая себя, он не раз вспоминал великого зодчего Воронихина, чьим именем был назван их институт. Вряд ли крепостной зодчий владел такой уж широкой общей культурой. Вряд ли те мастера, что построили храм Покрова на Нерли, владели иностранными языками... Однако здания, воздвигнутые ими, бессмертны.
Сева был отличным живописцем и рисовальщиком. В этом смысле — намного сильней ребят со своего курса... Ну а, как известно, владение кистью навряд ли может так уж особенно «повредить» зодчему.
То, что было е г о, — то было при нем. Он был удивительно неуступчив в спорах. Товарищи из-за этого подсмеивались над ним, и он угадывал неполноценность их отношения к тому, в чем сам был непоколебимо тверд.
Если критиковали его проект, сдвинуть его «с мертвой точки» было нельзя.
Дарования на свете бывают двоякие — один талант поражен, как говорится, «червем сомнения», колеблется и легко готов уступить. Другой — непоколебимо стоек, ибо видит в наброске «зерно» еще не развернутого решения.
Снисходителен к Севе был только их руководитель — Петров, сам человек недюжинного дарования.
...За пределами института ребята встречались, как это бывает принято у школьников и студентов.
У Севы на это досуга практически не было никогда. Это раз. А второе то, что семья Костыриков жила замкнуто.
...И так уж оно повелось в институте, что Севу недолюбливали товарищи. Задетый, он платил им с лихвой: был грубоват и высокомерен. А старательность и трудолюбие, пожалуй, не те черты, что пленяют товарищей... Высокомерие Севы питалось воспоминаниями о том, как на третьем курсе (когда в институте организовали выставку живописи) лучшими работами оказались его работы — работы Севы Костырика. Он их практически недосчитался, когда закрывали выставку. «Сперли — и вся недолга!» Из всего курса «стибрили» у него одного, е д и н с т в е н н о г о.
В семье он был «сынок, кормилец, опора на старости лет». В институте — «дуб» и «гений Костырик»!
...И вот, когда полковник глянул в глаза рядового Костырика, его захлестнуло невыразимо горькое и жгучее чувство...
Мы:
Первый трактор.
Мы:
Ордер на галоши и косоворотку.
Мы:
«Кто взорвет мост?»
И выступает вперед весь ряд.
«Спасибо, солдаты. Спасибо, ребятки!..»
Голод. Обморожения. Вши. Свист мин. Жить!.. Я — молод.
«Батарея — огонь!»
Огонек в печурке.
«Подвинься, браток... Ничего! Дойду. Вот только отдохну малость...»
Берлин.
И я плакал... Плакал от радости... За тебя.
Я твой отец. Я тебя родил.
Почему ты не поздравляешь меня Девятого мая?
Я отстоял твою молодость. Твою нейлоновую рубаху. Твою любовь.
Я не ждал «спасиба»!
Но знай: землю под твоими ногами я прикрыл своей молодостью. Кровью. Своей любовью.
На следующий день, во время поверки, рядовому Костырику был перед строем зачитан приказ:
«...за нарушение воинской дисциплины... трое суток гауптвахты».
О поведении Костырика в военной части довели до Военной кафедры института.
Севу вызвал декан.
— Хоть бы лето прошло без нареканий на наших студентов... Позор! Ху-удожественные натуры! Зо-одчие! Не буду возражать, если вас отчислят из института... Так и передайте всем... э-э-э... нашим гениям! Экая низость! Забыли, что все мы, ваши профессора, — бывшее народное ополчение. Отдавали здоровье, жизнь... Э-э-э... сражались, «унизились» до портянки!.. А вы... Да что там! Ступайте, Костырик. Мне стыдно. Мне больше нечего вам сказать!.. Но знайте — мы примем по отношению к вам и... прочим строжайшие... да! — строжайшие дисциплинарные меры.
СЕСТРЫ
Тяжела любовь.
В руках — кошелка. Тяжелая. (Тяжела любовь.)
Есть на земле один-единственный человек, для которого Кира будет таскать и таскала кошелки... Ведь он один никогда и ни в чем ее не упрекал!..
Кроме продуктов в кошелке — альбом и «переснимательные» картинки. Они сядут с Сашкой — она возьмет его на руки, поставит рядом, на табуретку, блюдце с водой.
В прошлый раз он долго смотрел на движущуюся тень от грушевой ветки. Кира это заметила и очень красиво ему сплясала, подражая движению ветки.
Остановка. Галоп.
Галоп, галоп...
Он откинул голову и захохотал.
Саша сидит у берега, под зонтом. Пикейная шапка держится на резинке от Кириных трусиков.
Он ходит босой, потому что так приказала Кира.
Над пикейной Сашиной шапкой летают стрекозы. Жара. Все вокруг стало желтое. Это — осень.
Река — блестит. Саше виден косячок рыб. Им весело, потому что их много, много...
Все вокруг заворожилось, заколдовалось: солнце над Сашиной шапкой; небо — далекое, голубое, жаркое.
А вдруг и оно говорит?.. Хорошо бы узнать у Киры, что говорит небо!
Вон крыши домов. На дальней крыше большая птица. Стоит на одной ноге. Как зовут эту птицу? Может, Сашкой — как Сашу?.. Надо спросить у Киры.
Кира — глупая. Зачем уезжает?.. Ей надо играть в пирожки. Ей нужен совок. И ведерко. (Точно такие же. как у Сашки.) Кира должна купаться, оглядываться и шевелить губами...
Вот уж люди пошли от речного трамвайчика — потащили хлеб, помидоры... А Киры — нет.
Саша смотрит вперед на дорогу. Нету. Нет ее... И вдруг — вот она!
Толк в калитку. Присела на корточки, раскинула руки.
— Ки-я!
— Сашенька!
— Кира, он у меня приболел, — спокойно говорит тетка. — Простыл, стало быть... Лежит, а шейка совсем неподвижная, как деревянная... Гляжу, а у него на глазах — пленки.
— Что-о-о?
— Да ты не пугайся, зачем пугаться! Ведь он поправился. Ты же сама сказала: «Лицо у него опухло»... Жаль ребенка. Великомученик, не только что глухонемой, а слабый. По вечерам, перед тем, как уснуть, все головкой ворочает... Чего ревешь-то? Уж будто можно так вырастить — чтоб ребенок ни разу не заболел!..
Мать спустила с кровати босые ноги, поморгала глазами. Глаза у нее были ясные, голубые... Сашкины. Кира плакала.
— Доченька! Злосчастье мое — не твое злосчастье. Мне — горевать. Ты еще со своими успеешь нагореваться... Надо съездить забрать ребенка... И поскорей, поскольку Вера — человек темный.
Дуб!.. Дорогой дуб. Самый красивый на свете дворовый дуб! Спасибо тебе, что ты разговариваешь с малышом.
«Вот еще! Это мы перемигиваемся. С вами мне неинтересно. А для него так весело танцевать листками. Листки — мои дети. Они тоже глухонемые. Это вы слышите, что они шумят, а им ваши «ахи-охи» — до фени. Ясно?»
Жил-был дуб. В лесу.
А под дубом жили-были маленькие человечки. Они были сердцем сердца больших дубов.
Мальчик в пикейной шапке — тот, что живет у нас во дворе, — сердце сердца дворового дуба.
Его глаза — как небо над нашим деревом.
...Жил-был дуб. В дупле у него притулился маленький человечек. Человечек собирал камешки. Над ним смеялись, его дразнили. Он принимался мычать. Заслышав голос глухонемого, выбегала во двор девчонка, которую звали Кирой. Она лягала обидчиков.
— И не стыдно тебе? — спрашивала у нее Зиновьева-старшая. — Толпа кавалеров, а человек затевается с малолетками.
— Я их убью, убью!
— Пуляй!.. Пусть сгинут... Они подкованные. Разумные. Старшенькому лет десять-одиннадцать. А может, и все двенадцать! Рази, рази его, умница, наповал.
...Мать укладывала Сашу в восьмом часу. Кира накупила ему картинок. Его крошечные ладошки двигались над картинками. Казалось, что пальцы мальчика разговаривают с картинкой.
Иногда он бормотал свое таинственное, беззвучное:
— Кия, Кия!..
«...А что это значит — «не слышать»? Что?! Что?!»
Терзая себя, она не желала знать, что слух частично заменен у глухонемого зрением и осязанием. Его рука ложилась на ее горло, когда она разговаривала и пела, так сильно развито было осязание малыша, что он пытался слышать руками.
— ...Кира! К тебе пришли.
— Кто?
— Какая-то девушка. Стоит на лестнице и не хочет переступить порога.
— Катюша-а!.. Ты!.. (До чего похожа на Севу!) Идем. Скорее. (Нет!.. Не совсем похожа... Нос у Кати совсем другой, чуть сплюснутый, с очень широкими, подвижными крыльями.) Катя!.. Что с тобой?.. Ты расстроена?
Раздулись и дрогнули ноздри говорящего Катиного носа. Катя стала похожа на козочку.
— Видите ли... В общем, я принесла письмо.
— Спасибо. Давай. Я отвечу. Мигом... Ты подождешь?.. Что-нибудь случилось?.. Что-то плохое?
— Пустяки. Севу из-за вас чуть было не отчислили из института.
— Чего ты врешь! Ведь он на военных сборах!
— Кира, почему на вашей двери нет почтового ящика?.. Я бы... опустила письмо...
— Катя, ты что?.. Чем я тебе не почтовый ящик? Отдай. Сейчас же!
— Не смейте орать на меня! Я вам не наш дурак.
— Девочки, — сказала Мария Ивановна, выглядывая на лестничную площадку, — вошли бы в квартиру, право... Шумите, а люди обидятся...
— Мама, уйди... Пожалуйста. Я прошу тебя.
— ...И еще я хотела вас предупредить, — грозно сказала Катя, когда Мария Ивановна захлопнула дверь, — чтобы вы к нам не смели ездить... Слышите? Никогда!
— А когда это я к вам е з д и л а?! Порога вашего не переступлю. Отдавай письмо и — катись. Проваливай. Надоела.
— Ладно. Сейчас отдам.
Катя вынула из-за пазухи голубой листок, аккуратно сложенный вчетверо. Посмотрела на Киру прекрасными открытыми, юношескими глазами... И... надорвала листок.
— Вот!... Пожалуйста. Вот вам... Вот, вот!
— Перестань! Отдай!..
С маху швырнула Катя голубые клочки на лестничную площадку, не оглядываясь побежала прочь. Она спускалась с лестницы легким и быстрым шагом профессионального бегуна-спортсмена.
Исчезла.
Кира зажмурилась, положила локти на лестничные перила. Ее подташнивало.
Когда она открыла глаза, перед ней была, разумеется, все та же лестничная площадка, усеянная клочками бумаги.
Переведя дыхание, девочка наклонилась и с невыразимым чувством обиды и горечи принялась собирать ошметки Севиного письма.
Буквы были большие. С нажимом. Твердые. С наклоном в левую сторону.
Не Севин почерк!..
«...Злая, жестокая»... «голубые куклины»... «топтали эти глаза»... «черные лестницы»... «целовались»... «мальчишки»... «Сева»... «Не смейте!..»
Как ни старалась Кира склеить разорванное письмо, ей это не удалось.
Не письмо, а загадочная картинка.
Неправда! Кира отлично знала — письмо от Кати... Знала, кто топтал и чьи это были глаза...
Но ведь глаза-то не настоящие, а стеклянные!..
КАРМЕН И ДОН ХОЗЕ
— Товарищ дежурный, я очень, очень прошу... Передайте, пожалуйста, эту записку Костырику... Костырик. Солдат. Ну, как бы вам объяснить?.. Ну вот такого примерно роста.
— Да что я, не знаю, что ли, Костырика?
Широко улыбаясь, смотрел дежурный в растерянное лицо красивой, высокой девочки, стоящей подле забора, разглядывал ее растрепавшиеся от ходьбы волосы, небрежно надетое клетчатое пальто, туго перехваченное по тонкой талии отцовским кожаным ремешком.
— Не сестрой ли, делом, ему доводишься? — спросил он, лучась от тихих надежд и скуки.
— Сестрой, сестрой... Передай записку. Прошу тебя!
— Анто-о-о-нов, добегай в часть. Сестра приехала... Что-то случилось... Передашь записку Костырику.
— Ты?
Взмах ресниц...
Лицо у Киры было такое измученное, что доставило ему тайное наслаждение сознания своей власти над ней.
— Уйди!.. Уходи и не возвращайся. Поняла? Все! — сказал он жестко и коротко. — Из-за тебя... Из-за твоих номеров... Я... я...
— Ладно... Уйду. Но если ты меня позовешь — не вернусь.
И она зашагала прочь. Он не окликал ее. Она удивленно остановилась. Подумала... И решительным шагом пошла назад.
Сева все еще стоял у забора и усмехался.
— Иди и сейчас же попроси увольнительную.
— Это еще зачем? Нам с тобой не о чем говорить. И... и кроме прочего... Мне все рассказал отец.
— Если ты будешь так разговаривать, я лягу на землю и заору.
— С тебя станется устроить представление в военной части. Кира!.. Если б ты только могла раз в жизни ответить правду... Скажи, зачем я нужен тебе?
— Зачем? Для того, чтоб чистить мои ботинки.
— Замолчи! Ударю.
— Валяй!.. «Зачем, зачем»?.. Должно быть, для радости...
— Скольким мальчикам ты это говорила, Кира?
— Ста девятнадцати... С половиной. Учитывая мой возраст, мне не откажешь в известной оперативности.
— Катя видела, что ты гуляла по улице Горького с двумя модернягами. Один — с бородой... Борода была крашеной!
— Если ты мне простишь эту бороду, я ему прикажу, чтобы он побрился.
— Молчи!
— Убейте меня, дон Хозе... Но, между прочим, Кармен родилась и умрет свободной. Я тебе не обещала, что законсервируюсь в холодильнике, не буду дышать и ходить по улице Горького. Скажи-ка лучше, для чего ты меня привозил к своим? Привез, а они, бедняги, не успели навести обо мне справок...
— Чего ты мелешь?.. Эта папина- нормировщица обыкновенная старая дура! Она знает тебя с трех лет... и такое о тебе наплела отцу, что...
— И он ее слушал! Ай да Костырики! Ворвалась твоя Катька, помахала перед моим носом какой-то бумагой, разорвала ее, швырнула на лестницу... Я собрала клочки и поняла, какой была нехорошей девочкой! Обижала, видишь ли, куклу! На этой почве Катя приказала, чтобы я никогда к вам не приходила. Можно подумать, будто я обивала пороги твоих родителей... Подлость! Пошлость! Черт знает что!
— Костырик, вернитесь, — сказал дежурный.
Он от ярости ничего не слышал.
— Кира, если б ты знала, что о тебе рассказывала эта старая ведьма... Будто ты топтала игрушки, будто если пуговица у тебя не сразу застегивалась, ты ее колошматила утюгом, как грецкий орех!.. А это правда, что до меня ты целовалась с другими мальчиками?
— Да что ты, Сева!.. До тебя я целовала только пол. И косяк двери... Пусть твой папа лучше следит за Катей... А впрочем... Как бы ей не остаться в девках... Передай твоему отцу, что лично я его дочерью никогда не буду!
— А это правда, что ты до того унизила какого-то там артиста, что он бух на колени при всем народе!
Кира захохотала.
Он сказал:
— Я ухожу, Кира. Мне необходимо идти...
И вдруг, сам не зная, как это случилось, сжал кулак, размахнулся... И ударил ее. Наотмашь. Как мальчика.
— Валяй, — сказала она. — Чего ж ты остановился? Бей, бей!
— Как бы я счастлив был, если бы ты попала под поезд, если б тебе отрезало ногу, руку...
— Не отчаивайся... Если меня нокаутировать, свернуть мне нос, выбить зубы...
— Молчи!
— Избей. Изуродуй. Ну?
Неужели это и есть любовь?! Меня нету больше... Это не я!
(Ай да Стендаль!.. Надежда плюс что?.. Плюс сомнение. И происходит что?.. Так называемая кристаллизация... Рождение того, что в просторечии зовется... Тьфу ты!.. Да как же оно зовется?..)
Она стояла, чуть наклонив голову, бледная, с кровоподтеком под левым глазом.
— Кира... Прости!
— О чем ты?.. За что... прощать?
Не понимая, что с ним случилось, он на глазах у дежурного гладил ее растрепавшиеся от ветра волосы, щеки, пальто, целовал ее руки...
Никогда еще не были они так близки друг другу.
Проехала легковая. В машине сидел полковник. Он приметил спину какой-то девушки, увидал взлетевшую руку Севы.
— ...Костырик!.. Тебя хватились, — подбегая, крикнул запыхавшийся солдат. — Экой же ты неладный!.. Товарищ девушка, эй, товарищ сестра, отпустите его... Костырик, скорей к полковнику.
...Поговорим о «цельности» некоторых натур! Это люди порой отчаянные. Не зная себя, они тайно себя боятся... Люди тихие, но способные вдруг спалить все то, что было основой их существования на протяжении многих лет, таких людей называют абанковыми... Все как бы тлен для несгибаемых этих натур в редчайшие минуты их духовного ослепления.
На Украине про таких говорят: «Не шов, не шов — да ка-ак пишов!»
Пусть я погибну. Пусть завтра меня не станет... Но нет сил, способных сейчас меня удержать.
Циклон!
Быть может.
Море, вышедшее из берегов!..
Час придет, и спокойно будет шуршать успокоившаяся волна, ударяясь о гальку берега. Но сегодня — сна разобьет корабль.
Минута девятого вала, так, что ли?
Понимая, чем этот безумный поступок грозит ему, Сева с наступлением темноты перелез через высокий забор военной части. Он не помнил, как дошагал до поезда, как добрался от поезда до подъезда Зиновьевых. Около двух часов простоял он под тенью дерева напротив подъезда Киры.
Наконец он увидел ее. Она шла по улице с Зойкой. Они смеялись и разговаривали.
Сева вернулся в часть.
И случилось то, чего следовало ожидать, то, что он сам накликал и за что был готов расплачиваться... И расплатился.
Заместитель ректора срочно собрал деканат.
— Я предупреждал его, — сдвигая брови, сказал декан. — У него и без этого... э-э-э... была... э-э-э... слабоватая дисциплина... Костырик не раз пропускал лекции... Я с ним беседовал еще в прошлом году. Он дал мне слово... Вопиющее отношение к слову!.. К военному делу... К доброму имени института!.. Если не ошибаюсь, его не раз предупреждали и по линии комсомола.
И никто не попробовал защитить Костырика. Даже товарищи, что было случаем беспримерным. Соученики и слышать не слышали о том, что Севка «халтурит» в свободное время в качестве маляра. Они знали одно: он хорошо одарен, неразговорчив и презрителен до последней крайности... Это не те черты, что располагают товарища в пользу товарища.
Институтом было принято решение жесткое: за вопиющее нарушение дисциплины, наплевательское отношение к военному делу и доброму имени института не допускать Костырика до защиты диплома.
Я — СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
— Войди, Костырик... Всеволод!.. Кажется, так?
— Всеволод, товарищ полковник.
— Меня зовут Степан Александрович... Извини, что я принимаю тебя в пижаме... Сейчас у нас с тобой, так сказать, разговор частный... Садись. Ты уж меня извини, что я света не зажигаю: глаза болят. Сними-ка пилотку, Всеволод. И садись, садись... Нынче ты у меня на положении гостя... Не опускай головы, Костырик... Подними-ка голову! Люблю видеть перед собой лицо человека, иначе мне кажется, грешному, что меня не слышат... Итак, ты — единственный сын у своих стариков!
— Нас двое. Я и сестренка.
— Я пригласил вчера твоего отца. И душу отвел. Ну и ругал же тебя! Пух и перья летели... Уж это как водится. Повздыхали, поговорили как бывшие фронтовики... Твой отец, оказывается, инвалид!
— Практически да. У него ограниченные движения правой кисти. Но он все же работает. Приспособился.
— Ну!.. И ты, стало быть, помогал отцу?
— Мне совершенно не было трудно, товарищ полковник! Я даже уверен — это было полезно для моего основного дела — архитектуры... Я люблю все то, что надо делать руками... И где... ну, в общем, участвуют краски. Цвета.
— Скажи-ка мне... На каком курсе... Одним словом, когда ты начал малярничать?
— Погодите-ка... Пожалуй, с последнего класса школы... Сперва я, знаете ли, хотел быть художником. Живописцем. Но потом я понял... В общем, все это как бы синтезируется архитектурой... По-настоящему проявить себя я смогу, пожалуй, только в архитектуре!..
— Да, да... Я слушаю. Ты как будто еще хотел мне что-то сказать?
— Ничего особенного... Это — так... Наш институт носит имя архитектора Воронихина — простого русского человека.
— И превосходного зодчего... И ты сразу попал в институт, Всеволод?
— Нет. Я держал два раза... И думаю, что... Одним словом, здесь имели значение мои ученические работы... Я показал их Петрову. Моему будущему руководителю.
— Если я правильно понял тебя, в архитекторы идут главным образом дети родителей не то чтобы обеспеченных... но, в общем... не знаю, как бы выразить это... Сам понимаешь, это же не моя специальность, мое дело — танки; я — кадровик... Но я так понял тебя, что в архитекторы идут дети... Одним словом, не первое поколение нашей интеллигенции... Дети крестьян и рабочих чаще становятся художниками, живописцами... Прав ли я, Костырик?..
— Пожалуй. В какой-то мере.
— Ты говорил мне о Воронихине, чьим именем назван ваш институт. У него была, как я понимаю, своя изумительная культура, так же как у всех старых зодчих... Ведь тогда в одном человеке — руководителе тех построек — все должно было сочетаться: и конструктор, и архитектор... Тогда не было деления на архитекторов и конструкторов.
— Да, да... Вы как раз говорите о том, что меня заботило... Я надеялся это в себе развить... Как финны... Как Франк Ллойд-Райт.
— Да... Франк Ллойд-Райт... Изумительный был архитектор!.. Великолепно рассчитан фундамент гостиницы... Ну ты же знаешь... Та гостиница, что в Японии.
— Но он не был строителем массовых зданий, товарищ полковник.
— Меня зовут Степан Александрович.
— Он был частный строитель, если можно так выразиться... Строитель и педагог.
— Ты когда-нибудь думал о том, как трагична была эта жизнь, Сева? Сколько раз ему приходилось как бы все начинать сначала?
— Да. Я думал об этом... И удивительно, знаете ли, что он всегда оставался без крова... Его преследовали пожары!
— Без крова и без семьи! Замкнутый, сдержанный, очень суровый был человек... А жизнь Воронихина, Сева! А молодость... ну, скажем, моя и твоего бати?.. Мы — скромные люди, но все же люди. И близкие тебе... Ведь мы твои современники... Не задумываясь о том, чтобы дать тебе образование, твой отец практически отдал тебе свою правую кисть... Я знаю, мальчик, когда другой в смятении, нехорошо говорить ему о себе... Надо как бы забыть себя, но и я человек... Двенадцатый час... Я — в пижаме... Я... я, понимаешь, — бездетен... Нет у меня детей! Во время войны погибла моя семья.. А я принадлежу к числу однолюбов... Извини меня за признание. Жена для меня означала — любовь... Кто это приезжал к тебе?! Ты, должно быть, любишь ее до потери разума?
— Я не знаю.
— Вот те раз! Не знаю! Ты что же, маленький?.. Какие вы все пошли удивительные, инфантильные. Мы поздно формировались, долго себя искали, но чувство долга...
— Оно есть и у нас, товарищ полковник.
— Да. Я знаю. Но мы как бы что-то вам облегчили, Всеволод. Подарили, что ли... Я отдаю себе полный отчет в преимуществах и недостатках современного воспитания. У меня было много детей... хотя бы даже и не своих собственных. Иногда я удивляюсь «черствости» вашей. Но тут же спрашиваю себя: «А ты?» Может быть, потому, что нет у меня детей, я часто думаю о времени своего детства... Я жил в Москве, в большом деревянном доме, жильцов было много, и, разумеется, были среди жильцов и такие, что воевали. Нам, детям, они казались взрывчатыми и еще, понимаешь ли... В общем, дело не в том... Много ли твой отец рассказывал тебе и твоей сестре о войне и Германии? Ведь он участвовал во взятии рейхстага...
— Не рассказывал ничего... Он человек, как бы это сказать... молчаливый.
— А хвастался он своими заслугами?
— Нет! Я думаю, он их даже не сознавал и не сознает.
— Ну да... У Твардовского сказано: «Подвиг — это долг»... Очень верно... Два года, знаешь ли, я лежал в госпитале, а за два года много чего передумаешь... Выздоровел — пошел в академию... В военную академию... И когда вчера я говорил с твоим отцом, Сева, из его рассказов, человека, надо сознаться, не особенно разговорчивого, я понял, что ты страстно любишь свое дело: архитектуру... Он не так это говорил, не такими словами... Но я понял, что дело твое для тебя не случайное дело, что оно результат и мыслей, и страсти... И еще я понял, что ваша семья живет очень замкнуто... Что твой отец необщителен... Скажи-ка, думал ли ты о том, со сколькими людьми сегодня приходится сталкиваться архитектору? Зодчий — это руководитель постройки, строительства, одним словом... У тебя практически никогда и товарищей не бывало.
— Откуда вы это знаете?
— Я был вчера в институте, Костырик. Был у декана... Я за тебя ходатайствовал... Ты, оказывается, часто пропускал лекции и не участвовал в общественной жизни своего института...
— Это было из-за «халтуры», из-за работы. Я... я старался помочь отцу.
— Все это хорошо, но почему в институте за столько лет... Почему ты никому ни о чем не рассказывал? Почему ты думал, что люди — не люди и тебе не пошли бы навстречу, Сева! Мог же ты, в конце концов, перейти на вечерний?
— Мог бы. Но тогда моим прямым руководителем не был бы Петров. А он ко мне исключительно относился, и я преклоняюсь перед его талантом...
— Значит, ты все же перед кем-нибудь преклоняешься, кроме себя самого?
— Да что вы, товарищ полковник....
— Я — Степан Александрович... И наша беседа — частная. Опять-таки — я в пижаме! Вот ты говоришь мне: «Петров — талант. Я преклоняюсь перед его талантом...» А как сурово складывалась его жизнь?.. Сколько раз он бывал отстранен от работы? Кроме того, талант — это воля, Всеволод. У Петрова была настоящая воля таланта. Быть может, со временем ты станешь таким, как он!
— Нет! Я хочу только то, что смог бы сам.
— Превосходный ответ. Он меня устраивает. Вчера, когда я был в институте у твоего декана, я с ним говорил о том... Одним словом, если ты не защитишь диплома, не получишь высшего образования и не попадешь в так называемое распределение... ты будешь мобилизован... А я не хочу и не могу принять, чтобы служба в армии была для кого-нибудь наказанием. Служба в армии — дело почетное! Дело всех сынов нашей Родины... Прости меня за некоторую высокопарность, но ведь я военный. И гражданин.
— Степан Александрович, мой отец немолод. Я и Катя родились поздно... Тяжко болеет мать... Откуда я знаю, что будет через четыре года!.. Дорога мне будет открыта, все это так... Но особое положение моей семьи... В состоянии ли будет отец работать? А если нет? Как же я совмещу учебу с заботами о семье?
— Мальчик, мое поколение училось без отрыва от производства. А Воронихин... Он был не просто рабочим, а крепостным. Твой учитель. Петров... сам знаешь, сколько пришлось преодолевать этому выдающемуся архитектору... Я ходатайствовал, чтобы тебя в институте... восстановили. Я свидетельствовал, что, по моему опыту, нету неисправимых ребят... Тем более таких, как ты. Институт не встал на мою точку зрения... Здесь особенно горько то — и я понимаю это, — что ты во всем как бы сам виноват и не раз упрекнешь себя, но, если хочешь знать мою точку зрения сейчас, когда мы с тобой здесь с глазу на глаз... Армия — лучшая для тебя школа... Школа товарищества, дисциплины, близкого столкновения с другими людьми... И долга, который ты понимаешь односторонне. Долг у нас есть не только по отношению к семье. Подумай об этом, Всеволод... У тебя будет время об этом подумать... Единственное, что я хотел бы для тебя сделать и сделать могу, особенно теперь, когда я с тобою поговорил... с тобой и с твоим отцом... и лучше понял тебя, как мне думается... я сделаю все, чтобы тебя направили... Одним словом, я бы хотел, чтобы ты проходил военную службу на Санамюндэ. Это место нелегкое... Но там начальником мой товарищ, человек широкой, щедрой души. Я воспользуюсь своим правом и дам тебе хорошую аттестацию. Я верю тебе и в тебя. И знаю: не ошибусь... У меня чутье... За десять лет я немало перевидел вашего брата. Но если ты мне позволишь, я... Одним словом, частный вопрос. Если эта девчонка (та, что к тебе приезжала)... Ну ладно, ладно. А если женщина — старше тебя? Не отвечаешь? Ну что ж, я тебя понимаю. Это, пожалуй, было бы неделикатно по отношению к женщине... Подними глаза, Всеволод. Если трудно придется, напишешь, ладно? Не напишешь. Куда там! Ты ведь у нас гордец!
ЗАКЛЯТЬЕ
«Будь сегодня двадцать ноль-ноль Центральной переговорной.
Сева».
— Зиновьеву в третью кабину, Зиновьеву в третью кабину. Зиновьеву в третью кабину.
— Здравствуй, Кира, Это я, Сева.
— Здравствуй. Ну как ты там жив-здоров?
— Кира, алло!.. Тебе хорошо слышно?.. В общем, здесь, понимаешь ли... Тебе хорошо слышно?.. Кира, м е н я и с к л ю ч и л и из института.
Молчание.
— Перед самым дипломом?.. Как это возможно?!
— Кира, переговорную мне здесь один парнишка устроил... Я сильно хотел... Я хотел услышать твой голос!
— Сева... Что бы ни было, что бы с тобой ни случилось, я... я... Ты бы не мог в двух словах... Хоть коротко...
— Ерунда!
— Поняла... Все вышло из-за меня. Из-за того, что я приезжала в часть. Сева! Скажи мне правду... Ты сдал все экзамены? Все? Абсолютно все?
— Кира, не будь ребенком.
— Алло!.. Алло!.. Сева, когда ты будешь в Москве?.. Алло!.. Девушка, девушка!.. Нас почему-то разъединили. Милая, дорогая... Отец умирает! Не разъединяйте, не разъединяйте.
— Абонент, разговор окончен, попрошу положить трубочку.
— ...Доченька! Эко хорошо, что поспела... Он еще вчера телеграмму отбил, чтоб я тебя встретила у выхода с переговорной... Но знаешь, какие люди нынче недобросовестные? Телеграмма возьми да и опоздай. Сейчас. Отдышусь. Умаялась... Не помню, как и добралась! — И руки Севиной матери торопливо и деловито провели по Кириным волосам. — Нельзя убиваться, грех. Не смерть, не война, не голод... Разве счастье в одном его инженерстве? И-и-и — нет!.. Но я... — и вдруг сказала старая женщина со страшной и грозной силой, — как мать... Христом-богом прошу...
— Мама!.. Нет, нет!.. Я и так... Я знаю...
— Не бросай моего сынка.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НОЧЬ
Сквозь сито дождя Кира видит большой желтый месяц, как бы заледеневший в холодном кольце. Он глядит ей в глаза тревожно и пристально...
Девочка глубоко вздохнула, спустила с кровати босые ноги.
Этот пол когда-то циклевал Сева.
Кира зажмурилась и встала на четвереньки. Но этого ей показалось мало. Она погладила пол ладошками.
Но и этого ей показалось мало. Она улеглась на полу калачиком.
«Сколько сейчас?.. Должно быть, часов одиннадцать!»
Она выскользнула в коридор, прислушалась, услыхала ровное дыхание матери... Прокралась в спальню, подошла к стоящей в углу кроватке.
Его волосы были влажными. Кира прижалась губами к его щеке.
— Сашка....
Он ее услыхал. Щечка дрогнула.
— Милый! Я знаю — ты у меня колдун. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я была сильная.
— Кира?.. Ты?
— Мама, а мне показалось... будто приехал папа.
— Ступай, ступай, полуночница... Уйди от ребенка. У него жар.
Кира пошла к себе и принялась одеваться. Плащик висел на вешалке в коридоре, она не решилась его прихватить с собой, накинула на плечи летнее клетчатое пальто... На это пальтишко метила Вероника, но Кира не отдавала... Для верности оно висело в ее шкафу.
Из дому Кира выскользнула босая (тупоносые ботинки она обула на лестнице).
Ночь. Навстречу девочке хлестнуло мглой и дождем.
Проехал грузовичок, вздымая грязь. Низко опустив голову, прошла женщина.
«Если Сашка завтра поправится, я отдам Веронике это пальто. Утром отдам. Как проснется, сейчас же, сейчас же его отдам... Все на свете я ради него отдам!»
— Такси-и! Пожалуйста. Воробьевы горы.
— Ты что, решила в ночи совершить экскурсию?
— По какому праву вы меня тычете? К университету.
Дождь хлестал о стекла окон. Кира сидела зажмурившись, словно дремала.
«Отчего так долго!.. Как долго, как долго!..»
— Что случилось с такси, товарищ водитель?
— А ничего такого — легкое землетрясение: зажгли светофор.
— Остановитесь-ка... Мы приехали. Подождите. Я — мигом.
— Ах вот оно что! Я — ждать, а ты — наутек?
— Ладно. Если хотите, можете подняться вместе со мной, — высокомерно сказала Кира.
...Она дома. Приехала. Вон светятся ее окна... Значит, еще не ложилась спать... Скорей, скорей!
— Валентина Петровна!.. Простите. У нас... То есть у меня... Происшествие... В общем... Заплатите ему, пожалуйста. Пусть уйдет, пусть смоется...
— Что с тобой, девочка? На кого ты похожа?
Кира робко присела на ту приступку у вешалки, где галоши. Ржевская стянула с нее пальто. Кира икнула.
— Снимешь чулки?! Снимай. Они — мокрые. Ну? Говори!
Вместо ответа Кира опять икнула.
— Ладно, давай помолчим. Успокойся. Пойдем-ка я чаю дам. Надень мои туфли. Нет, погоди, я налью тебе в чай коньяку. Не хочешь? Ну хорошо. Я выпью чаю, а ты поикай, поикай...
И тут-то Кира перевела дыхание. И принялась говорить. Она говорила жадно, захлебываясь, перебивая себя, торопясь.
Это была ее первая в жизни исповедь.
— Все? — спросила Ржевская.
— Да. То есть нет... То есть все.
Ржевская встала и, опустив голову, тихо прошла по комнате.
— Девочка, почему они не дали ему гауптвахту?
— Не знаю. Ничего я не понимаю.
— Кира, здесь что-то не так... Успокойся. Завтра я пойду в институт, и все образуется. Ну!.. Подними-ка голову. Улыбнись. Молодцом!
Ржевская села к столу и задумалась.
— Значит, вы целовались! В лесу? Нет, девочка, этого не бывает...
— Честное слово — было. И вот за это, за это...
— Погоди-ка... Вы целовались... А потом он взял тебя за руку... Не слушай меня. Я шучу, шучу.
Усталое лицо женщины с пиявками широких бровей, соединившихся у переносья, стало насмешливым и печальным.
— Шучу! Неужели не понимаешь? Ночь, дождик, чулки, которые ты порвала, твое заляпанное пальтишко — все это жизнь, жизнь... Она стучится в двери — к тебе. Это жизнь. Поняла?
— Нет.
— Счастлив даже тот человек, который остро чувствует одиночество.
— Не говорите так... Это — страшно.
— Да, страшно. Но это — жизнь. А он был когда-нибудь... груб с тобой?
— Был. Но мы помирились, и я простила.
— Деточка, я не совсем о том. Вы в лесу... Вас двое... Нет! Этого не бывает...
— Почему вы не верите, Валентина Петровна?
Ржевская расхохоталась.
— А чего здесь особенного? Почему нам никто не верит?.. Лес? Подумаешь! Невидаль! Нельзя целоваться?
— Можно. Нужно.
— Валентина Петровна... Родная... Вы... Я... Я, кажется, поняла.
— Кира, разве я дала тебе право меня исповедовать? Ладно, шучу, шучу... Не обижайся. Я бы хотела быть очень старой. Старой-старой. Я хотела бы ждать своего старика. Хотела бы постареть, быть старой тувинкой... И чтоб мы жили в чуме.
— Зачем?
— А разве нехорошо?... Или вот: пусть уж мой старикан — рыбак. Мы живем на Кубани. Домик у моря... Я жду, старик уходит на лов. Он меня называет «моя старуха»! У нас много-много детей... А ведь бывает такое, Кира!.. Не слушай меня. Вот трешка, щегленок. Иди! Завтра мы обе должны быть в полном вооружении. Надо выспаться. Нам предстоит бой!
СЫНОВЬЯ
...Такси подъехало к институту, и актриса увидела Киру у открывающейся и закрывающейся институтской двери. Лицо у девочки было испуганное.
— Успокойся, щегленок, я тут. Придется тебе убедиться, что бывают люди, которые держат слово. Обещаешь не волноваться? Я, пожалуй, пойду одна... О многом нужно будет поговорить. Вот пятерка: пойди поешь. По носу вижу, что ты ничего не ела.
В сером пальто и черном закрытом платье, ловко накрашенная и хорошо причесанная, Ржевская была моложава, эффектна. Ей предстояло «дело». (Она ли не помнила, что значит — чужое дело?)
Толкнула входную дверь, оглянулась... Кира продолжала шагать взад-вперед по улице, стиснув зубы, сжав озябшие кулаки в карманах плаща. (Откуда было знать Ржевской, что клетчатое пальто она нынче утром отдала Веронике.)
«Если все образуется, как говорит Валентина Петровна, — подкупала судьбу Кира, — я не позволю маме ходить за хлебом, стану обстирывать Ксану и Вероничку... Пойду уборщицей... Я...»
Она не могла придумать, какой бы ей принести обет посуровей, потяжелей...
«Я обреюсь наголо».
Сняв пальто, актриса поднималась по институтской лестнице. Здесь, в полумгле, она все еще была моложава, не худа, а стройна... А главное — до чрезвычайности элегантна.
На нее оглядывались. Это придало ей некоторую уверенность.
— Здравствуйте, — сказала она, входя своей легкой походкой в кабинет заместителя ректора. — Разрешите представиться. (Ржевская улыбнулась.) Не знаю, говорит ли вам что-нибудь мое имя!.. Вероятно, мало что говорит.... Я — Ржевская, чтец. А в обиходе попросту Валентина Петровна.
— Рад. Чем могу служить?
— Всем, — сказала она.
Кабинет освещало яркое солнце, в дневном свете стало видно, что актриса неумеренно пользуется косметикой.
— Прошу вас, сядьте. Извините, я даже несколько потерялся... Непривычный, так сказать, посетитель...
Он подвинул ей кресло. Ржевская села.
— И я потерялась, — весело и доверчиво призналась она.
— Гм... Быть может, я должен вас предварить... Начало года... Смета на культнужды еще не утверждена.
— Да что вы! У вас мы охотно выступим с шефским концертом, сами когда-то были студентами. Я по другому делу... — Она задумалась. В кабинете пролетел тихий ангел. — Речь о студенте Костырике, Всеволоде Сергеевиче Костырике.
— О нашем бывшем студенте, не так ли? Раз отчислен, стало быть, больше уже не студент.
— Я пришла, — продолжала Ржевская, — в качестве борца, так сказать, за правду и справедливость. Уж вы меня извините за подчеркнуто высокопарные выражения: я — актриса, как все люди искусства, своему делу я отдала жизнь и в студенте Костырике вижу своего будущего коллегу... На поисках справедливости стоит и стояла Россия... И я, как русский человек...
— Извините, что я решаюсь вас перебить... Вы так это, видимо, понимаете, что без вмешательства постороннего человека мы не сумели бы разобраться, где правда и справедливость?..
— Да что вы! — ужаснувшись, сказала она. — Я в том смысле, что все мы совершали и совершаем ошибки!..
— А кем, собственно, он вам приходится, этот Костырик? (Лицо его было спокойно, а руки играли лежащими на столе бумагами: зажатое между третьим и указательным пальцами, вздрагивало самопишущее перо.)
— Я не знаю Костырика. Но по многим причинам меня живо трогает эта юношеская судьба... Это... это не государственно...
Их глаза встретились. Ржевская наклонила голову, задумалась, жестко переплела пальцы. (Ногти на тонких ее руках были цвета перламутровых пуговиц.)
— Стало быть, вы к нам пришли как государственный деятель? — сказал он со скрытым юмором. — Так я вас должен понять?.. Однако наш разговор беспредметен. Исключение Костырика из института утверждено.
— У вас, должно быть, нет своих сыновей? — участливо спросила она.
— А у вас? (И в глубине его глаз мелькнул огонь презрительного любопытства.)
— У меня их трое.
— Странное дело... Отчего вы в таком отчаянии? Люди считают за честь службу в армии...
— Да что вы! Я — фронтовик. У меня правительственные награды... Мы... с бригадой... во время войны... На передовой...
— Но извините, я отказываюсь вас понимать.
— Да что же здесь непонятного?! Он должен закончить. Получить квалификацию архитектора... Я не оратор, я говорю так сбивчиво... вы опытны, вы поймете... Нам с вами достались тяжкие времена... Времена войн... Пусть им будет полегче. Юность — начало жизни...
— Да, да, — сказал он, сдерживая улыбку. — Но ведь на то наш с вами почтенный возраст, чтобы руководить юностью.
Она по-актерски, не дрогнув, снесла удар. Профессия помогла ей поднять глаза и улыбнуться так доверчиво, так простовато.
— В том-то и дело, что по возрасту он годится мне в сыновья. Костырик, я слышала, образцовый сын... Отношение к родителям, как ни говорите, тоже характеристика человека. (На нее наваливалось удушье. Она отогнала его, призвав все силы воображения.)
— Отец Костырика был у меня. И по-мужски признался, что ослабил, так сказать, отцовскую бдительность... Позвольте прямо поставить вопрос: вам известно, товарищ Ржевская, за что Костырик отчислен из института?
— Известно.
— И вы за него заступаетесь?! Я человек не особо творческий и поэтому не в силах понять той женщины, что по ночам его выволакивала из части! И довела его до... хулиганства....
Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету.
— Женщина?! Как вы это смешно сказали... — расхохоталась Ржевская. — Эта «женщина» Кира — моя семнадцатилетняя дочь.
— Однако вы многодетны! Итак, ваша дочь встречается с молодым человеком, ей семнадцать лет, а вы не видали его в глаза. Странновато.
— Все они — мои дети! И то, что случилось с Костыриком, — следствие нелепого, вопиющего какого-то недоразумения... Пусть получит диплом — и в армию, в армию... Так было бы справедливей!..
Он привстал:
— Товарищ Ржевская, я считаю наш разговор оконченным.
Знакомое чувство беспомощности, сознание правды, которую она не смогла отстоять, навалилось на Ржевскую.
Он ей налил воды. Неловким движением она отстранила стакан. Вода расплескалась.
— Костырик имеет, однако, успех у женщин, — сказал он, заглядывая с усмешкой в глаза артистки.
Она встала и очень спокойно, по-актерски (по-королевски) пошла к двери. У двери остановилась и оглянулась.
— Право, не следует так откровенно завидовать молодости! — со светлой улыбкой сказала Ржевская.
И, не ускоряя шага, вышла из кабинета.
«Дело делать!» Разве ты помнишь, что это значит — «дело»?
Миловидная, молодая, уверенная, сколько ты (когда-то давным-давно!) «провернула дел»?
Прописки. Обмены. Вспомоществования. А помнишь горбатого следователя?.. Это было, когда актера Долинина обвинили в алкоголизме... Он не пришел на спектакль... Потребовалась замена...
Сколько раз ты врала, защищая товарищей?... Все знали об этом. Но твоя ложь была правдой, все сходило тебе — ты была молода и красива. Как Фрина. А это значит — всегда права.
Королева без царства. Королевство восставших подданных. Седая девочка. Глаза — как крик.
Назад!.. К двенадцати ребятам, которых ты народила своему мужу-рыбаку.
Страна моя! Страна покоя... Страна моих двенадцати неродившихся сыновей...
Кира сама должна была хлопотать за Костырика. Она! Хрупкая, трогательная, молодая.
«...Ты, ты забыла, милуша, простейшие правила, которым тебя научила жизнь!»
— ...Доложите декану, его хотела бы повидать Ржевская. Заслуженная артистка.
— Валентина Петровна!.. Я — здесь.
— Девочка!.. Дело... дело твоего мальчика... безнадежно.
— ...?!
— Кира!.. Прости меня. Я проиграла дело Костырика.
— Валентина Петровна! Да что такое вы говорите? Милая! Обопритесь, пожалуйста, на меня. Покрепче... Вот увидите — все образуется. Обопритесь! Образуется, образуется...
Ржевская глянула на нее, дотронулась дрожащей рукой до ее озябшего подбородка:
— Кира!..
— Не плачьте, пожалуйста, Валентина Петровна. Я вас очень, очень люблю, Валентина Петровна.
Эти минуты были самыми тяжелыми в жизни Киры.
О ТАКТЕ
Сад поджидал Севу. Садовому участку недоставало сильных молодых рук.
В семье Костыриков разговаривали о картошке, об урожае клубники, о том, что сохнет левая яблоня, — с чего бы это? Ведь совсем еще молода... О главном у Костыриков не говорили. (Такт — чувство врожденное: он далеко не всегда достается одним лишь людям с образованием.)
Сева работал в саду. Солнце то и дело скрывалось за облаками, но его душноватое, осеннее тепло еще припекало. Облака, не перистые, а сплошные, провисали высоко над садом.
По вечерам, когда становилось темно, Сева пристраивался на нижней ступеньке крыльца. Приходила Катя, садилась рядом. Дети Костыриков вглядывались в сгущавшуюся темноту ночи. Молчали.
«...Хоть бы отец ударил меня! — думал Сева. — Может, мне сделалось бы полегче!.. К обеду мне подавали мясные котлеты. Я помню, помню! А Катя жевала котлеты пшенные... Почему отец не ударил меня?.. Хоть бы ударил! Может, сделалось бы полегче! «Божье благословенье» — вот как обо мне говорила мать.
Что же, что же это такое! Как оно могло случиться со мной?
Кира!.. Я больше не я. Я в себя не верю... Я себе больше не доверяю. Я... я... А может, это значит: люблю?.. Но ведь я ненавижу тебя сильней, чем люблю... Спрятаться. Родиться опять! Совершить подвиг!.. Отец! Зачем ты меня не ударил!»
Он сидел на ступеньках, низко ощутив голову. А садовый участок тихонечко говорил с ним о вечности, о протяженности и силе жизни. Приходил какой-то крошечный старикан — он был весь величиной с палец. Старикан пристраивался рядом с сестрой и братом. На коленях скрещены были волосатые стариковские ручки. Ножки обернуты в беленькие портянки, обуты в лапти. «Как тебя зовут, дед?» — «Сам знаешь! Покой Покоич». И ты успокоишься. И будешь верным солдатом. И может быть, совершишь подвиг...
«Дедушка, а ты, делом, не чокнутый?!» — «Нет. Зачем! Я корень земли».
...На смену теплым осенним дням пришли грозы. Грозы были ночные. Гром мягко сотрясал небо. Дождь обрушился на землю обильными ливнями.
Приходил рассвет. Но и в рассветных сумерках что-то долго-долго еще сверкало в облаках на востоке. Под окнами слышался шорох воды и грязи. Над дорогой велосипедистов кружились галки.
Утром, надев болотные сапоги, отец шел к поезду.
С тех пор как дождь, у Севы стало меньше работы в саду. Не надо было таскать воду из колодца.
Он прочистил печной дымоход, пошарив в кладовой, разжился голубой краской, выкрасил кухню и подоконник.
— Эй, кто там? — заорала женщина-почтальон. — Есть ли собака? Можно войти? Перемерли вы, что ли, хозяева? Распишитесь.
Ушла. Сева стоял у калитки, опустив голову.
— Сыночек, чего такое? Кто приходил?
В руках у Севы была повестка из военкомата.
Катя еще не вернулась из техникума. Родители не пошли его провожать.
Прощались в саду.
Выцветшие голубые глаза Костырика-старшего часто-часто мигали. Маленькая голова его, похожая на орешек, вздрагивала.
— Бывай здоров. Пиши. Сообщай, одним словом.
— До свиданья, мама. Скоро увидимся. — И, отвернувшись от матери, он зашагал прочь. Шел спокойным широким шагом солдата по дороге велосипедистов.
Не отрывая глаз, мать смотрела на удаляющийся затылок и кирзовые сапоги, вздымавшие пыль.
Оглянулась, вздохнула, перекрестила воздух.
— Полно, мать! — закричал отец. Его брови взлетели. Дрогнул всеми своими складками темный орешек. Старик заплакал.
О ВЕРНОСТИ
Прошла неделя, две, три...
Девочка спрашивала себя, почему такая уж она заколдованная, что, как только коснется ее живое, теплое чувство, она тут же оказывается виноватой!
Кира еще не знала удивительного закона, что мы всегда виноваты перед тем, кто нам дорог. Виноваты, иной раз даже без всякой перед ним вины. Недодумали, недоучли и недоглядели... Это чувство виновности человек волочит за собой всю жизнь, вместе со своей человеческою любовью. Что б ни случилось с близким, ты виноват всегда.
Просыпаясь, Кира лежала в кровати, подложив ладони под голову, и внимательно разглядывала потолок... Она разговаривала с потолком. Он был умный — белый, спокойный. Но отвечать не хотел. Ленился.
Может, взять гитару и спеть? Нет! Гитара — это для радости. А она не хочет радости д л я с е б я.
Тихо. Пусть. В школе Кешка и девочки. Сашуню отдали в детский сад.
По субботам она бежала за ним на Евстафьевскую, возвращалась домой, волоча его на руках, останавливаясь у каждой витрины. Он прислонял к ее плечу свою толстую (отечную) щеку. И — засыпал. (От радости!) Она знала. Пусть говорят, кто хочет, что хочет, — ее не проведешь.
Она купила ему немецкий кораблик. Купала его, а кораблик с нежно-зелеными парусами плавал в мыльной воде. Сашкино лицо не выражало ни радости, ни удивления.
— А чего б ты хотела, Кира?.. Чтобы он танцевал фокстрот?
— Что ты, мама? Только чардаш или рок-н-ролл... Не допущу, чтобы он отставал от века!
В понедельник Кира и мать отводили его назад, на Евстафьевскую. Он вцеплялся в Кирин подол.
— Девочка, уходите. Сейчас же. Вы травмируете ребенка.
— Мама, мама! Что же это такое? — выбегая из детского сада на улицу, захлебываясь, говорила Кира.
«...Ладно. Пусть я не Кира, а Пенелопа».
И она принялась вязать себе шерстяное платье.
Первый раз в жизни Кира держала спицы. Дело, однако, двигалось: вязала — и распускала, вязала — и распускала... Кто бы видел, как быстро и ловко она вязала, как здорово распускала!
«Они были долголетней, чем мы. Иначе как бы она могла ждать двадцать лет своего Одиссея... Да еще чтобы он возвратился и перестрелял из лука всех ее женихов?»
— Доченька, ты бы с кем-нибудь посоветовалась. Взяла бы выкройку, что ли...
— Хорошо, мама.
...Осень. Пожелтели листки деревьев. Стал коричневым дуб посреди двора. Побежали по двору коричневые листья Кириного золотого дуба. Женщина-дворник взяла золотую метелку и подмела золотые листья. Она убирала их, а они все падали, падали... Дуб был очень большой и старый, с огромной кроной.
Осень, осень... Дождь, дождь. Платье вывалилось из рук, покатился по полу шерстяной клубок, за ним голубая нитка. Добежал до двери, сделал шажок назад и остановился.
Уронив на подушку голову, Кира спала. Ее сон был пронизан длинным звуком дождей.
— Сева! — просыпаясь, чуть слышно сказала Кира.
Долго ждала она электричку, долго шагала во мгле, разыскивая участок Костыриков.
...Вот калитка их сада. У крыльца одинокая яблоня. Пусто. Голо. Сумрачно.
Девочка замечает в луже около дома колеблющийся огонь. Отступив назад, она быстро прячется за выступ сарая. Окно занавешено. Шторки просвечивают...
Распахивается дверь. В светлом проеме — старик Костырик, обутый в болотные сапоги. Рядом — другой какой-то старик, должно быть сосед (на плечи накинута кацавейка). Высоко вспархивает беловатый огонь ручного фонарика.
— ...А как же, как же... мы отправили ему яблоков. Хороши, ничего не скажешь, — и Кира узнала хрипловатый голос Костырика-старшего.
Осторожно вышла она из укрытия и побрела к вокзалу...
— Тебе телеграмма, Кира, — сказала мать. — Вон на столе... Не знаю, спроси-ка у Веронички, она расписывалась, я была занята: стирала.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Зиновьевой Кире Ивановне.
Как сказала, так и сообщаю. (Следует адрес Севы.)
Низко кланяюсь с большим к тебе уважением
Мать Всеволода Сергеевича Костырика».
БРИТАЯ ГОЛОВА
— Ежик. Под первый номер, — сказала Кира.
— Вы шутите? — опершись о спинку вращающегося кресла и заглядывая через зеркало Кире в глаза, улыбаясь, спросил молодой мастер.
— Зачем же? Нисколько... Я тороплюсь. Стригите. Живо. Раз-два!
— Извините, девушка, но у меня рука не поднимается обкорнать такую головку, такие волосы.
— Я пришла подстричься и не спрашиваю, о чем думает мастер... И вообще не мешало бы знать, салону, что последняя парижская мода — прическа «бритая голова».
— Девушка, это вам Москва — не Париж. Меня осудят за членовредительетво. В лучшем случае — за озорство... Подстригу. Извольте! Хоть наголо. Но загляните сюда с мамашей.
— Заведующего! — высокомерно сказала Кира.
— Я вас слушаю! Какие претензии у клиентки?
— Она требует ежик. Под первый номер! — захохотал мастер.
Все в парикмахерской стали оглядываться на Киру и юного парикмахера.
— Он говорит, что срезать волосы — это членовредительство. Ваш мастер просто безграмотный человек.
— Совершенно верно. Значит, вы просите, чтобы под первый номер?.. Ясно. Сережа! Создашь короткую стрижечку. Мужскую. Поэлегантней. Гладкую. Вот отсюда возьмешь побольше... Действуй.
Ножницы звякнули. Завитки смоляных волос упали на белую матерчатую пелерину.
Кирина голова уменьшилась. Все меньше, меньше делалась голова Киры. Завиднелись розовые раковины ушей. Стало ясно, что уши у Киры великоваты.
Казалось, что черные ее волосы устлали весь пол парикмахерской... Россыпь, россыпь сине-черных волос! Глянцевитых, с отливом.
Взмахнув старым веником, уборщица подмела распрекрасные Кирины волосы.
Перед зеркалом в кресле сидела девочка лет пятнадцати, от силы шестнадцати, с очень смешно и коротко остриженными волосами.
— Сбрызнуть одеколончиком? — сняв с Киры накидку, ликуя спросил молодой мастер.
— Ни в коем случае, — сказала она и с достоинством сунула в карман парикмахера рубль (чаевые).
— В толк не возьму — вас, может, мобилизовали? — спросил он шепотом. — Но разве девушек нынче мобилизуют?
— Нет. Я еду по вызову к одному парнишке. На острова. Слышали Санамюндэ? Остров такой.
— Понятия не имею. А разве на острова пускают только подстриженных ежиком?
Пока они вели этот в высшей степени содержательный разговор, волосы Киры вопили из урны: «Мы тебя делали похожей на девочку-итальянку! Кое-кто дотрагивался до нас, говорил: «Кирюшка, у тебя красивые волосы»... Прядь спускалась тебе на лоб, ты так лихо ее откидывала!..»
— До свиданья. Большое спасибо, — сказала Кира.
— Счастливо доехать. А волосы — жаль... Ну что ж... Захаживайте, когда вернетесь с вашего Санамюндэ.
— Ополоумела!.. Мать, гляди, что она выделывает! Обкорналась, как есть обкорналась, — сказал Иван Иванович, моя руки над раковиной и с удивлением вглядываясь в изменившийся облик дочери.
— Папа! Ты все ворчишь и ворчишь. Вернулся из Киева и почему-то никак не можешь угомониться. Кто-то тебя допек, а домашние виноваты.
— Что верно, то верно, — подхватила Мария Ивановна. — Как зверь... Ну прямо как зверь...
— Мастер Зиновьев, — певуче сказала Кира, поняв, что дотронулась до оголенных электрических проводов, — поскольку я ваш собственный отпрыск, непрактично меня травить. Сами же родили и сами же измываетесь. Нехорошо!..
— Ближе к делу! Может, ты все ж таки объяснишь, что случилось? Стригущий лишай?.. Мигрени?.. Зачем ты себя изуродовала?
— А я здорово себя изуродовала?
— Ого! Еще как.
— Это я для идеи, папа... Видишь ли, в городе Лауренсе все студенты ходят подстриженными. Им выдают специальные шапочки с козырьком. Студенческие... Одним словом — как в старину.
— Город Лауренс?.. Какой такой Лауренс?
— Ты знаешь. Просто забыл... Наш самый старинный университетский город. С лучшими традициями и профессорами.
— Ну допустим... И что?
— А то, дорогой, что я бы хотела учиться дальше. Ты тоже этого очень хотел.. Я просила тебя, умоляла, — помнишь? — «поговорить с профессором»! Ты не вник... Но ведь другие просят ради детей... И вот мне занизили все оценки... Но самое обидное — что по русскому письменному... Все знают, что у меня по русскому только пятерки, всегда пятерки!.. (Кира врала так страстно, так самозабвенно, что сама поверила в свою ложь.)
Она держала экзамен! Она провалилась! Виновата во всем была англичанка... Если б тогда — за обморок — англичанка поставила ей пятерку...
Одним словом, она отхватила бы серебряную медаль.
Серебряная медаль, серебряная медаль...
Ну не обидно ли?..
Кира вдруг зарыдала.
— Что ж плакать-то? Наберешь свой балл на будущий год... Поступишь на курсы по подготовке.
— Отец! За что мне это? — всхлипывала она. — Ты почему-то воображаешь, что в будущем году справедливости будет больше... У ребят — протекции. У ребят — связи!.. А я... А я...
— То-то гляжу, — вздохнув, сказала Мария Ивановна, — она как в воду опущенная... Колобродить и то перестала, поверишь, отец!
— Не могу же я из-за папиной фанаберии, из-за папиных убеждений... — Кира захлебывалась.
— Ближе к делу, — сказал отец. — Чего надумала? Излагай.
— Папа! В Лауренсе идут дополнительные экзамены. У них недобор.
— То есть как это — недобор! Нынче нет недоборов в университетах.
— А я все же хочу попробовать!.. Может, примут на... русское отделение.
— Что ж, — подумав, ответил Зиновьев. — Спрос — не грех... Тем более что год у тебя все равно пропал... А все же поступила бы раньше, дочка, а уж потом бы стриглась на ихний лад... Уф! Глядеть не могу...
— Папа, разве это так уж существенно?
— А тебя, погляжу, заело! Ты словно переродилась... Зойка, подруга твоя, поступила, что ли?
— Все поступили. У всех блат.
— Ну уж это, дочка, сомнительно.
И вдруг в разговор вмешалась Мария Ивановна:
— Да что ж такое вы затеваете? Люди — в Москву, из Африки, а наша — москвичка! — в какой-то Лауренс... Плохо ли ей в родительском доме?! Опамятуйтесь... Сыта, обута, одета, обласкана...
— Не в том дело, мать, что сыта, — усмехнулся Зиновьев. — Она стремится к образованию. Да и не ей ли его получить? Ведь она у нас головастая... Пусть держит экзамен в Лауренсе, а потом, глядишь, и переведется, поскольку здесь у нее родители. Но ты хотела, Кира, эту, как ее... дефектологию? Есть в твоем Лауренсе — дефектология?
— Нету. Но мне бы пока хоть выдержать на педагогический. Там видно будет... Скажу, что вы многодетные... Переведут.
Готовя на кухне, Мария Ивановна время от времени обращалась к конфорке:
— Мы ли тебя не холили, мы ли тебя не жалели?
— Перестань, мама... Что ты голосишь надо мною, как над покойником!
— Росла и цвела ты, — продолжала Мария Ивановна, обращаясь к конфорке, — как королева...
— Мама, перестань меня отпевать.
И вот уже обе они сидят обнявшись на табуретке и тихо раскачиваются. Мать поглядит на Киру — и снова плакать.
Интермедия с конфоркой длилась до самого Кириного отъезда.
Весь ее багаж состоял из небольшого модного чемодана и отцовской гитары. Кешка, чувствуя себя одним из старших членов семьи (теперь среди детей он и был самый старший — ведь так?), пристроил на верхней полке ее чемодан.
— Мама, — Сашенька!.. Ты обещаешь, мама?.. Кешка, — Саша!..
— Отстань. У нас, может быть, тоже есть нервы, — ответил Кеша.
Поезд тронулся.
Кира увидела приподнявшееся к окну лицо матери. Глаза ее, повернутые в сторону удалявшегося вагона, расширились. Вскинулась рука, лицо матери дрогнуло... она улыбнулась.
— Мама, — сказала Кира, прижимая губы к стеклу окна.
А поезд все шел и шел, набирая скорость.
Потянулись крыши привокзальных строений. Гравий за полотном железной дороги. Московские камешки. И московская пыль. И гарь. И дымы...
ДОРОГА
На нижней полке вагона сидел человек лет двадцати восьми: житель Лауренса. Он был светловолос, глаза у него были серые, совершенно прозрачные, лицо суховатое, с чуть ввалившимися щеками. Житель Лауренса вез из Москвы щенка. Кличка кутенку была Апполо.
Апполосик сидел в выложенной ватой кошелке. Над ватой торчала его длинноухая голова. Его морденка хранила печать возвышенного страдания. Рядом с младенцем таксы стояла бутылка, лежала соска.
И вдруг Апполосик откинул голову и зарыдал.
Соскочив с верхней полки, Кира положила его за пазуху, схватила бутылку и принялась поить Апполосика молоком. Хозяин, спокойно сложив на коленях холеные руки, насмешливо поглядывал на красивого, коротко остриженного подростка и громко чавкающего щенка.
— Почему вы смеетесь? — спросила Кира.
— Я жду, когда у вас из ушей брызнут слезы.
— Если вы его совершенно не любите, зачем вы так рано отлучили его от матери? Ведь ему недели две, три.
— Я везу его для детей. Они хорошо полюбят. Они просили.
— А сколько их штук у вас?
— Кого?
— Ребятни?
— Десять штук... Ребенок, что это?.. Следствие любовь. Я люблю жену — и люблю детей. Десять штук. Поняли?
— А чего ж тут не понимать. У папы двенадцать, а у вас — десять.
Когда Апполосик уснул, Кира бережно уложила его в корзину.
— Сколько существ, Апполо, — тихо сказала она, — несут ответственность за свое обаяние. Каждый тебе норовит сдерзить. Как родится что-нибудь милое, — проявляет бдительность баба-яга. Какой-нибудь некрасивый щенок дремлет под боком у мамы-суки, а ты, бедняга, видишь маму только во сне.
— Я сейчас заплачу, — сказал хозяин щенка, — у барышни очень сильно воображение. Я растроган, я ищу носовой платок.
Они стояли в коридоре раскачивающегося вагона и глядели во тьму. Он сказал:
— Я слышал, что вас зовут Кири. Милы Кири, где бдительность баба-яга? И почему отец отпустил вас из дома одну?
Кира фыркнула. Они принялись смеяться и разговаривать.
— ...О-о, — захлебываясь, рассказывала она, — он, этот Ваня, знаете ли, был безнадежно, безнадежно, бедняга, в меня влюблен. Тогда у меня еще были длинные волосы... Он просто меня преследовал. И даже хотел зарезать!.. Об этом узнал мой папа и заявил в милицию. Тогда этот парень, этот злосчастный Ванька, запил, знаете ли... Он был в бессознательном состоянии, и друзья поспешили его увезти в Сухуми. Оттуда он еще долго слал письма... Отец перехватывал их, а на телеграмму: «Целую забытые тобою перчатки» — ответил: «Приветствую правый локоть вашего пиджака!»
— А вы, оказывается, очень жестки, Кири! У вас... очень сильны воображение.
— А разве можно не быть жесткой? И жить без воображения?..
— А сколько вам лет, дорогой Кири?
— Восемнадцать.
— Нехорошо говорить неправда... Пятнадцать!.. Шестнадцать!.. Не хотите ли шоколяд?
— Нет. Я бы выпила коньячку.
— Какой неудача! Я ничего не знал о ваших пристрастиях, Кири...
Она взяла шоколад.
— Видите ли, я еду на острова к своему жениху, — доверчиво рассказывала она, — ему двадцать три года, он кадровый офицер... Это ради него я отрезала волосы. Я дала обет.
— Обед?
— Да нет же! Обет, обет... Обещание по-русски... Ну — клятву, клятву. Побреюсь, мол, лишь бы ему хорошо.
— О, вы совсем как русалка у Андерсен. Помните, из любви она тоже срезала себе волосы... Очень трогательно. Видно, вы его сильно любите, Кири?
— Люблю ли?.. Не знаю. Мне жаль его!
Отто закашлялся.
— Придется похлопотать... — продолжала она. — Чтоб до него добраться, мне нужен пропуск. Он служит на острове Санамюндэ...
— Он мог бы прислать вам вызов.
— Мой приезд... Он не знает. Это — сюрприз.
— Ну что же, девочка... Ваша забота можно легко помочь. У меня как раз есть знакомства в милиции города Лауренс.
— Полно врать!
— Я слишком большой, чтоб врать. Но моя фамилия Пеки-Бук. Это тролль по-нашему. Я — почти волшебник... На экскурсии в Санамюндэ частенько бывают школьники. Там есть старинная, очень старинная крепость... Вы бы могли поехать со школьной экскурсией.
— Ни за что!
Он отвернулся и снова закашлялся.
— Не сердитесь, Кири, но у нас вообще врут только в ответ на ложь. И ценят любовь... Если это истинная любовь.
Они оживленно шептались, и пожилая соседка, задремавшая на соседней полке, сказала завистливо:
— И как это можно так не считаться с людьми!
— Чаю, чаю кому? — предложила женщина-проводник.
— Четыре стакана, — заказал Пеки-Бук.
— Шесть стаканов! — поправила басом дремлющая на нижней полке соседка.
Они пили чай. Чуть отставив мизинец, Кира весело разглядывала бутерброд с икрой.
— Не знаю, право, как быть... Я, собственно, вегетарианка...
Съев бутерброд и взобравшись на верхнюю полку, она уснула. Поезд так мерно, так монотонно стучал колесами...
И вдруг заскулил Апполосик. Кира вскочила, вынула щенка из корзины и дала ему молока.
— Передайте от меня свой жених, что из вас получится очень хороши мать. Это как раз всерьез, дорогой Кири.
— Как бы я хотела, чтобы вы это сами ему сказали! А поезд шел, шел...
весело напевала Кира.
Поезд шел, стучали колеса...
— Отто!.. Значит, меня не очень обезобразили короткие волосы?
— Не знай, возможно ли быть трогательней и прелестней?
— Как вы думаете, он любит меня?
— Разврат! — простонали на нижней полке.
— Сгинь! — шепнула Кира, взбираясь на верхнюю.
В пять часов проводница принялась будить пассажиров.
— Дайте мне, пожалуйста, адресок, Отто. Я воспользуюсь вашей любезностью... Когда у вас будет время, чтобы пойти со мной в милицию?
— Милиция? — вытаращив глаза, спросил Отто. — Что? Какая такая милиция? Я не знай никакой милиции. Я ничего вам не обещал.
— Ловко, однако... А вы говорили: в Лауренсе врут только в ответ на ложь! Я сразу про вас подумала: он — трепло...
— Я родился не в Лауренсе, а на Санамюндэ.
На этом они расстались.
Поезд замедлил бег. Из сумерек, из холодного утра выплыл навстречу Кире университетский старинный город.
Ее попутчика Отто встречали жена и двое детей. Один из ребят прижал к себе Апполосика. Ладно уж! Хоть это он не солгал, его ребята, видно, на самом деле полюбят прибывшего из Москвы щенка. Его бутылочку. Его красоту. И его кошелку.
ОТЕЦ ДЕСЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ
— Да, да, — говорил по-русски старик с бородкой другому какому-то старику в берете, — не только мы с вами, но многие отнесутся к этому как к народному бедствию.
— Я слышал, что пострадали уникальные коллекции Аведсона. Ужасно!..
— Жаль коллегу, что тут и говорить... Но главное, знаете ли, не идущий ни с чем ни в какое сравнение конференц-зал!.. Уцелеть во время войны... И вдруг... Воистину — огонь, истребивший огонь Прометея!
— Простите, пожалуйста, что я врываюсь и перебиваю вас, был пожар, и вам, разумеется, не до меня, — осторожно сказала Кира, — но мне так нужна ваша помощь старшего... — Она робко глянула в глаза старику с бородкой. — Я приезжая. Из Москвы. Мне надо добраться до Санамюндэ. Там у меня жених. Я очень... Я сильно люблю его! И вот... Мне бы, знаете, только на десять минут человека постарше! Культурного... Доброго... Переводчика... Мне нужно добывать пропуск... Я долго ходила по улицам... И вдруг услышала вас.
— Польщен доверием! — Старичок приподнял шляпу. — При любых обстоятельствах не могу отказать девушке... Да еще вдобавок своей землячке и, возможно, студентке...
— Большое спасибо. Если вы заняты — я подожду. Мы могли бы условиться...
— Что вы? Сегодня, по известным вам трагическим обстоятельствам с университетом, лекции отменены... Прошу извинить, коллега... Итак, в четыре часа в кафе «Цдэнак», не правда ли?.. Милиция — направо, мой юный друг. Как прикажете вас величать?
— Кира. Зиновьева.
— Польщен... Профессор Бецкий. Антропология. Налево! За угол. Так, так, так... Милиция, паспортный стол... Направо, направо, Зиновьева.
...В большом кабинете, опустив светловолосую голову, сидел заместитель начальника паспортного стола и сосредоточенно что-то писал. В комнате царила напряженнейшая тишина, шелестящая перышком о страницу..
Профессор высморкался. Начальник не поднял глаз. Он писал. Старик покашлял. Тишина по-прежнему нарушалась только быстрым движением самопишущего пера. Наконец молодой человек чуть приподнял голову.
Кира раскрыла рот: это был хозяин рыжего Апполосика.
— Я вас слушаю.
Кира перевела дыхание.
— Здравствуйте, Пеки-Бук... — И, отстранив ее и приподняв шляпу, профессор быстро-быстро о чем-то заговорил. Кира не поняла ни слова.
— Нет, Анатолий Иванович, — ответил по-русски заместитель начальника паспортного стола. — Весьма сожалею, но я, хоть в прошлом и ваш ученик, на этот раз вынужден вам отказать. Девушка едет к жених-офицер... Но если бы желания офицера, как утверждает девушка, совпадали с желанием гражданки, он бы ей выслал пропуск. А кстати, покажите-ка паспорт, москвичка... Гм... В первую очередь, дорогой профессор, меня занимает сейчас вопрос об ее совершеннолетии. Семнадцать? Да! Удивительно. Она не клялась вам, что ей восемнадцать?.. — И он глянул на старика заискрившимися глазами. — Не знай, как близко вы знакомы с товарищ Зиновьевой!.. Но вынужден предупредить, она человек с секретом! Женщина вамп! Милиция получил о ней исчерпывающую информация — нас поставила в известность Москва. Один бедняга — его звали Ваньюша — стрелялся из-за нее! Ага! Не знали? Так я и предполагал...
— Он не стрелялся, — сказала Кира. — Он... он просто уехал в Сочи.
— В Сухуми, — поправил заместитель начальника паспортного стола. — Мы, знаете ли, хорошо информирован... Он был от горя не в силах ходить. Его экспортировали, как это... на носилки. (Кире пришлось убедиться, что у милицейских работников неплохая память.)
Итак, в Москва, понимаете ли, дорогой профессор, стрелялись из-за нее. А этот, как его, ну жених, жених, может пренебречь служба, может броситься в море (правда, море замерзло, оно предусмотрительно)... Нет! Пусть едет обратно в Москва, к своему папаша.
— Но ведь вы не станете отрицать, Пеки-Бук, — растерявшись, сказал старик, — что девушка и на самом деле очаровательна? Я на этом настаиваю как старший и в этом, так сказать, направлении никакой иронии по отношению к даме не потерплю. Кроме того, она приехала в Лауренс... Из Москвы — в Лауренс... Грешно ей не дать повидаться с тем, ради кого она... Я лично знаю Зиновьеву! Я за нее ручаюсь.
— Очаровательна?! А прическа?
— Отто Пеки-Бук, прошу воздержаться при мне от комментариев такого рода, иначе я сочту своим долгом покинуть ваш кабинет.
— Дорогой профессор, вы могли бы ей выдать справку об очаровании на бланке университета! Но пропуск я ей не дам. Пусть едет домой. Тут не место для озорство.
— А разве бывает специальный остров для озорства? Это очаровательно! — приподняв брови, сказал профессор. — И разве пропуск на Санамюндэ такой уж большой дефицит? О-о-о!.. Я сразу понял, Отто, вы шутите. На экскурсии в Санамюндской крепости перебывали все школьники Лауренса. Все мои дети и внуки... Отправьте ее хотя бы с экскурсией... Экскурсии бывают каждое воскресенье...
Дело начинало принимать серьезнейший оборот...
— Отто, — сказала Кира, — дайте мне, пожалуйста, еще кусочек вашего шоколада.
Уши заместителя начальника паспортного стола принялись медленно розоветь.
— А вы хорошая штучка, Кири! Если я был бы вашим папа, я бы вас выпорол.
— Порите своих детей. Ведь у вас их десять.
— Кроме паспорта найдется у вас еще какой-нибудь документ, товарищ Зиновьева, Кира Ивановна, кажется, так?.. Поскольку за вас ручается сам профессор...
— Найдется. Вот. Аттестат зрелости.
— Великолепно!.. Никогда бы этого не сказал. А почему здесь четверка?! Пожалуйста, посмотрите, профессор! Нет! Не могу загрязнять четверочниками даже на один-единственный день наш доблестный Санамюндэ.
— Дети, дети, — сказал старик и вытащил носовой платок, — вы шутите... А наш университет... сгорел!
— Пропуск я выдаю на одну неделю. Если офицеру будет угодно, он сможет похлопотать о продлении пропуск...
— Спасибо, Отто!
— Однако, я вижу, вы хорошо знакомы, — улыбнувшись, сказал старик. — И не стесняясь трунили над стариком. Ах этот Пеки-Бук... Молодость, молодость! Я тоже когда-то, в этом счастливом возрасте...
— До свиданья, — сказала Кира. — Отто, вы меня можете не провожать... Вещей у меня не много.
— Тем более что мы скоро увидимся, — засмеявшись, ответил заместитель начальника паспортного стола. — Скоро я буду в командировке на Санамюндэ.
ПОСТРАДАВШАЯ ОТ ПОЖАРА
...Перед Кирой центральное крыло красивого, очень большого здания. Грустно смотрят в зимнее небо слепые глаза его темных окон.
Студенты — их общий облик хранит следы пережитого потрясения — оттаскивают от входа обгорелые балки и складывают их в аккуратный рядок. Девушки в ватных брюках и теплых платках; юноши — в теплых брюках и шапках-ушанках. Ребята, должно быть, работали здесь всю ночь. Вон — костры. Присев на корточки, молодые рабочие греют у огня озябшие руки.
...Кира зажмуривается, опять открывает глаза... Над костром как будто носятся огненные очертания женского улыбающегося лица.
Подхватив чемодан и гитару, девочка быстро идет к костру.
— Ты приезжая?
— Да.
— И ты ничего-ничего не знала?
— Ничегошеньки.
— Вот ловко, ребята! Наша пресса не дала ни единой самой маленькой информации! У нас никогда ничего не случается: в воде не тонем, а если горим, то исключительно на работе. О пожаре знают все университеты мира, со всей земли шлют в Лауренс пожертвования, а газеты не дали о нас ни строчки...
— Наверно, вызовут из Москвы моего отца.
— А кто он такой?
— Крупнейший специалист по восстановлению.
— Эй, москвичка, дочь крупного специалиста, помогла бы хоть сортировать балки.
— А в Санамюндэ кто полетит?! Вы?
По дороге к аэродрому Кира забегает на телеграф. Здесь, как назло, непривычная вращающаяся дверь. Кира долго кружится в этой двери.
— Что с вами, мадемуазель?
— Шок!.. Не обращайте внимания, пожалуйста! Это в связи с пожаром.
— О-о-о! Разрешите, я помогу. Вот телеграфный бланк... Садитесь, мадемуазель... Стул. Скорей!.. Товарищи! Она — пострадавшая от пожара.
ТЕЛЕГРАММА
«Отец восклицательный знак Я знаю вы мне не поверите, но сгорел Лауренсовский университет восклицательный знак Глубоко травмирована пожаром тчк Что делать вопросительный знак Свой адрес сообщу телеграфно
Скорблю целую недомогаю люблю
Ваша Кира».
ПОЛЕТ
Скоро прилетит самолет, прибудет с острова Санамюндэ, чтоб совершить свой очередной рейс.
Кира заходит в маленькое деревянное зданьице и пристраивается у печки-времянки.
Как здесь тепло, как славно... Голова опускается. Кира вздрагивает.
...Из теплого коридора их старой квартиры выходит мама. «Мама, ты здесь?» — удивившись, говорит Кира и бежит ей навстречу, растопырив толстые, короткие руки. Бежит и вдруг упирается руками и головой в колени матери — в ее подол.
«Кира, хочешь блинка?» — говорит мама.
«Хочу», — отвечает Кира.
«Ах, доченька, доченька дорогая, долго тебе теперь не поесть блинков».
— Посадка на Санамюндэ!.. Граждане пассажиры, просим поторопиться: посадка на Санамюндэ.
Исчезли большие дома, показались маленькие — стоящие далеко друг от друга среди полей. Их окружают изгороди. Дома словно бы нарисованы рукою ребенка. Из труб валит дым.
Шоссейная дорога, река, озера. И лес. Он хвойный, черный, густой.
А вот и земля. Она белая. Ни деревца, ни коровы, ни человека. Это — море. Балтика. Море в торосах, в неровных глыбах столкнувшихся друг с другом, вздыбившихся льдов.
...Островок. На острове — дом. Как жить человеку совсем одному? А ведь живет, живет!
...Остров, еще, еще... Да не остров это вовсе, а полуостров!
Море усеяно островами и полуостровами. Меж льдом и небом — зима. Она синяя, прокаленная светом. Небо, вода, а на самом ветру большущее солнце.
Вот остров круглый. Вот темная точка: с крыльями. Ура! Ветряная мельница!
Начинает больно ломить в ушах. Самолетик, вздрагивая, бежит по земле и вдруг останавливается.
Кира на острове Санамюндэ.
ЖАННА
— Как вы, однако, легко одеты! Пятьдесят лет у нас не был такой суровы зима, а девочка без шерстяные чулочки, без варежки...
Присев на корточки, горничная единственной в Санамюндэ гостиницы подбрасывает дрова в жерло старой печи. Поленья потрескивают, высоко взвивается красно-желтое пламя... А вдруг это вовсе не пламя, а приоткрывшаяся душа широкой, жаркой, старой печи?
А ведь у них, в Москве, тоже была когда-то настоящая печка, а не мертвые трубы центрального отопления!
Мертвые? Врешь. Живые. Разве ты не помнишь их говорок? У труб — своя тонюсенькая, чуть слышная песня, она поет, как зеленый кузнечик: «Тир-тири-вир». Когда озябшая ты возвращалась из школы, помнишь? — ты сразу бежала к окну, садилась на корточки, грела о теплые трубы ладони и нос. Папа еще говорил, что в пыли, меж труб «парового», живет домовой.
Хорошо... Но разве скромная жизнь того, невидимого тепла может сравниться с гудением живого пламени?
Санамюндская печка облицована глянцевыми изразцами; она оканчивается витой, очень сложной короной с острыми зубьями. Не печь, а царица печей! Недаром так громко бушует ее сказочная душа. От ударов погнувшейся кочерги летят во все стороны точечные, багряные искры. Становится розовым лицо пожилой женщины, наклонившееся к огню. Это лицо северянки — худое и светлокожее.
— Меня зовут Жанна.
— А меня — Кира... Почему вы смеетесь, Жанна?
— Так, дитя мое... Просто так.
«Юность, — думает Жанна, — вот ее чемодан: поклажа — доверие, надежды и счастливая самоуверенность».
— Как вы молоды, Кири... Зачем вы остригли волосы?
— До чего у вас хорошие печки, Жанна.
— Старинны. Этот печка, наверно, сто лет. На остров жили когда-то хорошие мастера.
Лицо пожилой женщины густо иссечено тонкой сетью морщин. На ее подбородке — вмятина, похожая на след от удара или ранения.
Горничная — вернее администратор гостиницы (здесь она все — и горничная, и хозяйка, и администратор) — не отрываясь смотрит на Киру. Кира — на горничную.
— Отодвиньтесь от печки, вы обожжетесь, мадемуазель Кири.
— Зачем вы так странно меня называете, Жанна? Я даже представить себе не могла, что где-то еще бывают «мадемуазель». Я — Кира, Кира... Мой папа — маляр. Маляр. Понимаете?
— О да. Мальяр. Это хорошо. Это очень красиво: Кири папа мальяр... Стены, окна и потолок, да?
— Да, да! Вот именно!
Жанна выходит из комнаты. Она возвращается с голубыми расшитыми варежками.
— Плохо без варежки. Вот. Это вам от меня: подарок.
— Да что вы? Нет, нет!..
— Без всякие разговор. Подарок, подарок... Первий подарок от Санамюндэ. У вас гитара!.. Спойте, Кири. Пожалуйста!..
Кира задумывается, настраивает гитару...
«Что со мной, — думает Жанна. — Юность?.. Я, должно быть, забыла, что значит «юность»...
Неужели я, шестидесятипятилетняя Жанна, та же самая — я, которая в пятнадцать лет пошла на спевку со своей престарелой теткой Аделаидой? Помнится, в зале, на спевке, тетка Аделаида увидела своего бывшего мужа с той женщиной, ради которой он ушел и бросил ее. Она вскинула руку, замахнулась и крикнула. И ударила. А я от неожиданности громко захохотала.
И эта Я вела ее по темным улицам домой. Она шла опустив голову и говорила мне, пятнадцатилетней: «Тебе хорошо! Конечно... Тебе хорошо!»
И мне на самом деле было хорошо. Я думала: я-то все могу. Все! Все!
И я могла все.
Неужто это Я — была я!
Словно две жизни, прожитые одним и тем же человеком!..»
«...В то время тело мое еще не было «бренным». Оно источало силу. Властное, молодое животное!
Где надобно мне было родиться, чтобы навечно остаться той девочкой, той жестокой невинностью?!»
«...А что это значит: юность? А что значит: радость? Не помню, забыла.
А что это значит: смерть? Смерть — это значит не худшее из того, что предстоит человеку.
А что такое жизнь?
А так — ничего особенного. Жизнь — это значит любовь!»
— Жанна, — выходя в коридор, раздумчиво и тихо сказала Кира, — я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Здесь, на острове, мой жених. Он — солдат... Но ведь не могу же я все время в гостинице... Это очень дорого, верно?
— Верно. Разве можно гостиница для молодой девочка? Нехорошо. Надо дом. Надо устроиться на работа.
— Жанна, у меня пропуск всего на одну неделю.
— Будет пропуск. А жить — у меня... Мой внук — он тоже солдат. А вдруг он тоже имеет большой красивый любовь? «Дружба, дружба» — ведь так теперь говорят девочки? Слово «любовь» не модно... и не модно длинные волосы. Правильно я говорю, милый Кири — дочка мсье мальяр?..
КИРА И ЛАЙНА
— Вот эта... комната. Ваша. Для вас... Хорошо?
— Еще бы! Ох, Жанна!..
Странный остров... Старинный очаг и здесь занимает чуть не полкомнаты. Он такой же, как и в гостинице. Широкий, низкий, голубоватый. Но у этой печки небольшой выступ: не то печка, не то камин. На ее изразцах тончайшие трещины... Трещины времени. И красивые, выгоревшие от времени и огня рисунки: корабль с розоватыми парусами, мельница, дом...
— О да, я знай, это очень красивый печка, — улыбаясь говорит Жанна. — Посмотрите, Кири, вот Лайна. Вы не слыхали про нашу Лайну!.. Кири, вам одна или две подушка?
...На большом изразце как бы прочитывается голова женщины — молодое улыбающееся лицо, размытое временем. Глаза ее полузакрыты. На мягко очерченном подбородке — глубокая вмятина: тончайшие волосы, как бы сплошь состоящие из царапин, венчает крошечная корона.
— Кири, вы ужинали?
— Как у вас хорошо, Жанна!
— Ну нет, это очень старинный дом. А печки на самом деле красивы, их сделал, должно быть, такой же бравый майстер, как ваш отец. В новых квартирах белый печка и заводской кафель, а это ручной работа... В те времена, когда майстер-художник жил на земля, на свете было меньше людей... Мой внук тоже нравится этот красивый печка. Он говорит: когда нам новый квартира дадут, мы, бабушка, этот старый печка возьмем с собой, разве можно рушить работу такого майстер!..
Кирин сонный корабль плывет сквозь мглу ночи, развеваются его паруса. На подушке — голова Киры с тщательно промытыми волосами. Голова у Киры в бумажных рожках. Они называются «бигуди». Накрутить бигуди помогла ей Жанна.
— Ай, ай, ай, как ты изменилась, Кира!
— Все это вышло из-за волос. Дурацкая стрижка, верно?
— Ха-ха-ха! Ты разве Самсон? Разве сила твоя в волосах?
— Чего ты мелешь? Какой Самсон?
— Я — фея, — ответила Лайна. — Фея, а не кофейная мельница. Я не мелю. Я — звеню... Итак, ты в нем искала силу сопротивления. И ты нашла ее... Твой любимый — маньяк.
— Как ты смеешь так о нем?! Какое еще такое сопротивление?.. И маньяк — это Гитлер.
— А, Кира, со всеми вами так трудно сделалось говорить! Вы не бойтесь фей! Хорошо. Я назову его «устремленный». Стрела! Посмотри — вот она прорезает воздух... Когда я ходила по этой земле, еще жили-были на свете стрелы и лошади.
— Лайна, существительного «устремленный» — нету! Не существует.
— До чего ты мне надоела, девочка. Я — фея. Грамматика — не отчизна фей.
Стало тихо.
— Лайна, мне страшно. Не засыпай.
— Кира, с той самой поры, как я обернулась камнем, я никогда не сплю.
— Лайна, скажи, «устремленные» — это люди высокой жертвенной совести?
— Может быть, может быть... Но ведь страсти — они бессовестны. Удивительный век — век, когда совершенно забыли о феях! И мало думают о любви. Всех вас занимают вопросы совести. Кира, когда на земле еще жили феи, люди пели песни о доблести и любви. А теперь вы поете о труде и войне. Но самые ваши любимые песни и сказки — о совести.
— А ведь я — красивая, Лайна? Верно?
— Девочка, разве любят самых красивых? Красота — великая сила, не спорю, ведь она дает человеку уверенность, поэтому красивый, случается, бывает и сильным...
— Лайна! Может, это плохо — любить? А?.. Валяй говори правду!
— Валяют валенки, девочка. Я — фея, я не могу «валять». Я звеню. Любить — не плохо, любить хорошо. Но любящий не бывает силен. Он — уязвим. А в жизни действует право сильного, а не право правого.
...Звякнула дверца печи. На пол упали поленья. Присев на корточки, Жанна принялась разводить огонь.
— Лайна, ты здесь?
— Помолчи! Разве не понимаешь — меня затопили... Дай огню разгореться...
(И в сумерках занимающегося дня блеснула крошечная серебряная корона.)
— Лайна, ты уже разгорелась?
— Да.
— Знаешь ли, я была еще совсем маленькой. И вот наш папа вдруг захотел уйти, оставить маму и нас. Он ушел. Мама сидела на табуретке и держала на руках Кешку. Она не плакала. Плакал папа. Я сказала: «Папа!» Он не ответил и начал спускаться с лестницы. Я — за ним. Я кричала: «Папа!» Он остановился и поднял меня. Я была очень маленького росточка, мне было четыре года. Я обняла папу, я уперлась в его щеку открытым, плачущим ртом.
Он сказал: «Осторожно, дочка, ты же меня задушишь». И повернул назад со своим чемоданом. Я помогала ему нести чемодан, а он мне сказал: «Не путайся под ногами».
Потом, когда я сделалась старше, папа рассказывал, что любил балерину, которая скакала в цирке на лошади. Она была очень красивой, говорил папа.
— Кири, вставайте! Раш-раш. Уже восемь утра.
— Доброе утро, Жанна. Какая странная у вас печка! Всю ночь ужасно громко гудела тяга и звякала дверка.
— Да что вы, Кири, я только что растопила ее. Кто ж топит на ночь? Спать будет плохо. Жарко... Со вчерашний вечер до самый утра я не подходила к печи...
О СОВЕСТИ
«Дорогой папа!
Ты получишь мою телеграмму из Лауренса и постановишь, что я завралась. Однако, как это ни удивительно и ни странно, в Лауренсе на самом деле сгорел университет. (Вас небось пригласят на восстановление.) Другое дело, что я и не собиралась держать экзамены и соврала тебе на корню — тогда еще, когда ехала в Лауренс. (Мне нужно было попасть в Санамюндэ. Ловко?)
Сева Костырик отчислен из института по милости твоей дочери, ему не дали возможности защитить диплом. Его отчислили, а потом призвали и отправили на острова. Что хочешь, то про меня и думай! Но видишь ли, отец, я не только перед Севой без вины виновата, а еще и люблю его. Ничего не поделаешь! Вот. В таком духе, в таком разрезе. Люблю.
Речь, однако, не обо мне. А о нем. Свяжись с Костыриками. Не ради себя и не ради меня, а ради истины. Д о б е й с я восстановления Севы. Ты у меня толковый, я знаю, ты все сделаешь правильно. (А я бестолковая — не в тебя.) Была толковой, и вдруг — любовь. Меня сорвало со всех катушек. Я еще дома хотела тебе рассказать, но ты был в Киеве и возвратился, когда Севку уже отправили на Санамюндэ... И разве ты бы мне дал согласие, чтобы я помчалась за ним? А я должна была его разыскать. Ведь ты не забыл, надеюсь, какой это кошмар — любовь? Папа! Сегодня ночью мне приснилась странная вещь: будто мне года четыре и будто я бегу за тобой по лестнице, чтобы оторвать тебя от твоей любви. И только сегодня утром я поняла, ты пожертвовал для нас. И кланяюсь тебе в ноги. Ты, по моим понятиям, очень-очень порядочный человек. Я всегда это думала. Но на всякий случай пишу, чтоб ты никогда не сомневался в моем отношении.
Ты никогда нас не попрекал своим военным прошлым, не требовал ни уважения, ни почтения. И за это я даю себе труд понять, что жизнь у тебя была не особенно легкая, как и у всего твоего поколения, отец. Но ты нам не говорил: «Экая пошлая молодежь!» А максимум: «Мы в ваши годы были поаккуратней!»
Ваша жизнь и на самом деле была и жертвенной, и целеустремленной. Вы жили для будущего и отдали очень много: молодость, силы, сердце. Мы знаем — вы отдали лучшие дни своей молодости — не танцевали и не носили галстуков. (Я читала Пантелеймона Романова «Без черемухи».) В общем, вы себя отдавали идее, стране. А на нас сердитесь. Вот чудаки! Рождать нас мы, между прочим, вас не просили. Но ты-то как раз никогда ничего от меня за это не требовал. И поскольку такое дело — т о я д е й с т в и т е л ь н о тебя уважаю. Не сердись, отец. Все с твоей дочерью будет так, как ей нужно. И хорошо. Т о л ь к о т а к. Ясно? Дай мне жить своим умом, своим сердцем. Идет? И помни — с о в е с т ь е с т ь д а ж е и у м е н я. Ну ладно, пусть не совесть, а совестишка, — а все же есть. Я выросла и многое пересмотрела. (Помнишь, когда я была еще в шестом классе, я говорила, что выйду замуж только за вора, потому что воры отчаянные, а я уважаю отчаянных.) Севка не вор, а я здесь. По причинам совести. (Вру! По причинам любви.)
Папа, пойди к Костырикам. Поговори с его отцом. Пойди к самым главным военным начальникам. Прошу тебя. Я люблю тебя.
1) Здесь я устраиваюсь на работу и твой хлеб есть не стану.
2) Не огорчайся: учиться я буду. Но не ради того, чтобы отовариться высшим образованием. Просто хочу, и все.
В общем — не унывай, все в порядке. В Санамюндэ, по-моему, мирово! У моря я, правда, еще не была, но сейчас закончу письмо и подамся в ту сторону, посмотреть маяк. Здесь хорошо. Местные ребята, куда бы ни уезжали, всегда возвращаются на Санамюндэ.
Пишу и вижу, как ты приходишь домой поздно вечером, как ты хлебаешь суп, — лицо у тебя как будто припудренное. (Это от известки — да, папа?) Папа, — С а ш а! Вот и все. Ты мне лично ответишь за Сашу.
Никому не показывай это письмо.
Целую и остаюсь
Кира.
П и ш и д о в о с т р е б о в а н и я».
— Примите, пожалуйста, заказное письмо.
— Одна минуту... Вот. Вам — посылочка. Распишитесь.
Кире протягивают обшитый шелком спичечный коробок.
На подушке из ваты дремлет серебряное кольцо с голубым камнем. Тут же крошечная записка:
«Родная моя, любимая девочка! Посылаю тебе колечко. Бирюза — это камень завоевателей. В старые времена воины пришивали бирюзу к своим седлам. Будь сильной, будь мужественной.
Твой любящий друг Валентина Ржевская».
ОСЕЧКА
Вспыхивали окна домов, мимо которых ехал автобус. Их свет осторожно вплывал в темноту вечера. В каждом доме зажигалось только одно окно. Хозяева экономили деньги и электроэнергию.
Кира уже успела узнать, что здесь на окнах бывают шторки, присланные из Швеции, ей уже рассказали, что в каждом особняке есть погреб, а в погребе — пиво (санамюндское, очень пьяное). Она уже знала, что по ночам никто на окраинах острова не запирает своих домов...
Автобус едет по широкой шоссейной дороге.
Дремлет лес. Спят зайцы.
Интересно, а может ли кто-нибудь оскорбить зайца? А медведя? А белку? Их можно убить. Поранить. Не дать им есть... Ну а если их оскорбить?
Деревья, стоящие на опушке, по обе стороны асфальтированного шоссе, мерцают бело и коротко. Загорятся — и снова ночь, ночь... До следующего автобуса.
Пахнет морем.
Море!.. Кира помнит: в Артеке — рыжий песок, упругий и зубчатый, принявший форму волн... «Ночью я просыпалась и думала: «К морю!..» И вот — я в море! Плыву, как лягушка, размеренными движениями, чтобы не задохнуться от счастья. Синее море, пустынное море, широкое море...»
— Конечная остановка! — объявила кондукторша.
Автобус вздрагивает и останавливается.
Перед Кирой пирс — место прибытия морских судов. Мостки, покрытые соляной пылью...
А море? Неужто эти вздыбившиеся бугры и есть волны?
Меж оледеневших вод сверкают узкие полосы — а над ними стеклянные перекаты. Вмерзнув в лед, стоят у причала баржи. Они тихо раскачиваются... Над Кириной головой гуляет студеная свежесть морского ветра. Ветер дует в затылок, вытягивает кончики старого шарфа и тащит его вперед, вперед — туда, к берегам Швеции...
На пирсе стоит сутулый подросток в темном пальто и отцовской шапке, надвинутой до бровей. Не девчонка, а запятая на белой странице снега.
Маяк... Он уставился на нее огромным зеленым глазом!.. Над маяком, над Кирой, над студеным дыханием моря — властным, скрытым, печальным, глухим и страшным — большое небо, уже начавшее темнеть. В небе гуляют ветры. Угу-гу! — поет зюйд-вест у нее на зубах. Угу-гу! — улюлюкает норд, вздымая поземку. Угу-гу, — отвечает Кира, придерживая руками в Жанниных варежках отцовскую шапку.
— Гражданка, что вы тут делаете? Пройдемте. Без разговорчиков. Предъявите-ка документ!
— Чего орешь? Я, кажется, не глухая.
— Прекратим разговорчики. И попрошу не тыкать: я на посту.
Здравствуй, море! По твоим поэтическим берегам ведут прибывшую из Москвы Киру. На плече у солдата винтовка.
...Оконные стекла той будки, куда приводят московскую девушку, золотятся испариной. Сияет навстречу Кире яркая пасть времянки.
— Вот, — говорит Кира, — пожалуйста... Паспорт, пропуск, школьный диплом.
— Вы что ж, приезжая? Из Москвы? — нахмурившись, спрашивает конвоир.
— Нет. Француженка. Из Парижа! Отдай, же ву при, мой пропуск, я рассеянная, еще, чего доброго, потеряю... Привет, ребята! Дайте-ка закурить.
— Скажи, ты, делом, не чокнутая?
— Товарищ старшина! Пусть он извинится... Он меня обозвал чокнутой.
— Ну и что?
— А то, что он на посту! Он обязан соблюдать вежливость.
— Иванов, извинись. Скорей. И пусть она сматывается.
В караульную будку заглядывает офицер.
— В чем дело?.. Вы что?! Караульное помещение превратили в теплушку?
— Я проверял документы гражданки, — вытянувшись, рапортует солдат. — Она стояла на пирсе... Докладываю: документы в порядке. Сержант Сердюк.
— Ребята, — говорит Кира, — я приехала к солдату Костырику... Может, вы его знаете? Севка... Севка Костырик.
— Да нет... Не знаем...
— Мальчики! Как мне его найти?
— Обратитесь к начальству, гражданским можно и без доклада.
— Ни за что! Не пойду. Не буду я унижаться. Мы говорим на разных языках.
— Чудачка, да какое же тут унижение?.. А кем вы ему приходитесь? Сестрой, что ли?
— Эх вы, горе, а не детективы. Вы же только что смотрели мой паспорт... Я — Зиновьева, не Костырик, — значит, я не сестра... Я его сударушка.
— Ой лопну, ой здорова врать! Ты ж малолетняя.
— Ребята, тише... Сейчас явится офицер, и он будет прав.
— ...Ну знаете ли... Вы просто безграмотные, в моем паспорте ясно сказано — ровно семнадцать лет.
— Спектакль, ну прямо спектакль!.. Ты, делом, не киноартистка?
— С первого курса ВГИКа.
Ребята ошеломлены.
— Вот что я вам посоветую, — раздумчиво говорит сержант. — По воскресеньям мы ходим в кино. Видели клуб в центре города?.. Так вот: приходите-ка в воскресенье на первый сеанс — просидите все шесть!.. Так, пожалуй, будет самое верное дело.
— Спасибо! Большое спасибо!.. До воскресенья, мальчики.
Задумчиво шагает Кира к автобусу.
«...Это уже было со мной когда-то: и вечер, и этот снег, и орущие рыбаки...»
Одна — в огромном заиндевевшем царстве... Одна, одна!..
Все тесней и тесней обступает Киру остров с домами, в которых не закрывают на ночь дверей; с черепичными крышами, с трубами, из которых валит дымок...
Время пройдет, и, быть может, память об этих крышах, серых дымках и ветряных мельницах ей покажется счастьем?..
А вдруг это и было счастье?
...Взмахнула издалека, навстречу Кире, застывшими большими руками старая мельница, полоснула небо отчаянно и угрюмо.
За окнами автобуса густо и нежно засинел воздух... Из лесу тихо выходит ночь. По правую руку — дома, у забора — чьи-то салазки... Интересно, а где живет их местный тролль — Пек?
СНОВА ЛАЙНА
Сквозь морозные узоры на окнах просвечивает фонарь. Вспыхивают искры, прочитываются слюдяные горы... Свет в этом царстве смахивает на северное сиянье.
Погас фонарь. Мир льдов, мир холода стал еще шире, еще печальнее. Комнату пронизало резким серебряным светом: это взошла луна. Блеснула в упругом ее луче серебряная корона.
Кире слышится голосок: «Только влюбленный имеет право на звание человека».
— Лайна, почему на вашем острове живут феи?
— Наш остров умеет любить свое прошлое. Фея — это как лепные ростры на кораблях, вот почему у нас сохранились феи. Мы любим историю, ну а феи — не так ли? — это история...
— Как ты безграмотна, Лайна! Феи вовсе не принадлежность истории, они принадлежность сказок.
— ...Глупая! Сколько раз мне надо тебе повторять, что самолет — не больше как скромный ковер-самолет; что воздушный корабль «Восход-3» — создание волшебников... Между прочим, один из них был сильно в меня влюблен. Я была юной, юной... позорно юной. Ай-ай-ай, как я была молода... Как позорно я была молода!.. Скоро в Москве будет выставка с фотографиями Луны. Океан на Луне тот колдун наречет «Океаном Лайны». А если это название не утвердят в инстанциях, он назовет его «Океаном моей любимой»... Знаешь, Кира, что на землю острова Санамюндэ упал когда-то метеорит?!
— Треплешься, Лайна!
— Нет. Я — фея и не могу трепаться: треплются полотнища, волосы, паруса... Знаешь ли ты, что на острове Санамюндэ замечательные мореплаватели?.. Моряки, настоящий моряк — это мужество и воображение. Много раз мой отец совершал путешествия вокруг света на парусном бриге...
— Отец?! У тебя?
— А как же? Ничто в Галактике не умирает. На острове Санамюндэ — древнее море и древние камни. Это наши леса, наши мельницы!.. Мы воевали в Отечественную войну... Мы победили в Отечественной войне.
— Лайна, я гуляла вчера по вашему центральному парку, увидела памятник и осторожно смахнула снег той варежкой, что мне подарила Жанна.
«...Герой Советского Союза...
Владимир Сергеевич Васильев».
— Да, да... Он был русским, этот солдат. И защищал наш остров. Он был так молод! Ему еще не минуло девятнадцати лет. На его могилу приезжала старуха мать. Из города Суздаля. Народ!.. Это много-много людей... Цепь людей — она длинная, как века. Девочка!.. Человеку дана одна-единственная сильная страсть. Не две. Солнце — печка нашей Галактики. Страсть у человека бывает одна-единственная, добрая, старая печка: Солнце. Когда солнце ложится спать, луна зажигает серебряную свечу в голубом подсвечнике. Свечение ее — красиво, но от лунного света не родятся другие жизни... Кира! Знаешь ли ты, что подлинная любовь не ведает самолюбия?!.
О ЧАСАХ И ЖУРНАЛЕ «ЗДОРОВЬЕ»
Снежные улицы рассекают широкие мостовые. На мостовых — ребята с салазками; пожилая женщина толкает какой-то стул. Под стулом — полозья. На сиденье стула картофель и мясо.
По обеим сторонам улицы — магазины и магазинчики: зеленная — на витрине картофель, брюква, морковь. Они выглядят так, как будто бы их умыли.
Вот маленькое, угловое зданьице, парадная дверь без крылечка, над дверью вывеска:
ЧАСОВЩИК
Кира толкает двери. В ответ раздается стеклянная музыка.
У притолоки — пожилой человек, инвалид Отечественной войны: безногий.
— Это вы часовщик?
— Да.
Лицо у него солидное, интеллигентное. На носу — пенсне, а его мастерская увешана удивительными часами. Откуда они пришли и как сохранились?!.
Вот часы — швейцарские. Бьет четверть... Выскакивает девушка в острой тирольской шапке; вслед за ней — юноша (тоже в тирольской шапке). Обнялись и поцеловались.
...Тик-так.
Принимается куковать кукушка: раз, два, три... Пять раз.
Вдоль стен висят десятки ручных часов: золотые, серебряные, большие и маленькие. Вот луковичные часы, величиной с ноготь. Неужели и это часы?!
— Что хочет барышня? — спрашивает часовщик.
— Починить часы, — говорит Кира. — Это мне отец подарил, когда я окончила школу... Но я их где-то ударила, и они остановились.
— Не беда, — улыбаясь говорит часовщик и берет часы из рук Киры.
В мастерской висит большущее зеркало. Кира невольно глядится в зеркало и видит девочку лет пятнадцати. Она элегантно подстрижена. (Эта девочка — бедная-бедная Кира, которой еще недавно было шестнадцать, семнадцать лет.)
Кира зажмуривается... Потом медленно открывает глаза...
Утешая ее, часы поют свою песню о вечности: «Подумаешь! Четырнадцать — восемнадцать! Тик-так... А волосы что ж — они не только отрастут, они со временем поседеют... Время, время!.. Когда-то мы — Часы — были самыми сложными из всех земных механизмов, и мы изволили вообразить, что значительны — как Вселенная. А теперь нам на смену пришли другие машины. Кибернетика! Каково? Руки умных машин повторяют движения рук человека... Все относительно, Кира, все относительно, относительно (одним словом, смотри теорию относительности Эйнштейна). Ты — вырастешь, ты постареешь, ты поседеешь... Но не умрешь. Ты превратишься в русалку, в рыбу, в птицу, в цветок. Тик-так, вот так, вот так... Твои волосы отрастут. А бессмертный твой атом будет странствовать во Вселенной. Вот так, вот так!..»
— Спасибо. Сколько я вам должна?
— Тридцать две копейки... Барышня прекрасна, как Лайна! — улыбнувшись, говорит часовщик.
— Безволосая Лайна, — печально и насмешливо отвечает Кира.
— Лайна может отрастить волосы... Это не ампутация ног. Но Лайна обязана соответствовать времени. У всякого времени свои понятия о красоте.
— Разумеется... И о добре. И о зле. И о тех словах, которые можно и которые нельзя говорить.
— Юный друг, вы, должно быть, не знаете, что Андерсена в свое время корили сентиментальностью! Люди путают подлинность чувств, говорящую о размахе души, с неуважительным и немодным понятием — сентиментальность. Но время показало великую стойкость сентиментальности. Это говорю вам я — часовщик, представитель суток, минут, секунд, представитель времени... Без чувства и воображения не сварить похлебки, не испечь хлеба...
— Зачем вы заговорили со мной о похлебке? Я вспомнила, что мне хочется есть! До свидания. Спасибо за поддержку по поводу этой дурацкой стрижки. Сейчас я закажу мясную солянку! А? Как по-вашему?.. Все! Я твердо решила: забудусь в мясной солянке.
У Киры всего лишь десять рублей... Может, не жрать? Жрать — распущенность, — она читала это в журнале «Здоровье».
...Круглые, небольшие столы, покрытые крахмальными скатертями.
— Я вас слушаю, — говорит подавальщица.
— Три порции взбитых сливок.
— Три штук?!
Кира кивает.
Подавальщица приносит три порции взбитых сливок. На Кирин стол оглядываются соседи. Но разве она замечает их?! Забыв о терзавшей ее любви, Кира медленно погружает чайную ложку в облако взбитых сливок.
Оставьте Киру!.. Она — в раю.
В ресторан заходит компания молодежи: четверо юношей и одна девчонка.
«До чего красивая», — восхищается Кира. Светловолосая, с нежным лицом, в котором нет ни одной определенной черты, девочка до того хороша, что Кира не может оторвать от нее осоловелого сытого взгляда.
— Вы кто, ребята?
— Местное радио.
— Я — москвичка, мне надо срочно устроиться на работу. Здесь у меня жених... Что вы мне присоветуете?
— Поезжай на рыбный, консервный, — говорит девушка, — у них заболела заведующая лабораторией, они просили кого-нибудь со средним образованием и чтобы говорил по-русски. Если будет ходатайствовать твой жених... Он солдат? Да?
— Солдат.
— Раньше это было сложнее. Теперь у нас многих берут на работу.
Мальчики записывают Кире адрес завода на пустой коробке от папирос.
— Как тебя зовут?
— Кира. А тебя?
— Пауль. Что ты делаешь завтра вечером, Кира?
— Мышей ловлю.
— Дай-ка мне адресок. Я заброшу тебе мышеловку.
— Не надо. Весь остров для меня мышеловка. Ведь здесь у меня — жених.
ЗАВОД
Огромно тело завода. Ревут его трубы. В серое небо валит желтый тяжелый дым.
Бегут машины, выстукивая свой бег. Бегут. Льется белая смазка.
Сколько раз она слышала о заводах, сколько раз пропускала в книгах страницы о производстве.
Однажды их водили всем классом в большую инструментальную мастерскую. Все вокруг стучало... Под их ногами валялась синяя, еще теплая, еще не начавшая остывать стружка.
...На острове Санамюндэ сквозь заводские окна видны снега. Снег, снег... Завод стоит на самом берегу моря. Раскачиваются вмерзшие в лед баржи.
Сперва день был тусклый, пасмурный... Потом появилось солнце. Появившись, оно шибануло в снег — и все вокруг заблестело, заискрилось...
Стучит завод. Машины выстукивают свой бег.
И вдруг — тишина. Перед девочкой — два огромных цеха, выложенные светло-голубой плиткой. Вдоль стен — столы. У столов — женщины. Пахнет рыбьим жиром и потрохами: разделочные цеха.
Столы, у которых стоят работницы, залиты кровью. Кровь, кровь... Все вокруг в крови — столы, руки женщин, их фартуки. В огромных бочках отсвечивают розовым и сиреневым, желтым и голубоватым рыбьи внутренности — рыбьи сердца и желудки.
Женщины относятся к этому спокойно, по-деловому. Как настоящие производственники. Но Кира... Кира — не производственник.
Не смотреть в ту сторону! Только в окно, в окно.
Рыбины! Большие и маленькие. Они извиваются, беспомощно открывают рты... И никто решительно, кроме девочки, этого не замечает. Люди спокойно работают.
Груды, пригоршни серебра — это рыбьи перышки, их чешуйки... Они на столах, на руках, на клеенчатых фартуках у работниц.
Киру слегка тошнит... Ее тошнит потому, что рыбы рвутся из человечьих рук. Зачем они бьют хвостами?.. Зачем у причала, — если глянуть в окно, — так медленно, так глухо и однообразно раскачиваются баржи?
В голове — стукоток, в ногах — слабость. Пол, покрытый серым блестящим линолеумом, кажется скользким. Вперед! Скорей.
Когда Кира подходит к кабинету заведующего производством, она замечает, что лоб и волосы у нее отчего-то сделались влажными.
Передохнуть. Успокоиться. Улыбаться с видом бывалого человека. Дочь рабочего — она только и делала, что работала на заводах!
Стены в крошечном кабинете выложены голубым кафелем. У небольшого стола сидит нестарый человек в поварской шапке и белом халате. Щеки розовые, ресницы и брови — светлые, золотые, пухлый, ярко-розовый рот (образец здоровья! Дует небось рыбий жир).
— Вы ко мне? — по-русски говорит мастер.
Кира опускается на выкрашенную эмалью блестящую табуретку, переводит дыхание, стягивает с головы шапку.
— Сейчас... — говорит она. — Я — москвичка, мне сказали — вы ищете человека со средним образованием... И чтобы говорил по-русски. Вот я и пришла. Меня прислали ребята. Из радио. Я приехала к жениху-солдату.
— Документ при тебе?
— При мне.
— Через четыре дня у тебя кончается пропуск, — нахмурившись, говорит мастер. — Но это бы не беда, оформишься — станешь местной гражданкой... А есть где жить? Мы общежития не даем... Однако... понимаешь, какое дело... Было у нас местечко в лаборатории, но позавчера мы нашли одного парнишку. Демобилизованного. Что мне делать с тобой? Вот разве в работницы?.. Не знаю, что тебе присоветовать. Пока не будет разряда, придется взять тебя ученицей...
— Именно это я и имела в виду, — не дрогнув бровью, говорит Кира.
— Он у тебя по какому году?.. Ага... Но месяца два или три, Зиновьева, тебе, понимаешь ли, не заработать даже тридцати рублей...
— Что ж делать, как-нибудь проживу.
— Подналяг. За нами дело не станет, как только поднатореешь — дадим разряд.
Улыбаясь и сияя глазами, Кира уходит с завода.
И только на улице, оглянувшись — нет ли кого поблизости, она потуже завязывает тесемки от шапки-ушанки.
«Ничего. Рыбий жир — полезен. Он очень, очень полезен... Рыбий жир — это хорошо! В нем — витамин «А». В нем, в нем... целый ряд других витаминов...»
К остановке подкатывает автобус.
Пять утра. Валяй просыпайся!
...Явилась. Звездою севера. Стянула пальто, закатала рукава фланелевой кофточки. Надела рабочий халат. ЕЙ выдали под расписку огромный и острый нож.
«И вовсе я не чувствую запаха рыбы. И меня не тошнит. И никакая я вовсе не ученица консервзавода. Я кухарка. Мы едем в Африку. Я готовлю обед для команды».
Потеснившись, Кире освободили место у разделочного стола. Женщины переговариваются друг с дружкой. Кира не понимает ни слова. Справа и слева чьи-то руки потрошат рыбу. Рыбы бьют хвостами, таращат глаза.
Не думать, не отвлекаться. Живей! Веселей!
Почему никто ей не помогает? У них есть бригадир, он обязан ей показать хоть раз, хоть один разок... А как он покажет, если с Кирой не объяснишься?!
Кира внимательно смотрит на руки старых работниц. Так, так. Поняла.
Хлещет кровь (рыбья кровь). Рыба бьется. Она — живая.
Итак — начнем!
Ветер раздул паруса на бриге. Бриг отчалил от берега. Плачут женщины. Они машут платками.
Порт. И еще один. И снова порт...
Я вышла на палубу. На мне — белый фартук кока (кухарки).
«Привет, красотка! (Так мне говорят моряки с берега.) Ты откуда взялась, красотка?»
Вперед, мой бриг! На его носу лепная фигура: женщина с волосами, похожими на тонкие трещины. Ее голову венчает крошечная корона.
Я гуляю по Африке. В Африке на каждом шагу продают бананы. Как славно пахнут бананы!
Хочется пить. Пожалуйста. Вот. Таверна.
«Дайте мне эля!»
...Кровь, кровь, кровь. Рыбы бьют хвостами, они выскальзывают из рук. У Киры кружится голова. Вот что значит подлинные работницы... Они смеются и разговаривают друг с другом!..
Гудок. Все вокруг останавливается, наступает глухая, полная тишина. Что же это такое?
А ничего особенного: обеденный перерыв.
Работницы тщательно моют руки. В кармане у каждой — мыльница. В мыльнице — душистое мыло.
«Как же быть? У меня ни мыла, ни полотенца?.. Вот обмылочек, ничего, я этим обмылочком, этим обмылочком!..»
— На! — говорит, улыбаясь, какая-то женщина и протягивает ей мыло.
Женщины идут на второй этаж. Кира — за ними. Женщины становятся в очередь. Кира — за ними. Женщины платят каждая по двадцать копеек. Кира — не отстает. Женщины садятся к столам.
На каждом столе — цветы. Кира любит герань. Она садится к столу с геранью.
Женщины едят превосходный борщ со сметаной. Кира — не отстает. Женщины едят котлеты и картофельное пюре. Кира — не отстает. Кисель... Превосходно! Здесь не пропадешь с голоду.
Звонок. Работницы устремляются вниз. Кира — не отстает.
Привет, Бразилия! Я в Буэнос-Айресе. Меня тошнит. Улицы Буэнос-Айреса пахнут рыбьим жиром и потрохами.
«Кто подарил тебе это платье, красотка? А серьги? А это кольцо, красотка?»
«Мой возлюбленный. Он — моряк».
Возлюбленный, рыба — живая, живая живая... Каково мне сдирать с нее чешую!
«Кирилка, да ведь это вовсе не чешуя — серебро!»
...Горы, груды, пригоршни серебра. Оно на халате, на руках Киры. Несметные богатства моря, вышвырнувшего людям свои богатства.
Гудок (нынче суббота — короткий день).
Девочка тщательно моет руки, тщательно, очень тщательно обтирает их носовым платком... Волосы! Да что же это такое? Ее волосы в рыбьих чешуйках (то бишь в серебре). У работниц на головах косынки, а Кира не знала, что надо с собой прихватить косынку.
Снять халат, обтереть волосы, натянуть пальто...
От платья здорово пахнет рыбой. Как быть? Значит, шуба тоже пропахнет рыбой?
Вместе с халатами женщины поснимали рабочие платья — переоделись. А она ничего с собой не взяла.
...Автобус летит вперед. Кира смотрит в окно. Она занята хозяйственными заботами.
«...Мыло — раз; два — картошка; хлеб (можно черный, не обязательно белый). Соль можно взять у Жанны. Не покупать же соли! А?.. Как по-вашему?»
— Почта! — объявляет кондукторша.
«Дорогие девочки, Ксана и Вероничка! Я уезжаю в Африку — еду кухаркой — «коком» (так это называется по-морскому).
Решительно прошу вас маме об этом ни слова не говорить. Убедительно прошу. По-товарищески.
Но знакомым ребятам вы можете намекнуть — Кира, мол, едет в Африку.
Анне Афанасьевне, моему бывшему классному воспитателю, передайте от меня сердечный привет. Разбрелись по свету ее питомцы!
Мама, наверное, сердится, что я нечаянно прихватила ее пуховый платок. Но здесь так холодно! И не съем я ее платка.
О С а ш к е н е с п р а ш и в а ю. М н е с т р а ш н о.
Я вас очень люблю и целую. В моем шкафу осталось четыре платья. Оба летних (ситцевое в горошину и сатиновое) я отдаю вам.
Девочки, приглядите за мамой. Если б вы знали, как может взрослому человеку недоставать мамы! А главное то, что я понятия не имела, как ее может недоставать! Помогайте маме, я вас прошу убедительно. Никто ей не помогает, и она никогда не жалуется. А я, понимаете, этого почему-то не замечала. Так что сделайте выводы.
Обнимаю. Целую.
Кира.
P. S. Из Африки отправлю посылку. Не плачьте. Больше мужества.
Ваша Кира».
У телеграфного окошечка стоит Пауль из местного радио (тот, что собирался забросить ей как-нибудь вечером мышеловку).
— Здравствуй, Пауль, — сияя улыбкой, говорит Кира.
— Что с тобой, Кира? Что у тебя в карманах? Селедка, что ли?
— Сардины, — улыбаясь все веселее и победительней, отвечает она. — Я люблю сардины. Ну, бывай... Спешу! У меня ответственное свидание...
У КИНОБУДКИ
Сутуловатая, высокая девочка поднимается по лестнице клуба, разматывая платок...
— Привет, товарищ механик. Меня зовут Кирой. Кирой Зиновьевой.
— Ну и что? — хрипловатым баском отвечает он. — Допустим, ты Кира или Сапфира. Так что из этого вытекает?
— Я к вам за личной помощью... Понимаете?! — громким шепотом говорит она.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Рядового Костырика, Всеволода Сергеевича, просят пройти по важному делу к будке киномеханика. (Пауза.) Если в зале находится рядовой Костырик, то его срочно просят к будке киномеханика.
Солдат Костырик не появляется у будки киномеханика.
Кира ждет, она приказывает себе успокоиться, расстегивает пальто....
«А вдруг он сегодня «дневалит»? А вдруг я прожду шесть сеансов и не дождусь?..»
Ей становится страшно.
А на экране, которому ни до чего нет дела, — рука ребенка, зажавшая ломоть хлеба, крыша отчего дома... Школьный учебник, переплетенный руками отца... Бежит по улице девочка и кричит: «Мама!»
Кира принимается плакать. Осторожно катятся слезы по Кириному лицу. Она дышит широко раскрытым ртом — боится всхлипнуть, чтобы не раздражать механика.
И вдруг его шершавые пальцы уверенно и нагловато приподнимают ее подбородок. В темноте кинобудки хриплый голос механика шепчет:
— Коза.
«Ну и пусть, пусть! А я как будто не замечаю! Он не схватил меня за подбородок. Он не сказал: «Коза»!
Неподвижность Киры подсекает инициативу механика.
Картина идет к концу. Девочка вытирает лицо ладонью.
В зале — свет.
Механик, уверенно улыбаясь, глядит в ее заплаканное лицо.
— Скажи-ка мне, отчего девчонки так любят реветь?
Кира молчит. Она натянуто улыбается.
— Рядового Костырика, Всеволода Сергеевича, просят к будке киномеханика... Если в зале находится рядовой Костырик, его просят подняться на третий этаж и подойти к кинобудке.
Стучат по ступенькам тяжелые сапоги солдат, на нижней площадке слышится говорок...
— В чем дело? — сердито спрашивает чей-то молодой голос, обращаясь к Кириному затылку. — Кто меня вызывал?
...Скрипнул под Кирой стул... Не выдержав тяжести ее шубки, он осторожно свалился на пол...
Они стояли друг против друга, глядя в лицо друг другу. А между ними — как баррикада — упавший стул..
Вот уже больше двух месяцев, как солдат Костырик проходил военную службу на острове Санамюндэ.
По вечерам, в часы, свободные от вахт, ребята играли в шахматы. Костырик слыл одним из лучших в части шахматистов.
...Он был молчалив и тих. Быть может, майор — начальник подразделения — не обратил бы на Севу Костырика внимания о с о б о г о, если б не получил от Александра Степановича обещанного письма.
На территории подразделения должны были строить здание небольшой читальни.
— ...Вы... одним словом, если не ошибаюсь, вы, кажется, строитель, Костырик? — не глядя на Севу, спросил майор.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Что ж вы не отвечаете? Или боитесь взяться?.. А я хотел поручить вам одну строительную работенку...
— Да, да!.. Я строитель, строитель, товарищ майор!
Костырик спроектировал небольшое здание читальни, сделал продуманные рисунки будущей внутренней отделки ее...
— Вот это называется «подвезло»! — ликовал майор.
— А мы не будем еще чего-нибудь строить?
— А как же, как же! Не без того... Строительного материала хватает, рабочие руки в наличии... Почему не строить! Но имейте в виду, Костырик, вы в ответе за все. Нам нужен не только проектировщик, нам нужен хороший прораб. Понятно?
— Так точно. Понятно.
При постройке читальни Сева работал прорабом и штукатуром.
— Чего грустишь, Всеволод? — спрашивал Костырика парнишка-солдат, с которым он подружился. — Я отслужу военку и только-только думать еще начну, какую избрать специальность... А ты отгрохал, отзанимался... Осталось только добить дипломку! Опять же тебе, как солдату, разные льготы...
— Не надо мне никаких льгот!
Жизнь шла. Восстанавливалось его внутреннее здоровье. Все, что было связано с Кирой, отступило далеко назад.
...И лишь во сне приснились ему однажды длинные ветки осоки, полоскавшиеся в неглубоком озере. Озеро отражало серые облака...
Ее не было рядом. Но во сне он чувствовал незримость ее присутствия и весь был наполнен любовью и чувством счастья... Он слышал рядом с собой ее смех и дыхание. И говорил: «Уходи, Кира!»
«Хорошо. Я уйду, уйду!» — отвечала она.
И не уходила.
И он боялся, что вот сейчас она отстранится, уйдет... Боялся пошевелиться.
«Что-то мне приснилось счастливое?! Я был счастлив!»
Однако всей силой сознательной воли он не хотел и думать о ней. Боялся иррациональной силы, которую люди зовут любовью.
Шли дни. Он получал из дому письма.
«Сняли хороший урожай яблок».
Ни слова о Кире.
ЛЮБЛЮ
Он был чисто выбрит, одет в шинель и шапку-ушанку. (Все сидевшие в кинозале были в шапках-ушанках, никто из солдат не снимал шинелей.)
Он похудел. Она сразу это заметила. Лицо его утратило милое детское выражение... Из нового, не то задумчивого, не то скучающего лица как бы выступал его второй, скрытый облик: в нем не было ни добродушия, ни мягкости.
Стоял против Киры. Руки были опущены. Не мелькнуло ни удивления, ни радости в глубине его глаз, когда он понял — это о н а. И все же что-то едва приметно дрогнуло в нем (может, чуть приподнявшиеся под шинелью плечи?)...
Не шагнул в ее сторону. Не сказал: «Здравствуй!» или «Да как ты сюда попала?!»
Повернулся и медленным шагом пошел к двери. Солдатские сапоги одолели порожек. До того неуверенно было движение их, словно солдат ослеп.
Он сам не понимал того, что сделалось с ним. Испытывал боль такую, как если бы после мороза застывшие руки вдруг попали в тепло и сильно ломило пальцы.
Душу ломило. Все в нем кричало: «Нет, нет!»
«Нет!» — говорило в Севе отчаяннее, тем упорнее, чем неожиданнее казалось ему ее появление.
Спускался с лестницы. Не оборачивался. Его спина как бы выражала раздумье. Шел медленно, очень медленно.
И, не успев себе дать ответа в том, что делает, и что станет сейчас говорить, и зачем она делает это, девочка побежала следом. Она кричала:
— Сева!.. Ты меня не узнал? Это — я... Кира!.. Это я!.. Я!..
Солдаты оглядывались и улыбались. Те, что курили на нижней площадке, приподняли головы.
Он спускался вниз. И не оборачивался.
Она нагнала его. Ее руки легли на его. шинель, дрожа потянулись к его затылку. Забежала вперед, обняла, прижалась щекою к его щеке... Она бормотала бессмысленно:
— Это я. Я!..
«Нет!» — говорило в Севе без логики:
Он даже не поднял рук, чтоб сбросить с плеч ее ладони, продолжал шагать, упрямо наклонив голову.
Второй этаж... Он все шел. А она все бежала, бежала, заходя вперед, поднимая к нему лицо. Снова и снова растерянно и беспомощно вскидывались ее руки... Вскинулись. И, не решившись дотронуться до его шинели, повисли...
Он... Он искал покоя и равновесия, свойственных его суровому темпераменту!..
В ней не было равновесия... Рядом с нею не было равновесия... Все в нем кричало: «Нет!» — сопротивляясь ей из последних, из самых последних сил.
Лестница была переполнена гулом мужских голосов:
— Ты что, очумел, Костырик?
— Ты что, немой? С тобою, кажется, говорят?! Оглох?
(«Зачем ты пришла?.. Меня нет для тебя... Мне нечем тебе обрадоваться!»)
Лестница гудела. Сто молодых сердец бились сочувствием к девочке. Но чем больше шумели солдаты, тем упрямее становилось выражение его губ... Взгляд скользил куда-то поверх ее головы.
Первый этаж.
Убыстрились шаги солдата. Она бежала — пятилась, опираясь о лестничные перила...
...Секунда! — и вот уж она бежит по морозной улице без пальто и шапки...
Воскресенье. На улице много солдат, много-много парней в солдатских шинелях.
Кира несется за ним по узким улочкам и переулкам. Она заглядывает в лица каждого встречающегося солдата.
Мороз слепил ей ресницы, подхватывал дыхание Киры, участившееся от бега.
Со всех сторон ей слышалась незнакомая речь. Останавливались женщины и ругали ее — видно, за то, что она выбежала раздетая на мороз.
Вот он, вот он!..
Ее ладони сжали изо всех сил его щеки. Привстав на цыпочки, она громко заплакала. Приподняв его руки, положила их на плечи себе. Закрыв глаза, молча, жадно целовала его холодные щеки, нос, брови мелкими, быстрыми поцелуями, словно надеялась, что они лучше, чем ее голос объясняют ему: «Это я! Я!..»
Она жалась к его шинели, лязгая зубами от холода.
Он сказал:
— Ты что?.. Здорова ли? Уходи. Простудишься.
И еще ниже опустил голову, как бы скрываясь от чужих взглядов.
Это было страшнее страшного сна.
...Вот уж не видно его. Солдатскую шинель единственного на свете солдата заслонили шинели других солдат.
Девочка остановилась на перекрестке улицы.
Ее нагнали, повели в клуб. Ей обтерли лицо. На нее натянули шубейку, обмотали ей голову пуховым платком.
— А ты плюнь, плюнь, — говорили ей.
— Каменный он, вот кто он!
— Да если б я... Да если б такое мне...
Она молчала. Глядела вперед остановившимися глазами.
...Быть может, потом — ведь здесь так мало пищи для воображения — они станут переговариваться, смеяться, показывать Севу и Киру в лицах... Но их первое чувство было чувством высокого сострадания.
Кто-то взял ее за плечи и повел из клуба. Это был офицер, пришедший купить билеты на вечер.
— Простудишься. Надо водки... Сейчас же водки. Не рвись. Не пущу! Ресторан за углом... И не стоит, девочка, эдакой любви наш покорный слуга!.. Никто из нас не достоин твоей слезинки... Ты ребенок, ты, можно сказать, невинность... А мы такие, сякие, разэтакие... Экая парню любовь досталась! А кто твой отец? Военный? О чем думала твоя мать, когда отпускала тебя одну?..
В ресторане с нее насильно стянули шубу, принесли коньяк и яичницу.
Офицер бушевал, рассказывая сидевшим за столиком офицерам о грубости «нашего брата».
Ей влили в рот коньяку. Она захмелела, уронила локти на стол... Ее уговаривали поесть, ей намазали хлеба, ей совали в рот кусочки яичницы.
— Как тебя звать-то?
— Ее звать Кира. Я знаю, — сказала буфетчица.
— Ешь, Кира... Хорошо бы черного кофе... Людмила, дай ей горячего кофе.
— Плачь, Кира, плачь, — увещевала буфетчица. — Поплакать — оно полегче...
И опять на нее натянули шубу.
И повели домой. Она шагала нетвердым шагом.
Один из троих офицеров, взявшихся проводить Киру, нетерпеливо нажал звонок. Дверь распахнулась. Офицеры заговорили с Жанной, перебивая один другого. Увидев Киру, Жанна втащила ее на лестницу. Не позволяя себе ни о чем расспрашивать, она оттолкнула Кириных провожатых и быстро, резко захлопнула перед ними дверь.
Я ТАК ХОЧУ!
Сжав губы и не оглядываясь, Кира шагает одна во мглу.
...Километр. Два. Три километра. Десять, двадцать. Ни норы, ни жилья, ни огня. Даже лес и тот далеко. Поле, поле... Ровное. Белое. Гладкое.
Не рассусоливай, а шагай, шагай...
Рубчатый след от недавно прошедшего грузовика — коричневые полосы на белом накате белого снега.
Вдали мигает желтая точка. Огонь!
...Все больше, больше желтого света. Близко, совсем уж близко человечье жилье... Вырисовываются крыши строений — большие, продолговатые. Это казармы. А вот — небольшой домишко. Из трубы его валит дым. Пахнет дымом и хлебом. Хлебопекарня. Читальня... На полках стоят книги, их видно через окно.
Кружевная, воздушная, поднимается вверх не то клеть какой-то лестницы, не то наскоро сбитая пожарная каланча. Это — дозор. На самом верху, если вскинуть голову, — крошечный дом-скворечня. Там — солдат: глядит вперед молодыми своими глазами. Один. На ветру.
Рядом с казармами — небольшой дом, единственный, где зашторены окна.
Крыльцо. На крыльце веник. Рядом с веником — ведра. Дом как дом, такие бывают в деревнях. Крылечко свежеокрашено и освещено.
«Сюда!» — решает Кира и поднимается по ступенькам. Тщательно сметает она метлою снег со своих сапожек, Сейчас протянет руку и постучит.
Дверь распахивается. На пороге женщина в пуховом платке. Обыкновенная женщина. Русская. В валенках.
От этих валенок Кире делается теплей.
— Здравствуйте, — говорит Кира. — Я к командиру. К главному...
— Он на политзанятиях, — отвечает женщина. — А ты по какому делу? Давай заходи...
Кира заходит в сени, разматывает платок, снимает шубейку.
Комната. Нет, это вовсе, вовсе не комната... Это — Россия.
Большая никелированная кровать, обеденный стол, буфет с посудой, половики и половички... А над столом такая же точно лампа, которая дома у мамы и папы. Лампа под розовым абажуром!
— Садись. Ты, видно, крепко озябла! Может, чаю или горячей картошки? Я пекла блины. Может, хочешь блинка? Съешь блинка! Да как ты нашла нашу часть? Или кто тебя проводил?
— Никто. И я совсем не такая маленькая, я уже школу окончила. Из Москвы приехала — и нашла.
— Из Москвы? — оживившись, говорит женщина. — Там наших трое ребят. Скоро приедут сюда, на каникулы... Такая тоска, такая тоска по детям — сказать не могу.
Женщина кутается в платок, вздыхает, скрещивает ноги в фетровых валенках... Подперла кулаком подбородок, задумалась, пригорюнилась.
— Значит, ты из самой Москвы?.. А чего там нового? Какие в Москве погоды? Я им, понимаешь, связала шарфики. Только, может, не надо?.. Поверишь ли — дни считаю... Как они там?! Здоровы ли, сыты ли... Ты этого не понимаешь, куда там — еще мала...
— У меня братишка. Я все понимаю.
Низко опустив голову, Кира не смотрит на женщину. Губы ее дрожат.
— Что с тобой? — говорит хозяйка. — Ты вроде бы не в себе, я сразу заметила. Может, обидел кто?.. Люди, знаешь, они безо всякой милости, без понятия. Да ты успокойся, погрейся. Садись к печи.
— Не хочу! Я боюсь печей...
— С чего бы?..
— Так. Просто так... Я к майору Дятлову, посоветоваться. Я, я... А он хороший человек?
— Кто?
— Майор Дятлов.
— Да как я тебе про родного мужа скажу? Сразу видно, что ты дитя... Мужик как будто бы ничего... Рубашку снимет для друга. Грех сказать — хороший, очень даже, можно сказать, простой, порядочный... Жену уважает. Детей жалеет... Чего ж еще!
— Скажите, пожалуйста, а разве это так много, что муж тебя уважает?! Я б, например, хотела, чтобы меня любили...
— Любовь, она, детка, не вечная... Да и не солидно вроде бы в нашем возрасте, чтоб он меня на руках носил.
— А у французов любовь — она вечная... Один французский поэт, ну, в общем, писатель, сочинил такую песню своей жене, что ее поет весь Париж. Называется: «Ноги моей Жаннеты». А Жаннете — семьдесят лет.
— Поди ты! И смех и грех. Да я б со стыда сгорела... Ох уж эти французы!
— У меня, — не поднимая глаз, говорит Кира, — здесь служит... В общем, один знакомый. Костырик Всеволод. Может быть, видели? Он немного постарше других ребят...
— Да как тебе, детка, сказать, может, и видела, да не знаю, кто из них Пров, кто Петров, а который Костырик... Ты бы хотела с ним повидаться? Пришла попросить майора об увольнительной? Он даст, он даст... Можешь не сомневаться... Все же в экую даль человек приехал... Из самой Москвы! Дорога не близкая.
— Понимаете, все так вышло нехорошо, — сжав кулаки, говорит Кира. — Я даже не знаю, надо ли мне... Домой бы!.. Мне бы только понять... Иначе... я, я... утоплюсь! Мне стыдно папе в глаза взглянуть. И маме. И девочкам...
— Да это что же такое?! — сейчас же приняв ее сторону, спрашивает у судьбы жена командира. — Да как же такое можно? Да где же стыд у нонешних молодых людей? Это, детка, они даже очень свободно... Это мода теперь такая, чтоб все ни во что!.. И любовь, и может, там какое серьезное объяснение было... Да как же так? Да какого рожна ему надобно?.. Красивая, из дому родительского... Да ты не плачь, ты не плачь, ты своей гордости не роняй. Пусть оглянется — много ли, можно сказать, на свете таких девчонок, чтобы со средним образованием и чтобы скромная и культурная?.. Ты какого года?
Кира ответила.
— Да это ж где берется у людей совесть? Девчонка, ну прямо, можно сказать, дитя! Да ты успокойся. Он еще локти будет кусать. Не убивайся!.. Все у тебя впереди, детка!
— Нет!.. Нет!..
— Полно... Ах, чтобы они сгорели. Все! До единого. Совместно с моим мужиком.
Дверь скрипнула. Послышался стук сапог. В комнату вошел пожилой человек в военном. (Тот, кому жена пожелала сгореть!) Лицо его было простовато, рассеянно. Взглянув на жену, перевел глаза на сидевшую рядом с женой незнакомую девушку. Не сказал «здравствуйте». Спросил:
— Что случилось, Анфиса?! Дети здоровы?!
— Твои-то здоровы, — сказала Анфиса, — а вот другие...
Кира встала и протянула майору руку:
— Зиновьева. Из Москвы. Извините за беспокойство.
— Да какое может быть беспокойство?! Сидите, сидите... Если ко мне, так пожалуйста. Я — обязан. Мои солдаты.
Он присел к столу, и стало еще заметнее, что славное лицо его как бы даже потрясено добротой.
— Я вас слушаю, товарищ Зиновьева...
Лицо Киры приняло гордое, злое и высокомерное выражение.
— Не знаю, как рассказать, — начала она. И принялась теребить носовой платок... — Мой папа — рабочий. Зиновьев. Мастер. Нас — пятеро... Севка Костырик ему помогал... И я... и я...
— Да чего уж там!.. Дело, как говорится, честное. Молодое.
— Нет, нечестное. Я ему сделала много зла. И... и приехала с ним повидаться.
— Да... Можно сказать — положеньице, — с состраданием вздохнул майор. И, встав от стола, тяжело зашагал по комнате. — Я Костырика знаю. Отчислен из института... но при военном деле рекомендация неплохая. Даже можно сказать — хорошая. Неплохой строитель. Большой работяга. С инициативой. По чести скажу — плохого за ним не видел. Одно хорошее. А уж я ли их не перевидал?! Молчаливый, знаете ли... Но, быть может, каждый на его месте... А так — старательный... И общественник. Оформил нам стенгазету. И я бы сказал — хорошо оформил... Два раза отказывался от увольнительной. Я с ним беседовал — как же так?.. Парень он неплохой и мне, не таю, внушил уважение... Не знаю, конечно, подробностей, но уж больно сурово как-то... Я переписываюсь с отцом. Неплохой человек — рабочий. А как там с той женщиной... вышло — не знаю. А он... Он что? Он, конечно, того... Ведь молод.
— Вы всегда один за другого, — сказала жена. — А что человек... что девушка... А если бы с нашей Настей...
И, махнув рукою, вышла на кухню.
— Та женщина, товарищ майор, — это я!
— Уж полно...
— Правда — я. Поэтому я приехала... Я люблю его.
Майор зашагал быстрей. Из кухни вернулась жена, поставила на стол две тарелки, хлебницу и хлеб..
— Ну что ж!.. Как вас величать-то? Кирой?.. Так вот: не удивительно, что он не хотел с вами говорить... Вот так... Не посетуйте за прямоту. Я бы тоже на его месте... Только вот что: возможно, не хватило бы, так сказать, у меня характера... Я бы, знаете ли, пожалел... А он человек характерный. Волевой парень.
Кира молчала, сидела опустив голову.
— Товарищ майор, простите, я, наверно, не все донимаю... Не понимаю степени своей вины. Ведь не волоком же я его волокла... Да и откуда мне было знать, что можно, чего нельзя? Я не военная, не военнообязанная. Да и что было-то? Он меня, конечно, в ту ночь два раза поцеловал... А во второй раз... Он на меня сердился. А я как глухая или ослепшая... Ведь он самый близкий мне человек! И я тогда совсем, совсем другая была... Не такая, как нынче... Я горя не видела. А теперь...
— Видишь ли, Кира, дело не в том, сколько раз он тебя целовал, а в нарушении воинской дисциплины, долга!.. Как это ты его довела до оплеухи!.. И зачем ты ходила к нему в институт, да еще, говорят, накрашенная! Право — и смех и грех.
— Товарищ майор, все меня презирают. Все! Отец деньги прислал, а не пишет... Я болела шестнадцать дней... Мама не пишет. Зачем я за ним бежала? Зачем, зачем? Как жить? Научите. Я себе не прощу. Раньше мальчишки за мной, за мной...
— Успокойся, Кира... Конечно, Москва — не близкое расстояние. Ты доказала преданность. Да и как он глянет в глаза твоему отцу? Мне ребята эту сцену всю доложили...
Кира опять заплакала.
— Будет тебе... А я с ним, знаешь ли, еще раз поговорю. Он неплохой парень... Художник опять же... Да что он, право... Верно, ослеп!..
— Нет, — сказала Кира. И гордо: — Этого мне не надо. Мне не надо, чтобы любовь по приказу начальника. Я хотела, чтоб настоящая. Чтобы — любовь...
— Верно, — поддержала жена майора. — Кому нужна любовь по приказу?
— Мне бы только понять, понять, — сжимая виски, бормотала Кира.
— Кира Зиновьева! Здесь начальник — я. Так вот: сейчас я вызову рядового Костырика... и ты с ним поговоришь...
— Нет!
— Кира, ты для этого отмахала пехом двадцать километров. По морозу. И правильно сделала. Вам надо повидаться и поговорить. Жди! Я сейчас разыщу Костырика... Анфиса Петровна! Держи ее за подол и не отпускай. Умойся, Кира... Анфиса Петровна, дай ты ей этого... ну, как его там, напудриться, причесаться... Кира, и чтобы ни единой слезы, иначе... Это — приказ. Здесь я командир части.
НИАГАРА
Раскрылась дверь. Он вошел... Растерянно глянул на Киру (командир сдержал свое слово и, видимо, ничего не сказал ему).
В доме слышались шаги, звон посуды... (Не иначе как жена командира наконец-то кормила ужином своего мужа.)
Дом замер. Насторожились стены, и лампы, и шторы. Дом дышал сочувствием к девочке.
Только он стоял против Киры то ли задумавшийся, то ли осоловелый. Безмерно странный.
— Ты? — спросил он одним дыханием (как будто он не видел, что перед ним — она).
— Может, снимешь все же шинель и шапку?
Он скинул шинель и шапку.
Скинув их, он как бы сделался собой — научился двигаться, говорить. Придвинул стул, сел рядом.
— Ты давно из Москвы? — спросил он вежливо и мертво.
— Да, — сказала она полушепотом.
— Как отец? Как Сашка?
— Сева, может, ты поймешь наконец, что я... А вдруг ничего не проходит так? Просто так... Что тогда? А вдруг у тебя окажется память... Мне ничего не надо... Я только хочу понять... Я уйду, уеду... Я не прощу тебя. Я тебя не простила... Что с тобой? Как ты мог?.. Если... если... Так зачем ты со мной разговаривал по телефону и маму свою послал?
— Маму?! Я ее не присылал! Это, должно быть, она сама... Я... я тебя... Одним словом, сейчас не об этом, Кира... Я хочу быть хозяином своей жизни, своей души... Одним словом, как это ни горько, приходится выбирать!.. Тебе нужна не любовь, а любвища... Откуда ты знаешь, что я на нее способен?.. Мне нужен свет свой собственный... а не отраженный... Не знаю, как объяснить тебе это, Кира...
— Я поняла, Сева. Но я... Я обманывала себя. Я — все думала, что у тебя всегда это было от удивления, от застенчивости... Только уж лучше бы ты солгал!.. Я... я хотела быть рядом. Приехала... и... на завод... На завод!..
— Полно! — ответил он. — Ни на каком заводе ты не работаешь... Не такой ты человек, Кира...
— Много есть у меня грехов. Но лучше — я не умела. Сильней не могла. Товарищ майор! Костырик свободен. Я — ухожу. Я... я вас... обоих... Он сказал — главное. Я — поняла. И... и... я пришла недаром.
— Одну минуту. Костырик тебя проводит.
— Нет.
— Здесь я командир части. Я. А не ты. Ночь. Поле. Куда ты пойдешь одна?
— Кира может заночевать у нас, — живо вмешалась жена майора.
— Молчать! — спокойно и властно сказал майор. — Костырик, проводишь Зиновьеву до ее парадной. Выполнять. Приказ. Вернешься с последним, нет, с первым автобусом. Отпускаю на сутки. Я сказал. Все. И запомни, Анфиса Петровна: ты хозяйка надо мной, над своим майором, но не над моими солдатами... Бабье! Да полно вам целоваться-то... Ошалели, ей-богу. Живей, веселей! Подавайте-ка даме пальто, Костырик... А то действительно получается... Не солдаты, а... а какая-то Ниагара!
СТАРЫЙ ОЧАГ
...Все тот же снег. Все так же поскрипывает он под Кириными ногами...
Снег. Белый снег. Белый, белый...
Неправда!.. Ушло из снежного сердца его доброе, таинственное свечение. Погасло. Осталось большое поле. Обыкновенное. Все в снегу.
«Если я не люблю себя, как же мне любить эту землю и этот снег?!»
И вот остались на свете — земля, снега, и большое поле — без сердца.
По этому полю без сердца шагают, шагают, шагают две пары ног.
Дальний свет электричества. Остановка автобуса.
Они стоят и смотрят вперед, на дорогу.
— А ты здорово похудела, Кира...
«Море — оно вокруг острова, — старается себе рассказать Кира. — А что за остров?.. А зачем я вдруг оказалась на этом острове?»
— Кира! Автобус. Живо!..
Автобус их довез куда надо. И ушел. Укатил в автобусный парк.
Две пары ног зашагали по уснувшему городу. Город, с его вечной каменной памятью, запомнит эти шаги. Ведь он сумел сберечь звук шагов всех супружеских пар, всех вдовых, влюбленных, брошенных, отчаявшихся, одиноких...
В парке, возле гостиницы, дует резкий, холодный ветер — парк оканчивается небольшим пляжем. Меж старых дубов гуляет дыхание моря и дыхание множества притаившихся жизней — белки, зайца, крота... Спят. Экономят живое топливо, бьются сотни крошечных, теплых сердец, величиной с ноготь... Перебиться бы до весны! Холод-холод. Жить-жить.
Улица за парковыми воротами слабо освещена. Напротив старинной ограды парка стоит очень старый дом. Это Жаннин дом. Во время Отечественной войны бои развернулись за пределами города, и центральная его часть уцелела. Четыре темных окна спокойно глядят на спящую улицу, острую крышу венчает старинный флюгер — местный тролль Пеки-Бук. Из хорошо сохранившегося фронтона подмигивает глаз чердака, похожий на иллюминатор.
— Кира!.. Экая старина, право... Шестнадцатый, да нет, пожалуй, пятнадцатый век.
Пожав плечами, она достает ключ, отпирает входную дверь.
...Окна дома — на высоте бельэтажа. Когда входные двери распахиваются, становится видно, что к Жанниной квартире ведут ступеньки. Скрип-скрип, — сказали Кире ступеньки.
И вдруг послышались рядом другие скрипы... Ступеньки запели под шагами мужских сапог. Мир лестниц переполнился разговором: «Это — я!.. Твои ноги, Кира, весело бегали по земле. Удирали из дома, опаздывали, крались на цыпочках по коридорам отцовской квартиры... И вот они выросли (даже стали великоваты!). И шагнули навстречу моим шагам... Час пришел... Твои ноги принялись спотыкаться... (Так шагает плачущий.) В мир детских шагов вступили шаги другие: мои шаги».
Ступеньки ликуют, нажаривают, стараются... Долго будет хранить их деревянная, скрипучая память дуэт двух пар молодых подымавшихся по старой лестнице ног.
...В кухне темно.
Кира сказала: «Жанна!»
Никто не откликнулся.
Толкнула дверь в свою комнату и услыхала тихое потрескивание поленьев. Дверка печи была широко растворена, и пламя до того яркое, что комната будто тонула в жарком сиянии.
Переступив порог, Сева сейчас же остановился у очага... С великой серьезностью, словно что-то прикидывая, провел удивленный зодчий ладонью по изразцам.
— Экая старина!.. Красивейшая работа — чудо-юдо! Керамика!.. Гляди-ка! История острова! Вот — ограда из камня!.. Никаких частоколов... Не камни, а валуны... Ясное дело, камни им были сподручней, чем лес... Погляди, погляди, Кира!.. Мельницы... Парусный бриг... Времена парусных бригов!.. Портрет...
«Это я, Лайна, — тихо сказала Лайна. И дрогнула щербина на подбородке. — Я хозяйка этого очага. И острова!.. Хозяйка каждого старого и нового дома. А ты... Ты всего лишь будущий строитель этих домов, ты — всего лишь зодчий... Я — молодость. Я — человеческое воображение. Я — искусство... Одним словом, я — фея! Хозяйка огня и холода. Но забудь сейчас обо мне, солдат. И забудь обо всем, что сделано руками человека... Она — за твоими плечами... Сидит и дышит... Оглянись. Скорей!.. Все на свете будет твоим... Но она...»
Освещенная розовым пламенем, Лайна как будто глядела в проем окна: развевались волосы, блестела крошечная корона: пять зубчиков.
Присев на корточки, зодчий удивленно разглядывал старую печь...
— Что ты бормочешь, Кира?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дверь скрипнула, в комнату вошла Жанна.
— О-о-о...
— Познакомься, пожалуйста, Сева, это моя хозяйка и близкий друг.
— Зольдат! — приложив к груди худую ладонь, в восторге сказала Жанна.
Исчезла. Через минуту вернулась с подносом, кружками и кувшином.
— Пейте, месье зольдат... Санамюндское. Очень хорошее. Очень пьяны. Бравы, бравы, месье зольдат!
— Садитесь, Жанна.
— О-о-о ньет!.. Мне стирать. Мне гладить... Ньет, ньет!.. Ушла.
Из кухни послышалось ее ликующее «Тра-ля-ля!..».
— Кири! — сказала Жанна в дверную щелку. — Я забыл! У нас сегодня две радость! Пришел постальен. Говорит: «Ваша девочка бегал, бегал... Он, бедны, совсем перестал ждать...»
— Жанна!.. Письмо?!
— Да. Письмо.
— Скорей!..
— Тра-ля-ля, тра-ля-ля, — кружась, ответила Жанна. — Амур! Письмо. Зольдат. Тра-ля-ля...
ПИСЬМО
«Дорогая Кира!
Через неделю после того, как ты уехала из Москвы, отец вызвал к Саше самого главного профессора по детским болезням. Ты помнишь, у него еще при тебе была температура. Потом он сделался вялый, мало смеялся. Сперва мы думали, это из-за тебя. Я, конечно, ему уделял большое внимание. Девочки тоже уделяли ему внимание. Я ему рисовал и сделал калейдоскоп. Он плохо ел, и доктор из консультации запретил водить его в детский сад. И вот в это время отец решил, чтобы вызвать профессора. Мы оба пошли вызывать: я стоял в очереди, а папа скандалил с директором поликлиники. Профессор Дулицкий окончил прием. Нам сказали, что это он. Мы к нему подошли. Он, видно, сильно устал, было видно, что он устал и что очень старый. Мы просили, а он отказывался. Сказал: «Обязательно. В другой раз». И вдруг тут же на улице отец возьми и заплачь. Я даже представить себе не мог, что такое бывает. Он плакал. Профессор опустил голову, вздохнул, растерялся и чуть что сам не заплакал. Он сказал: «Да». Отец: «Кешка! Давай живей за такси. Одна нога — тут, другая — там».
Дулицкий осмотрел Сашу. Потом сказал: «Я хочу вымыть руки». И когда я повел его в ванную, он спросил: «Кто у вас самый главный? Я вижу, что родители оба голову потеряли». Я ответил: «Я самый главный. Я и Кира. Но Кира — наша старшая — уехала к жениху». Тогда профессор сказал: «Вызови-ка на кухню отца, молодой человек. Мать не пускай. У мальчика менингит». Я вызвал отца и следил, чтобы мама не выходила. А она норовила выйти. Ксана и Вероничка держали ее за подол и обе ревели так, что тошно было, потому что не к месту, надо было срочно принимать меры.
Вызвали неотложку. Саше отвели «бокс» (потому что слабый и глухонемой). Вместе с Сашей поехала мама. Ей поставили в «боксе» кровать для круглосуточного дежурства.
Я сказал, чтобы сразу отправить тебе телеграмму. А мама: «Ни в коем случае. Ей — жить. Она молода. Мое дитя — я в ответе. Я и отец».
Мы тебе не писали все это время потому, что не знали, что написать. Врать не было времени. В школе мне дали отпуск. Я дежурил с мамой по очереди. Не хочу тебе ничего описывать. Только поверь, что я делал все! Все всё делали. Два раза были консилиумы. Сказали: «Он без сознания». Но я знал, что в сознании. Я спрашивал: «Саша, ты меня узнаешь? Если ты узнаешь, так закрой глаза». И он закрывал глаза — стало быть, понимал. Я с ним говорил так, как ты говорила: в щеку. Врачи сказали, что у него не выдержит сердце и чтоб все время давать ему что-нибудь пить. А он совсем ничего не ел и не пил. Я придумал кормить его из пипетки. Круглые сутки мы поили его из пипетки. Минуты не было, чтоб никто не сидел. Мы ему все время вливали соки. Но он уже не мог глотать. Потом мама заметила, что глаза у него как будто не двигаются. Врач подтвердил: «Ослеп». Когда мама это узнала, она почему-то уснула и долго спала. Я сказал отцу: «Отец, дадим телеграмму Кире». А отец: «Отстань. Не до вас».
Это продолжалось четыре дня. Один раз я ночевал дома. Утром, в восемь, вышел — иду в больницу. Больница — пригородная. Я как чувствовал что-то неладное. Но когда дошел до самой больницы, мне навстречу вынырнула из-за угла женщина с полными ведрами. Я вспомнил, что, когда ты держала экзамен по алгебре, ты сказала, что тебе попался кто-то с полными ведрами и ты заранее знала, что сдашь.
Успокоился. Захожу в «бокс». В «боксе» отец и мать. Мать лежала почему-то на одной кровати с Сашкой и оба спали. А отец сидел рядом. Когда я вошел, он сказал: «Тише!» А потом: «Сашка умер. Нету нашего малого».
И я ничего ему не ответил.
Ушел. Я шел по улице, шел и шел. И потом я подумал: «А что я тебе скажу?!»
Дорогая Кира, поверь! Я все делал, я сдержал слово. Когда ему два раза делали переливание, я просил, чтоб взяли кровь у меня. Но они не взяли.
Кира, все, что ты захочешь, я, честное слово, для тебя сделаю, и я, и Ксана, и Вероничка.
Больше недели мы не могли тебе написать. Мы не знали, чего писать.
А мама все делает так же, как раньше. Но сильно осунулась. Когда свободна, все время лежит. А теперь отец разрешил написать, потому что говорит: «Жизнь есть жизнь. Не мы вольны над жизнью и смертью. Ты, говорит, напиши, Кешка, а я не буду». И тут явились две дуры — Ксана и Вероничка — и сказали, что ты уехала в Африку, только чтоб отцу и матери ни слова не говорить. Но я не поверил, конечно, потому что знаю, что все вы врете.
Остаюсь навечно твой брат Ксаверий.
А теперь под диктовку от мамы:
Дочка! Горе пришло, постучалось, вошло к нам в дом. Я-то знала, что он не жилец, что он наш короткий гость. Что ж об этом? Сколько раз я ругала тебя, сколько раз я через тебя убивалась, плакала, сколько раз, бывало, ночи недосыпала. Но вот что сказать обязана: Кира, прими мой поклон. В ноги кланяюсь. Прими материнское благословение. Матерью ты ему была. Ты была его радостью. Последнее слово, что он сказал, когда мог еще говорить, было не «мама». Он сказал: «Кия». Слез нет. И все я себя корю. А за что — не знаю. Уж ты прости меня, ежели что.
Мама».
ПОБЕГ
Он полулежал у печи, повернувшись к Кире спиной. И вдруг за его плечами стало как-то уж очень тихо. Не было слышно даже ее дыхания. Напряженная, страшная тишина...
— Кира!
Она не откликнулась.
...Легонько стукнула дверь. Заскрипели лестничные ступеньки. Когда он оглянулся, Киры в комнате не оказалось... Он подошел к окну и глянул на улицу. Так и есть! Она шагала к парку... Раздетая. Без шапки и без пальто.
Он распахнул форточку и заорал: «Кира-а-а!» Она не остановилась и не ответила.
От раздражения и ярости у него привычно перехватило дыхание.
Сбежав вниз, он что было мочи завопил: «Кира-а-а!»
Она даже не оглянулась.
К парку неторопливо двигалась узкая, сутулящаяся фигурка, словно раскачивавшаяся от ветра.
Фонари погасли. Все вокруг лежало в глубокой тьме. Ярко светились только древесные ветки, аккуратно очерченные голубым инеем. От резкого ветра с деревьев сыпался снег: по левую сторону парка тянулась полоса пляжа, оттуда слышался гул... На смену деревьям шла белая целина. Тут и там из-под снега вытарчивали темные лбы камней.
Сева бежал вдоль берега и, приложив рупором ко рту ладони, голосил: «Кира-а-а!»
Шум нарастал. Непривычный и непонятный. Весь мир вокруг как бы сотрясался от странной тревоги. Слышалось глубокое, прерывистое, напряженное дыхание моря.
«Кира-а-а!»
В глубоком снегу стали видны следы ее ног. Он пошел быстрей, нагнал ее и поволок к парку...
Снежное поле под их ногами почему-то сильно раскачивалось. И вдруг невесть откуда взявшаяся вода захлестнула кирзовые сапоги Севы. Сапоги намокли и отяжелели.
Главный причал судов на острове Санамюндэ считался незамерзающей гаванью. Но в этом году даже эту часть Балтийского моря сковало льдом. Рыбачьи бригады отправлялись на лов, впрягаясь в сани, груженные снастью. Сеть опускали в большие проруби. Всякий раз рыбакам приходилось прокладывать себе в глубоких снегах все новые и новые дороги. Такая суровая выдалась нынче зима.
Выйдя из дому, Кира не думала о том, куда идет.
Впереди — большущее поле. Кире казалось, она узнает его... Ведь она уже отшагала нынче по этому полю тридцать километров. Весь мир был полем, колеблющимся и белым... Сейчас впереди забрезжит желтый огонь.
Когда Сева схватил ее за руки, земля под ними раскачивалась, трещали льдины. Гул моря все нарастал, нарастал...
Он волочил ее, молчаливую, за собой. Она ему не сопротивлялась... Близко, очень близко от них была лесистая полоса парка, но дорогу к деревьям преграждали движущиеся торосы. Торосы раскачивались... Кире больно ушибло руку. Она застонала.
В это время на целине снега, у берега, показалась машина.
Распахнув дверцу, водитель остановился у кромки льдов и услыхал стон.
...Впоследствии он рассказывал, что во время внезапно начавшегося ледохода с трудом разжал одеревеневшие пальцы солдата, вцепившегося в брошенный с берега канат. Правой рукой солдат обхватил девушку. Он ее спас.
ЗИНОВЬЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ
«Дочка!
Долго надо с тобой говорить. И если по правде, так ты до того меня довела, что я объявил розыск. Только через четыре дня пришло твое письмо с Санамюндэ, и мы успокоились. Скрывать не буду. Мне лично было очень даже большим ударом происшествие с Костыриком. (О тебе отдельно. Особо.)
Так красиво, как ты, говорить не могу. Да и не надобно. В молодые годы я жаждал выдвижения и красоты. Но у отца моего (у деда Ивана) было четырнадцать душ. Конечно, может, здесь недостаток характера, другие выучились, а меня недостало. Скрывать не буду, попервоначалу я любил выпивать. (А если бросил, так только от гордости — что и мы, мол, не лыком шиты, — не хуже людей, жить хочу хорошо, в достатке). А какой достаток, ежели пьешь? По этой причине я, если правду сказать, прекратил вино. Поклялся — и баста.
Разве ты можешь понять, каким мне было ударом, что Всеволода не допустили до защиты диплома?
Ты, конечно, очень даже развитая, не по летам, и сильно нахватанная. Небось слыхала: Щусев, Мельников (из крестьян, между прочим!).
Ну а что ты знаешь, дочка, об архитекторе Воронихине, чьим именем назван Всеволодов институт? Крепостной, неученый был человек. А что ты знаешь о соборах в Кижах, о мастерах, которые эти церкви возводили без единого махонького гвоздочка, такие, однако, что сколько веков прошло, а весь мир приезжает, чтобы на них глядеть!
Дай ты этой силе образование, что бы тогда?
Кто учится в институтах на будущего архитектора? Оно безусловно, способность надо иметь, когда принимают, сдают и по рисованию. Но скажу по собственному своему наблюдению — идут в архитекторы дети родителей сколько-то обеспеченных. Строитель — он, если прикинуть, вроде бы не художник. Он — инженер. Между тем архитекторы — люди очень даже развитые и образованные. Видно, ихнее дело такое: архитектура. Надо и то поиметь в виду, что народу на свете довольно много, а рождается все больше и больше. Без крыши не проживешь. Опять же, нынче схватились перестраивать города, вот и выходит, что строители люди до чрезвычайности необходимые... И они себе цену знают, любят одеться, то-се... Голодать готовы, а чтоб была машина. Конечно — нужна культура, культура и опять же — культура. Архитекторы, в среднем разрезе, люди очень даже культурные. Однако Костырик не из таких. Его родители — люди простые, — откуда ихнему сыну набраться? К тому же по его серьезному складу он не так чтоб особо шустрый, как некоторые другие! Да и отец его не имел возможности дать простор тому же самому Всеволоду. Сама видела, он не брезговал и малярными работенками. Малый из рабочего класса! И я им, надо сказать, гордился. Поскольку сам человек рабочий, но не достиг.
Вырвала жизнь у него из рук голубую пташку. И по чьей же милости? По милости моей дочери. Тут бы мне кинуться хлопотать. В институт. К министру высшего образования. А дома у нас — беда. Пишу тебе вот уже третий вечер. А мама наша тем временем лежит с обмотанной головой. Однако сказано: не о мертвом думай, а о живом. Такова жизнь.
Возвратились мы после похорон, а соседи Морозовы, которым вы, мои дорогие дети, въелись в душу своими криками, кляузами и озорством, убрали всю нашу квартиру, полы перемыли и вынесли из спальни его кроватку, чтоб мать не видела, собрали всю его одежонку и спрятали у Сидоренков (у тех, у которых наша же Вероничка на двери намалевала: «Вы — индюки»).
Встал я утром, побрился, надел английский костюм, при всех орденах, и пошел в институт. То-се, говорю, мое дитя виновато, с нее и снимайте голову.
А они: «Невозможно, чтоб ваша дочь. Такая она, сякая, разэтакая, раскрашенная — видать, прошла сквозь огонь и воду. И опять же по возрасту не выходит».
Я: «Да как же так не выходит? Кому лучше знать насчет ее возраста, мне или вам?»
А они: «На своих детях люди не замечают. Это очень обыкновенно».
Что долго описывать, пришла беда — открывай ворота.
Я подался к его родителям. Старик Костырик обил уже все пороги. Что рассусоливать?.. На другое утро собрал я свою бригаду. Направились к министру по высшим школам. Все при военных отличиях. Ему доклад: так, мол, и так, мол, — рабочие. Группа. При спецовках, в орденах и медалях.
Принял без очереди.
Я объяснил, что и как. Мне, мол, Костырик не сын, не брат. Он человек из моей бригады. Как же, мол, подобная несправедливость, ведь отец его инвалид войны, Костырик Всеволод был основной кормилец!
Что долго описывать? Восстановили Костырика по личному приказу министра, принимая во внимание инвалидность отца и что сын — кормилец. Зачислили Всеволода на вечерний того же самого института.
Тут уж ихний декан отбил телеграмму в военную часть: так, мол, и так, мол, отправляйте. Восстановили.
Стало быть, таким образом, твое пожелание, дочка моя, исполнилось: хотела — выбросила, захотела — восстановила.
Так. Пишу пятый день. События не оборвались.
На следующее утро приходит на твое имя письмо из Института дефектологии. Так, мол, и так, мол. Вы, Кира Ивановна, зачислены на работу. Являйтесь. С превеликим к вам уважением. Профессор.
Прихожу в Институт дефектологии — прямо к руководителю: а профессор, оказывается, женского полу. Встает. «Это вы, говорит, товарищ Зиновьев? Мне очень даже приятно, я даже, можно сказать, мечтала».
И все мне выкладывает.
Тут и я ей выложил тоже про то веселье, которое ты нам всем предоставила.
А она: «Я была в Лондоне, иначе всему бы этому не бывать. — И утешает: — Хорошая, говорит, у вас дочь. Вы не особенно убивайтесь».
А я: «Полно вам! Слыхали бы, как мне про мое же дитя позавчера в институте аттестовали!»
А она: «А вы их не слушайте. Они вам наговорят!» И хохочет.
«Ваша дочь, говорит, человек. Я — постараюсь. Я ее выработаю. Очень уж молода!..»
И тут я, Кира, поверишь, в первый раз и единственный после нашего горя, заплакал. Плачу. Она молчит. Сидит, опустив глаза. Руку на прощание протягивает и говорит: «Спасибо вам за доверие».
Так. Теперь о тебе.
Я давно сказал: до Костырика, детка, ты еще не достигла. Всеволод — человек солидный. Он, почитай, и ребенком-то не бывал. А ты — ребенок, может, вечный ребенок, и что из тебя образуется, сказать покуда что преждевременно. Я не профессор. Надежду, конечно, имею, но я — отец.
Одно скажу, дочка моя любимая: девица должна г о р д е т ь — это главное украшение женского пола. Как мужчина тебе говорю. Ты ему дорого обошлась. Но разве он тебя добивался?
Нет!
И больше к этой мелкой детали не возвращусь.
Вместе с этим письмом перевожу тебе сто рублей (мать знает, что тридцать).
И вот тебе мой совет: он — в Москву, а ты ни в какую. Он тебе не иголка, ты ему не нитка.
Большое горе постигло тебя. Надобно его пережить, а дома у нас нехорошие обстоятельства — мать болеет и плачет: «Не уберегла». Напиши ей, дочка, скажи в письме, что летом, мол, возвращусь живая-здоровая. Ты мне, мол, мама, нужна позарез. Кавалеров неоднократно много, а мать — одна. В таком духе. Понятно? Письмо — лично ей. И на адресе ее личное имя-отчество.
А теперь ответ тебе по поводу совести. Рассуждать, как ты, не умею, школы я не оканчивал.
Есть ли плата за совесть?
Нет.
Есть отплата за жертву?
Нет...
А за любовь?
Не знаю.
Хочется, конечно, человеку мал-маленечко справедливости. Вечно будут люди за это бороться. Это их двигатель.
Помню, был я, значит, демобилизован. Еду в поезде и горько так говорю: вот я, говорю, демобилизовался, а мне стекла не вставили. А стекла, между прочим, вылетели от бомбежки. Наобещали с три короба. И вот вам вся благодарность.
А на соседней полке, значит, едет старик. И вот какой мне дает ответ: «А ты кто такое есть? Ты разве не государство? Вот именно что государство. С себя и спрашивай, с себя и с таких же, как ты. А с кого ж еще?»
Оканчиваю письмо. Сижу на кухне. Двенадцатый час. Мать спит. Девятый вечер, как прихожу с работы, сажусь и строчу.
Вчера отобедали, сел я писать. А ко мне врываются Ксана и Вероничка. «Напрасно пишешь, отец, поскольку Кира уехала в Африку. Она — за независимость негритянского населения».
Но ежели что (не так ли?), тебе, моя великая героиня, это письмо и в Африку перешлют.
А покуда что остаюсь твой отец.
С уважением Зиновьев, Иван Иваныч».
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Земля раскаялась. Пожалела людей, которым принесла и беды и горе. Потеплело. Как оно и положено, заблестели оконные стекла. Потемнел снег. Вода потекла с крыш, принялась долбить тротуары. «Кап-кап; свет-свет; побыстрей-побыстрей; так-так». (Ждите к вечеру гололедицу.) Из белизны выпархивали влажные темные пятна деревьев. Их разутые и раздетые ветки причудливо пересекали небо.
...Звонкие голоса детей; скрип полозьев по снежной горке; стук шагов, не смягченных снегом; смех; верещание капель... А всем все равно... Не остановятся, не раззявят рты, по-одумаешь, оттепель (смотрите барометр!).
Погодите-ка... Вот один, который все же раззявил рот: он сидит у дверей своей мастерской, надев короткую куртку и модную меховую шапчонку, наподобие пирожка. В стеклах его пенсне отражаются времена года.
Часовщик не хозяин времени, он всего лишь его слуга. Однако гляньте на его блещущее пенсне! Он умеет жить, и неплохо жить... Умеет красиво блестеть очками!.. Как здорово он умеет!
Светлая мгла ютится только в пассаже — здании с навесом, который подперт не идущими к делу колоннами коринфского ордера. Но если податься влево, — из переулка, бегущего от центральной улицы, навстречу выйдут красивейшие развалины.
Часовня!
А может, вовсе и не часовня. Может, бывший костел. Костел или церковь...
Из зыбких теней, какие возникают только на ярком дневном свету, выпархивает таинственность недостроенного. В обрушившихся камнях читается множество форм, из которых как бы ни одна не договорена.
Под закомарами — фрески. Они в хорошей сохранности: роспись древнего мастера, должно быть, открылась вновь, когда осыпалась штукатурка, наложенная на фрески при реставрации.
Из рамы поздних напластований, снесенных ветром и снегопадом, выступает ярко-синий платок на черных вьющихся волосах, глаза удлиненной формы — до того безмятежные, что кажутся лишенными выражения, девичий полуоткрытый рот... Плечи — покатые; рука, поддерживающая младенца, скрыта еще не осыпавшейся штукатуркой.
Переулок узкий, горбатые улицы вымощены булыжником. Дома отбрасывают на землю островерхие тени.
Напротив развалин, в одноэтажном доме, — певческий клуб. Так и написано: «Певческий клуб». По-русски.
Играют гаммы. Странный звук... Не фортепиано, а фисгармония... Небось досталась клубу от какого-нибудь старого монастыря.
Конец переулку. Впереди — литая парковая ограда. Вот он — домишко Жанны, увенчанный флюгером — «Пеки-Буком».
Дверь подъезда широко растворена, оттуда выносят мебель. У фасада стоит грузовик, у грузовика — хлопочущая хозяйка, одетая в стеганку и пуховый платок.
— О-о-о!.. Зольдат! Извините, месье зольдат...
— Здравствуйте! Кира дома?
— ...?!
— Вы, кажется, переезжаете?
— Да!.. Нам дали новый квартира... Посередине город. В красивый дом.
— Можно подняться?.. Я бы хотел оставить Кире записку.
— Разве месье зольдат не знает, что Кири нет, что Кири уехал?..
— Я... Я ничего не знаю. Я... я болел. После той ночи... В общем, я только сегодня вышел на улицу. В первый раз... А когда уехала Кира?
— Ах, у меня такой нехороши память... Я все забыл, даже адрес наши дорогой Кири...
— Могу вам дать ее адрес.
— Нет, месье зольдат. Вы не можете дать ее адрес... Кири уехала на острова... О-о-о! Вы, кажется, огорчились?.. Вам не нравятся острова? Так красиво на острова!..
— Простите, пожалуйста... А Кира... Она ничего мне не написала?
— Ньет! — расширив глаза, ответила Жанна и отошла в сторонку. В кузов грузовика укладывали никелированную кровать и обеденный стол. — Извините, месье зольдат... Бедны, бедны месье зольдат!.. Ничего!.. На остров так хорошо, так красиво, там весною травка и всякий птиц... И олень, и лодка... Не беспокойтесь... Кири будет там хорошо...
Тем временем молодой парень, внук Жанны, осторожно вынес на улицу странный пакет: голубые и розовые изразцы... останки старого очага.
— Познакомьтесь... Мой внук!
И Жанна ласково улыбнулась. Она улыбнулась, и сделалась очень заметна щербина на подбородке, вмятина, след ушиба или ранения.
— О-о-о, месье зольдат! Не надо так огорчаться... Жизнь, он такой большой... И такой красива... Вы — молод. Время придет — зольдат построит прекрасный город; дворец для хор... Вы ведь будете архитектор?.. Вернитесь, вернитесь, месье зольдат!.. Кири мне дал для вас одну вещь. Вот это кольцо. Кири сказал: «Если придет зольдат — отдайте ему на память это кольцо. Бирюза — победительный камень». Возьмите, месье зольдат!.. И постройте город, чтоб много высоких, много красива, высоки дом!
...В клубе шла спевка. Что-то у них не ладилось. Голоса умолкали. И вдруг — опять:
Тишина. Фисгармония. Хор.
Тишина, фисгармония. Хор.
Тишина. Фисгармония...
Пробежала девочка. Покатился по грязной мостовой яркий мяч. Прошла старуха, толкая перед собою стул на полозьях. На его сиденье — кошелка. В кошелке — овощи. Полозья взвизгивали по оголившейся мостовой. Матрос. Солдат. Две школьницы, размахивающие портфелями... Но вот впереди чьи-то ноги в красных чулках — большие... Лодыжка, тонкая, походка подросточья, правая нога ступает чуток косолапо. На дороге — камешек, нога осторожно толкает камешек...
...Кира!
Сева закрыл глаза. И полетел вверх. Он мчался со скоростью света.
...Качнулась ветка, послышался смех; в его руках целлофановый мешочек с картофелем; пузырится сельтерская вода в стакане; лестница; стерня в том поле, что бежит от дома родительского к полотну железной дороги; взлет ручного фонарика...
Сева раскрыл глаза.
Ноги в красных чулках и стоптанных полуботинках отошли вперед всего на один шажок. (Ведь он летел со скоростью света!)
Девушка впереди была ростом пониже Киры и шире ее в плечах.
Воздух, который вокруг Земли, тотчас же улетел на Венеру. Безвоздушное пространство вокруг планеты Венеры спустилось на Землю.
И Земля лишилась всех своих земных признаков: умерли деревья; перестал бежать дымок из трубы...
Всему недоставало воздуха... Муравьям и личинкам, которые муравьи положат весной; птицам, рыбам в Балтийском море (само собой разумеется, что им не хватило воздуха и в других морях. И во всех океанах). Даже медузам и тем недостало воздуха. И они умерли.
По омертвевшей земле шагал человек, которого звали Севой Костыриком. Под его ногами были мертвые камни; по сторонам улицы — умершие дома. По правую руку — разрушенный, старый костел. С фрески глядела девочка, которую отчего-то прозвали мадонной. Мадонна держала на руках мальчика. Сашку!
«...Не вернешься, Кира. Я знаю... Я буду старшеть... Стареть... У меня народятся дети... И внуки... И только изредка сердце мое сожмется былой, моей единственной... слышишь?! — единственной любовью!
Кира!.. Услышь слова любви, о которой я почти ничего не знал. Кира! Увидь, как я, спотыкаясь, брожу по городу...
Не простишь... Не услышишь. Не возвратишься...»
Коридоры улиц переполнены ушатами дребезжащего света.
...Часы над мастерской часовщика. Инвалид Отечественной войны сидит у двери своего дома. Он одет в короткую куртку и модную меховую шапку. В стеклах его пенсне ликует, сияет и блещет карусель времени: в них отражаются времена года.
ПЕКА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Сквозняк! Сквозняк!.. Но уж, знаете, здесь ничего не поделаешь. Комнату все же надо проветрить, особенно если хозяйка курила всю ночь.
Это вредно, плохо, а вот она — дура! — курит и не спит по ночам.
Она, видите ли, курила, а губы, само собой разумеется, сильно накрашены, пепельницы переполнены окурками, измазанными помадой. А сегодня — пятница, надо из детского сада забирать Пеку и надо, чтобы было чисто.
— Иллюминация, иллюминация, — говорит соседка Александра Алексеевна, по-хозяйски протягивает в комнату руку и гасит свет.
И тут же делается почти совершенно темно.
Дом — на Невском. Он — старый. Какие в то время были дворы, глубокие, узкие и печальные! Как жить в таких квартирах? Как жить вот в этакой комнате, окно которой упирается в противоположную стену? Когда солнце, — оно играет на той стороне стены, робко ложится на край подоконника. Но в комнату не врывается, в эту комнату даже и в ясный день входят сумерки, только сумерки.
По полу, освещенному тусклым светом, топают босые, узкие ноги. Разработанные: балетные. Хозяйка ног в прозрачной ночной рубахе — немецкой, с розочками у выреза. Очень практично! — простирнуть такую рубаху пустяк — раз-два!
Топают по влажному полу босые ноги. Она убирается, убирается... В одной руке — тряпка, в другой — папироса.
— Спектакль! — вздыхает яростно из коридора Александра Алексеевна и хлопает дверью.
Однако в темной комнате все ж таки стало чисто. Все прибрано. Хозяйка даже переменила простыни.
Теперь, пожалуй, можно пойти помыться.
В руках у нее — заграничные тапки (такие тапки, не правда ли, не наденешь на влажные ноги); мыльница, зубная щетка, мохнатое полотенце (все это привезено из последних гастролей по ГДР).
В ванной комнате дремлет кошка. Заболев, Александра Алексеевна перестала менять ей песок. В ванной — хоть нос затыкай, хоть на стены лезь. Но лучше не вникать, забот хватает.
В действие приходит мочалка. С колен энергично стекает грязь. Еще бы! Ровно с неделю не убиралась: времени не хватало.
Все! Насыпала в воду порошок «Дарья». Замочила в тазу с холодной водой ночную рубаху. Голая, совершенно голая, в заграничных красивых тапках, умиротворенно возвращается она в комнату.
— Комедь! — стонет Александра Алексеевна за полузакрытой дверью. — И когда это кончится, господи, господи!
«Оно» окончилось. Потеряв терпение, молодая женщина изо всей силы хлопает дверью своей полутемной комнаты, зажигает свет («Иллюминация, иллюминация!»).
Момент ответственный. Она рассматривает в зеркало свое шустрое, молодое лицо.
Косметика вышла из моды, лучше не краситься. Эдак лицо, с очень коротко, по-мальчишески стриженными волосами, выглядит современнее. Но если ты актриса, привыкла к гриму и к тому же всю ночь не спала?..
Она несколько заколебалась, глядя на свою новую драгоценность — японские ресницы в крошечном мешочке из целлофана.
Не плохо бы. Но в детском саду не обязательно потребуются наклеенные ресницы.
Так. Причесаться, теперь поскорее одеться. Кожаные брюки и шерстяной джемпер. Сверху длинный жакет под зебру.
Ничего не скажешь — она хороша. По правде сказать, этого-то как раз никто не оспаривает. Говорят: «Хорошенькая, но круглая дура, набитая дура. И вообще у балетных ум выше колена не поднимается».
Ей столько раз приходилось слышать: «круглая дура», это с такой готовностью ей передавали подруги («Если я тебе не скажу, кто ж тогда? Ведь я твой лучший друг!»), — что она полностью уверилась в своей глупости и меру своих умственных способностей не обсуждала даже и про себя.
Только один человек никогда ей такого не говорил. То есть, быть может, были еще другие, которые тоже не говорили... Но этот «один человек» внушал ей как раз обратное: «Ты умна — как ветер, как дождь, как трава... Ты больше чем умная. Ты — мудра!»
А на улице влажно, — видно, был дождик. Не взять ли для Пеки ботики?
Нет. Не будет она таскаться, и так сойдет.
...Но на улице дождик был, а теперь — свет, свет, свет, и все на нее оглядываются.
Она идет, сияя глазами, вскинув небольшую, коротко, как у мальчика, стриженную голову, высокая и худая. В кармане остались ее заботы. Заботы там, где соринки, в самом углу кармана, там, где спички, бумажка с чьим-то наспех записанным адресом, две копейки для автомата, окурок от папиросы.
Ну не глупость ли это?
Казалось бы, ветру забот взметнуть ее, пронести над крышами и прямо — в светлое небо — ее, с ее кожаными портками и сумкой через плечо.
А у нее голова забита любовью.
Она беспричинно радуется тому, что идет по улице.
«Набитая, круглая, у балетных ум — короче, чем мини-юбка».
2
Он застенчивый, толстый и тихий мальчик: легкий ребенок, — сам одевается и раздевается в детском саду, ест быстро и хорошо, ни с кем почти никогда не ссорится. Если бы Пеке ждать, чтобы обязательно помогали одеваться и раздеваться, — ходить бы ему голым всю жизнь, — а ведь он родился на Севере. Ему бы голым ходить или спать одетым в то время, как мама отклеивает или приклеивает ресницы и бережно их укладывает в мешочек из целлофана. Если бы ему ждать, чтобы мама его уговаривала поесть, быть бы ему голодным. Если б ему орать, кто бы стал обращать внимание на его крик?
Вот он и сделался тем, чем был: прекрасным ребенком для детского сада — ни малейших забот воспитателям.
Это все же не значило, что в нем не буйствовали тайные страсти, желания, любовь и ненависть. Кому, однако, дело до его страстей?
Больше всего на свете он любил свою маму. Таких беспечных мам всегда любят их сыновья.
Когда она за ним приходит по пятницам, от радости он не в силах вымолвить: «мама», — ликуя, глядит, на нее и, медленно к ней приблизившись, переводя дыхание, гладит ее жакетку, растопырив короткие пальцы. Год назад он ей сочинил: «Ты моя красавица, всем ты очень нравишься» — и очень часто пел эту песню себе под нос.
— Пека! — говорит мама. А он молчит, он краснеет от радости и разглядывает ее исподлобья.
— Петруша! Счастье ты мое ненаглядное, — механически говорит мама, а потом воспитательнице: — В понедельник Пеку не приведу, я его забираю с собой в поездку, соседка у нас заболела, в будущую пятницу некому будет за ним прийти и побыть с ним в субботу и воскресенье.
— Да как же так, Неля, — отвечает ей воспитательница. — Тебе трудно будет... Шутка ли, ребенка в поездку?
— Ничего не поделаешь, — отвечает Неля. — А куда ж я его, на помойку, что ли?
— Да что ты, Неля?!
— Пека, — говорит мама, — ты что, уснул? Давай-ка я тебе помогу обуться.
— Неля, — говорит воспитательница, — захвати с собой его тапки, они ему очень понадобятся в дороге, от сапожек у него устают ножки.
Воспитательнице двадцать пять лет, точно столько же, сколько Пекиной маме. Она — заочница, учится на историческом, в университете.
Пекину маму она «котирует». Актриса! Не раз приносила ей контрамарки. Воспитательница была — как предполагала — абсолютно в курсе всех местных эстрадных дел. «Что там творится, как затирают Нелю, представить себе нельзя! Она — железная!»
— Ты его, Неля, не перекармливай сладким — все ж таки у него диатез, — это раз, и следи в поездке, чтобы он сырую воду не пил, ты же знаешь, он любит исподтишка открывать кран... А что это у тебя за жакетка? Новая? Из ГДР?.. Богато живете, черти. И, между прочим, я хотела тебе сказать, ты неудачно купила ему сапожки. Лучше бы со шнуровочкой, как у всех. Ему трудно эти напяливать, и сапожки тяжеловаты. Ладно, Пека, — дай пять! И смотри за мамой. Ты мне за маму ответишь, Пека!
— Отвечу! — с готовностью соглашается Пека и подает «пять».
Они очень серьезно обмениваются рукопожатием, и он сияя выходит на улицу рядом со своей мамой.
Ни одна из двух молодых женщин не потрудилась помочь ему аккуратно надеть берет. Уже выйдя из детского сада, мама все же заметила, что берет как-то странно торчит на его большой голове.
— Погоди-ка, Пека, — присев на корточки, она, чуть прищурясь, натягивает берет на растрепанную головенку мальчика; подумала и сдвинула посильней на правое его ухо.
— Сойдет, — сказала она задумчиво и взяла его за руку.
Он был в кожаных черных брюках, расширявшихся книзу, в лохматой куртке. Куртка была вся в пятнах, а брюки... Ну что ж? Все это она приведет в порядок. Им лететь только завтра. Впереди — ночь.
3
Неля:
«Это у них зовется не любить, а строить личную жизнь.
Мой отец говорил когда-то давно, когда я была совсем маленькой: «Зимой мы состроим Неле пальто». Строят — дома, плотины, мосты, заводы. Но когда кто-нибудь говорит: «Построить семью», — я принимаюсь хохотать. Я хохочу так же глупо, как если мне говорят, что кто-нибудь кого-нибудь обокрал. Мне это почему-то кажется очень смешным. И я фыркаю.
А мне: «Вот обокрадут тебя, упрут твои заграничные шмотки — увидим, как ты станешь тогда хохотать. Ты же лопнешь со смеху». И еще они говорят: «Ты — дура!»
Так вот я, дура, должна поехать туда, чтобы изжарить ему яичницу. Я хочу на него стирать и ему готовить, но разве такое значит: «построить жизнь»?.. Я — люблю, люблю...
Его не будет дома, мы к нему войдем вместе с Пекой... А как войдем? И кто нам откроет дверь?
Я не знаю. Но как-нибудь да войдем. Пеке я дам что-нибудь такое... чтоб он отстал, хоть книгу, что ли. А сама начну прибираться. Разуюсь, вскипячу воду и приберусь. Он после работы придет домой, а дом — на себя не похож. Дома — чисто, чисто, и дома — мы. Я соберу на стол. Я... я... что-нибудь такое... Я... я ему — яичницу...
Я лечу в Тольятти, чтоб приготовить ему яичницу!
Да, да — я летела сквозь облака, над землей, чтобы изжарить тебе яичницу. Александра Алексеевна заболела, и я взяла с собой Пеку. Да, да, конечно, — он не твой сын, — но куда ж мне его девать? Я взяла Пеку. Я знаю, ты любишь Пеку, и мы прилетели, чтоб изжарить тебе яичницу.
Над землей мы летели. Внизу, понимаешь, были огни. Стюардесса сказала: «Прошу вас, граждане пассажиры, застегнуть ремни».
Мы затянули ремни, а потом отстегнули ремни. И стали видны далекие городские огни. А потом — ничего не видно, потому что мы уже летели над облаками. Неровной грядою лежали они, как странное белое поле. А здесь, наверху, еще виден закат! — багровая полоса неба. Она была узкой... А потом провалилось солнце, ушло, уехало.
А мы все летели, летели. И все время под нами была земля. А глаза мои голодны по тебе... Будь рядом! Будь близко!.. Больше я не могу!
Мы летели к новому в моей жизни аэродрому. Уф! И сколько же я в своей жизни излетала, изъездила. Мы летели к новому аэродрому и к новому городу. Я, Пека, скрипка и чемодан (мы легкие пассажиры). Во мглу прилетели мы, во мглу ночи.
Пека захотел спать. Он заныл. Я взяла его к себе на закорки. Во влагу ночи, в ветер — вперед!.. (Говорят, что у вас ветра!) Мы шагнули к машине и поехали, покатили: к гостинице. Он спал, и мы рассекали ночь. Рядом был чемодан. В чемодане его одежка и мой костюм. И рядом — футляр от скрипки.
Мы ехали как все добрые люди. И никто не знал, зачем мы ехали и летели.
А мы, понимаешь, летели и прилетели для того, чтобы изжарить тебе яичницу.
Ты постучишь, я открою дверь.
«Здравствуй. Входи скорей. На столе — яичница».
Вот только и всего».
4
На конкурсе эстрадных актеров в Москве она получила премию. Вторую... Правда, директор Ленинградской эстрады, бывший танцор, и Эмилия Яковлевна — балетмейстер (Неля ее называла «Квяка», потому что Пека так выговаривал ее отчество) — рассчитывали, что она отхватит первую премию... Номер был острый, проработанный до мельчайших подробностей, изящный, смешной... (Молодчина Эмилия Яковлевна!)
— Эмилия Яковлевна, я устала, больше я не могу, не буду.
— Отдыхай танцуя. Начнем сначала.
«Новый скрипач в оркестре», по одноименной музыке Петрова — ленинградского композитора.
Когда Неля впервые услышала эту музыку, она заявила, что не будет поспевать в темпе, потому что это вообще нельзя танцевать. Но, разработавшись, стала обгонять музыку.
— Слушай музыку! Танец — музыка, музыка, музыка прежде всего... И это всегда — что бы ты, между прочим, Неля, ни танцевала.
Уставшая Неля плакала.
— Неля, — говорила Эмилия Яковлевна, — иди сюда, я тебя, на всякий случай, благословлю.
— Эмилия Яковлевна, Квя...
— Говори. Я все равно знаю.
— Квяка! У меня перегорят мускулы, как у Эдика!.. Вот увидите.
— Неля, давай начинать сначала, не мелочись.
И Неля все начинала сначала, сначала... Нет! Не для будущей публики. А для Эмилии Яковлевны.
Они прорабатывали «актерскую сторону»; слияние танца с музыкой; из Нели выжимали всю ее гротесковость, эмоциональность.
Танец ей здорово подходил, хорошо ложился на ее данные. Она исполняла мужскую роль — у нее всегда получались мальчики.
Музыкант — опаздывал. Он опаздывал на свой первый концерт. На нем — коротенькое пальто. В руках у него — огромный футляр от скрипки. Он бежит по сцене, как будто бы обгоняя время. «Голосует», пытаясь остановить проезжающие машины, автобусы, троллейбусы, грузовики. Все напрасно! «Рушится» его первый концерт.
И вдруг — дождь. Где спрятаться от дождя? Как укрыться от ливня и уберечь свой фрак?
Дождь, дождь. У неба нет жалости!
Ничего не поделаешь — в дождь, в вихрь, в смятение восставших непогод.
И вот уже музыкант летит навстречу победам — через всю сцену — прыжками немыслимыми (гран-жатэ). Он несется по воздуху. Не ноги танцовщицы, а самолет. Над городом, над домами — в едином стремлении вперед.
И поспел. На секунду выйдя за сцену, она сбрасывает пальтецо.
Музыкант перед публикой во фраке, с крошечной скрипкой, которую вынул из огромнейшего футляра (скрипка — величиной с ладонь).
Как он играет! Как пылко, как самозабвенно!
У музыканта страсть передает смычок. У танцора — движение.
То на коленях, то встав с колен; на одной ноге, на другой... Много скупых, едва уловимых жестов — четких, ритмичных, разнообразных... Исполненных музыки.
Музыка бьет через край. Это уже не танец — почти акробатика, полет, парение... Это — живая страсть, искусство и... и... И вот уже в изнеможении музыкант падает. Лежит недвижный, немой. Но что это — волны энергии — воли к жизни бегут по обессилевшим членам артиста... Где скрипка?
Он вновь играет на скрипке, лежа, закрыв глаза. На сцене маленький Паганини. Скрипач играет. Он все же играет. Победа! Зал замер. Музыкант как будто опоминается от хлопков. Выходит, кланяется — «высокомерно», едва снисходя до публики: он — покоритель. Это его победа!
Директор эстрады назвал ее номер истинно современным.
Но она должна была выступать седьмой, а ее ни с того ни с сего объявили третьей. Неля не успела не только как следует разогреться, но даже натереть канифолью ноги и руки. Это привело черт знает к чему. Во время танца, когда музыкант, как циркуль, вращался по сцене, выскользнул из руки смычок (это не было предусмотрено).
Ей присудили вторую премию вместо первой.
Три балетмейстера получили дипломы за постановки эстрадных танцев, — и Эмилия Яковлевна получила, но ей было обидно, что танцевала Неля не так, как могла. «И все это оттого, что мы недостаточно репетировали в день выступления. Нам следовало хоть сколько-то, сколько-то поработать. Я тебя пожалела. Ты меня умилила своим волнением. Но это — последний раз».
Как ни огорчался балетмейстер, в голове у него уже роились прелестные замыслы будущих танцев Нели, например «Шербурские зонтики».
Трудность в том, что Неля танцевала одна. И все это из-за Пеки. Был у нее партнер. Но кто же хочет подчиняться ее историям с детским садом, болезням ее ребенка. Она не раз срывала концерты, лишая партнера заработков, не раз отказывалась от дальних поездок.
В эстраде ей шли навстречу. Но партнеру, как и следовало ожидать, все это в конце концов надоело. Ей пришлось перестраиваться. Эмилия Яковлевна очень ее жалела. У них с партнером был мировой номер: «Доисторический человек». Он выходил на сцену под звуки хора, с высоко поднятой головой, прикрытый шкурой, — олицетворение юности, силы и мужества. Неля тогда исполняла женскую роль — роль беспомощной слабости. Она простирала к нему слабые руки, но знала, слышала: он оставит ее. Она влачилась за ним, обнимая его колени. Но он все-таки уходил. Оставлял — уходил в ту сторону, где рассвет, — молодой, сильный.
Она металась одна во мгле, под звуки крепнущего хора. С той стороны, куда он ушел, било солнце — багровые лучи его. И вдруг она понимала, что ей следует полететь за ним, и, взметнувшись, летела в прыжке, сквозь обруч с натянутой папиросной бумагой, в свет, в день, к избавлению от одиночества.
Когда она начала работать одна, никто не думал, что это кончится все же ее удачей. Никто не думал об этом, все каркали, кроме Эмилии Яковлевны, которая поддерживала танцовщицу, ободряла.
Неля с Пекой сильно нуждались: вспоминать страшно! Ведь практически она была без работы. Неля загнала свой демисезонный жакет и зимнюю шубу... Сколько раз в минуты слабости она прибегала домой к Эмилии Яковлевне. Эмилия Яковлевна обнимала ее, успокаивала, кормила обедом, совала — тайно от мужа — в Нелину сумку то пятерку, а то и десятку.
«Ей так трудно. Она — талант: артистична сверх всякой меры...»
И Неля взяла свое, как обещал ей ее педагог.
С новым номером ее включили в поездку по ГДР. Чего это стоило балетмейстеру — каких козней, каких интриг, — об этом Неля и не подозревала. Но она отлично прошла в концертах, хотя предполагалось, что ее номера «сложны».
Нисколько они не сложные: ее приняли преотлично.
Правда, с Пекой не обошлось без некоторых заминок и трудностей. Поездка была продолжительной — целый месяц. Пеку забирала в субботу, по договоренности, Александра Алексеевна — соседка, и это влетело Неле в копеечку. Но Александра Алексеевна хоть обстирывала его, кормила, отвозила в понедельник назад в детский садик. А у Нели были долги, ей бы просто не вывернуться, если бы не поездка в ГДР.
Тогда, перед тем как уехать, она нарочно разбросала в их с Пекой комнате два своих платья и кое-какое белье для того, чтобы он знал: она тут, тут. Она скоро вернется.
Как он без нее прожил? А ведь прожил! А что же ей оставалось делать?
Вот и сейчас, во время этой поездки в Тольятти, она хотела оставить его с Александрой Алексеевной, но та сказалась больной и ни за что, ни в какую. «Как-нибудь, как-нибудь».
Она не была запланирована в Тольятти, бригада уехала позавчера, Неля об этой поездке узнала случайно; узнала, пошла к директору, и плакала, и говорила, что ей тоже необходимо «строить личную жизнь». (Ведь другого языка они совершенно не понимали!)
Он сдался (надо думать, из-за Нелиной премии). А может, попросту пожалел Нелю?..
Она поедет теперь вдогонку с дополнительным номером. И все образуется, образуется... Как? Она не имела об этом понятия. Образуется, вот и все.
Удивительны все ж таки разговоры о глупости. Особенно о глупости творческого человека. Все вокруг забывают, что ум художника порой в легкомыслии и беспечности, ведущих к успеху.
Творческий человек — причудлив, интуиция его велика, а это значит, что он всегда намного умнее того, что создал и создает. Ведь это он со временем сделает свой большой или малый «прыжок Паганини». Он, — а не кто другой.
5
Неля сдала в багаж два своих маленьких чемодана — один с Пекиными вещицами, а другой — со своими костюмами и всем, что могло бы понадобиться ей для «центрального удара». Она сдала в багаж свой футляр от скрипки. В руках у нее осталась только правая Пекина ручка, — страх на Нелю нашел, как бы Пека не потерялся, — Пекина рука и летняя соломенная корзинка с едой для Пеки на вечер и утро. Тут же стояла бутылка, наполненная молоком, но пробку в спешке не нашла и кое-как закупорила бутылку самодельной бумажной пробкой. О бутылке Неля, разумеется, очень быстро забыла, и та начала заливать ее черные брюки молочными слезками. Хорошо, что брюки были из кожи, их удалось обтереть носовым платком.
Несмотря на то что уже вечерело, Неля надела модные голубые очки в костяной оправе.
В ожидании автобуса оба они шагали по аэровокзалу, На них оглядывались, и Пека тоже на всех оглядывался, он был счастлив. Он пел.
вот что очень громко распевал Пека.
— Хорошо поешь! — сказала ему какая-то пожилая женщина, присаживаясь перед Пекой на корточки. — Разрешите вам поднести по этому поводу, — и она подала ему пончик.
У этой женщины была с собой маленькая собака, черная, с острыми ушками.
— А можно мне ее немножко погладить? — задумчиво спросил Пека.
— Можно, — сказала женщина.
— А можно, я поцелую ее в лицо?
— Нет, твоя мама рассердится. (Она не знала, какая у Пеки мама!)
Присев на корточки, мальчик с серьезнейшим выражением гладил собаку растопыренными толстыми пальчиками. Он даже что-то ей говорил, уверенный, что та решительно все поймет.
И понимала, что ее ласкает ребенок, не тявкала, не огрызалась.
Радио объявило посадку на их автобус. Мама и Пека пошли к автобусу. Автобус тронулся, а навстречу ему — огни.
Был всего четвертый час дня, но в синеве вечереющего Ленинграда уже сияли, трепетали первые огни зажегшихся фонарей, окруженные лучиками. Светло еще было на улице, а огни — горят. Пека стоял у окна автобуса на коленях, мама обнимала его за пузо, чтобы не свалился.
Мама смотрела поверх его головы и думала: отчего мы так любим место, где родились, хотя бы и очень много на этом месте пережили горя? О том она думала, как радуется огням Ленинграда, когда возвращается из дальней поездки; о том, как дороги ей эти улицы, и Нева, и Аничковские кони; о том, что она любит здесь каждое дерево, каждое зажигающееся окошко.
А Пека думал про то, что он самый счастливый мальчик на свете, потому что сейчас полетит в самолете, а в самолете — летчик... И о том он думал: «А почему это не летают звери?» Если бы он был зверь, так он бы летал. А еще он думал, что вот приедет назад и расскажет в детском саду Максимке: «Летал!»
А Максимка ответит: «Врешь!»
«И почему это люди всегда говорят «врешь»?» — думал Пека.
А пока он был занят этими философскими мыслями, они подкатили к аэродрому.
Торопливо пошли по асфальту в толпе, толпа спешила на самолет.
К самолету вела широкая лестница, которая под шагами немножко дрожала.
Они с мамой вошли в самолет.
В самолете были кресла без всяких столов. И еще в нем были окошки.
Пека сел поближе к окну, чтоб ничего не пропустить. Самолет загудел, загудел, и вдруг побежало от самолета поле аэродрома; и вдруг самолет оказался в воздухе, а под ним — город, весь из огней и разных квадратов, а потом — не стали видны квадраты, а только огни. А потом не стало видно огней, а только большое небо.
И небо было все в облаках.
Они летели над облаками: он, его мама и соломенная корзинка. Виднелась в небе яркая полоса заката. Вспыхнула, загорелась, погасла, и небо вдруг стало черное. Но не было видно в небе никаких звезд, никакой луны.
Они летели к луне, и Пека знал, что они летят на луну, и даже начал немножко поджидать, когда же это они остановятся. А самолет дудел и даже чуточек дрожал от страха.
Мама сказала: «Пека, может, ты наконец выпьешь это проклятое молоко? Я им вся облилась».
Пека не хотел молока, но сказал «хорошо», чтобы угодить маме. Он пил молоко и заедал его кусочком печенья, а пока суд да дело, они летели, летели, летели к луне. Мама тихо запела:
Они летели, летели и прилетели. И купались с мамой в лунном озере — в таком, как было у них на даче. Он купался с черной собакой, которая хорошо плавала. Собака взяла у Пеки из рук пончик и съела его.
Пека:
— Тебе понравился пончик?
А мама:
— Пека, проснись! Пора.
Так сказала мама, и он сразу проснулся, и они с мамой спустились в ночь по той лестнице, которая немножко дрожала.
— Пека, не потеряй шарф, — попросила мама.
И оба зашагали скорей, скорей за тележкой, на которой лежали их чемоданы.
— Пека, давай побежим, — предложила мама.
И они побежали за этой тележкой и встали в очередь.
Встали и получили два чемодана и мамин футляр от скрипки.
— Пека, держись за мою жакетку, — молила мама. — Очень прошу, держись, а то потеряешься...
— В Тольятти, в Тольятти, кто едет в Тольятти?! — заорал какой-то дяденька с бородой.
— Мы едем в Тольятти, — живо сказала мама.
И они пошли в темноту, в ночь. И сели в машину. Там были еще пассажиры (и среди них бородатый дяденька).
Пека сидел на коленях у мамы. А в окне были ночь и поле, и никаких огней. Но вдруг они разгорались, редкие, большие, бежали навстречу машине... И все... Опять поле и снова ночь. А потом опять немножечко огоньков, но никаких звезд.
Улицы были темные и пустые. На ветру раскачивались белые фонари, только свету мало они давали: город все равно оставался темным. Он был влажным от дождика. Влажные и блестящие мостовые. А дома большущие. И в них пылали, горели окна.
— Гостиница «Волна», — сказала мама.
И шофер подвез их к маленькому забору.
Он подвез их к забору и вынул из багажника чемоданы и огромный футляр.
— Здоровая скрипка! — сказал шофер.
— Так задумано, — объяснила мама.
И вот они с Пекой стали звонить в чью-то дверь.
Это была дверь гостиницы.
6
— С ребенком, — заворчали в той комнате, куда она вошли. (Никто не любит, чтобы с ребенком.)
Здесь стояло четыре кровати и один большой стол. Кровати были разобраны, кроме той, к которой подошла мама.
— Здравствуйте, — сказала мама. И все ей сразу заулыбались. (Вокруг стола сидели три молодых девушки, а на столе карты.)
— Вы артистка? — спросила у мамы одна из них.
— Артистка, — сказала мама. И живо прошла к кровати, накрытой белым одеялом, стянула с Пеки шапку, пальто. Потом пошепталась с Пекой, и он сказал!
«Да».
В коридоре стояли девушки и курили. В уборной стояли девушки и мыли над раковиной чулки.
Вернувшись с Пекой назад, мама усадила его на стул и быстренько вынула ужин из той корзинки, что они прихватили с собой.
— Не мешкай, попрошу пооперативнее, мне некогда, — сердито сказала мама.
Но Пека хотел запивать колбасу, и вообще он понял, что его золотые часочки окончились, из мальчика он превратился в коня, мама будет ему говорить все время: «Не мешкай, Пека!»
Одна из девушек, которая разложила карты на самом углу стола, сказала:
— Вот вам чаек. Пожалуйста.
Мама быстренько сполоснула кружку и налила в кружку чаю. Чай был горький, но Пека не смел намекнуть. Он ел хлеб с колбасой и запивал горьким чаем.
— Вот тебе конфета, — сказала мама.
И он развернул конфету. Она была вся шоколадная и текла. Руки у Пеки стали коричневые.
— Началось! — сердито сказала мама. Намочила край вафельного полотенца в остатках чая и вытерла Пеке руки.
— Ты сыт? — спросила она. — Умыт? Накормлен? Напоен?.. Все. Давай закругляйся, спи.
И быстро раздела Пеку. Он лежал в кровати и притворялся, что крепко спит, но не спал. Он все видел: как мама сняла жакетку, взяла распялку, повесила ее в шкаф; как мама взяла волосяную щетку и быстренько причесалась.
Громкоговоритель пел серенаду Шуберта. Мама все бросила и закружилась по комнате, запрокинув голову и крепко закрыв глаза.
— Я влюблена, влюблена, девки!.. Я — помираю! Освежите меня яблоками![2]
— Яблок нету, — виновато сказали девушки. — Ты давай садись! И напейся чаю.
Он слышал, как мама сказала:
— А неправильно вы гадаете! — И девушки удивились. — Давайте-ка я, — предложила мама. — Я подожду актеров, они в двадцать пятой комнате. Как вы думаете, услышим?
— А как же! Им мимо нашей двери ходить — аккурат по этому коридору.
Мама и три девушки, притулившись друг к другу, сидели, склонивши головы, над уголком стола.
На столе были карты, графин, стакан и квадратное зеркало мамы.
Мама с девушками громко о чем-то шепталась, и казалось, что мама приехала сюда, в Тольятти, только для того, чтобы погадать девушкам.
— И бывают же, правда, люди такие простые, хорошие, — сказала самая молодая.
Она была толстая, вся в кудрях.
— ...Мы, понимаешь, матросами на пароходе. А через месяц закончится навигация. Что будем делать, в толк не возьмем!
— Ничего, — подперев кулаком щеку, сказала мама, — матрос — работа хорошая. Шутки? Все время по Волге, по Волге.
— Это верно, — сказали девушки, все объясняют нам, что работа хорошая...
И они продолжали шептаться с мамой.
— А я еще не решилась, — сказала старшая. — Мне рабочей на стройку. Учеником маляра. Я еще не сказала ни да, ни нет.
— А кем ты хотела? — спросила мама.
— Я? Секретаршей, что ли... В общем, кем-нибудь в канцелярию.
— Ты опухла! — сказала мама. — Когда выучишься на маляра — сможешь по вечерам прирабатывать. Живая копейка. И потом, на стройке — полно ребят... Познакомишься, влюбишься, выйдешь замуж.
— Этого добра здесь хватает! — вздыхая, сказали девушки.
— Да я ж не одна приехала, — заметила та, которая собиралась стать маляром. — Мы вместе приехали... Думали устроиться, получить квартиру... А он!..
Они шептались, шептались, а свет от лампы пронизывал графин, в котором вода. По столу, по белой скатерти бежали круги, как мелкие волны. Свет от лампы и свет от графина сливались, превращаясь в желтый поток.
Потом мама сказала Пеке, приложив губы к его щеке:
— Мое высочество — теплое, толстое, — так сказала мама и обняла Пеку. — Я тебя больше всех на свете люблю.
Мама обняла Пеку, который спал и сквозь сон сказал себе, что ему хорошо. Ему было так хорошо, что жалко было продолжать спать.
Лампа погасла. Теперь в комнату входил сквозь окошко свет от уличного фонаря.
Мама дышала ровно. Она чувствовала, должно быть, теплую близость Пеки. Дыхание ее ударялось о голую руку, которую мама согнула. Ей приснилось, что это дышит сурок, которого они однажды завели с Пекой. Невинное, теплое, кроткое дыхание сурка ударялось о мамину руку двумя отчетливыми резкими струйками. Это дышал не сурок, а хомяк, которого они однажды завели с Пекой. Хомяк был маленький. Не хомяк — хомячишка. Усики у него дрожали, глаза блестели, живот был пухлый. Хомяк был шустрый, любил умываться: он аккуратненько умывал свои крохотные розовые ладошки. Потом аккуратненько вымывал себе ногу: вытягивал ногу, вылизывал каждый розовый пальчик на одной ноге, на другой.
И все эти теплые дыхания смешивались. С улицы входил в комнату едва уловимый свет. И бились, бились в комнате молодые сердца, полные ожиданий, опасений, надежд.
По темным улицам тихо шагала ночь, прилепила губы к стеклу окна, дохнула в открытую форточку, поднялся ветер, вздул белую занавеску.
Рассвет потеснил ночь, утро — рассвет. По улицам побежали машины. В тишине комнаты послышался шорох шин. А утро все разгоралось и разгоралось. И яркое, светлое солнце взяло и взметнуло белую занавеску.
7
А утром все встретились: мама, актеры, Пека и все шумели. Все называли маму «деточкой», «лапушкой»... Потом актеры ушли репетировать, и мама сказала им, что придет попозже, только накормит Пеку.
Мама с Пекой спустились в буфет, сели за отдельный маленький столик, и все, кто здесь был, смотрели на Пеку и его маму, на их кожаные красивые брюки.
Потом, когда мама стояла в очереди, какой-то дяденька наклонился к Пеке и тихо его спросил: «Мальчик, ты тоже артист?»
— Да, да. Я артист, артист...
И мама расхохоталась.
От буфета она принесла к столику четыре яйца, кусочек жареного цыпленка, сметану и два пирожных. Она подала Пеке чайную ложку и сказала тишайшим шепотом:
— Верно, хороший завтрак? Если бы мы всегда так хорошо завтракали!..
И вдруг взглянула на Пеку и осеклась: у него сделалось томное, виноватое выражение лица, словно он был виною того, что не всегда хватало у них деньжат на очень хороший завтрак.
— Ничего, ничего, — зашептала мама, — теперь уже все в порядке, теперь у нас с тобой будут деньги. Мы будем с тобой всегда хорошо есть.
Но он все еще почему-то не мог опомниться и не решался взять яйцо.
Она облупила ему яичко и велела не забывать про хлеб.
Он любил яйца и ел с удовольствием, виновато глядя от блюдца с яйцом на маму.
— Пека, не мешкай, ешь, — сказала она. И тут же: — Сметану будешь?
— Буду, — робко ответил Пека. Он был сыт, наелся. Но завтрак был очень хороший, он это понимал и, давясь, продолжал есть.
— Я оставлю тебе на после второе яичко, — догадавшись, сказала мама. — Я его положу на стол возле нашей кровати, а ты, когда погуляешь и проголодаешься, придешь и поешь потихоньку... Ляжешь и отдохнешь. Я тебе положу хлебушка и пирожное. Хорошо?
— Ладно, — ответил Пека, — продолжая очень медленно есть.
— Взять тебе еще кофейку горячего?
— Возьми, никто тебе не запрещает, — солидно ответил Пека.
Она принесла ему стакан горячего кофе, но пить его он уже не мог, глядел на стакан и вздыхал, моргая.
— Знаешь ли что, мой друг? Хорошего понемножку, — сердито сказала мама. — Мне надо спешить. Мне еще репетировать...
Наверху она надела Пеке пальто и берет, вышла вместе с ним на улицу и велела гулять вон тут: не дальше тротуара и этого садика. Она велела не только не переходить мостовой, но даже и не глядеть в ту сторону.
Мама ушла. Пека остался один у здания гостиницы. Он долго смотрел вслед маминой удаляющейся спине. Все меньше, меньше делалась мама и, наконец, вскочила в автобус.
На улице было солнце. Вокруг был новый для Пеки город. Город большой, широкий, с домами большущими, высоченными... Аж до самого неба были дома.
Там, в гостинице, яркое солнце било жаркими лучами о доску стола и об яйцо, что почистила ему мама... А здесь, в высоком холодном небе, кудрявились облачка... Вот одно, похожее на ворота. Поплыло, поплыло и начало осторожно таять над крышами. Вдоль тротуара стояли деревья — желтые... Внизу, на земле, были листья — тоже желтые, покореженные. Если ветер дул — листья потихоньку шуршали. Если толкнуть ногою — тоже шуршали. А вокруг гостиницы был очень хороший сад. А в саду сушилось белье. Оно сушилось на длинной веревке. Белье то вздувалось, то опадало.
В саду пахло прелью опавших осенних листьев и свежестью влажного белья.
Пека шагал по саду, засунув руки в карманы.
Времени прошло еще совершенно мало, но было скучно, словно уже пробежал весь день. День будто прошел — а он все один да один.
Мальчик присел на корточки и принялся собирать черепки и камешки. Скоро он набрал их целую горстку, целую кучку, большую гору. До самого неба была гора. Наверху лежало синее стеклышко — такое же, как очки у мамы. Он взял это стеклышко, прищурился и посмотрел на солнце. Солнце сейчас же переколдовалось в луну... Все смягчилось мягким сумраком ночи. А вокруг был все тот же сад, все то же белье и все те же опавшие с деревьев пожухлые листки.
Пеке сделалось очень скучно. Он вышел на. улицу, остановился на тротуаре, глянул на мостовую: по мостовой бежали машины — красивые легковички, белые, темно-красные. А вот одна совершенно синяя. Легковичек было много, и все они новые-новые... Пека сразу смекнул, что все они одной марки: он знал, что они с мамой в городе легковых машин.
Пека сильно любил машины, он бы хотел иметь собственную машину. В крайнем случае грузовую. Он бы целый день катался по городу, он бы развозил дрова и белье, он бы привозил картошку для Александры Алексеевны, мамины чемоданы и мамино зеркальце, если б мама позволила.
Вокруг Пеки шныряли машины туда и сюда. Были они умытые, но, если глянуть в синее стеклышко, — разом темнели, как будто вечер.
К двери гостиницы подошел трубач — один из тех джазистов, с которыми нынче утром встретилась мама.
— Ты что здесь делаешь, Пека?
— Немножко скучаю, — ответил Пека.
— Знаешь что, — подумав, сказал трубач, — я еду в клуб и тебя прихвачу с собой, ты нам не будешь мешать, верно, Пека? Ты хочешь к маме?
— Хорошо, — сказал Пека.
Они дошли до угла. На углу трубач поднял руку, и белая легковушка сейчас же остановилась. В ней сидел какой-то молодой парень.
— До клуба «Пятидесятилетия Октября», — объяснил джазист. — Может быть, подбросишь артистов?
— Ладненько, — согласился парень. — Садитесь живо.
И они не мешкая сели в машину.
— А этот маленький — тоже артист?
— А как же? Артист, артист.
Ой, до чего широкие улицы. И на каждой улице новенькие дома, они похожи один на другой, как родные братья. Правда, кое-где встречались домишки старые, очень даже хорошенькие — только вовсе мало их было. А еще по дороге — несколько площадей и народу немного, не так, как на улицах Ленинграда.
А еще тут и там стояли деревья, роняя листья. Стояли, роняли листья, желтые, как мамино золотое колечко. А наверху, над всем, в синем небе, стояло белое солнце и обливало широкие улицы. От строений ложились на тротуары острые тени. А потом вдалеке показался лес, широкий, большущий, огромный лес. Ох, какие тощие в нем деревья, без листьев, с иголками. А еще — подальше облитая светом улица и баркас, покрашенный в черно-желтую краску. Дрожал, дрожал тонкий пар над землей.
Вода мигнула издалека. Водой была Волга. Волга, казалось, все расширяется, уходя вперед. И вот уж она обнимает полнеба.
И снова широкие улицы. И опять дома, точь-в-точь такие же, какие были на других улицах, как будто бы Пека с джазистом уже проезжали здесь.
А легковичка — вперед, вперед. А легковичка — шуршать и вздрагивать полегонечку, потихонечку. А в легковичку и в стекла — ветер.
Вон ветер поднял листки. И они закрутились, затанцевали.
Площадь. А посредине площади — большой дом.
— Спасибо, — сказал джазист.
— Да какое может быть тут «спасибо», — ответил ему молодой парень. — Желаем успеха в вашем в высшей степени культурном мероприятии.
Так он сказал, и машина сейчас же дрыг! — и остановилась.
8
Зал был совершенно темный, в зале, на дальнем кресле, сидел один только Пека.
Мама, видно, не знала, что Пека здесь. В черном трико и черных тапках она делала на сцене фуэте и прыгала.
Раз, два, три. Прыг! Раз-два-три! Прыг... И еще: шпагат.
Она подпрыгивала высоко, и ноги у нее разлетались в воздухе, будто ножницы. Потом — смыкались. Хохолок на лбу у мамы легонько вздрагивал.
На сцене она была не одна: тараторили что-то свое музыканты — не играли, а тараторили. Потом на авансцену вышла тетенька с попугаем. Он сидел на жердочке. Попугай картаво сказал: «Петруша хороший, Петруша хороший, Петруша хороший...» Женщина, которая его вынесла, быстренько подала ему что-то в ладони, и попугай энергично клюнул ее ладонь.
— Жрать хочешь? — вежливо спросил попугай.
И женщина опять подала ему что-то в ладони.
— Жрать хочешь, жрать хочешь? — доброжелательно тараторил Петруша. И голос у него был домашний. И чуть картавый.
— Здрасте, товарищи, здрасте, товарищи, здрасте, товарищи!..
А мама все прыгала, прыгала, прыгала... Раз — шпагат. Два — шпагат... Отдышалась, потерла балетки о канифоль, которая лежала в углу, на сцене. Пека знал — это канифоль, и снова — прыг.
Задудел трубач. К маме подошел дяденька, что привез с собой Пеку, что-то ей тихо шепнул. Она заломила руки, затопала вдруг ногами в туфельках, смазанных канифолью, подошла к авансцене, глянула в темный зал и сказала:
— Пека! Горе мое...
Пека не отозвался. Он не был горем.
— Пека, — дрожащим голосом вопрошала мама.
А он молчал. Но глаза у мамы, видно, привыкли к темноте зала, и она разглядела Пеку.
— Горе, горе мое, наказанье мое, — вне себя повторяла она и лихо сбежала в зал. — Я же ясно тебе сказала: гуляй, — зашипела мама и хвать его за руку.
— Жрать хочешь? Жрать хочешь? — спросил попугай, и дяденька, который доставил в клуб Пеку, подул в трубу.
Попугай красиво сплясал на жердочке: он затряс головой в такт музыке.
— Петруша хороший, Петруша хороший.
А мама все дальше и дальше волокла Пеку. Они шли по темному коридору: Пека в своих кожаных брюках и лохматой немецкой куртке, а мама — в черном трико. Было похоже, что мама будет сейчас купаться, — такой она была голой.
Они долго шли по длинному коридору. Мама сжимала Пекину руку, но все молчала. На глазах у мамы стояли слезы.
Наконец они дошли до какой-то двери, мама толкнула дверь, и оказалось, что в этой комнате живут книги. За столом сидела молодая, красивая и, наверно, добрая библиотекарша.
— Умоляю, — сказала мама дрожащим голосом, — дайте ему какую-нибудь книжонку с картинками. Займите его! Мне... мне репетировать! Мне... Я по личному... Он меня погубит!.
— Не волнуйтесь, — ответила библиотекарша. — Идите и репетируйте. Мы с ним неплохо проведем время.
— Не знаю, как и благодарить, — ответила мама. Вытащила маленький носовой платок и высморкалась. — прямо представить себе нельзя, до чего мне трудно!
Мама закрыла двери, ушла, и не было слышно ее шагов, потому что ноги ее были обуты в туфельки, а туфли смазаны канифолью... А Пека остался с библиотекаршей.
Библиотекарша широко заулыбалась, стянула с Пеки куртку, беретик. Потом она пристально на него глянула и обняла Пеку.
— По заграницам шастаешь, мой пухляк?
— Я мамин, мамин пухляк.
— Хорошо, — согласилась библиотекарша. — Зернышко, — сказала она, — зачем ты мешаешь маме? Ведь мама работает.
— Я гулял, меня привезли, меня зовут Пека, — ответил Пека.
— Пекирей-фекирей, — запела библиотекарша, подошла к полке, достала книжку и положила ее перед Пекой.
Книга была очень даже прекрасная. На одной из страниц сидел ворон, и волосы на голове у ворона торчали дыбом. Голова была пухлой, мягонькой.
— А он не кусается? — вежливо спросил Пека.
— Да ты что? Ясно, он не кусается. Дай-ка я тебе немножечко почитаю.
И она принялась читать ему вслух про ворона и про разных других зверей. Вздымались золотисто-белые бровки библиотекарши, шевелились все быстрей и быстрей. Сперва Пека молчал, не отрывая глаз от ее шевелившихся светлых бровок, и вслед за бровками шевелил губами.
Потом он сказал:
— Я это умею сам:
— Здорово! — удивилась библиотекарша.
— А попугай говорит: «Жрать хочешь, жрать хочешь?» — рассказывал Пека.
— Уж будто? — ответила библиотекарша. — Ты, погляжу, большой фантазер.
— А вот и правда, а вот и правда!
— А может, это ты захотел жрать?
— Нет, большое спасибо, я не хочу. Сегодня мы хорошо позавтракали, — объяснил Пека.
А в это время открылась дверь, и в комнату вошла мама (в жакетке и брюках), она обняла и расцеловала совершенно чужую библиотекаршу и принялась сердито одевать Пеку.
На улице стоял автобус. Вместе с актерами сел в автобус испуганный Пека. До того еще, как автобус тронулся, в раскрытую его дверь заглянули школьники, посмотрели на Пеку и сказали: «Артист, артист».
Пека молчал, он боялся сердитой мамы.
В гостинице они снова прошли в буфет, и мама, всем вокруг улыбаясь, но не глядя на своего сына, поставила перед ним сметану.
— А у нас наверху яйцо, — шепотом напомнил ей Пека.
— Ешь! — сдвигая брови, ответила мама. И тоже принялась есть.
Наверху, в комнате, они на этот раз оказались совсем одни. Мама, прищурясь, взглянула на Пеку и с ним посоветовалась:
— Мне тебя укладывать спать пора. Тебе время спать. Я и сама прилягу: устала. А вечером у меня концерт, но имей в виду, что сегодня нам на завод, — я ищу Валеру. Ты понял? Не будешь мне мешать и путаться под ногами?
Пека молчал.
— Отвечай! — побледнев от волнения, спросила мама.
— Я не буду путаться под ногами, — виновато ответил Пека. И вдруг заплакал из-за того, что его не любила мама.
Мама увидела, что он плачет, и тут же сама заплакала, обняла Пеку и прижала его к себе.
— Кто ж виноват, что у нас нет бабушек? — спросила она. — У всех есть бабушки, а у нас — нет бабушек. Только ты да я, вот и все семейство. Почему ты плачешь?
— Потому что у нас очень мало семейства, — горько плача, ответил Пека.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
У каждого цеха — свой вход. У каждого входа — свой контролер, проверяющий пропуска.
Повсюду — люди, велосипеды, грузовики. Повсюду — пыль.
...Словно песчинка маленькое такси, в котором едут мама и ее мальчик.
Оно как песчинка среди других легковых машин и огромных грузовиков. Его колеса выдавливают грязь и разбрызгивают ее во все стороны. А шофер ругается. Мама и ее мальчик — молчат. Они жмутся друг к другу.
— Вот! — говорит шофер и осаживает машину. — Вам, должно быть, к сборочному? Так вас надо понять?
Они не знают, куда им надо. Им надо инженера Валеру Савельева. И мама быстро говорит: «Да».
— Мама, он страшный, верно, этот шофер?!
— А ну его к черту! — говорит мама, берет Пеку за руку и подходит к цеху, где идет сборка.
Двери в этом цехе широко распахнуты. И всем видно, что там вершится чудесное чудо. Не чудо, а колдовство! Легковые машины, чем-то похожие на игрушечные, летят, летят и летят по воздуху. У них есть крылья! Но ведь это крылья автомобиля — не самолета, автомобиля — машины земной, земной...
Как медленно, как осторожно скользят они по воздушной трассе... Ах вот оно что: их поддерживают колдовские руки. Не с неба они спустились, — отходят от огромного троса и тянутся вниз — трехпалые, красноватые. Руки обхватывают кузов, толкают его вперед, все вперед, вперед... Кузова машин сверкают всеми цветами радуги — чистотой и свежестью, — они блещут, переливаются... Белые, красные, темно-синие. Вот их бока: они отражают свет. Отразили — и дальше, дальше — в неутомимом движении, в воздушном, несмелом кроссе. Их дорога — воздух.
Здесь нет водителя. Нет колес. Но стекла уже протерты. (Кто их протер, когда?!)
...Современный фейерверк летящих автомобилей.
Еще без судеб, еще без хозяина, еще без единой земной дороги, — они здесь, и первый шажок — он станет их будущим.
Терпеливей. Сейчас, сейчас.
Раз, — и по ходу скольжения к ним привинчиваются колеса.
Раз!.. Но все еще мчатся они по воздуху. Их новенькие колеса — все еще не коснулись земли. Нет, нет... Машина все еще совершает своей несмелый воздушный кросс.
Но вот колеса, будто не решаясь поверить себе, тихонько уперлись в землю.
Первый плавный рывок, первый плавный шажок...
И вот она: новая, сияющая, только что родившаяся машина, все еще не знающая, что такое дорога.
Коснулась земли. Впервые!
Раз! — ив машине появляется человек. В каждой машине по человеку. Еще мгновение... Разжались трехпалые руки, дали свободу.
Вот! — глядите-ка, вот они: только что рожденные, сверкающие, сияющие, всецветные «Жигули».
Пека:
«Я бы хотел такую машину. Я бы хотел вот эту белую легковичку. Я в ней сижу, а легковичка крутит колесами. По воздуху. И я ее веду, я ее выкатываю с завода, и я — по улице. Нет! По небу, как самолет!
Я у нас во дворе. А тут наш Ленька на своей игрушечной легковичке. Я прячусь, а потом выскакиваю и говорю:
«Дай катнуться».
А он:
«Прочь с дороги, куриные ноги».
И вот я сажусь в свою белую настоящую легковушку.
«Пека, а Пека, это чья ж легковушка, а?!»
«А наша. Валерка подарил маме. Восьмого марта. Я — корзинку, — хорошенькую корзинку, — а он — легковую. Не веришь, да?»
«А дашь немного покататься?»
«Прочь с дороги, куриные ноги!»
Валера (он в дальнем участке цеха):
«Я — полусонный. В голове у меня все время как будто бы молотки и поршни.
Вчера вечером — черт знает что! — итальянский мастер:
«Синьор, я вынужден отказаться от наладки сварочной машины. Дело в том, что детали поступают ко мне загрязненными. Проводить наладку нет никакой возможности».
Я подумал с ужасом:
«Может, надо было предусмотреть мойку и промывать детали».
Как же быть теперь? Место для мойки не предусмотрено... Куда нам поставить мойку! Бегал всю ночь как скаженный и осматривал тару.
Дело в том, оказывается, что детали долго лежат в цехах и, естественно, покрываются пылью. Их надо использовать прямо с «колес». Из-под пресса они загрязненными не выходят.
Уснул под утро, тут же — в цеху. Мне снилось, будто бы кто-то мне наступил на голову. А еще мне снились — уж это как водится — двигатели и коленчатые валы.
Ребята для смеху прикрыли меня фанерой. А на фанере какой-то остряк мелком: «Осторожно. Стекло».
...Организация производства — не труд, а — искусство, у нас плохо владеют этим, искусством. Верная мысль. Я ее занесу в свою записную книжку».
Неля:
«Эмануэль... Эмануэль!.. Что за странное слово: «Эмануэль»... Почему на машинах — вон там, через раскрытые двери: «Эмануэль?»
Тревожное слово. Страшное. И будто бы мне уже снилось оно... Лохматое... И... И железное. На высоких ногах. Ноги вздрагивали... Он ко мне наклонялся и вытеснял, выталкивал все теплое, что я люблю... Все простое, родное... Пека?!»
— Пека!
— Я тут.
«Скажи, Валера, при чем, ну при чем тут «Эмануэль»?»
— Простите, пожалуйста!.. Вы не могли бы мне немного помочь? Инженера Савельева. Валерия Николаевича... Если разыщете, то намекните ему, пожалуйста, что к нему приехали из Ленинграда... Не понимаете?.. Из Ленинграда, не понимаете?.. Ошалели?! Не понимаете русского языка?.. Итальяно! Ой, до чего же здорово!.. Первый раз вижу живого, настоящего итальянца в жизни, а не в кино... Валерий... Понимаете? Валери Савельеф. Помогите, синьор. Я — аморэ! Я люблю его. Шепотом, шепотом говорите... Я аморе инженьер Валери Савельеф... И никому ни слова! Понятно?.. То-то же! А еще говорили: «непанимай».
А вокруг — все гудит, стрекочет и бьется. Это летят по воздуху легковые машины, под потолком огромного цеха, над Пекой, Нелей, ее любовью.
По воздуху скользят они — без колес и с только что привинченными колесами. И хлопочут люди вокруг, занятые делом огромной важности, в засаленных комбинезонах, спокойные и вместе сосредоточенные.
Машины, машины, машины... Можно тронуть их на ходу. Можно пригладить волосы, глядя в их полированную поверхность.
А наверху — многоцветные трубы, провода, фермы.
Бетон под ногами — всюду бетон: монолитный, сухой, сплошной.
Машины, машины, машины: дышат, живут, и скользят, и рождаются — совершенно как человек.
Неля зажмуривается, сердце колотится: Неля — аморэ, аморэ, аморэ... Она аморэ — Валеру Савельева, инженера.
...Легковичка делает свой первый на этой земле шажок. А в ней — человек. Он испытывает машину.
А там подальше — лампочки, транспаранты. Пульт управления! Думающий. Живой. Станки — с обратной связью, с контролирующей системой. Кибернетика — она главный диспетчер завода.
Машины. Бой. Стук. Дыхание у Нели перехватывает. Как сильно она волнуется... «Ну где же ты?... Валерка, я тут, я тут».
— Пека, хорошего понемножку. Ему, наверно, не передали. Давай уйдем.
2
Когда Пека с мамой вышли на широкую улицу, там, где дорога, грязь, грузовики и троллейбусы, — уже зажглись фонари. Они покачивались в потемневшем небе, в прохладном воздухе, и, если прищуриться, ложились от них во все стороны лучики неровные, колкие, длинные и короткие.
И во лбу у троллейбуса уже горел огонь, и во лбу автобуса тоже горел огонь. Но еще не затеплились фары у легковых машин: на дворе — день.
Мама крепко взяла Пеку за руку, вышла на середину дороги и поправила свой длинный, красивый шарф «Айседора Дункан». Мама принялась улыбаться всем водителям автомобилей, она поднимала в воздух руку с коричневой сумочкой.
Какая-то легковая машина остановилась.
Мама просунула голову в кабину водителя, о чем-то они пошептались с ним.
— Пека! Садись! Нас подбросят, — весело закричала мама.
— Покрепче закройте двери, — оборачиваясь, сказал молодой водитель.
И мама захлопнула дверь покрепче.
Машина тронулась: свернула с широкой дороги вправо, в сторону огромных белых домов, что были видны вдалеке. Они ехали по полю в выбоинах, ухабах. Машина подскакивала, ее обдавало грязью.
Все ближе, ближе дома, некоторые окошки желтые от зажженного электричества, а другие — темные, отражают небо.
Первый дом, второй. А водитель все едет и едет. Возле домов вздувалось от ветра белье, стояли разноцветные легковые машины — красные, черные и голубые.
А водитель все ехал, ехал.
Впереди показался лес, навстречу покатили грузовики. Лес уже потемнел и был совершенно черным. Издали не было видно его голых стволов.
Мама держала в руке письмо, которое вынула из коричневой сумочки. Они с водителем все читали обратный адрес и совещались.
— Вот. По-моему, этот дом, — обернувшись, сказал водитель и затормозил.
— Ой, мы вам так благодарны, ой, ну я прямо не знаю как, — очень быстро сказала мама, выскочила из машины и вытащила за собой Пеку.
В парадном было темно, Пека принялся спотыкаться.
— Что с тобой такое? — сердито спросила мама. Вздохнула, подмяла Пеку и посадила его к себе на закорки.
— Не мажь мой жакет калошами, — попросила она.
Он сейчас же старательно вытянул обе ноги, чтоб не мазать жакет калошами.
Так они поднимались вверх, вверх, до самого верхнего этажа. Здесь мама спустила Пеку на пол, вытерла носовым платком жакет, постучала в какую-то дверь... Ей открыла старая женщина и сказала:
— Его нет дома. Войдите и оставьте ему записку, он двери не запирает.
Мама взяла Пеку за руку, и они на цыпочках вошли в комнату.
Окно здесь было широкое и большое, — глядело в лес.
Когда Пека положил подбородок на подоконник, издалека стало видно реку. Широкий свет уходящего дня врывался в окно, не занавешенное никакими шторами. Виднелись огни на дороге, тускло-белые, все еще ничего решительно не освещавшие. Люди сверху казались маленькими. Шастали грузовики, но их шума не было слышно.
Комната была почти совершенно пустой, большущий чертежный стол, на столе карандаш. В углу комнаты притулился матрас без ножек. На матрасе — подушка и плед. А еще здесь стояли две некрашеные табуретки. А в стену вбиты два не очень больших гвоздочка: на одном из них — плащ, на другом — полотенце.
Мама пошла на кухню.
— Ты подумай только, у них не газ, у них электричество! — обернувшись к Пеке, сказала мама.
На плите дремала кастрюля, в кастрюле — недоеденная картошка. А еще на кухне был табурет. Мама села на табурет, подобрала ноги, задумалась.
И вдруг обняла Пеку и тихо сказала:
— Квартира очень хорошая. Мы бы в ней навели порядок. Верно я говорю, заяц?
— Верно, — ответил Пека, чтоб угодить маме. Он ответил тихо потому, что вокруг было совсем темно.
— И большая комната, — продолжала мама, — и лес совершенно близко... Жалко, времени нет, а то бы я вымыла пол. Ладно, Пека... Времени у меня в обрез, — и она вздохнула.
Мама написала Валере записку и спросила Пеку, когда они вышли на лестницу:
— Как ты думаешь, Пека, он, наверно, только ночью придет? Сегодня, пожалуй, нас не разыщет. А?
— Разыщет, — ответил Пека. — Итальянец ему про тебя расскажет. Вот увидишь, увидишь, мама.
3
— Девочки, поклянитесь, что вы никуда его не отпустите из гостиницы... Я же просто не знаю... я не могу... у меня концерт!
— Уложим, не беспокойся, — сказали девушки.
И мама принялась, тихонько вздыхая, все аккуратно складывать в чемодан. Уложила фрак, котелок и грим. А футляр от скрипки не уложила: он был больше ее чемодана, и мама держала его в руке.
— Нелька, автобус подан, мы тебя ждем, рыбка, — сказали маме из коридора.
— Сейчас, — ответила мама, быстро поцеловала Пеку и выбежала из комнаты, неся в одной руке чемоданчик, в другой — футляр от скрипки.
Мама ушла. А одна из девушек — самая молодая — принялась развлекать Пеку. Она ему построила дом из карт, а потом сказала, чтобы он сам построил себе, поскольку здесь все строители. Но он не успел построить: пришел Валера.
Валера был очень высокий, поджарый. Зубы у него — белые, большие, сплошные. Волос не особенно много: он их зачесывает на макушку. Руки у него сильные, ноги — длинные, а улыбка — добрая. А глаза — синющие. Прямо на удивление! Синие, синие, много синей, чем озеро, в котором Пека летом купался с мамой. И немножко синее неба. Он их щурил, когда задумывался. А вообще-то он очень любил смеяться.
— Здравствуй, Пека, — сказал Валера, приподнял его и подкинул чуть что не до самого потолка. — Пека, Пека, Пекерей, мой прекрасный сельдерей, — радуясь, заголосил Валера. — У вас что?... У вас завелись связи? Мама познакомилась с итальянцем? Кстати, а где она?
— На концерте.
— Ну что ж... Ну что ж... Есть хочу, умираю. Не успел пообедать, я к вам бежал. Пойдешь со мной? Закусим, выпьем пивка.
— Жрать хочешь? — вежливо спросил Пека.
— Еще как, — ответил Валера, засинел на него глазами и принялся одевать Пеку. А Пека все повторял:
— Жрать хочешь, жрать хочешь?
— Да ты что? Ошалел, что ли? — удивившись, спросил Валера.
— Так это же не я. Это попугай!
— А Нелька велела, чтобы ребенка не уводить, — сурово сказала Валере девушка, что построила Пеке домик из карт.
— Ну, положим: мне бы она доверила.
И они пошли вон из комнаты и вон из гостиницы. Они перешли улицу и пришли в столовку.
В столовке было много народу. Все стояли в очереди и держали в руках подносы. Подносы были очень красивые, в очень больших горохах, и Пека сказал, чтоб Валера дал ему подержать поднос.
— Ладно, — сказал Валера и дал подержать, но скоро забрал назад, поставил на прилавок и попросил: — Две порции щей, два гуляша, кисель и кофе.
Они донесли поднос до стола и хорошо устроились.
— Ты что ж не ешь? — поинтересовался Валера. — Жарко, что ли, тебе? Давай-ка я расстегну пальто.
— Если бы у нас с мамой всегда были деньги, — принялся занимать собеседника Пека, — мы бы с ней всегда хорошо завтракали.
— А часто у вас не бывает денег? — прищурившись и посерьезнев, спросил Валера.
— Не особенно часто, — объяснил Пека. — У нас не было, когда маму бросил ее партнер.
— Ага-а... А за что он бросил ее?
— Это вышло, понимаешь, из-за меня, — шепотом отвечал Пека. — И тогда мы ели только: мама — булку и чай. А я булку и молоко.
— Прелестно! — сказал Валера. — Пека... а между прочим, твой папа... Он где?.. (И Валера чуточку покраснел.)
— Так ты же знаешь, мама тебе сказала! Мой папа умер, когда мне было шесть месяцев. Утонул. Он моряк. Капитан-наставник.
— И намного старше, чем твоя мама?
— Наверно, — подумав, ответил Пека. — А ты у нее спроси.
— Ладно, — кивнул Валера... — Ты пей киселек, пей кисель.
— Могу, — подумав, ответил Пека. — А мы сегодня всюду, всюду тебя искали. Мы на заводе тебя искали... Мама там рассказала: «Я аморэ инженьер Валера Савельеф».
— Скажи на милость!.. Кто бы подумал? — ответил Валера и захохотал. — И... и мама серьезно «аморэ» — как на твои глаза?
— На мои глаза, довольно-таки серьезно... И нам все у тебя понравилось. А еще моя мама хочет изжарить тебе яичницу.
— Чего-о-о?
— Ничего такого: яичницу. Для тебя.
— Ты, по-моему, заговариваешься, браток.
— Ничего подобного! Это она, она заговаривается. Она сказала: «Мы — в Тольятти, чтоб сделать Валерке яичницу».
— Быть такого не может! — крякнул Валера. — От вас обоих можно с ума сойти! Врешь небось?
— А вот и нет, вот и нет... Валера!.. Почему это, когда человек говорит правду, ему всегда отвечают: «Врешь!»?
— Я от вас лопну! — захохотал Валера. — От тебя и от твоей мамы... Спи-инозы! Софоклы! Философы!.. Яичницу!.. Из Ленинграда — в Тольятти — жарить яичницы... Садись ко мне на закорки. Живо! Скорее! В клуб.
4
Зал в клубе был переполнен людьми. Когда вошли Валера и Пека, на них зашикали. Наконец Валера нашел местечко и посадил к себе на колени Пеку. На сцене был попугай. Попугай говорил, легонько картавя: «Петруша хороший, Петруша хороший...»
Потом артистка, что держала его на жердочке, вышла в зал, и попугай принялся тараторить: «Здрасте, товарищи! Здрасте, товарищи!» И вдруг он оговорился и быстро спросил: «Жрать хочешь?» Публика прямо-таки покатилась со смеху, а Валера шепнул, наклонившись к Пеке: «Ах, вот откуда оно пошло?!» А потом попугай раскланялся, и тетенька его унесла.
Заиграли знакомое, заиграли Петрова (ленинградского композитора). Пека сразу узнал.
Сейчас, сейчас...
И на самом деле, на сцену выбежала мама, в черном, — узкая, тоненькая, как запятая, в развевающемся пальто, со скрипичным большим футляром. Пека так сильно обрадовался, что громко заорал: «Мама!»
Валера к нему наклонился и громко шепнул:
— Ты что, приятель, взбесился? Получается несолидно.
А вокруг довольно громко захохотали.
А мама на сцене подумала: «Как отлично меня принимает публика».
...Если б кто видел, если б кто знал, до чего красиво и весело она танцевала... Вот уже прячется от дождя. И в зале на самом деле смеются. А потом... потом началось!
Мама летит по сцене. Летит как вихрь... Как может до того красиво и так воздушно летать человек?! Прыжок! Прыжок!.. И еще прыжок... И все это Пекина мама... Мама!
Валера, вне себя, закричал: «Браво!» И все вокруг сейчас же захлопали и, как по команде, вдруг закричали: «Браво!.. Браво, Богатырева...»
А мама радовалась успеху, она танцевала все лучше, все красивее, все веселей.
Мама — она большой музыкант... Музыка, музыка — каждое движение ее, музыка — согнутое колено, музыка — взвивающаяся рука, музыка — ее вращение, ее фуэте!.. И вот уж она на спине. Обессилена. Лежит посреди сцены. Но по ней, уже чуть не потерявшей сознание, — волнами ходит музыка... Музыка! Музыка! Смычок вздымается: мама играет лежа... Играет, играет, играет на своей игрушечной скрипке.
Окончила. Замерла. Вышла кланяться в образе музыканта (зазнавшегося музыканта).
Все кругом хохочут и аплодируют.
Как красиво кланялась мама! А как громко хлопали ей Валера и Пека. И Валера опять что было сил закричал «браво». И все вокруг закричали: «Браво!» Кто-то из публики подал маме букет, и она опять очень мило раскланялась. И прижала букет к себе. А в публике бесновались, и даже кто-то выкрикнул: «Бис! Бис!.. Богатырева — бис!»
Но биса им не было никакого. Мама вышла, помахав котелком, — худенькая, высокая — самая красивая, самая, самая веселая и распрекрасная на земле мама.
Как только она ушла, Валера с Пекой смылись из зала.
— Так ты уверен? — тихо спросил Валера. — Так и сказала: «Я, в общем, того... аморэ Валеру Савельева»?.. И вот именно не вообще, а Валеру Савельева?
— Я же тебе сказал!
— Нет, погоди: «люблю» или «аморэ»?
— А моя мама и я — мы на всех языках умеем!
— Но если ты того, поднаврал, так будешь дело иметь со мной.
Они долго путались по освещенному коридору, и вот наконец Валера нашел кулисы.
В это время на сцене громко пел дяденька — очень красиво и очень громко... Жалко, не было времени, чтоб его послушать.
За кулисами — полумгла. Стоя на выходе, конферансье грозно нахмурился, увидев Валеру с Пекой.
— Не ребенок, репей! — сказал про Пеку конферансье.
Кулисы театра были для Пеки буднями. «А куда же его девать?.. На помойку, что ли?!»
Пека знал, что здесь пахнет особенно: старой пылью, словно повсюду она жила и даже носилась в воздухе; он знал про то, как легонько, едва приметно, сотрясаются декорации, если проходишь мимо... По ним как будто бы рябь бежит. Он знал, что где-то здесь артистические и там одевается его мама.
Когда Валера стукнул согнутым пальцем в двери уборной, оттуда послышался женский, не мамин голос: «Валяй входи».
Они распахнули дверь и увидели маму. Она уже разулась, стирала грим, но еще не сняла своего узкого иссиня-черного фрака. Оба они, Валера и Пека, кинулись к ней. И Пека опять заорал: «Мама!» А Валера не сказал ничего, только широко заулыбался, покраснел отчего-то и у всех на глазах принялся целовать маму. Он целовал ее в голову, в руки и в ее фрак. Он целовал ее, а все, кто были в уборной, весело хохотали:
— Ай да Тольятти! Не северные, а итальянские темпераменты!
Пеке, он сам не знал почему, вдруг сделалось очень стыдно. Пека вдруг рассердился на маму и низко опустил голову.
— Отстань! — хохоча, вместо «здравствуй» сказала Валерке мама. — Кто тебе передал?
— Мне все объяснил твой сын!
Она рассмеялась так заразительно, что вслед за нею все в уборной снова принялись хохотать. Не смеялся один только Пека, — стоял весь красный, злой и не поднимал глаз.
Они возвращались домой пешком. В одной руке Валера тащил футляр от маминой скрипки, а другой — поддерживал под руку Пекину маму. А мама держала Пеку. Пека хныкал, он сердился и не хотел спать.
Валера остался внизу, у двери в гостиницу. Мама поднялась наверх с футляром от скрипки и чемоданчиком. Она быстро раздела Пеку и положила его в постель.
— А ты скоро придешь? — расстроившись, спросил Пека.
— Когда надо, тогда и приду, — огрызнулась мама. — Ты сыт? Напоен? Ухожен? Спи!
Когда мама на цыпочках вышла из комнаты, уже погасили свет. Девушки крепко спали. Пеке даже слышалось в темноте их ровное, спокойное дыхание. Казалось, что под потолком летает огромная бабочка и все бьется большими мягкими крыльями о погасшую лампу.
Пека уснул. Он проснулся, когда возвратилась мама. Она, должно быть, очень долго гуляла, потому что колени у мамы были совсем холодные.
Они были холодные, и вся она была ледяная, и щеки, и нос.
Мама обняла Пеку, свернулась калачиком и натянула на ухо одеяло. Так они лежали во тьме, но оба не спали. Мама закрыла глаза, и ей вспомнилось вот что.
Пеке минуло четыре года, наступал его день рождения, а Валера был как раз в Ленинграде, в командировке. Они втроем отпраздновали Пекины именины.
Валера принес шоколадный торт. Она взяла большие четыре свечи и поставила их по краям торта.
— Как это забавно, что человеку только четыре года, — сказал Валера. — Что за возраст? Всего ничего. Когда человек — ребенок, — годы — свечи толстые и весомые, а потом они все тоньше и тоньше, словно все быстрее бегут года... Верно, Неля?
Она ответила:
— Я не знаю. Я о таком никогда не думала.
И вот теперь, лежа рядом со своим сыном, под одним одеялом, она вспомнила те четыре свечи, их пламя и то, как Валера погасил электрический свет вверху.
Они были втроем. Пламя свечей отражалось в глазах. Они пили чай и ели торт с кремом.
Неля крепко-крепко зажмурилась, и ей ни с того ни с сего привиделось, как Валера сидит на реке, у проруби (подледный лов). Пламя тех четырех свечей играет во льду, и лед становится голубым. Горят четыре свечи над прорубью. Лед припорошен снегом. Пламя четырех зажженных свечей бежит голубоватым светом по снегу и плавит снег. А Валера сидит, согнувшись, и держит удочку. Он ничего не видит.
Это сон такой, должно быть, приснился ей.
«Какие толстые свечи, — вдруг говорит Валера. — Когда человек маленький, каждый год весо́м».
Так говорит Валера и вытаскивает из проруби рыбу. Рыба трепещет в воздухе, и Валера рад.
— Родной мой, сыночек мой! Я тебя больше всех на свете люблю, — застонала мама.
А Пеке приснилось вот что.
Будто бы дяденька высокого роста играет что-то грустное-грустное на трубе. Играет красиво и хорошо. Стоит и держит трубу в руках. Лицо у дяденьки наклонено, подбородок большой, тяжелый. И вдруг этот дяденька принимается горько плакать. Он, как маленький, весь дрожит от слез. Он плачет и продолжает играть на своей трубе.
«Мама, что же это такое?»
«Это твой папа», — шепотом отвечает мама.
«А почему он плачет?»
«Он умер, а любит тебя, — едва дыша, говорит мама. — Больше жизни. И после жизни...»
— Нелька, ты ошалела? Да?.. Может, еще того... запляши давай посреди ночи!
5
А Валера тем временем шел сквозь город. Он метил сперва попасть на трамвай, но они с Нелей прогуляли нынче до того долго, что трамвай решил расплеваться с Валеркой и провалился в тартарары.
Одинокий фонарь над Валеркой раскачивался. Валера по-дурацки переступал с ноги на ногу на остановке, под фонарем. Он озяб, застыли руки и ноги: на дворе была осень, с ее ветрами.
Наконец бедняга сообразил, что может, пожалуй, эдак прождать всю ночь, — засунул руки поглубже в карманы и двинулся одиноко по темным тольяттским улицам.
Долог путь из «старого» в «новый» город. Накануне Валера почти не спал. Он был до того счастлив и так ошеломлен случившимся, что вроде бы задремал на ходу: как конь.
Во тьме, когда то и дело закрывались веки, ему виделся Нелькин профиль: странное детское выражение ее лица, слегка приоткрытые губы, ее взгляд из темноты улиц.
От ее жакетки будто пахло духами, а?.. Валера остановился, вытащил из кармана руку, понюхал. От руки легонько тянуло машинным маслом. Он решил, что его рука насквозь пропиталась Нелькиным запахом.
И вдруг как будто взметнулись по ветру концы ее шарфа. Валера остановился и обронил шляпу. Когда он поднял ее, поля шляпы были в свежей грязи.
«Черт знает что такое! А я-то думал, нынче первые заморозки, почему не схватилась грязь?» — спросил у себя Валера. И дошагал до своего дома, балансируя шляпой в вытянутой руке.
Едва сил у него хватило подняться вверх, на девятый этаж. Толкнув дверь, он вошел кое-как в ванную и обтер свою шляпу. «Вроде бы пахнет Нелькой! Я... я окончательно ошалел!»
Он разделся и лег, но не мог уснуть.
«Я обязан спать! Мне завтра вставать с первым светом» — так он себе говорил, но все ворочался и ворочался бессонно под пледом.
«Скоро прибудет контейнер с мебелью, что послала мама. Она догадается и пришлет, должно быть, теплое одеяло. Я бы хотел, чтоб приехала мама, хоть бы накоротко! Я — свинья. Я так редко пишу. Откуда ей знать, до чего я бываю занят? Да нет же, — странное дело, — она всегда и все знает на расстоянии... Не мама — дух!»
И вдруг ему почему-то вспомнилось, как была война. Он был с ребятами в эвакуации. И тут приехала его мама. Стояла и молча смотрела на Валеру через забор: «Отчего ты босенький? Где твои сандалии?» — так сказала мама. И он в ответ заорал: «Ма-ма!»
Ему было тогда два года, но он до сих пор помнил, как сильно обрадовался. Даже подумал, что вовсе это не мама. Что все это ему приснилось.
...Она сняла себе угол неподалеку от тех яслей, где жил ее сын — Валера, нанялась и стала работать в совхозном поле. (Это мама ему рассказывала потом.) А он помнит только воскресный день, когда они шли сквозь поле, сквозь ветер, под жарким солнцем.
«Ты не устал?» — наклонившись, спросила мама.
«Нет», — отвечал Валера.
«Хочешь, я тебя на руках понесу?..»
«Нет».
И вдруг он увидел огромное огородное чучело. Оно размахивало длинными рукавами и старой кепкой.
«Мама, он — страшный», — сказал Валера.
«Ничуть, — ответила мама. — Ведь он неживой, это — пугало, огородное чучело. Разве не понимаешь?»
Они шли. Вдалеке виднелась река, под ногами — пыль и цветы. Над цветами — разные бабочки. Ветер, солнце, рукава чучела — все это сплелось почему-то в воспоминание о счастье. А ведь война, война...
Крыши дальних домов — наличники у домов резные; бабочки, какой-то крошечный воробей или другая какая птица справляли свой праздник лета. Вокруг было лето, солнце, и запах травы, и еще какой-то особенный запах пыли. А впереди — нескончаемая дорога, а в конце дороги стояло небо.
Зажужжала муха, чирикнуло что-то над их головами. Все вместе — застывшая песня зноя и ветра.
«Какой ты худой», — остановившись, сказала мама и вдруг заплакала.
Он, ясное дело, не знал, как умер его отец и какое последнее слово вымолвил, умирая. Но Валера вдруг отшвырнул плед и спустил на пол босые ноги. В возбуждении от ночной бессонницы ему показалось — он слышит слова отца:
«Мама. Валера. Мама».
По странной ассоциации, в полусне ему вдруг привиделся Пека. Пека сидит рядом с ним в столовке, держит ложку и неохотно хлебает щи. Полненькое лицо ребенка выражает вину и робость. Что-то сжалось в сердце Валеры. Это «что-то», кажется, было любовью. «Что же, что же это такое, почему я вечно чувствую себя виноватым. За все... За все... За наш сборочный; за то, что у Пеки шальная мама, за то, что у мальчика виноватое выражение глаз... Они — дети... Я — отвечаю, я отвечаю...»
— Мы на рыбалку вместе пойдем! — вдруг громко сказал Валера и испугался звука своего голоса.
Вставать мне, что ли? Не то я смену просплю.
Вста-а-вать!.. Бодрей — веселей.
Вставать!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Мама сказала, что после концерта пойдет танцевать с Валерой. Они пойдут танцевать в Дом дружбы.
Было так страшно остаться на ночь совсем одному, в чужом доме, с чужими девушками, что Пека не пожелал поверить ей.
Когда-то очень-очень давно Пека болел ангиной, мама взяла его из детского сада. Он лежал в темной комнате, мама не ходила на концерты, плакала, громко сморкалась и часами орала что-то по телефону. Пеку тошнило от телефона, но он боялся маме сказать.
За лекарством, медом и молоком для Пеки ходила вниз Александра Алексеевна.
Мама сидела день и еще один возле своего Пеки. Она старалась читать, но то и дело бросала книгу. Говорила: «Не до того».
К ним в гости пришла однажды Эмилия Квяка.
— Неля! Моя бедняга! — сказала она.
И тут-то мама схватилась и громко-громко заплакала. Она сказала Квяке, «что у нее совершенно терпения нет».
Квяка ничего не ответила про терпенье. Она сняла у входа лохматую свою шубу, от которой пахло морозом, улицей, погрела немножко руки и подала Пеке толстенную книжку. Книжка была с картинками. Эмилия Квяка поблестела на Пеку рыжими, ласковыми глазами, сказала «Лапушка» и повернулась к маме.
А Пека заулыбался от радости. Он радовался подарку. Сперва он немножко глядел на Квяку, на ее красивое платье в горошину (Пека любил, когда к ним приходили гости!).. Потом он стал глядеть потихоньку, из-под бровей, на новую книжку. Книжка была ничего себе — очень даже прекрасная. Он что-то долго шептал над книгой, гладил картинки пальцами.
И вдруг Квяка сказала:
— Неля, какой же он у тебя тихоня!
— Все хороши, когда спят, — ответила мама, хотя Пека вовсе не спал. — Если б вы только знали, Квяка, как он умело меня изводит!
— Пека чудесный мальчик, он коткин сын. Верно, ты коткин сын? — спросила Эмилия Квяка.
Он ничего не ответил. Он застеснялся. Он покраснел.
Эмилия Квяка ушла, а Пека стал приставать к маме, чтоб она ему почитала.
Она немножечко почитала, немножечко рассказала про зайца. А потом: «Сил моих больше нет!» — надела шубу, сказала, что пойдет «прошвырнется малость по воздуху».
Как ему было страшно, что мама сейчас уйдет! Она уже возилась подле замка, когда Пека вскочил с кровати и босой побежал по холодному коридору за нею следом. Он вцепился в мамин подол, он стал причитать: «Мама!.. Мама!»
— Что ты сделал? Ты же опять простудишься! — всхлипнула мама, подняла Пеку, и они возвратились в комнату.
...И вот теперь он снова лежал в кровати уже раздетый, и мама сказала:
— Спи! (Но не спросила: «Накормлен, напоен, умыт?..» Просто: «Спи!» И все.)
Так она сказала, а сама надела нарядное платье, черное кружевное, без всякого воротника. А еще мама надела туфли нарядные, лакированные, а в это время в комнату постучал Валера.
Мама вышла (к Валере). И Пека понял, что мамы нет. Как тот раз, тихо плача, Пека вскочил с кровати и побежал за мамой, хлопая по полу голыми пятками.
Девушки заворчали под одеялами: «Ай да Нелька с ее ребенком! Воистину, что артисты».
В коридоре, увидев босого Пеку, Валера поднял его и прижал к себе, Пека энергично обвил его шею руками. (Время тратить не приходилось.)
— Ты, верно, хочешь меня задушить? — рассмеявшись, спросил Валера. — Нелька, давай одевай Пеку. Пека с нами пойдет.
— Нас не впустят из-за него! — в сердцах ответила мама.
— А ты притворишься, что итальянка, пришла с ребенком... Я, понимаешь, буду вертеться рядом, как переводчик.
И они все трое пошли в Дом дружбы.
Валера взял Пеку на руки, чтоб шагать быстрее. Вошли в Дом дружбы, и тут Валера, наклонившись, тихонечко попросил Пеку, чтоб тот молчал и по-русски не говорил. Пека молчал все время, Валера быстро и ловко раздел его.
На Пеке был матросский костюм, а на маме — ее нарядное платье. И все дяденьки, сколько только их было в клубе, принялись сейчас же оглядываться на маму.
— Пялят глаза, как «не́люди», не по-людски себя ведут! — тихо сказал Валера. А мама громко расхохоталась и обозвала Валеру Маврой.
Наверху, в Доме дружбы, был очень большой бильярд. А еще была стойка. А около этой стойки стояли дяденьки и пили вино. Женщина, которая разливала вино, была русская, рядом с ней стоял мальчик лет десяти.
Валера, мама и Пека подошли к стойке. Тетенька налила Пеке в стакан очень сладкого лимонаду и дала ему две конфеты. После этого Пека с Валерой и мамой медленно прошагали в зал.
В зале громко играл оркестр. Он играл танец. Но не успели Валера, мама и Пека переступить порог, как маму тут же принялись приглашать (должно быть, узнали, что мама танцовщица).
Кто бы видел, как красиво кружилась мама!.. Она танцевала и танцевала...
А Пека с Валерой сидели в кресле и потихонечку поджидали маму. Музыка играла так шибко, так хорошо. Но у Валеры было надутое выражение — почему-то он не любил оркестр. А Пека — любил. Он привык к оркестру.
Мама еще не успела сесть, как Валера спросил ее:
— В чем, собственно, дело?!
— Пошли!.. Потанцуем. Быстро! — улыбаясь сказала мама.
Он встал, как будто аршин проглотил, кивнул, позволил маме обнять себя.
Замолчала музыка. Оба они остановились на середине зала. И тут же кто-то подошел к маме и вытащил ее из рук у зазевавшегося Валеры. Ведь все они иностранцы, спросить ничего не могут: по-русски не говорят...
— Я, видно, пришел сюда вместо няньки! — сердито сказал Валера, когда мама наконец подошла к нему и к своему Пеке.
— Пожалуйста, не устраивай мне скандалов, — тихо сказала мама. — Мы здесь не одни. Нас выведут. Мы здесь все трое на «честном слове».
— Я сейчас повернусь и уйду, — объяснил Валера. — Мне и так в шесть утра вставать, я пошел развлечься, потанцевать с тобой, а не караулить твоего Пеку.
— Ты не будешь орать на весь зал, если мы еще немножечко потанцуем? — наклонившись к Пеке, спросила мама.
— Конечно, не буду, — ответил Пека. — Никто вам не запрещает.
И мама пошла танцевать с Валерой. Они танцевали долго, Пека и не заметил, как задремал. Он проснулся, когда Валера нес его на руках в раздевалку. Внизу Пека громко заплакал, потому что мама с Валерой на него насильно натягивали пальто. Пека был русский и плакал по-русски. А Валера продолжал энергично ругаться с мамой.
— Это ты выдумал, чтоб его захватить с собой, — попрекала Валеру мама. — Он весь измучился, извертелся. Он в девять часов привык засыпать... Уж лучше бы мы посидели дома.
Валера с бледным и злым лицом вынул вдруг из кармана спички и стал их чиркать одну за другой. Лицо у него было очень злое.
— Прекрасно! — сказала мама. — Я тебе рекомендую: самосожгись. Или подпали себе волосы. Устрой веселенький ночной фейерверк... Ну а если хочешь — сожги меня. Отелло хоть задушил свою Дездемону, а ты меня подожги. Валяй!
— Ребятки, — сказал старичок, сидевший у вешалки, — попрошу вас все же поаккуратней: это же иностранный клуб. Почему где наши, так не обходится без скандала?
— Мы у себя! — ответил Валера.
— А кто ж говорит — в Америке? Такого я тебе не сказал... Гляжу — семья как будто очень даже культурная. Всем домом, с дитем. А он-то, голубчик, как на отца похож — портрет, отпечаток, право!.. Но не может быть, чтобы гладко. Нет! Не знают меры: если напиться, так перепиться. Надо понятие иметь: где пить! Пусть дома тебе поднесет хозяйка. И опять же, спички раскинуты по всей лестнице. Некультурно, нехорошо.
— Мы вам... мы вам... не какие-то подхалимы. Это раз, — ответил в сердцах Валера. — А второе то, что она же по-итальянски, ха-ха-ха... Она «аморэ» — ха-ха-ха! «Аморэ»!.. Поняли, папаша?
Мама:
— А ты слыхал?
Валера:
— До чего ты технически безграмотный человек, Неля. Когда мимо вас проплывали готовые «Жигули»... Одним словом, я сидел в одной из машин... налаживал двигатель.
Пека:
— Мама! Он врет!.. Все врет. Это я ему рассказал.
...Мать! (Прекрасное слово, а?) Что может быть на земле родней и дороже матери? Пека всегда, всегда ее защитит.
2
Зато каким длинным, каким волшебным днем было воскресенье.
Валера, мама и Пека поехали в лес, долго шли по корням и утоптанным, упругим тропинкам. В лесу — сумрачно, под ногами словно трещал ледок, но они развели костер. Это Валера развел костер, а Пека ему приносил ветки.
Деревья по самым верхушкам — зеленые, а внизу, где лесная дорога, — опавшие иглы, мох — все желтое, желтое, желтое.
Лес глухо и сонно молчал, пахло хвоей. Хорошо было чувствовать себя близким этому лесу и его зайцам. А может, лисе?.. А может, настоящему волку?..
Теплый ветер тянул смолой.
— Ты умнющая, — объяснял Валера маме. — Ты самая умная на земле!
— Умней тебя? — удивилась мама.
— Еще бы! Ясное дело, умней... И лучше!
Они погасили костер и все трое пошли к реке.
У набережной стояли две пристани: одна — старая, а другая — новая. Мама сказала Пеке, что на новой пристани написано очень большими буквами «Тольятти» и что это название нового города. И летом у новой пристани начнут останавливаться новые пароходы.
Тускло блестели изгибы реки. Она уже чуточек схватилась льдом, тонкие льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Мама увидела лед, остановилась, закрыла лицо руками, сказала:
— Я счастлива, но мне страшно.
— Ты и твой Пека вообще с «приветом», — ответил Валера и рассмеялся.
Валера принялся бегать вдоль набережной, чтобы Пека согрелся в своем коротеньком «лапсердаке». «Ну и вырядила ребенка!» Они отбегали далеко и видели маму, которая шла им навстречу медленно, медленно... Ее шарф «Айседора Дункан» развевался по ветру, издалека она в своих широких и длинных брюках была очень похожа на мальчика.
Дул острый ветер.
С одной стороны — река и ветер, с другой — дома, огромные, высоченные, очень белые, повернутые окнами в сторону мамы, Валеры и Пеки.
Скоро солнце задернуло тучкой и нежно, нежно засинел воздух. Они все трое долго гуляли по набережной, а когда на берег легли широкие, прозрачные тени, решили вернуться домой, в гостиницу, и поесть.
Пришли в буфет, и Валера сказал:
— А я буду сейчас кормить свой зверинец!
Он поставил на стол сосиски и лимонад и живо спросил у Пеки, как спрашивал попугай: «Жрать хочешь?»
Пека расхохотался, и всем стало видно, какие у него редкие, мелкие зубки. Они очень весело пообедали, а потом поднялись наверх и пошли к музыкантам.
В комнате, где музыканты, на бумажке лежала толсто нарезанная колбаса и стояли бутылки. Музыканты все были красные, все говорили разом; потом они сполоснули стаканы и налили маме с Валерой в один стакан.
Все чокнулись и сказали: «За хорошее настроение!»
— Я тоже хочу хорошее настроение, — захныкал Пека.
— Ему спать пора! — спохватилась мама.
Все втроем они прошли в ту комнату, где жили мама и Пека. (Девочек не было — воскресенье.) Мама быстро-быстро раздела Пеку. Но Пека ей объяснил, что он будет спать, только если мама с Валерой будут сидеть вон тут.
В это время в комнату вошла знакомая попугайная тетка. Только без попугая.
— А Петруша где?
— Он спит, — ответила тетя.
— Ладно. Тогда я тоже усну, — вздохнув, согласился Пека.
И он уснул. Во сне ему снилось странное: будто мама с Валерой все время целуются.
Пеке стало так стыдно, что он еще крепче закрыл глаза. Но и сквозь крепко-крепко закрытые веки они продолжали обниматься и целоваться.
Они шептались, а Пека спал. Когда он открыл глаза, за окном стемнело... Мама складывала чемодан, а Валеры в комнате не было.
— Ой, — сказала мама, — добрые люди, подайте мне яблоко! Я счастлива, сча-стлива-а-а... Голова — кру́гом... Чуть не забыла положить грим... Яблока, яблока!.. Освежите-ка меня яблоком. Ибо я изнемогаю, изнемогаю от лю... Пека! Ты что? Ошалел? Кальсончики! Ну? Зазевался и рот раскрыл. Норовишь штаны на голое тело? Но я все вижу!
3
В этот вечер Пека остался один в гостинице: Валера пошел провожать на концерт маму.
Пека остался один, один в этом царстве лестниц, покрытых красной дорожкой, орущего телевизора и множества дяденек — толстых, тонких, старых и молодых. Они ходили туда и назад, туда и назад по лестнице. И никто не глядел на Пеку.
Пека долго бродил по лестницам, он попробовал даже скатиться с перил... Но перила были высокие: не взобраться. Тогда, немножко подумав, он вдруг запел:
Он пел красиво и очень громко. А «куриные ноги» все шастали, шастали...
Решившись, Пека подошел к раковине и отвернул кран. Он хорошо забрызгал себя водой. Стало ничего: очень даже холодно.
Все, что может быть сделано, было сделано. А вечер только еще начинался, и не будет, не будет, не будет ему конца.
И вот тут-то с Пекой случилось чудо: к нему подошел человек в голубой рубахе и сапогах с пряжками (как у кота в сказке) и сказал:
— Я Борис. А тебя как звать?
— Меня зовут Пекой, — ответил Пека.
— Это мальчик танцовщицы, — объяснил вдруг кому-то Борис, глянув через плечо, рассмеялся, взял Пеку за руку и повел его к себе в номер.
На столе у него лежали картинки.
— Кафе́! — объявил человек, у которого пряжки на сапогах, как будто бы у кота из сказки. — Понимаешь ли, я — художник... Я декоратор — спроектировал внутреннюю отделку этого вот кафе. Ну как?.. Хорошо? Что скажешь?
— Ничего себе!
— А ведь ты, дружок, ничего не понял. Я... я нарисовал вот это кафе... И я же его построю. Вот это — из кожи, а? Все кресла из красной кожи. Уяснил? Лады. А это из дерева. Светлого дерева. А вот эти блюда на стенах — из меди. Хочешь, я покажу?
Пека хотел.
И художник Борис показал ему блюдо. Оно стояло в углу и было красиво завернуто. Но художник его развернул, и Пека сейчас же увидел блюдо.
— Там будет двенадцать таких же блюд. Только рисунок немножко разный, — с увлечением продолжал Борис. — А ты рисовать умеешь? А как зовут твою маму?
— Нелей... А рисовать я, конечно, могу, — подумав, ответил Пека.
Художник дал ему толстый листок бумаги, карандаш и кисточку. А еще он дал ему краски, которые всех цветов. И Пека принялся рисовать.
— Признайся, чего ты нарисовал!
— Дом, — отвечал Пека. — Здесь живут Валера, мама и я. А кухня у нас — она вся электрическая... А это — белье. Оно сушится на веревке. А это — разные легковички. А это — Валерина легковичка!
— Скажите-ка! — восхитился Борис. — Значит, у вашего Валеры есть своя легковичка?
— Все легковички Валерины, — пояснил Пека. — Он может все! Он может костер, и рыбу, и всякие разные легковички. Он может — ветер, он может — реку...
— Заврался, — сказал Борис.
— А вот и нет! — отвечал Пека. — А это — спички. Спичками он поджег себе голову́!
— Как я должен это понять?
— Он взял спички — и голову́! Голову́!.. За то, что все танцевали с мамой.
— Мда-а... Неприятнейшее положение у Валеры, — вздыхая, сказал Борис. — Я бы на его месте тоже себя поджег.
— Моя мама — о-го-о-о! Моя мама фуэте, и батман, и все...
— А ты намекни, между прочим, маме, что я тоже — весь как есть холостой.
— Ладно. Я намекну, — согласился Пека.
В это время в комнату постучались. К Борису ворвалась мама. Она не сказала «Здрасте», а сразу:
— Куда ты пропал?! Я избегалась, изыскалась...
— Так мы же рисуем дом! — удивился Пека.
Художник привстал, поклонился и объяснил маме, что он Борис. А Пекина мама пожала руку художнику и сказала, что она Неля Богатырева.
— Он весь мокрый! — вдруг спохватилась мама. — Это вы окатили его водой.
— Никогда!.. Никогда я себя до такого не допущу.
И вдруг художник быстренько принялся рассказывать маме, какое он красивое нарисовал кафе. Он показал ей то блюдо, что уже показывал Пеке.
— Мама, а мама... Он весь-весь как есть холостой, — вмешался в разговор Пека.
— Чего-о-о?.. — удивилась мама. — Вам — хорошо. В Тольятти нужно строить и строить. У меня, вы знаете, даже благодарность к вам за это кафе. Хоть бы вы их сделали десять. А я... Я просто, просто в отчаянии, где я здесь стану работать, не понимаю.
— Тут есть два народных театра, — сказал Борис. — Но это же самодеятельность... А ты же профессионалка.
— А когда ты откроешь свое кафе? — вдруг спросила мама. — Может, временно я смогу выступать у тебя в кафе или перед началом в кинотеатрах?
Борис рассмеялся и отвечал:
— Нет. Здесь и так переполнены кинотеатры. С девяти утра не достать билетов, у нас не нужен дивертисмент. А в моем кафе эстрада такая маленькая. Но ты могла бы временно преподавать танцы, как хореограф, или поступить танцовщицей в Куйбышевский театр. Все же это недалеко от Тольятти, будешь приезжать хотя бы по выходным.
— Ни за что, — рассердилась мама. — Мы не будем больше шататься по белу свету. В крайнем случае я на самом деле стану первое время вести кружок. Здесь скоро театр откроется. Опереточный. Мне сказали.
— Очень жалко, — вздохнул Борис. — Я видел тебя. Ты танцовщица превосходная. И вообще... Счастливец этот твой какой-то Валера!
— Я сама — счастливица. И... и это самое главное. Я... я стану каждый день потихоньку тренироваться...
Так неинтересно они говорили. И Пека начал дремать, подперев голову кулаком, А в кулаке у него была кисточка.
— Спать! — сказала мама. — Спать, спать, спать. — И попыталась тихонько вытащить кисточку из Пекиного кулака.
— Не надо, — сказал Борис. — Не надо, я завтра ее возьму. И завтра я покажу вам свое кафе: тебе и Пеке. Лады? У тебя будет время между репетицией и спектаклем? А вдруг не так уж мала эстрада?
— Отлично, — сказала мама. — Я все же, на всякий случай, погляжу на нее. Она совершенно маленькая?
— Да. Но ты можешь все что вздумается, — ответил Борис. — Для тебя моя эстрада может стать... ну, эстрадой, как все эстрады.
Красивым было кафе Бориса. И пахло стружкой. Столы — блестящие, круглые и квадратные, деревянные. До их дерева очень хотелось дотронуться подбородком.
А на стенах — блюдо: одно-единственное и все в солнце.
Другая стена — стеклянная, но Борис сказал, что скоро ее завесит.
На полу лежали на животах четыре художницы и обмакивали в блюда большущие кисти. Они разрисовывали цветную материю.
— Очень грустно, — сказала мама. — Эстрада на самом деле как воробьиный нос. Но я... я могу в проходе! Я между стульев.
Она живо сбросила свой жакетик и шарф. И принялась кружиться по комнате.
Борис потихоньку включил транзистор.
Комнату переполнила музыка. Опера «Сказки Гофмана». Пека знал эту музыку: в ней плескалась вода, проезжали по сцене лодки — звались «гондолы».
— Понимаете, — принялась объяснять мама, — Гофман — как песчинка в мире, совсем один. А гондолы — как сон. И люди вокруг — как сон. Они в том счастье, в том опьянении, понимаете, которого не бывает на самом деле, а только во сне! Ой, я не знаю, как объяснить! Ему все это кажется, а возлюбленная плывет... И все они на гондолах...
Она слегка приоткрыла рот и откинула назад голову. Глаза у нее затуманились, стали слепые. Она медленно принялась кружиться. Кисти рук ее соединились над головой. Потом ладошки разъединились. Ожили в танце обе ее руки.
А транзистор: «плюх-плюх» — это значит — «гондолы». Плюх-плюх вода за бортами лодок.
Мама плывет, плывет, вскинув голову... Лицо ее нежно розово. Она подходит к стулу, будто там человек, — протягивает осторожно обе руки и опять отходит — кружится, будто во сне, — счастливая, пьяная, забывшая обо всем. Даже о своем Пеке.
Вскочила на пустую эстраду, которая с воробьиный нос, и сделала три фуэте. Но не ноги ее плясали, плясали руки.
Замерла. Остановилась.
Художницы громко захлопали.
— Какая же ты счастливая, какая же ты талантливая!.. Это импровизация? Да?
А Борис молчал. Глаза у него блестели. В них были слезы.
— Ты, Нелька, того... Талантище! Жить не хочу... Это... это... Я как будто видел себя самого во сне.
— Еще! — просили художницы.
— Нет. Нам некогда, — ответила мама. И живо подняла с пола свою жакетку.
4
И вот они с Пекой вышли на улицу, сели в трамвай и поехали в «новый город».
Валеры в этот час не было дома — квартира пуста. Мама пошла к соседке и попросила тряпку.
— Обыкновенную. Если можно!.. Тряпку... Тряпку для пола.
— А вы кто такая будете?
— Я? Уборщица.
— Странновато...
Но ей дали ведро и тряпку.
Мама посадила Пеку на табурет, широко распахнула окно, разулась, нагрела воды и живо вымыла пол. Она терла пол до того сильно, что скоро он стал совершенно желтый. После этого мама вскочила босая на подоконник и протерла газеткой стекла. Когда мама вытерла стекла окна, в Валериной комнате стало будто еще светлей. А потом уже мама потихоньку вычистила кастрюлю Валеры и сковородку.
— «Но-о-очь блаженства-а-а не-е-земно-о-го», — запела мама.
Потом она помыла немножко ноги, обулась, сказала:
— Сейчас вернусь. Давай сиди и береги тряпки. Я сбегаю в магазин и куплю харчей.
Мама и на самом деле скоро вернулась, принесла с собой колбасу, батон и пиво в бумажном большом мешке. Все это она аккуратненько разложила рядом с Валериными карандашами.
— Он вернется ночью, — сказала она, — а у него так чисто! И харч: колбаса, хлеб. А сейчас мы пойдем домой и завалимся спать. А вечером к нам придет... знаешь кто?! — Валера... Придет Валера, Валера, Валера!
И Валера на самом деле пришел (только не стал подниматься в их комнату).
Пека стоял внизу, а мама гладила наверху свой фрак.
Внизу, вместе с Пекой, были мамины музыканты.
В это время как раз и раскрылась входная дверь. А в двери — Валера.
Он сказал: «Привет». И музыканты сказали ему: «Привет!»
— Отбываешь вторую службу по совместительству? — захохотав, спросил трубач. — Правильно делаешь — отбывай! А Нелька — она ничего... Она отогреется и со временем, может, остепенится...
— Остепенится, ха-ха-ха! — загрохотал тромбонист. — Это гром-то остепенится? А может — молния?.. Ну, а может, гроза?.. Теплый ветерок каждого по щеке погладит...
— Чего это вы? — хрипловатым баском, растерявшись, спросил Валера. — Клюкнули, что ли, с утра пораньше и до вечера не оклемались? Так вот: угощаю. Берите. Опохмелитесь.
— Маковой росинки во рту не имели, — сказал трубач. — Это мы только немножечко по церковным праздникам. Нам попросту тебя жалко. Приличный парень... Солидный. С образованием... Строитель, так сказать, современной жизни. А сегодня утром ее подхватил, понимаешь, под мышку художник из тридцать третьего... И уволок. И она даже для виду не сопротивлялась. Пошла с ним шататься... Мы-то знаем своих, как облупленных: вернулась, сучка, только в шестом часу. Жаль тебя сердечно: ты парень славный. Не по-мужскому, несолидно будет не зажечь, так сказать, твоей легковой машине зеленый свет... Разобьешься! Что? Смекнул-таки наконец?
— Я в ваших доносах и раскрытиях не нуждаюсь, — сказал Валера, потоптался, подошел к Пеке и протянул ему маленькую коробочку из картона. Пека раскрыл коробку. А в ней... в ней лежала белая, всамделишная легковичка.
Весь покраснев от радости, он взглянул на Валеру, но тот как-то странно топтался по вестибюлю гостиницы. И вдруг, ни с того ни с сего, ушел, хлопнув дверью. (Рассердился, видно, на Пеку за то, что он не сказал: «Спасибо».)
А мама тем временем выгладила свой фрак, разложила его на стуле, сказала Пеке:
— Я вместе с тобой прилягу. Валера придет и меня разбудит.
— А он уже был, — объяснил ей Пека. — Пришел, снял шляпу, потом надел... Потом хлопнул дверью и вдруг ушел.
— Зачем ты врешь?
— Я не вру! — рассердился Пека. — Вот! Он еще подарил мне белую легковичку...
— Ну так где ж Валера?
— Не знаю. Он ничего такого мне не сказал. Потоптался, снял шляпу, надел... И все.
— И никто не стоял внизу?
— Все сидели, а я стоял, — виновато ответил Пека.
Пека дремал. Просыпаясь, он видел бессонные блестящие глаза мамы.
— Мама, — прижавшись к ее плечу, тихим шепотом спросил Пека, — а вдруг это вышло из-за меня?.. Как тогда, ты помнишь, с твоим партнером?.. Может, он, чтобы я на него не сердился, подарил мне эту белую легковичку. Так мне, посмотри, — не надо, не надо, не надо!.. Я ее брошу через окно. В форточку! Ты не плачь!.. Вот — гляди, Я бросил. Видала, мама?
5
На следующий день рано утром мама с Пекой поехали на завод.
Они знали, что в рабочие помещения без пропуска не впускают. Они долго-долго бродили возле цехов, в пыли и грязи (ночью шел дождик), пока не нашли большущий цех с настежь распахнутыми дверьми. Здесь еще не было никаких машин — только ящики... Рабочие рыли что-то, видимо закладывали новый фундамент.
Через раскрытые двери, в другом цеху, виднелась огромная штамповочная машина. Она штамповала верхушки будущих автомобилей... Верхушки, верхушки — одну за другой. Они были «черные» — не раскрашенные, унылые.
А цех, где сидели Пека и мама, — широкий, как улица, и просторный, как улица. Здесь гуляли ветры, взметая пыль.
Время от времени проезжали грузовики, какие-то вагонетки... В вагонетках — рабочие в очках и кепках. Они правили очень странно: раскачивали какие-то поршни туда и назад.
...Вот, блестя мелькающим поршнем, колесами, проскочила совсем рядом с ними какая-то вагонетка — начала сокращаться, сделалась маленькой, ушла далеко, исчезла.
Было холодно. Повсюду едва уловимый и все же отчетливый заводской шум, словно и здесь уже билось сердце завода. В большом и пустом цеху еще не было видно движущихся ремней. Сюда долетало только дыхание дальнего — живого и мощного: глубокое дыхание производства, начавшего выпускать свои знаменитые «Жигули».
Прошли, обнявшись, три девушки, измазанные известкой, в платках и рабочих брюках.
В полупустом цеху что-то громко ухало, содрогалось... Земля? Нет, это содрогались ящики, стоявшие тут и там: содрогался твердый пол, и, если как следует приглядеться, по этому земляному полу вились, рассекая его, какие-то рельсы, похожие на трамвайные.
Мама поправила шарф, подошла к молодому дяденьке и робко ему сказала:
— Разыщите, пожалуйста, в сборочном инженера Савельева... Валерия Савельева... Если вам не трудно. Мы подождем...
Дяденька заулыбался, глянул на Пеку, ответил, что охотно разыщет им инженера Савельева, — кто бы подумал, что у него такой большой малый?! А вы — не волнуйтесь... Я его видел под утро... Может, ушел домой?
Мама с Пекой принялись ждать. Долго ждали они и даже присели на ящик, и мама прочла на ящике: «Эмануэль»...
— Пека, мне страшно!.. Опять этот Эмануэль...
— Мамочка, не волнуйся. Это сейчас пройдет. Его заберут отсюда.
— А он мне снится, — сказала мама, — и будто бы ноги у него какие-то высо-оченные... Из железа.
По цеху ходили люди, слышалась речь, которую мама с Пекой не понимали. Это, должно быть, разговаривали между собой итальянцы. И... их ящик «Эмануэль»...
Долго ждали они. Мама всякий раз подходила к новому дяденьке:
— Вызовите, пожалуйста, из сборочного инженера Савельева.
И ей отвечали, что хорошо и что вызовут, мол, но никто его не вызывал. Мама с Пекой, обнявшись, долго-долго сидели и ждали.
И вдруг издалека показался Валера в рабочем комбинезоне. Он шел очень низко опустив голову. Подошел, сощурился и вместо «здравствуйте» вдруг сказал: «Ну?»
— Ты что?.. Ошалел? Взбесился? — спросила мама.
Валера пожал плечами и, не поднимая глаз, толкнул ногой листок фанеры.
— У тебя словарь, как у некой Эллочки-людоедки, — усмехнувшись, сказал Валера. — Нормально, по-русски, совсем говорить не можешь?.. И... между прочим, прочти-ка, что здесь написано. — Он сощурил глаза.
Мама совсем потерялась и прочитала вслух. На листке фанеры, который валялся у ее ног, было написано большими буквами:
ОСТОРОЖНО! СТЕКЛО.
Вот что было написано на фанере.
«Да, да... Конечно. Я... я говорю по-русски, как все у нас. Но ведь он-то... он-то — всегда... «Ты самая умная! Ты мудра, как змей». А я говорю по-русски, как все, как все».
Автор:
«Ты хочешь сказать: как у вас в эстраде?»
Неля:
«Да. Но думаю я иначе... И на другом языке вижу сны. Мы... мы всегда боимся, что нас засмеют. Разве возможно мне говорить иначе — не так, как все? Языком души, языком сердца?»
Автор:
«Валера, я вас, между прочим, знаю очень давно. С тех пор, когда мне было столько же, сколько вам».
Валера:
«Это же невозможно! Должно быть, вы меня перепутали с погибшим отцом?.. Между прочим, вы можете говорить мне «ты». Вы настолько старше меня!»
Автор:
«Пожалуйста. Если вам это удобно, я буду вам с удовольствием говорить «ты». Твоего отца я не знала... А может, знала? Не в этом дело... Я знаю тебя. Т е б я. Мы — воевали вместе».
Валера:
«Ха-ха-ха-ха... Мне только двадцать семь лет. Разве это возможно?»
Автор:
«Возможно. Знакомое выражение глаз. Да и лицо — знакомое... Ты ведь нынче ночью работал, да? Сколько ночей ты недосыпал, чтобы победить, чтобы поскорей наладить свои «Жигули»? Бедный мальчик! Вы здорово задержали официальное открытие завода. Страдаешь, да? Тебе нужно множество «Жигулей»... Ничего. Я только то и хотела сказать тебе, что ты — обязательно победишь, в этом можешь не сомневаться! Как бы ни было трудно, какая бы ни была «организация производства» (кажется, что-то в этом духе стоит у тебя в записной книжке?)... Ты победишь в с е г д а. Я в этом уверена... Но я хотела еще сказать... что самое трудное — это сохранить не в производственных, а в личных вопросах самостоятельность точки зрения...
С о х р а н и е е — и я н а з о в у т е б я л и ч н о с т ь ю !»
Валера:
«А вам бы весело было... если б... Нет! Вы — женщина... Вы такого не понимаете».
Автор:
«А вдруг понимаю? Ведь я очень немолода. Ты попросту недостаточно ее любишь».
Валера:
«Вы еще не забыли, что значит «любовь»?»
Автор:
«Ни в коей мере... Ведь ты для меня — сын...»
Валера:
«Но ведь это совсем другое».
Автор:
«Ты недостаточно ее любишь! Ты в ней любишь только частицу себя. Добрый, ты забыл, что значит великое слово «жалость».
Валера:
«Речь не идет о жалости».
Автор:
«Да... Но по-русски — это и есть любовь!.. Я его «жалею» — ведь так говорят крестьянки? А у Цветаевой — помнишь? — «Жалённая, желанная...».
Валера:
«Я жалею... Пеку. Вот это — да. Не ее! Ведь вы знаете, я сирота — как он».
Автор:
«Понимаю. Помню. Он тоже тебя так любит!.. А Неля?.. Каждый из нас «сирота» — по-своему. В этом мире... В этом мире, где за жестокое, за неосторожное слово вдруг предают любовь...»
6
Четверо суток Валера не возвращался в свою одинокую комнату: ночевал у ребят — в общежитии, чтоб быть среди людей. Он спал не больше пяти-четырех часов: торчал в цехах даже ночью, когда можно было остаться дома, не приходить на завод.
«...Скоро пуск! Вот-вот... «Открытие». Официальное. Преотлично! Я буду здесь, пока не начнут выбрасывать все пятьсот... Нет — тысячу... Тысячу машин. Это мой второй дом. Я буду здесь постоянно, все время, все время, все время здесь... Я... Я как-нибудь перебьюсь. Для меня в цеху в любую смену найдется дело».
Однажды он проторчал на заводе так долго, что вдруг заметил: «Светает!» Валера пристроился тут же, в цеху, положив под голову полушубок.
Он ел в заводской столовой, он замечал, что голоден только тогда, когда начинал есть.
«Вставки» — где размещались столовые (так называют здесь все вспомогательные помещения), — а ведь столовые при заводе, и были они из сплошного стекла, — столы прикрыты сверкающими клеенками, словно повисли в воздухе в стеклянной своей оболочке.
Поглядишь сквозь стекло: внизу — улица. Она окрашена в сероватый цвет осени.
Тоска от каждого трамвая, автобуса, грузовика, тоска от ложки, тарелки, в которой суп. Он хлебал тоску.
«Улица! Пусть тебя сейчас же пересечет Нелька. Нелька со своим Пекой. Как брат с сестрой, как двое малых ребят.
Или вот что: пусть мне только покажется, что это прошла она... Я... Я что-нибудь сделаю, я остановлю движение на улицах!
Пусть, пусть все на свете замрет!
Отчего мне так пусто? Так зверски, зверски нехорошо?»
...Однажды, когда он пришел к ребятам, на столе у них, в общежитии, стояла бутылка водки. Ему дали выпить и закусить.
Из красного уголка доносились звуки баяна.
От усталости он захмелел, обхватил руками дурную голову и пьяно стал говорить:
— Поймите, ребята! Чуть было вокруг пальца не обвела. Я жениться, если хотите, жаждал... Я только того боялся, что не смогу ей создать условия!
Валера ругал ее. И сам не верил тому, о чем говорит.
Его горем была любовь. Его горем были сомнения, связанные с любовью.
Для того чтобы выразить это, надо было то ли завыть под баян; то ли броситься в койку и спрятать лицо; то ли заплакать навзрыд слезами пьяного.
Он выбрал первое — заголосил:
Валера вопил и раскачивался.
А из стакана, на дне которого еще оставалось немного водки, шли боль и тоска, тоска... Тоска по этой дряни... по Нельке, которую он любил. «К но-огтю прижала меня, чертовка!»
Что-то в нем бормотало, плакало и скулило, словно бы он был Пекой и вдруг заболел ангиной.
Видя такое дело — полнейшее расстройство чувств, товарищи хлопали его по плечам:
— Валерка! Неужто во всем Тольятти хороших девчонок нет? Молодых, культурных и скромных? А что скажет твоя мамаша, когда ты возьмешь артистку с ребенком? Ты это что ж?.. Сына сам завести не в силах, тебе нужен готовый товар, — так выходит по-твоему?.. А второе то, что из погорелого театра она артистка! Вот какая, если по правде, Нелька твоя артистка!
— Ой, врете... Она артистка. Она — талант... Она — перышко... Она — дух!..
Но его мать и действительно ничего не знала о Неле.
Трудно, немыслимо было представить себе его маму (хирургическую сестру) — рядом с Нелькой, с ее словечками, хохотом и тем, что она не брезгует «слегка дербалызнуть», если придется к случаю.
Не такой, должно быть, видела мать его будущую жену. Его мать была женщиной самоотверженной. Овдовев, она больше не выходила замуж, растила его, давала образование.
Когда он закончил курс, мать справила ему костюм и пальто — «неудобно все-таки! Специалист!».
Жила для него и ради него. Он считал ее старой. Но ведь только теперь она сделалась старой, да и то не вовсе по-настоящему.
Так он говорил себе, глядя в стакан, в котором поблескивала вновь налитая ему водка.
«Поддержать бы мать, хоть чуток. Внимание, то да се...»
Но ведь она писала: «Женись!..» Так она писала. Чуть что не приказывала ему. «Внука жду», — говорила мать.
Все это он повторял себе, про себя... Но ответа не было. Что-то грозно орало в нем: «До меня хоть потоп! Потоп... Мне-то что? Она меня любит. Я ее приберу к рукам».
— Оскорбили вы меня в моих лучших чувствах! — сообщил Валера товарищам. — Калошами в душу, в душу!..
После этого он пошел домой. Его пытались задержать, но Валера не поддавался.
Шатаясь, пьяный, он долго брел по ночному городу с улыбавшимися фонарями.
И вдруг он остановился, пристально вглядываясь в лицо фонаря, словно в его свечении был тайный смысл.
— Нелька, с чего ты такая бледная?.. Недоспала? Вот и парадное с неосвещенной лестницей. Он вошел к себе раскачивающейся походкой.
На столе лежала позеленевшая колбаса, тут же рядом — батон. Пол в комнате чисто вымыт.
Вот кухня, кухня... На кухне вычищенная кастрюля.
И словно шаги его чертовой Нельки послышались вдруг Валере в пустой, одинокой комнате. Смех, улыбка, выражение ее детских глаз, прозрачно-серых, пристальных, не умевших лгать. Ветер на набережной реки поднял ее шарф, закачались макушки сосен; затрещал костер и осветил живым своим теплым пламенем всех троих, примостившихся у огня.
Пламя гуляло по лицу Нельки и Пекиному лицу... И помнится, он заметил еще тогда, что очень они друг на друга похожи. Не взрослое у нее лицо. Не взрослое. Нет! Лицо девчонки.
— Перестань канючить, — сказал он Нельке. И рухнул на свой матрас.
Под подушкой была записка: «Люблю тебя. Твоя Неля». Бесчестный удар. Он его не снес.
— Успокойся, будет, — ответил Неле Валера. — Победокурил — и будет. Довольно. Все!
«...Дети... Оба они — недомерки!»
И странное чувство в нем родилось — ответственности за ее шалавость, наивность, причуды... И так хрупка и беспомощна она показалась ему, что захотелось ее заслонить от бурь своими руками, вот этими растопыренными, потемневшими пальцами.
«Какие грязные у меня руки, — опомнился вдруг Валера. — Надо руки вымыть, надеть рубаху... Вот свежая. Нелька, что ли, ее постирала? Хорошо, что нейлоновая, гладить не надо, и так сойдет...»
Он одевался с какой-то судорожной быстротой, вымыл руки, подставил лицо под холодный кран.
Был второй час ночи. Трамваи уже не ходили. Он знал, что они не идут, и зашагал энергичным шагом из нового города в старый город.
«Я попрошу дежурную разбудить ее, — шагая, сам с собой рассуждал Валера. — Откройте! Люблю!»
В нем бродило возбуждение от выпитой водки, недосыпания.
По улицам все еще проезжали редкие легковые машины с зажженными фарами. Мгновенный свет освещал Валере дорогу. И снова мгла. Все было смягчено легким призраком ночи.
Он добрел кое-как до асфальтированного шоссе и пошел быстрее. Что-то внутри него будто толкало его вперед, торопило, гнало.
Это «что-то» была любовь.
«Наплевать мне на всех и все! — рассуждал Валера. И размахивал на ходу руками. — Скорее, скорей!»
Вот и старый город. Черное небо вокруг казалось тяжелым пологом. Кое-где витрины освещены, кое-где одиноко и бедно раскачивается фонарь.
«Сейчас, я — сейчас, сейчас», — объяснял фонарям Валера.
Темнота, сырой ветер.
Гостиница. Вот и подъезд... Валера набрал побольше воздуху в легкие, приосанился, чуточек оправил шляпу.
Живо, чтоб не раздумать, нажал звонок.
7
Самолет отлетал в Ленинград в три часа ночи.
Пека сделался «полуношником». Днем он дремал одетый, а ночью ложился спать, когда возвращалась мама.
Актеры стояли внизу, в вестибюле гостиницы. Все — оркестранты, певец, певица, попугайная тетка и ее попугай Петруша. Петруша был в клетке, он спал на жердочке. Пека все это подглядел: поднял потихоньку плед, которым прикрыли клетку. Спит! Крепко спит. И храпит! Честное слово: он сам слыхал.
Мамины чемоданы и чемоданы актеров лежали аккуратно, в рядок. Наверху был мамин футляр от скрипки.
Одной рукой мама крепко держала Пеку, другой — соломенную корзину со сдобными булками. А в термосе — молоко.
Подошел автобус. Все, все как есть, сейчас же сели в автобус. Нет... До того как влезть в него, актеры, шофер и толстый певец втащили вовнутрь чемоданы и мамин футляр от скрипки.
— Эй вы, поосторожней! — сказала мама.
На дворе ночь. Но Пека заявил маме, что спать все равно не будет, он будет сидеть у окна и смотреть на улицу.
Он сидел у окна и смотрел на улицу.
Улица — темная, тут и там на ветру раскачивались фонари. Изредка брел посредине темного тротуара одинокий прохожий.
Вот кто-то прошел покачиваясь... А на нем — шляпа. Пека вспомнил Валеру (он очень любил Валеру и его шляпу).
Автобус ехал. Он ехал из старого города в новый город. С обеих сторон стояли дома; их окна — погашены, редко где маячил чуть желтоватый свет.
Но вот уж они проехали старый город. По правую руку шумел завод, сияя стеклами. Возле завода по улице проезжали грузовики. Ни одной легковички. Уснули, верно.
Автобус миновал городскую черту — вырвался за ее пределы. Он помчался по черному полю, не освещенному ни одним огнем. Лунный свет в пустынных полях, огоньки вдалеке. Поле — осеннее, ничего не видать. Но вот впереди опять завиднелись огни — большие, редкие, — блеснули зеленым фосфором, как будто бы глаза волка.
А в небе — луна. Она не двигалась, тускло светила сквозь облачко.
Очень долго ехал автобус, и нигде он не останавливался. Небо возле луны было чуть зеленое, поле, как светлым дымом, переполнено лунным светом.
Актеры тихо переговаривались.
Зашевелился у тетеньки в клетке проснувшийся от толчков попугай. Он сказал, картавя: «Петруша хороший, Петруша хороший!..»
Автобус ехал. Он ехал.
И вот наконец вдалеке показались огромные огненные глаза. Они приближались: это стеклянные кубы аэровокзала. Все ярче свет.
Автобус затормозил.
— Прибыли и, как видите, не опоздали, — ворчливо сказал шофер.
Валера пришел в гостиницу через полчаса после отъезда автобуса.
Дежурная разъяснила, зевая, что все только что отбыли.
— А вы кто будете?.. Администратор?..
Валера странно засуетился. Хмель из него вылетел мгновенно, как будто бы Валера никогда и в глаза не видывал водки.
«Что делать? Как быть? Как поспеть на аэровокзал?»
И вот, словно сжалившись над Валерой, проехала по улице неказистая маленькая машина.
Валера заорал и, размахивая руками, бросился к ней.
— Товарищи, — взмолился Валера, — я заплачу... Хорошо заплачу... Я... понимаешь ли... Опаздываю на самолет! Мне — к матери... Мать заболела. Доставь, будь ласков.
И они помчались во вздрагивающей машине по пустынному городу: вперед, вдогонку за Нелей и ее Пекой.
— Чего ты стонешь? — спросил шофер.
— Ничего не стону! Я догоняю мать своего сыночка!..
— Ах вот оно дело какое! Вот это — да!..
8
Объявили посадку.
Актеры пошли вперед по широкому, плоскому полю аэродрома.
Мама посадила Пеку к себе на закорки и тоже пошла вперед.
Возле той лесенки, что вела в самолет, стояла девушка в синей форме. Конферансье протянул билеты, и девушка быстренько пересчитала пальцами всех пассажиров.
— Женщину с ребенком вперед! — сказала она.
И мама с Пекой начали медленно подниматься по чуть вздрагивающей лестнице.
Они шли все вверх, все вверх, они шли до самой луны, недвижно стоявшей в небе. А потом уселись на мягкие кресла внутри луны.
Луна осторожненько загудела. Рванулось куда-то поле аэродрома, побежало назад, назад... И вдруг они оказались в воздухе. Пека, как всегда, сидел у окна и ясно видел небо в луне. Под луной лежала гряда облаков. Они вырвались из облаков. Небо сделалось гладко-черное: теперь луна светила только сбоку — слева от самолета.
Кое-кто из актеров спал, кое-кто шелестел журналом, проглядывая его. Рядом с Пекой сидела мама. И плакала. Из ее глаз по щекам катились большие слезы.
— Нелька, брось!.. Он тебя не стоит. И никогда не стоил, — лицемерно сказал тромбонист.
Мама вздохнула и не ответила.
...Они были в огромном небесном мире, под ними — земля. Просто ее не видно было, потому что на свете стояла ночь.
Под луной лежала земля и на этой большущей, круглой земле — очень маленький город Тольятти, с его огромным заводом и его станками «Эмануэль».
Все отступило назад, назад...
А в Тольятти дома́ — повернутые окошками к Волге. А в Тольятти — лес с игольчатыми вершинами, но впереди их с мамой родина. Ленинград.
Самолет качало. Хотелось спать, забыть про то, что вечером из гостиницы на концерт уходила мама.
Все, все осталось там — позади: первый волжский ледок и горевший в лесу костер.
Над ними — небо, впереди — небо, позади — небо.
Мама сказала, что небо, звезды, луна — все вместе зовется: Вселенная.
Во Вселенной летели они над спящей землей. Самолет потихоньку гудел и вздрагивал. Он пел свою тихую песенку самолета.
В кабине был главный летчик, он вел самолет сквозь небо — вперед, все вперед, вперед.
Сквозь любовь и слезы летели они. Внизу оставалась земля с соринками мелких дрязг, бессердечия, клеветы.
Два мира — мама и мальчик — в огромном мире неба и точечных звезд. Вперед, все вперед, вперед.
Если был бы день на дворе, стало бы видно, что, когда самолет опустится, земля предстанет перед глядящим в окошко мальчиком не в мелких, а в самых крупных своих чертах — в квадратах высаженных людьми садов и парков; вся — с ее селами и пригородами огромно-большого города.
Но вот уж блещут внизу огни. Мама медленно достает платок, вытирает слезы. Она старается перестать плакать.
— Освежите меня яблоками! — тихо бормочет мама.
— У нас нет яблоков, мама! — услышав это, громко зарыдал Пека. — Нету, мама! Ни одного!
— Тише! Чего ты кричишь?
— Ребенок хочет яблочка. На, возьми. Пожалуйста. Гражданочка, оно мытое, не опасайтесь... Я его хорошо помыла.
— Мамочка, до... дорогая, освежись яблочком.
— Пристал как репей! Отстань! — И мама почему-то не берет яблока. Она, видно, сильно задумалась о своем.
О чем думает мама?
О том, что она не только Пекина мама, а Неля; о том, что она — актриса, что это, должно быть, ее золотое, самое что ни на есть ее главное на земле. Может, искусство требует жертв? Кто знает! И еще о «Шербурских зонтиках», что для нее поставит Эмилия Квяка, и о Пеке, который тихо жмется к плечу...
— Мамочка, а когда люди целуются, они чавкают?
— Нет! И как нехорошо подслушивать и подглядывать!
— А его ты... больше меня?
— Тебя больше всего на свете! Больше жизни! Больше себя!
Все ярче, ярче огни внизу... Нет мглы. На земле — свет.
— Самолет только что улетел, — сказали Валере.
— Да нет же. Не может этого быть!
— Если не верите, так проверьте в справочном.
...Валера долго метался по зданию аэровокзала. Долго потом он не мог забыть специфический его запах, скамьи, на которых сидели ждущие люди, цементный пол.
Исшагав весь вокзал, даже тот пункт, где сдавали багаж, он ушел и остановился один во мгле, на проезжей дороге. Что-то странное делалось с ним, это, должно быть, от недосыпания, усталости, гонки, выпитой с вечера водки.
Плечи его затряслись, он всхлипнул, как маленький, и прошептал: «Неля!..»
— Что случилось? Что с ним стряслось? — спросил водитель какого-то грузовика, стоящего на дороге.
— Да вот убивается, — ответил водитель, который доставил Валеру на аэродром. — Видимо, прозевал своего мальчонку: переживает.
Валера отступил в глубину поля, во мглу его:
— Ах, чтоб все вы пропали пропадом! Нос суют в чужие дела... Прямо в душу — калошами. В душу — калошами.
На слове «калоша» он спохватился и, два раза обронив шляпу, снова помчался к аэродрому.
— Авиаконверт.
— Получайте.
— Марку.
— Зачем?
— Для крепости. И бумагу.
Неле Богатыревой:
«Вертайся»... Нет! «Вертушайся»... Нет... «Вертушинка... Река Вертушинка»... «Вертута»... «Вертись»...
Все слова забыл. Ошалел... Ага-а-а! «Вер-нись!..» Ага-а! Вот то-то!..
«Нелька! Вернись! Сейчас же. Совместно со своим Пекой. А за Пекой по пятницам я буду ходить в детсад. Ты — ветер. Тебе доверить ребенка никак нельзя... Нелька! Милая! Я жажду яичницу!» Что-то будто не то. Как-то грубо. Я перезабыл слова! Кто же я?.. Ага-а-а! Я — Эллочка-людоедка!
«...Вертись, вертушайся, вертайся, вертута... ве... ве... ве... Вечность... Вселенная... Валом валит... Вверх-вниз...»
За багажом помчался администратор. Неля медленно шла по полю ленинградского аэродрома и тащила на руках Пеку.
Она пела:
Тольятти, 1970
ЛЮБОВЬ И КИБЕРНЕТИКА
1
Два года назад тетю Веру бросил муж, и она, такая мягкая, словно сделалась сумасшедшей. Уезжала за город на машине (тогда в их доме был «Москвичок») и, остановившись где-нибудь в поле, где ее никто не мог видеть, бросалась на землю и рвала, рвала свои длинные бедные волосы — в руках оставались их светлые клочья. Она закрывала глаза, выла, как зверь, как кликуша, захлебывалась. Пугалась страшного своего голоса. И, набрав дыхания, кричала опять, опять.
Вокруг цвивиркало поле — спокойное, стрекочущее скрытыми в стерне существами. Все продолжало жить, и дышать, и цвивиркать, словно бы не случилось того, что случилось с ней.
Голос срывался. Темнело. Спускалась ночь. Нет! Нет!.. Нет ночи, нет дня... Выть и кричать, прижимаясь к земле растрепанными волосами, распухшей щекой.
— Нет! Нет!
И обо всем об этом она рассказывала много времени спустя тишайшим, бархатным своим голоском, и бабушка с Юлькой слушали замирая, не шевелясь.
...Ладно. Ну, а теперь кое-что о маме.
Мать Юльки, крупный ученый, конструктор и математик, любила ходить пешком. Неторопливо, на дальние расстояния. Она якобы восхищалась метро, автобусами и троллейбусами, толкотней и давкой. Особенно в часы пик. Все это, мол, взбадривает, придает энергии. Об этом она информировала свое небольшое семейство с каменным выражением лица, стараясь не рассмеяться.
Удивительный человек — мать!
Уезжая как-то на съезд за границу, она задумалась и насмешливо сказала вдруг тете Вере:
— «Погоди, прелестница! Поздно или рано шелковую лестницу выну из кармана».
Так она сказала и привезла с собой отличнейший «мерседес». За его ветровым стеклом висела игрушечная обезьяна. «Мерседес» стал собственностью тети Веры. (Ведь мама так любила метро и троллейбусы, особенно в часы пик.)
Тетя Вера слыла отличным водителем.
— Прирожденный водитель! — сказал про нее инструктор, когда ей вручал права. Сказал и принялся тут же выпрашивать «телефончик и адресок». (Все и всегда, так выходило из тети Вериных рассказов за завтраком или обедом, отчего-то выпрашивали у нее «адресочки и телефончики».)
И на самом деле, хоть истинным ученым она не была — и быть не желала, — но что делала, делала до того хорошо, будто руки у нее не простые, волшебные.
Ладно. Будет. Теперь о бабушке.
Бабка в их доме была не бросовой бабкой. Высокая, представительная, она заглядывала с высоты своего величия в лица людей с непередаваемым выражением дерзкого любопытства. Был у нее о явлениях и людях свой суд, особый. Она высказывала эти неожиданные, подчас ошарашивающие суждения тоже за чаем или обедом, но когда разъезжались гости.
На ней держался весь дом. Однако у Юлькиной бабушки имелось еще занятие личное, очень серьезное, так сказать, частное: ей надо было заставить всех себя почитать.
Утром, когда она просыпалась и шла в уборную, даже спина ее требовала уважения и почтения.
Дети тайно прозвали ее Лупус[3]-почтениус. (Это звучало как классификация вида.)
Их небольшая семья состояла из четырех человек — четырех женщин разного возраста — и была семьей тружеников. Даже вон тот огород за домом был вскопан их собственными руками.
В доме часто молчали. (Бедная бабушка!)
Мама, когда ей вздумывалось отдохнуть, не спускалась вниз, в сад, а сидела у себя наверху, на балконе, рядом с рабочей комнатой.
— Евгения, давай спустись. Слейся с массой, — поднимая голову, грозно и коротко говорила бабушка.
Но счастливая мама уже вышла из того возраста, когда дети обязаны слушаться матерей. Она вежливо, улыбалась, не отвечала.
Вдоль ее балкона ходили первые тени. Небо над маминой головой становилось серым, большим, лицо ее выражало непонятное спокойствие и радость.
В некрасивом этом лице, с крупным носом и отчетливыми надбровными дугами, удивительными казались Юльке большие веки. К маминым векам она никак не могла привыкнуть: тяжелые, мощные, они были почти совершенно белые, не темноватые, как у большинства людей.
Их дом был тихим гостеприимным домом. Очень редко кто-нибудь повышал голос. Все всегда были заняты выше головы, все острили, острили. «О серьезном» не было принято говорить.
Иногда казалось, словно под тонким льдом проходит скованное течение реки, могучее и свободное: жизнь рыб, жизнь смятенных водяных капель. Но ледок не позволит им обнаружить себя. Никому!.. Страсти людские огласке не подлежат, ими не размахивают перед чужими носами, их не обнажают, не декларируют. Ведь это значило бы обременить другого собой — поведение, в высшей степени недостойное уважающего себя человека.
Кто запрограммировал в их доме подобное поведение? Должно быть, мама — самая сдержанная и скрытная.
Прекрасно! А каково Юльке?.. Когда растешь и думаешь, все же хочется хоть когда-нибудь с кем-нибудь поговорить о важном, о самом главном. Куда там!.. Растешь? Расти. Мы, может, тоже росли, но при этом острили, острили... И ты расти на здоровье, никто тебя не тронет, не обессудит. Но помни, занимать собой окружающих — неучтиво, нехорошо.
2
Случалось, что поздно вечером тетя Вера вдруг садилась в машину и уезжала в город. Возвращалась под утро и не одна. Гостю или гостям стелили внизу, на террасе.
Вначале бабка пыталась робко ей выговаривать за то, что та «колобродит». Но Юля отлично помнит, как тетя Вера однажды ответила бабке с несвойственной горечью и горячностью:
— Мама, оставь меня. Поняла? Оставь! Иначе я повешусь.
Бабка глубоко вздохнула. И больше не трогала тетю Веру.
Бабка ее не трогала, и та продолжала вести свою скрытную смятенную жизнь.
Иногда ей вдруг приходило в голову совершить ночную прогулку, скажем, в Загорск. Гости не сопротивлялись — это казалось забавным.
Один раз и Юльку взяли с собой.
Из машины вышли на монастырской площади. В великой тишине ночи зашуршал под ногами гравий.
И вдруг тетя Вера сказала, что хочет разыскать сторожа.
Все принялись, хохоча, ее отговаривать. И она сдалась со своей детской ложной покорностью, обманывавшей людей.
Юлька подошла к одной из церквушек, толкнула двери. И тут-то случилось чудо — дверь поддалась.
Сколько они потом об этом ни говорили, никто не верил: «Быть не может! В Загорске? Нет!»
Поддалась дверь. Из церкви пахнуло холодом, влагой. Прижимаясь друг к другу, они шагнули во мглу. Это была та церковь, где бьет «святая вода». Тетя Вера умыла лицо, обрызгала Юльку.
Спутники, хохоча, тотчас же выволокли их под открытое небо, назад, к машине.
Волосы тети Веры блестели, в волосах повисли росинки, лицо, как всегда, выражало детскую безмятежность. Она села за руль, и они отправились восвояси.
Темной была дорога — с обеих сторон леса. Болота и перелески рассекала лента шоссе.
Молчали.
— Споемте, что ли, — предложил тот, кто сидел по правую руку от тети Веры. — Заводи, Юлька.
И Юлька запела, не долго думавши:
— Без женщины мужчина, как без хвоста скотина, без дула пистолет, без запаха букет...
Тети Верины спутники скисли от смеха. Только тетя Вера была совершенно невозмутима — спокойно вела машину. Она даже спросила не без любопытства:
— Ну, а дальше как, Юлька?
— Тетя Вера, это же из оперетты, из оперетты! Я слышала, бабушка пела, — принялась с излишней горячностью уверять Юлька.
Пришвартовались к дому. Тетя Вера ловко и бережно завела машину в гараж.
Светало. Навстречу им вышла бессонная бабушка. Бабка сказала хрипло:
— А ребенок тут ни при чем. Ясно? Чтобы это было в последний раз.
И, шурша по гравию, с достоинством побрела к себе.
Так бабка сорвала Юлькины ночные мероприятия. Тетя Вера хоть и пожала плечами, но с тех пор уже никогда не прихватывала Юльку с собой.
3
В мае месяце этого года Юльке минуло пятнадцать лет. С первого класса вплоть до десятого, в который она перешла, Юлька числилась круглой отличницей. Это обстоятельство никого из домашних не заботило и не радовало. Никто в их доме не забивал себе голову подобными пустяками. Они и вообразить себе не могли, чтоб она не была отличницей: мама когда-то была отличницей, тетя Вера — отличницей, а теперь Юлька. Ни мать, ни бабка не удосуживались приходить в школу на родительские собрания. Подобную трату времени они просто считали вздором.
Все солидное и серьезное, что делала Юлька, разумелось как бы само собой: ездить по воскресеньям с бабкой на рынок, полоть огород, стричь ножницами усики у клубники. Она их стригла так честно, так рьяно. А они все росли, росли.
В седьмом часу утра Юльку гнали на реку купаться.
Болотистая земля легонько чавкала под Юлькиными ногами, мягкая, топкая. Трава вся мокрая, потому что утро. Воздух, полный тяжелого, смолистого запаха, Неподвижно стоял под навесами сосен.
Сбросит платье и ну поеживаться.
Тишина, непередаваемая, большая широкая, — в этот час хозяйка реки. Чуть слышно ударялась вода о берег.
И вдруг вдалеке коровы. Их вел босой пастушок, в брюках, закатанных выше колен. Коровы мычали. Мальчик насвистывал, ему и в голову не приходило смотреть на купавшуюся Юльку.
Берег на той стороне щетинился лесной чащей. Над Юлькой — перистые облака. И ей начинало казаться, что она на земле одна. Девочка не могла бы назвать это чувство словами, не слово это, а звук, дрожащий, дальний и неотчетливый.
Все в их доме были всегда заняты, а бабка словно проигрывала одну и ту же назойливую пластинку: тетю Веру и маму она называла «оне», про Юлькиного отца говорила шепотом: «Этот мерзавец».
«Мерзавец»! — скажет тоже... Ведь это ж надо додуматься!
Дело с «мерзавцем», видимо, обстояло вот как: мама училась на математическом, «мерзавец» — в архитектурном. Время пришло, и у них должна была народиться Юлька.
Бабушка кипела, но «держала нейтралитет». Только однажды она корректно спросила у будущего Юлькиного отца:
— Извините великодушно за любопытство, но мне бы очень хотелось знать, как вы относитесь к моей дочери?
— Я люблю ее! — коротко отвечал папа.
Прекрасно... Бабушка продолжала корректно держать так называемый нейтралитет. А что ей еще оставалось делать?
И вот родилась Юлька.
Когда Юльке минуло четыре месяца, между матерью и отцом случилось что-то таинственное для бабушки. Ни с того ни с сего он переехал — якобы по вызову! — в Ленинград.
— Любовь! — хохоча горьким смехом, говорила бабушка про это прискорбное обстоятельство. — В достаточной мере странное понятие о любви!
Случалось, когда мама не замечала, Юлька внимательно разглядывала ее и не могла понять, разве это возможно — любить ее маму?! Однако любил же ее Юлькин папа, поскольку взяла и вдруг родилась Юлька!
Бабушка иногда говорила, вздыхая, про маму: «Жене снова представился очень серьезный случай».
Это значило, что кто-то, кого бабушка называла «случай», был согласен жениться на Юлькиной матери.
Юльке помнится, бабушка несколько раз говорила про «случай». Стало быть, довольно много народу в самое разное время готово было жениться на Юлькиной матери. И этого Юлька тоже никак не могла понять! Когда мама была в одной из своих поездок, во Франции, некий выдающийся кибернетик француз снял ее на пленку. На фотографии она стояла с откинутой головой у садовой стены.
Щелкнув, он якобы подошел к стене и со свойственной французам милой сентиментальностью погладил камни, которых только что касалась голова мамы. Об этом, смеясь, рассказали дома ее друзья. Мама конфузилась, сдвигала брови... И потом подальше спрятала знаменитую фотографию.
Однако портрет «мерзавца» всегда висел (в открытую!) в кабинете Юлькиной мамы.
Юлька совсем не была на него похожа. Ни на кого она не была похожа — ни на бабушку, ни на тетку, в общем, ни на кого.
До четырнадцати лет она робко мечтала, что мать сознается: «Ты у нас, Юлька, удочеренная».
Но мама не сознавалась. Сознаваться ей, видимо, было не в чем.
Юльке минуло пять лет, когда она в первый раз увидела своего отца. Приехав в Москву, он зашел за Юлей и принес ей в подарок костюмчик: рейтузы и шерстяной джемпер.
— Чисто мужской подарок, — улыбнувшись, сказала мама. — Она не будет этого носить. Скажет: кусается.
А папа развел руками и обаятельно рассмеялся.
А еще он привез с собой собачку, которую звали Полкан. Она была ростом с ладонь, но очень злая. Собака сидела в папином пиджачном (верхнем) кармане.
Юля сперва подумала, что отец собирался ей подарить и собачку, но ничуть не бывало: Полкан был папин.
Папа повел ее и Полкана в «Националь». Они сидели в углу у столика. Из папиного кармана торчала злая морда Полкана.
С собаками не пускают в кафе и кондитерские. Но про Полкана подумали: какая-то игрушечная собака.
Все вокруг с любопытством разглядывали Юлиного отца, его красивое лицо и седую прядь. Потом стали всячески подлизываться к Полкану:
— Полкан!.. Полканчик!
А тот рычал.
— Возьми себя в руки, мой друг, — посоветовал ему папа.
Улица с проезжавшими мимо окон кафе машинами, папина трубка, его улыбка прочно осели в Юлькиной памяти. Все — даже папин уснувший Полкан и острые его уши, его крошечная сердитая морда — отчего-то слилось для Юльки с воспоминанием о взбитых сливках, присыпанных поверху шоколадом. Понятие «мерзавец» отдавало привкусом взбитых сливок.
...Про маму бабушка говорила:
— Юлька, дитя мое, запомни: доктор наук — такое на улице не валяется.
И действительно, невозможно было себе представить, чтобы Юлькина мама валялась на улице (у нее недостанет на это воображения). Страшно и странно, что дети рождаются даже у столь уважаемых, сдержанных и достойных персон. Это... ну, как если бы родила... ну, скажем, статуя Свободы в Америке. Рука простерта вперед, в ней — факел. А между тем эта статуя родила.
Юля любила тайно высмеивать окружающих. Может, это от одиночества?.. Оно нарастало, ширилось, как звук над гладкой, тихой водой. Мир был, ничего не скажешь, и щедр и добр. Но в этом мире Юлька одна. Одна.
4
Дом, ближайший от их участка, был домом психолога, профессора Иннокентия Жука.
Как он был умен, как учен, как сдержан и суховат!..
Однако за ним, как и за всякой нормальной личностью, водились странности и причуды. Например, профессор любил, чтобы во время работы напротив письменного стола сидела его дочь Груня.
Груне и в голову не приходило, что можно его огорчить отказом, она искренне считала отца ребенком.
Ей недавно исполнилось восемнадцать. Она была замечательно хороша собой. Всех, кто восхищался красотой дочери, отец называл дебилами.
О Груне тоже рассказывали всякие небылицы: что вот, мол, хотели устроить ей торжественное восемнадцатилетие, пригласили из города молодежь, а она взяла и спряталась в погреб.
Бедняжка, какою она была выдающейся неряхой! Все с нее соскальзывало, как с незрячего человека. Груня теряла шпильки и пояса. Ей кричали вдогонку: «Эй, девушка, де-евушка, вы теряете поясок!..»
Но у Груни с Юлькой при всем несходстве характеров и семейных укладов было все же нечто сходное: у каждой по тетке.
Грунину тетушку звали Галина Аполлинарьевна. Врач-психиатр, она, несмотря на почтенный возраст, слыла красавицей, занималась йогой и совершала длительные моционы.
Возвращаясь с прогулок, Галина Аполлинарьевна частенько заглядывала на дачу Верниховых — на дачу к Юлькиной матери.
Здесь она бывала, по-видимому, ради одной только тети Веры.
— ...Противоположности сходятся!.. Чрезвычайно верное, так сказать, житейское наблюдение, — косясь в их сторону поверх толстых своих очков, шепотком говорила бабушка.
И действительно, тетя Вера не имела, допустим, склонности обсуждать человеческие слабости и характеры. Они ее попросту не занимали. Галина Аполлинарьевна, напротив, очень любила злословить. Будучи психиатром, она считала всех, кто ее окружал, не вполне полноценными, словно люди вокруг нее — все как есть, — легонько побиты молью. Даже деверя — психолога с мировым именем — она характеризовала как существо до крайности инфантильное.
Любила она подтрунивать даже и над собой.
— Я вдовею, Веруша. А что, если хотите знать, серьезнейшее занятие. Что делают в сказках зайчихи?.. Они вдовеют. Сидят на пеньках и вдовеют, вдовеют... Их время уплотнено. Не бездействуют, а вдовеют. Вот так же и я. Однако (и она расширяла смеющиеся глаза), если нельзя изменить обстоятельств, следует изменить свою точку зрения на них — так мы учим своих пациентов. И вот, стало быть, я изменила свою точку зрения на обстоятельства. Вдовею, однако по вечерам очень плотно закусываю... ветчинкой и острым сыром. Люблю закусывать!.. Ну, а какие житейские слабости у вас, признавайтесь, Вера?
— Красивые вещи, цветы, стихи... Мужики! — И тетя Вера, вздыхая, поднимала глаза от спиц. — Из-за пристрастия к абстрактной живописи (я покупаю кое-какую мелочь) увязаю в долгах, Галина Аполлинарьевна! Придется взять дополнительную халтурку, иначе, пожалуй, не выберусь из этого омута. Не владею собой!.. Страсти-мордасти и всяческие напасти почему-то сильней меня. — И, сверкнув на Галину Аполлинарьевну скрытым блеском своих странных, продолговатых глаз, она возвращалась к прерванной на минуту работе.
Глаза смеялись. Тетя Вера вязала очередной (мужской) темно-синий джемпер.
Груня Жук и Юлька тоже дружили. Случалось, они вдвоем спускались к реке, садились на деревянный мостик и, болтая ногами, изливали друг другу душу. Говорили о том, что Груня обязательно останется старой девой; о том, что найти бы дело такое, которое захлестнет ее, как свет и огонь...
— Понимаешь, личность складывается из устремлений высоких. Никогда еще не бывало, чтобы стремления к мелкой цели выковывали личность значительную. Я хочу такого размаха, чтоб страсть желаний подчинила всю мою жизнь, чтоб этой меркой я измеряла свои и чужие поступки, добро и зло.
Так говорила Груня. А Юлька рассказывала, что, когда ей минуло одиннадцать, она тоже искала цель и словно с ума сошла: вдруг, ни с того ни с сего, принялась удирать из дому.
Приходила к подружке, прощалась и говорила: «Расстаемся навечно, Саша... Сил больше нет терпеть. Ухожу!.. Вот. Смотри, сухарики... В носовом платке. Это я на дорогу». — «Бог велел делиться», — вздохнув, отвечала Саша. И выносила две-три дольки апельсина. Юлька их завязывала в платок и, всхлипывая, уходила прочь. Шла и шла. Очень долго, до поздней ночи. Устав, садилась где-нибудь на ступеньку и принималась грызть сухари. Наплакавшись, возвращалась домой.
— Конечно, — задумчиво отвечала ей Груня, дочь психолога и племянница психиатра, — если нельзя изменить обстоятельств, следует изменить свою точку зрения на них.
— Обстоятельства, обстоятельства! По-одумаешь, обстоятельства... А знаешь, как один раз, когда я удрала и вдруг вернулась, до чего моя мама меня избила?! Она не спала, бабка плакала... И вдруг мама схватила скалку, которой тесто катают, и принялась лупцевать. Бабушка еле вырвала меня у нее из рук.
— Черт знает что! — отвечала на это Груня. — Неужели же твоя мама не понимает, что детей в раннем возрасте бить нельзя? Это создает комплексы. Хочешь, я дам тебе почитать Фрейда?
— Я читала. Нет!.. Ты бы видела, какое зверское было у мамы лицо... Я испугалась. Я же и знать не знала, что мама такая бешеная!
— Ясно, — сказала Груня. — Что-то выпорхнуло в эту минуту у твоей матери из подсознания.
— И никакого там вовсе не было подсознания! Она, понимаешь, сказала, что запросто, совершенно запросто отдаст меня в интернат.
Дома никто не ждал ее, кроме бабушки. Сидя у обеденного стола, бабка штопала Юлины цветные колготки.
— Привет, — говорила Юлька.
— Привет, — отвечала бабушка. И не спрашивала, где Юлька была. (Недоверие друг к другу, некорректность и любопытство в их доме не были приняты.)
— Бабушка, я с тобой немножко посижу. Ладно?
— Очень мило с твоей стороны.
Хорош был сад по ночам. Весь темный. Издалека белели беседки и скамьи, сколоченные тетей Верой.
— Доченька! Дорогая!.. Ты бы еще фонтанчик соорудила, — насмешливо предлагала бабушка.
— Что ж, — соглашалась весело тетя Вера. — Подумаю. И, пожалуй, сооружу.
А у матери в кабинете почти всегда горел по ночам свет. Широкий луч, похожий на луч прожектора, освещал верхушки деревьев.
Надумав, босая Юлька прокрадывалась на кухню, открывала кухонный шкаф, доставала тети Верину водку.
Обжигало горло, а радости никакой (кроме тайной радости от сознания, как бы она досадила им, если б увидели, что она творит по ночам).
Стащив сигареты у тети Веры, бедная Юлька приучала себя курить. Занятие тяжелое, тошнотворное.
Однажды бабка, к Юлькиному ликованию, наконец-то настигла ее за этим мужественным занятием.
— Женя!.. Она курящая. Это ужасно. Ужасно!.. В пятнадцать лет!
— Да не курит вовсе она, — махнув рукой, ответила мама. — Вольно обращать на нее внимание.
И в самом деле, курить не хотелось, хоть разорви.
Для того чтоб нарушить спокойствие матери, нужны были меры покрепче. Дом поджечь, что ли?
Юлька не понимала, что могла потрясти маму, к примеру, обняв ее.
В их семье и это не было принято. Ну, а поскольку не было принято, ей подобная странность ни разу не приходила в голову.
5
Про тетю Веру все говорили, что она собою нехороша, что она почти что уродлива, но при этом очень пикантна и обаятельна.
Но Юлька никак не могла допустить, чтобы кто-то посмел тетей Верой не любоваться. Ей так нравились ее кошачьи глаза, растерянное, трогательное, полудетское какое-то их выражение. Оно словно бы выдавало в ней человека незащищенного.
Как женственна и беспечна была она, как легка, артистична! Волосы, небрежно стриженные по моде, такие робкие, легкие, разлетающиеся... Волосы! Бедные волосы, что рвала тогда на себе тетя Вера.
Как часто Юльке хотелось погладить тетю Веру по волосам.
Узкие глаза ее иногда светились как-то ярко и странно, словно она была наркоманкой; сияли блеском сдержанного оживления, особенно если приезжали гости, кто-нибудь, кого тетя Вера хотела очаровать. Просто так! За милую душу — взять и очаровать!
— Я из «вороньей слободки», — говорила она насмешливо Юлькиной маме. — Захотела и подожгла! Будь другом, не обессудь.
Когда на даче не было никого, кроме близких, тетя Вера — сама тишина, покой. Если кто-то являлся в дом, она — словно фонарь, который — раз! — и затеплится. Затеплится, и становится видно, что стекла его не простые, а разноцветные, причудливые, с рисунком.
Даже Юльке невозможно было привыкнуть к этим ее колдовским превращениям. Казалось, будто до этого тетя Вера тихонько спала и вдруг просыпалась.
Когда гостей оставляли на ночь, они покорно устраивались внизу, на террасе, на полу у обеденного стола. Тишину ночи нарушали взрывы беспечного хохота.
Тетя Вера выволакивала из комнаты мамы ковер, на ковре разбрасывались подушки со всех диванов. Тут же, на полу, на ковре стояли «знаменитые» бабушкины фужеры.
Гости сидели на диванных подушках, поджав по-турецки ноги; головы у всех — молодых и старых — были эффектно обмотаны шарфами и махровыми полотенцами. Слышался суховатый звон «баккара» — так бабушка называла свои фужеры.
Тетя Верочка была оживленней всех. Со своей изящной, откинутой назад головой, обмотанной голубым шарфом, она смахивала на волшебное существо из «Тысячи и одной ночи» — причудливая, как принцесса, непосредственная, какими бывают ребята-дошкольники.
Как мило она расширяла глаза, с каким невиннейшим выражением рассказывала что-нибудь зазорное тишайшим своим шепотком. Невозможно было ею не любоваться, не потерять из-за нее головы!.. Каждое ее движение бессознательно грациозно, будто движение кошки. Заметив чьи-то внимательно глядящие на нее глаза, она прижималась к груди человека, разглядывающего ее, головой, обмотанной в голубой шарф, зажмурившись, впитывала в себя чужое тепло... Кому бы это простили? А ей прощали.
Как-то один, замерев в углу, набрасывал тетю Веру жадно и быстро карандашом на обрывке ватмана; другой пел французскую песню тихим речитативом:
— Выпьем за ту, что брызжет искрами, как шампанское!
— Юлька, — не оборачиваясь в сторону застекленной двери террасы, сказала однажды ласковым шепотом тетя Вера, — мы бы не имели понятия, что за нами подглядывают, если б ты временно перестала крутить гоголь-моголь... Как ты рассеянна. По-моему, гоголь-моголь давно готов.
Содрогаясь от унижения, Юлька вихрем метнулась в кухню.
Но долго потом тетя Вера с невинным видом ее донимала:
— Юлька, скажи по правде, у тебя хорошо получился тот гоголь-моголь?
Возвращаясь с работы на дачу, тетя Вера почти всегда прихватывала с собой по дороге гостей. Без особого выбора. Была бы только персона мужского пола.
И вот однажды выяснилось, что гость, которого она привела в их «почтенный дом», познакомился с ней не больше часа назад: он голосовал.
— Веруня — умная женщина, — усмехаясь, говорила мама, — подбирает все, что приносит прибой. Поскольку она биолог — хороший биолог — не так ли? — не станет ждать милостей от природы...
Если при этом оказывалась на даче Галина Аполлинарьевна, она отвечала маме:
— Вы правы, правы! Пора ей посыпать пеплом главу, отречься от земных радостей, ходить одиноко по лесу и... и сморкаться!.. Желательно в мужской носовой платок. Или стать дуэньей и сопровождать на речку свою племянницу: весна, так сказать, и позднее лето... Живая картина! Нет, лучше офорт: листва, две купальщицы... Нет, уж лучше одна купальщица. Другая, постарше, сидит в траве, обхватив колени, поскольку надеть в ее возрасте купальный костюм — ни-ни!.. Олицетворенное самоотречение, тишь, одиночество... Знай свое место! И закруглись.
Ничего особенного она, казалось, не изрекала. Но Юльке вдруг становилось яснее ясного, что перед ней дура. «Я дура!» — так и было написано на красивом полном лице Галины Аполлинарьевны. «Интеллигентная дура! А что, нельзя?»
«Дура! — ругалась про себя Юлька. — Дура, дура!»
А тетя Вера спокойно и молча вязала очередной мужской сероватый джемпер. Сидела на садовой скамье, чуть-чуть наклонив голову. Ее пальцы бегали, тетя Вера считала петли.
— Тетя Верочка, это кому? Прокофьеву?
— Нет, зачем же... Может быть, Иванову, если мне посчастливится и прибоем вынесет на мой бережок Иванова.
— ...Тетя Вера, ну а почему это мне никогда не бывает скучно купаться одной?.. И по лесу ходить одной?
— Одной?.. Ах, да... — ответила тетя Вера, сосредоточенно продолжая вязать. — Что ты, Юлька? Да, да, конечно... Одной, одной...
И вдруг она стала задумчивой и серьезной. Кошачьи глаза легонько сощурились.
— Мир хорош. Кто спорит?.. Но все вокруг тебя, понимаешь ли, расцветает, если ты с мужчиной, с сопровождающим. Все вокруг делается радостнее, острее. И закат, и лыжи, и хорошая выставка, если тобой восхищаются, если ты чувствуешь себя женщиной... И ничего особенного мне как будто не надо... Так... Одного, двоих... А знаешь ли, девочка, что такое слова?! Мужские слова?.. Знаешь ли, что такое власть над чужой душой? Пусть бедной, пусть нищей! Знаешь ли, что значит вдруг одарить человека взглядом и...
— Довольно, Верушка! — небрежно сказала мама с балкона. — Благодарю тебя за бесценный, так сказать, педагогический инструктаж. Ты просто великолепна!
И, нагнувшись, мама выбрала себе огурец из банки. Малосольный (она любила малосольные огурцы!). Надкусила его, усмехнулась. В глазах с тяжелыми веками вспыхнул короткий огонь.
— Право, впору изобрести для вас кибернетического кавалера!.. Спутника, сопровождающего, как вам будет угодно. Пусть рядом с ним для тебя и Галины Аполлинарьевны расцветет мир.
— Бог в помощь!.. — живо откликнулась Галина Аполлинарьевна. — Евгения Васильевна — вы гуманнейший человек и гуманнейший кибернетик!
— Валяй, Женюрка, — тихим своим голоском насмешливо добавила тетя Вера. — Работай в темпе. За образец возьми кого-нибудь из «Великолепной семерки»... Желательно самого длинноногого. Ценю, признаться, длинные ноги. А ты? Ведь у тебя, насколько помнится, был недурной вкус?
— Мама, — спросила Юлька, — как ты можешь, как ты решаешься так разговаривать с тетей Верой?.. Забыла, а я, например, не могу забыть, сколько тетя Вера пережила... Отчитываешь ее!.. Да еще с балкона, как будто бы с высоты своего величия.
— Ты совершенно права, дружок. Страдания Веры — страдания неповторимые... В этом мире она единственная, кого оставил любимый.
— Единственная, единственная... Люди разные. Это первое. А второе то, что разве красиво и разве это великодушно — состязаться в несчастье?!
— Юлька, пойми!... Они просят о малости. О подаянии... Как нищие у дороги! С протянутой дрожащей рукой... Ведь не было оговорено, чтоб сопровождающий, кавалер, спутник был обязательно человек, со своей точкой зрения на мир, с душой и сердцем... Они ждут пустяка, такой, по сути дела, ничтожной крохи... Действительно, было бы стыдно не посочувствовать... Ты права.
— И... и ты на самом деле решила им посочувствовать? Изобрести!
— А как же! — лихо ответила мать. — Нынче же вечером сяду и приступлю... Ты что же думаешь, это дело простое? Пожалуй, придется не раз пораскинуть мозгами.
— И ты... раскинешь?
— А как же, как же! Ведь это моя, так сказать, профессия — мозгами раскидывать. Дело доблести, дело чести... И великодушия, к которому меня призывает единственная и дорогая дочь.
6
По утрам тетя Вера ходила в кардиологический санаторий на физкультуру.
Однажды она явилась с зарядки и, хохоча, поведала бабушке свою обычную присказку: физкультурник выпрашивал у нее «телефончик и адресок».
На следующий день по какой-то странной причуде она разрешила ему себя проводить.
И Юлька его увидела.
Всего она ожидала от своей элегантной лукавой тетки, все ей готова была простить, отступление от любых норм (отступление, которым, кстати, стала бы восхищаться), но то, что она увидела, было как будто из злого сна!
Физкультурник оказался щупленьким человеком. Жидкие волосы едва прикрывали его трогательное блестящее темя. Маска застывшей глупости. Не лицо, а как бы воспоминание о том, что жизнь тяжелая штука — не раз получаешь в печальном ее потоке и по заду, и по мордам.
— Однако! — подняв глаза и глянув поверх очков на тети Вериного провожатого, не без юмора, но все же несколько ошеломленно сказала бабка. — А не принести ли, делом, метлу... Может, он нам подметет дорожки?
— «Эвиг-мэнлихес»[4], — не дрогнув бровью, с серьезнейшим выражением ответила мама. — Ничего не поделаешь, ничего не попишешь!.. Юля, а кстати, действительно, где метла?
Юля молчала. Она не могла опомниться. Как будто вдруг ворвался в ее представление о жизни и людях дрожащий, фальшивый звук. Хотелось не слышать его, спрятать голову под подушку... «Выпьем за ту, которая — как пузырьки шампанского».
— Тетя Верочка, ну как ты могла разрешить ему хоть раз, хоть разочек себя проводить? — спросила Юлька, опомнившись.
— А я это для смеху! Для радости и забавы... Неужели не поняла?... «Мартышка к старости слаба глазами стала, но от людей она слыхала, что это зло не так большой руки, лишь стоит завести очки, очков с полдюжины она достала...» Ужасно жаль, но придется отказаться от физзарядки. Чтоб он сгорел! Чтоб он провалился в погреб.
— Только прошу, не в наш, — покашляв, сказала бабушка.
А ночью Юлька услышала негромкие голоса. Кто-то, видно, снова приехал из города к тете Вере.
Не спалось. Подойдя к окну, девочка осторожно глянула в сторону террасы. На тахте безмятежно спала ее тетя Вера. Простыня под байковым одеялом поднималась и опускалась от тети Вериного дыхания.
Свет шел из балконной двери. Наверху, на втором этаже, работала мама. Мама всегда работала по ночам, она говорила, что люди делятся на дневных и ночных, как птицы. Мама была птицей ночной.
Юлька томилась, глядя в душную черноту ночи. И вдруг опять услышала голоса.
Голосу мамы вторил мужской, знакомый, забытый голос. Голос из дальнего Юлькиного детства, из сна, из сказки.
Крепко забилось сердце, сделалось страшно.
Юлька встала на подоконник и тихонько спрыгнула в сад.
Ступая босыми ногами по влажной траве, она взяла деревянную лестницу, прислонила ее к балкону. Едва приметно скрипнула лестница, коснувшись перил. Юлька бросилась на траву и замерла.
— Кто там? — послышался голос матери.
— Кузнечик! — шепнула Юлька теплой земле.
Стало тихо, тихо. И вдруг опять голоса.
Юлька выползла из засады и принялась тихонько взбираться вверх по лестнице.
Балкон... Банка с малосольными огурцами. Этот угол не освещен, его заслоняет штора.
Сжавшись в комочек, Юлька затихла, потом осторожно, встав на колени, глянула из темноты в свет.
Рама отцова портрета была пуста. Сквозь раму просвечивали более темные, не выгоревшие от солнца обои. Перекинувши ногу на ногу, в мягком кресле, раскуривая ярко светившуюся огоньком трубку, сидел ее молодой папа. В волосах его не было седины, которую так отчетливо помнила Юлька.
— ...не сужу, — говорила мама. — Но многое я понимаю только теперь. Когда начала стареть!
— Разумеется. Я с тобой поступил не по совести. Сердишься?..
— «Сердиться», «совесть» — слова, слова... Сознаюсь, что первое время я думала только о том, что ты плохо питаешься и что некому тебе постирать рубаху.
— Забавно, Женя... Если б я это знал, я бы мог тебя успокоить. Право же, я недурно обедал. В «Астории».
— А ты... Ты думал о нас? — осторожно спросила мама.
— Женя, ты разве не знаешь этой моей черты — странной какой-то привязанности к тому, что сделалось моим прошлым? Иногда я ходил на Мойку, стоял под окнами, помнишь дом твоей тетушки? Дом, где мы с тобой однажды гостили, Женя.
— А мне все снилось, — сказала мама, — будто наша с тобой московская комната заколочена. А там клад. И мне надо взломать эту дверь и добыть этот клад... Смешно? Правда?
— Нет, — ответил отец. — Я, признаться, не полагал, что ты любишь так стойко, так сильно, Женя.
— Уж будто! — пожав плечами, ответила мама.
— Зачем же ты не боролась, не удерживала меня?
— Я знала, что все это безнадежно и бесполезно. Разве помогут слова, борьба?.. Я знала, что мы не властны над своей любовью... А ведь только она одна мне была нужна!
— Чудачка, — прищурившись, сказал папа. — Разве ты, Женя, не помнишь, что частенько я сам себя будто не понимал. Жил. Просто жил. И все!
— Тебя много любили, — вздохнув, ответила мама.
— Признаться, не без того. Да и сам я много любил. Но экая стойкость... Поразительно все же, что ты до сих пор разговариваешь со мной по ночам.
— Скажи мне... вспомни, когда «это» с тобой случилось? Когда ты начал охладевать?
— Право, не знаю, — подумав, ответил отец. И раскурил трубку. Кольца дыма помчались к самому потолку. — Знаешь ли... Нет... Не помню... Я не задумывался. Уж ты меня извини, Женя.
— Однажды ты целое лето был влюблен в жену какого-то капитана, который уехал в дальнее плавание... Не помнишь? Вспомни!
— Как же, я помню, — ответил отец. — Она, кажется, не особенно тебе нравилась? Ты не права! Прелестная была женщина.
— Ну уж, — сердито сказала мама, — ты слишком многого от меня ждешь.
— Ха-ха-ха! Так, ты, значит, все еще любишь? Ревнуешь? Забавно! Проговорилась, проговорилась!.. Зяблик, иди сюда...
— Нет. Я стара, — ответила мама.
— Что ты сказала? — удивившись, спросил пожилую маму молодой папа. И протянул небрежно вперед ту руку, что была свободна от трубки.
Разгорался рассвет. Небо над Юлькиной головой и банкой с малосольными огурцами сделалось светло-серым.
Мама усталым движением погасила в комнате свет.
На ее рабочем столе лежали клочки бумаги, небрежно исчерченные.
Папа больше не сидел в кресле. Из рамы, что на стене, светлело его молодое лицо с прищуренными глазами. В руке, небрежно опущенной, светился огонек трубки.
Мама встала, зажмурилась, подошла к стене и, раскинув руки, прижалась лбом к портрету отца.
Девочка на балконе не дышала, не шевелилась.
Там, где только что стояла банка с малосольными огурцами, вдруг неотчетливо проступила статуя из белого мрамора. Юлька похолодела.
Мнемозина — греческая богиня памяти.
Исчезла. На прежнее место встали малосольные огурцы в банке.
Испугавшись, что мама сейчас оглянется, Юлька принялась тихо спускаться... Лестница под ее босыми ногами поскрипывала, раскачивалась.
— Кто там? — спросил хриплый голос матери из глубины комнаты.
Юлька зажмурилась, сжалась, притихла.
Добежав к себе, она побыстрее легла в кровать и в полном смятении натянула на голову одеяло.
7
— Сегодня ночью у нас были воры, — сказала бабушка. — Пытались забраться наверх и обобрать дом... Поглядите! Вон под балконом лестница.
— Да что ты, мама, — ответила тетя Вера. — Неужели не помнишь? Я вчера сама подтащила ее к стене, чтоб поправить вьющийся виноград.
— У вас какая-то страсть бессмысленно мне перечить. У меня, слава богу, и ясная голова, и ясная память. Отлично помню, что лестница лежала вон там...
— Мама!.. — сдвигая брови, ответила бабке Юлина мама. — Я нынче работала до четвертого часа ночи. И не видала, право же, никаких воров. У нас ничем особенно не разживешься... Запомни, мы не объект для краж. Уж если так, они бы, пожалуй, орудовали на какой-нибудь из соседних дач... Ну хоть на даче Жуков, что ли.
— А может, они хотели украсть машину? — нелогично ответила бабушка. — «Мерседес» — большая ценность.
— Конечно, — сказала мама. — Для того чтобы увести машину из гаража, необходимо приставить лестницу к моему балкону.
Она сидела в саду в гамаке, что случалось с нею не часто, и, лениво отталкиваясь от земли пяткой, напевала что-то себе под нос.
— Ой, бабушка, — сказала испуганным шепотом Юлька, — мама поет. У нее какие-то неприятности.
У Юлькиной мамы не было ни слуха, ни голоса. Она пела только в случаях крайнего огорчения или сосредоточенности.
— Поскольку все вы меня не ставите ни во что, — сердито сказала бабушка, — я больше в ваши переживания не вникаю и не вдаюсь!
— Бабушка! Но ведь мама поет! Ты слышишь? Неужели тебе не страшно?
Не ответив и даже не оглянувшись, бабка презрительно зашагала прочь.
— Дай я тебя немножечко покачаю, — ласково предложила Юлька и нерешительно подошла к гамаку.
— А? Что? — вздрогнув и будто выйдя из величайшей задумчивости, тихо спросила мать.
Что-то защекотало у Юльки в носу. Ей захотелось подойти к маме, тихонько погладить ее по прямым растрепавшимся волосам, прижаться к ее макушке.
Это было нелепо и неожиданно. Никогда она не позволит себе такого — она нормальная!
Девочка отвела глаза от усталого лица матери, покрепче вцепилась в гамак и, взяв себя в руки, избавляясь от наваждения, принялась говорить, говорить, говорить... Первое, что приходило в голову.
Хрипло:
— Мама... а ведь это, наверно, вполне возможно... Ну, в общем... кибернетического сопровождающего, а, мама? Внешность, конечно, варьировать... Верно? Ведь это же просто, да?.. А к кому из скульпторов ты обратишься? К Герасимову?
— И дался же тебе этот дурацкий кибернетический аппарат, — щурясь от солнца и рассмеявшись, небрежно ответила мама. — И при чем тут Герасимов? Ты что же, так представляешь это себе, что внешность механического кавалера должна обязательно смахивать на внешность неандертальца?.. И вообще, дружок, нельзя же быть такой немыслимой фантазеркой. Право, пора взрослеть. Неужели же ты и на самом деле вообразила, что это возможно? Или разыгрываешь меня? Нужно быть пятилетним ребенком, чтобы принимать подобные шутки всерьез!
— Но ведь ты уже начала работать! Ты же сама призналась...
— Ах, да... Разумеется, разумеется. Я просто успела забыть, что проговорилась!.. Сложное дело, однако, Юлька, сконструировать характеры, темпераменты... Конструктор сегодня учитывает психологию человека при создании даже самых простых машин. Обязан! Любой аппарат обслуживается человеком. Так?.. Значит, надо принять во внимание утомляемость, силу возможного напряжения... В помощь изобретателю вступила нынче научная психология... Бесчеловечное жить не будет, ни простое, ни сложнее — ни обеденный стол, ни туфли, ни кибернетическая машина...
— Мама!.. Как ты, однако, все усложняешь, мама! — Юлька прищурилась и раскачала гамак. — Я себе представляю это сложней и проще: наружность разная, рост, лицо и тэ дэ и тэ пэ... Основное и самое главное, мне кажется, запрограммировать речь... Черты характера мы узнаём не только из поведения, а из высказываний человека. Верно?.. Как мы узнаём про то, что чувствуют и думают люди? Из речи... Стало быть, все очень просто... Тебе придется запрограммировать побольше готовых, ходовых фраз... Каждому свои изречения, вопли, высказывания... Ну, а речь, само собой, создаст иллюзию темперамента и характера... Отчего ты хохочешь?! Нет... Вы действительно ни меня, ни бабушку не ставите ни во что.
— Опомнись, Юлька! Я попросту сражена твоими мыслительными способностями, твоим, так сказать, научным подходом к делу... Во-первых, мы не всё узнаем из речи. У речи бывает подстрочие... А второе то, что... гм... понимаешь ли... У меня застопорилось... Ну, на этой, как раз... ну, в общем, на речевой программе. Воображения не хватает... Сухость. Сухость души.
— А я это себе представляю так, — глядя вверх, на макушки деревьев и уже совершенно увлекшись, сказала Юлька, — что каждому несколько пусть очень коротких фраз... Ну, например: «Перенаселена страна одиночества». Или: «Вы моя лапочка»... Некстати и кстати, одно и то же, одно и то же, как заигранная пластинка... Ну, а можно еще какую-нибудь неожиданную остроту. Например: «Зажарим эту покойницу»... Помнишь, это сказал тети Верин поклонник про курицу, что привез в воскресенье?
— «Зажарим эту покойницу» — уж очень противно. И слишком частно, если учесть, что речевая программа каждого ограниченна. Представь себе, Юлька, Галину Аполлинарьевну, которой вдруг совершенно некстати скажут в лесу: «Зажарим эту покойницу»... Надо найти высказывания более общие, более нейтральные. Например: «А гениален все же Булгаков...»
— «Я люблю вас!» — сказала бабушка, выглядывая из кухонного окошка.
— Ни в коем случае. Совершенно несовременно, — сказала мама. — Сегодня в моде высокая честность. Можно все, но всуе нельзя говорить «люблю».
— Скажите пожалуйста! — удивилась бабушка. — А в наше время это считалось совершенно необходимым. Как не солгать самому себе?! Грех не верить, что ты не находишься хоть в первейшей стадии гипноза.
— Не путай, бабушка... Не темни!..
— Великолепно, — откликнулась мама из глубины своего гамака. — Это просто великолепно!.. Исключив речевые излишества, я сокращу речевую программу. Ну, а что ты скажешь, Верушка, на следующее высказывание: «Мне хорошо с тобой!»?
— Пойдет. И я бы еще порекомендовала: «Женщина!.. Моя женщина!» Погоди-ка... Надо не забыть обтекаемое: «Привет, старуха!..» Или лучше: «Привет, маркиза!» Старики со старухами, по-моему, несколько устарели...
— «И откуда ты такая взялась?!» А? Как по-твоему? — захохотала мама.
— Хорошо, — тишайшим своим голоском одобрила тетя Вера. — Но учти, что здесь совершенно необходима хоть некоторая модуляция голоса. Ты потянешь?
— Еще бы! Вы мне просто цены не знаете.
— «Не возникай!» — перековавшись на современный лад, вставила из кухонного окна свое слово бабушка. — Это модно... Юлькино любимое выражение.
— «Я мужчина все же. Не дерево!» — подумав, сказала мама. (И Юлька искоса и подозрительно глянула на нее.)
— «Наконец мы с тобой вдвоем!» — мстительно предложила Юлька. (И мама, став очень серьезной, искоса и подозрительно глянула на свою дочку.)
— «И кто это выдумал?» — хохоча в открытую, внесла свой вклад тетя Вера.
— «Мечта моя! Где ты раньше витала?» — вздыхая томно, сказала бабушка.
— Песню!.. Песню!.. — крикнула Юлька. — Под аккомпанементик гитары... А что, к примеру, он должен петь? Как по-вашему?..
— Любое. На выбор... Новеллу Матвееву, Высоцкого... Нет... Пусть лучше поет Цветаеву. Как это было бы хорошо! Мой любимый поэт, — сказала задумчиво тетя Вера.
— Я не позволю ее опошлить! — сердито вскинулась Юлька. — Цветаева — не для механических кавалеров!.. Мама, мама, а можно, чтоб один из них — душа общества — умел подражать голосам птиц?
— Отчего же! Своя рука владыка, как говорится. Ну?.. Какую же мы установим песню?
— Валяй Высоцкого, — подумав, сказала Юлька.
— А суп какой? — выглядывая из кухонного окна, невнятно спросила бабушка. — Грибной изволите?.. Или, может, с фасолью? И чем хохотать без толку, начистили бы лучше картофелю. Право.
— Слушаю, ваше высочество, — отчеканила Юлька. — Мама? А знаешь что? Давай называть друг друга: ваше величество, ваше усачество...
— Ваше кусательство, — зевнув, подхватила мать. — Юлька, скажи, а ты помнишь немецкую сказку про Рюбецаля?.. Ведь я тебе рассказывала когда-то?.. Помнишь, как из петрушки, моркови и сельдерея изготовили человечков? Совершенно таких же, как настоящие. Таких же и все-таки не таких!.. Ни собственных чувств, ни самостоятельного мышления, ни смелости... ни живого отклика на человеческие несчастья... и радости... Тень человека — не человек!.. Картофельные сердца.
— Да, да... Я помню. Я навсегда запомнила, мама... А еще я помню, ты мне читала Андерсена... И наизусть рассказывала про медведя и зайца. А иногда ты вроде бы плакала. Или мне это все приснилось?..
...Из вихря давнего прошлого долетели как бы обрывки дальней мелодии.
...Темно. Юлька маленькая. Безграмотна. Лежит в кровати больная, а рядом мама. У мамы встревоженное лицо. Рука держит Юлькину руку. Пальцы Юльки вздрагивают. Нарочно! Они купаются в тепле дорогой знакомой руки. Вихри любви и света! Весь мир — это мама, мама...
— Ма-а-ма!
— Что, моя Герда, русалка моя бесхвостая, мой гадкий утенок? — усмехнувшись, сказала мама. И потихоньку вылезла из гамака. — Устала, однако... Пожалуй, пойду завалюсь спать.
— Мама!.. А когда ты работаешь... ты разговариваешь с собой или со своим прошлым?
— Нет. Я пою. И главным образом, понимаешь, из Пушкина... А? Как я немыслимо старомодна. Верно? Бедная моя девочка!
— Да будет тебе... Ты у меня молодец, мама. Только, пожалуйста, обещай, что больше не станешь петь! Я нынче так испугалась, так испугалась...
— А вот и буду! И буду тебя пугать... Потому что я Соловей-Разбойник... Кое-что, понимаешь ли, у меня не ладится. Тут и запоешь, и заговоришь, и закудахчешь, и залаешь... Да ладно уж!.. Знаешь что? Выбери-ка мне, а не кибернетическому человеку, хорошую певческую программу. Что-нибудь лирическое... Шуберта или Чайковского... Какой-нибудь славный романсик... А?
— Пой! Пой себе на здоровье! — сердито сказала Юлька. — Вы действительно нисколько не считаетесь ни с бабушкой, ни со мной... Пой. Верещи. Лай. Вытаскивай по ночам на балкон Мнемозину!..
— Кого?
— Мнемозину — богиню памяти! Вали!.. Добивай. Я больше не моргну глазом.
8
Лето выдалось жаркое и сухое.
Бабушка иногда останавливалась посреди сада, вскидывала седую голову и, заслонив глаза козырьком ладони, оповещала:
— Назревает дождичек.
Однако дождик не назревал. Он, как видно, недостаточно уважал бабушку.
Облака пролетали мимо. Посредине неба, как прежде, ярко и непочтительно пламенело солнце.
...У мамы наступил отпуск. Она никуда не поехала.
— Озверела. Работает, — говорила бабушка. — Во всем нужно чувство меры, а меры нет.
Свет в маминой комнате гас в пятом, а иногда и в шестом часу. Днем мама спала, — зашторив окно от солнца. Выходила к обеду и ужину рассеянная, утомленная.
— Где ты витаешь, Женя? — сердилась бабка. — Ты бы хоть супу-то с удовольствием похлебала. Можешь все же хоть за обедом с нами поговорить... Великий Павлов велел разряжаться. Или вы нынче не признаете Павлова? Наука вертится колесом. Может, Павлов вышел из моды и я отстала?
— Жара — нет терпения, — рассеянно отвечала на это мама, не подхватывая дискуссию о Павлове. — Я попозже вечером «разряжусь». Пойду на речку... А после купанья, пожалуй что, снизойду до вас.
Казалось, одну только тетю Веру не донимает жара. Свои тонкие волосенки она стала подкалывать бабкиной старой роговой шпилькой, вместо туфель на каблуках обувала белые тапки в сборку. Эти тапки сшил для нее ее друг, цирковой сапожник, тот, кто справлял легчайшую обувь канатоходцам.
Утром, в шестом часу, тетя Вера, старательно поливала из шланга грядки и огород. Иногда оказывались обильно политыми даже дорожки сада.
Когда вставало солнце, над сияющим миром взвивался острый, нежный запах травы.
Возвратившись с работы, тетя Вера не шла обедать: выпьет, бывало, нарзану, расстелет под тенью дерева бабкин плед...
— Эй вы, интеллекты!.. Нельзя ли немного потише? — сдвинув брови, воркующим своим голоском говорила она и засыпала. Тут же, мгновенно, словно куда-то проваливалась.
А к вечеру выводила из гаража машину.
— Где ты вчера была, тетя Верочка? — шепотом дознавалась Юлька.
— Да нигде, знаешь ли, особенно не была. Прошвырнулась во Внуково, посидели, попили кофе. Видны были огни... Зеленые. Самолетные. Побегут и взовьются в воздух, как летящие светляки. Не знаю, что со мной делается, когда я вижу летящее, отъезжающее. Мне бы стать негром, что ли, хорошим охотником, родиться где-нибудь на экваторе...
— Ну, а потом, тетя Вера?
— Потом?.. Москва. Люблю, признаться, Москву в те часы, когда начинает светать!.. Все вокруг, понимаешь, серое, одинокое... Когда мы проехали Красную площадь, мне захотелось выйти и в чем-то раскаяться, но все вокруг задавили мою красивую инициативу... А мне хочется, хочется встать на лобное место и в чем-то раскаяться. И всем поклониться в пояс! Всем... Тому, кто спит и не спит, и всем дежурным милиционерам... А какие стены Кремля в светлеющем небе, Юлька!.. Неописуемо! Солнца все нет и нет. И серо... И тихо... И сердце сжимается, до того это строго. И странно... Мне в такие минуты хочется погладить каждый камень и камешек. Да кто же даст?! Не дают, развернуться, Юлька!..
— Ну, а потом?
— Ах, да! Мы дернули по Зарядью... Куб «России», кое-где электричество, а рядом те старые-старые, перенесенные церковки, ну ты же знаешь, будто грибки.
— Что б я дала, чтобы хоть разок поехать с тобой на всю ночь! — мечтательно говорила Юлька.
— Не горюй... Я никуда не уеду нынче. Вернусь и кого-нибудь прихвачу с собой.
И она приезжала. И кого-нибудь с собою прихватывала. Шли купаться и брали Юльку.
Оставшись на ночь, как всегда, устраивались вповалку у обеденного стола на террасе.
— Никто из нас, разумеется, не коснется личной жизни другого... Это неделикатно, — вздыхала бабушка. — Но все же!.. Всему есть мера. А в данном... я бы сказала, конкретном случае меры нет!
Утром мама вставала сердитая и говорила:
— Дайте-ка мне, пожалуйста, книжку... Чего-нибудь поглупей... Для разрядки, что ли! Ты это что же, Юлька, всерьез увлеклась психологией? Влияние Груни?.. Привет профессору Жуку. Я не нашла у тебя на столе ни одного романа. С ума сойти!
На столике тети Веры по большей части оказывались стихи. И гадальные карты (откопала где-то карты мадемуазель Ленорман, гадалки, предсказавшей крушение Наполеона)... Книги к тете Вере забредали как бы случайно. Но отчего-то всегда хорошие. Из прозаиков она больше всего любила Трумэна Капоте.
— Мечется! — говорила бабка. — Мечется и никак не найдет покоя. Что-то в ней надломилось... Надломлена вера в душевный покой, в красоту чувств. Все пересмотрено, смятено, затоптано... Боже!.. Как сильно она любила!.. Женя!.. Ведь ты сестра, человек, мать... Задумалась бы, к чему это приведет... Хоть бы слово сказала ей!.. Хоть бы привезла кого-нибудь с кафедры... Солидного. Аспиранта, что ли... Вмешайся!.. Она доведет себя до туберкулеза.
— Не беспокойся, мама. Все со временем образуется. Вера влюбчива. Не теряй надежды. Возьми себя в руки и уповай.
— Уповай!.. Тебе хорошо смеяться. А мне не до смеху. Она мне дочь!
— А я? — ни к селу ни к городу вдруг спросила мама.
— Ты тоже, ясное дело. Один бог видит, как я страдаю. А все оттого, что никто из моих детей не наделен элементарнейшим чувством меры... Ладно, молчу, молчу.
...Мама принялась каждый день уезжать в город, была оживленной, доброй. Можно было легко догадаться, что по работе что-то там у нее хорошо заладилось.
— Мама! Над чем ты сейчас работаешь?..
— Это тайна!.. Все вокруг меня, как облаком, окутано отсутствием чувства меры... Усвоила? Вот хорошо! Понимаешь ли?.. Одолела идейка об искусственной почке. Непоэтично?.. Но это, выражаясь высоким стилем, спасение тысяч людей... Спасение жизней. Жизнь... Это, видишь ли, великолепно, Юлька...
— А если страдаешь?
— Все равно — жизнь. И страдание — жизнь.
— А что нужно, чтоб быть счастливой?..
— Погоди... Подумаю. По-моему, чистая совесть. Без чистой совести нет ни света, ни радости, ни спокойного сна, ни закатов, ни того, как тихо, как будто бы размышляя, полощется дерево на ветру..
— Мама!.. А у тебя хорошая память?
— Гм... Не жалуюсь.
— Я... между прочим, хотела тебе напомнить: Мнемозина — память, покровительница искусств и наук.
— Прелестно! Да здравствует Мнемозина... Иногда мне так не хватает простейшего озарения...
— Озарись!
— Есть! Приказано озариться.
— ...Видишь ли, в учебниках психологии сказано, что вдохновение не посещает ленивых. Стало быть, ты имеешь все шансы...
— На вдохновение? Спасибо. Я понятия не имела, что ты меня ставишь так высоко.
— Ты сильная. Я так понимаю, что можно с уверенностью на тебя положиться.
— Я слабая, а не сильная... А ты... гм... ты кому-нибудь уже предлагала, Юлька (для опоры!), свое плечо?
— Пятку! — сердито ответила дочь. — Как будто можно с тобой о чем-нибудь серьезном поговорить?
Мама сощурилась и странно, пристально поглядела Юльке в глаза. Глаза у мамы смеялись. В них теплился сдержанный огонек, которого не понимала Юлька.
— Жизнь, мама... Ты говоришь, жизнь!.. А я, знаешь ли, воображаю, что настоящая жизнь не кончится. Нет у нее конца! Разве может когда-нибудь уйти из жизни, например, наша бабушка? Навсегда уйти? Поняла?.. В каждой щелке нашего дома, в траве останется ее голос; иголка, которой она перештопала все колготки, которые я порвала...
— Философ! — вдруг изрекла мама, рассмеялась, взяла портфель и торопливым шагом пошла к калитке.
У калитки она обернулась. Ее застенчивое лицо было озарено какой-то юношеской, что ли, улыбкой.
— Ты уж меня прости. Меня, должно быть, заждались на совещании. Опаздывать — крайне невежливо. Галопом придется бежать на станцию, а то, пожалуй, пропущу поезд... Гм... Итак, твоя мать энергично шагает навстречу бессмертию, Юлька...
И мама в полном несоответствии со сказанными словами чуть наклонила голову и ласково и вместе застенчиво помахала Юльке рукой.
Недели через три она перестала уезжать в город.
— Ты уже больше не будешь ездить? Будем вместе ходить к реке?
— Ездить в город не буду. Теперь там, пожалуй, справятся без меня.
До самой осени не загорался ночью свет в ее комнате — мать спала по ночам, и бабушка успокоилась.
Однажды, когда над землей и садом стояла ночь, Юлька проснулась и рассеянно поглядела в небо.
С неба падали звезды. Это часто бывает осенью.
В маминой комнате так темно, так тихо...
Юлька томилась. Что-то металось в ней, как будто рвалось.
— Мама, — чуть слышно сказала она. — Бабушка, мама, мама... — И вдруг, ни с того ни с сего, заплакала.
...А утром был дождь. Не ливень, а добрый дождик, с радугой, отражавшейся в каждой капле. Радуга ярко сверкала и над землей, и над жадно поднятыми кверху глазами Юльки. Луж очень скоро не стало, а река — словно подогретое молоко.
В шесть часов вечера с работы приехала тетя Вера. По правую ее руку — новый сопровождающий. (Мартышка нацепила себе на хвост еще одну пару новых очков.)
Он был так юн и с такими розовыми щеками!.. Воплощение здоровья и молодости.
— Сашкец! — весело отрекомендовала его тетя Вера бабушке. — Мой друг. Орнитолог. В лес влюблен без памяти. Между прочим, умеет подражать голосам птиц.
— А отчество, если позволите? — учтиво спросила бабушка.
— Отчества нет! И не будет... Потому что он молод, молод! Отчества нет, но есть превосходный ликер. Яичный. Немецкий. Что скажешь, мама?.. Этот ребенок, видишь ли, мастер очаровывать продавщиц.
— Рада это услышать, — сказала бабушка. — Обаяние — один из самых могущественных даров человека.
— И самое злое! И алогичное, — вставила Юлька. — Ведь это же, бабушка, не достоинство!
— Я гибну под грузом их склонности к обобщениям, — улыбнувшись, сказала бабушка.
Когда обедали, мастер по очарованию продавщиц приподнял рюмку, эффектно отставив мизинец.
Бабка это увидела и закашлялась. Но она была мать-героиня, стоик — и тотчас же опустила глаза.
...Все на нем сверкало, галстук и носовой платок в боковом кармане коричневого пиджака. Лицо спокойно, «несколько деревянное», определила Юлька, волосы по моде острижены бобриком, на мизинце дурацкий старинный перстень.
После обеда Сашкец подошел к книжным полкам, осторожно, со знанием дела провел кончиками пальцев по их корешкам. В старинном перстне сверкнул огонь, выдав ярким коротким блеском не поддельный, а драгоценный камень.
— Гений все же Булгаков! Не правда ли?.. Замечательна эта выдумка с Понтием Пилатом!
Юлька насторожилась.
— А как же, как же, — вежливо подтвердила бабушка.
— Что вы сказали? — осекшимся голосом переспросила Юлька.
— А гений все же Булгаков.
— Ба-а-абушка!
— Детка, разве ты не согласна? Ведь, по-моему, ты увлекалась Булгаковым?
— А... а играть на гитаре и петь вы можете? — расширив глаза и приблизив их к его растерявшемуся лицу, очень тихо спросила Юлька.
— Отчего ты так побледнела, детка?.. Здорова ли? Не перегрелась ли нынче на солнышке?.. И что ты пристала к гостю? Это невежливо, молодой человек устал. Ему с дороги, надо думать, хочется отдохнуть.
— Я... Я здорова! Здорова!.. Здорова!.. Я... я сейчас!.. Ги-та-а-ра!!
И, не дождавшись ответа, Юлька прижала оба кулака к горлу и опрометью бросилась в комнату тети Веры.
— Что вы будете петь? — не идущим к делу, заговорщицким шепотом, возвратившись, чуть слышно выдохнула она.
(«Кудефудр!.. Влюбленность с первого взгляда, — горько решила бабушка. — Нам только этого недостает... Потеряла разум и по молодости не умеет этого скрыть!..»)
Он взял гитару из Юлькиных рук. Подумал. Сказал:
— Высоцкого.
И запел.
Да, но ведь Юлька помнит, именно это, это было ими запрограммировано!..
«...Капитанова невеста жить решила вместе; прикатила на границу: «Милый, то да се»... Надо хоть букет цветов подарить невесте».
Однако какой удивительно теплый и низкий у него оказался голос! Юлька не слышала ни единой подобной записи, не помнила хоть сколько-нибудь похожего тембра. Нигде! Ни по радио, ни по телевидению, ни в кино... Откуда мама достала такую запись?
Поджав под себя ноги, наклонив голову, слушала тетя Вера.
Он пел. Лицо его было серьезно. Чуть деревянно.
Бабка слегка кивала. Юлька беспокойно ерзала на тахте рядом с бабушкой.
Окончил. Вздохнул. Улыбнулся беглой, быстрой улыбкой и отдал гитару Юльке.
— Отлично, — одобрила тетя Вера. — Прошу вас, Саша... Еще, еще!
— Он не может! Дальше не запрограммировано! Ты разве не понимаешь? — шепнула Юлька.
И вдруг сидевшая рядом мама начала хохотать. Она хохотала неудержимо, отчаянно.
— Что с тобой? — тревожно и вместе сердито спросила бабушка. — Извините ее, Александр!.. Спасибо за радость. Юлька и Евгения Васильевна попросту крайне, крайне переутомлены.
— Уйдем отсюда! — усмехнувшись своей спокойной улыбкой, сказала ошеломленному гостю рассерженная тетя Вера. — К реке! Пусть Женя и Юлька придут в себя. А вы мастер, однако, производить впечатление, Саша.
Он поклонился бабушке так, словно плохо умел сгибаться.
Ушли.
В эту ночь светила луна. Выйдя из калитки, они влились в сферу лунного света. Отчетливы сделались их удаляющиеся спины: с обеих сторон деревья и посреди,в лунном блеске, свечении, сиянии, две движущиеся фигуры, мужчина и женщина.
Мопассан! Ирреальность! Колдовское видение.
Дойдя до конца аллеи и не предполагая, что Юлька, мама и бабушка с любопытством глядят им вслед, мужчина и женщина обнялись.
Сделалось тихо. На террасе замерли. Все молчали. Даже мама и та притихла.
— Как-то уж очень молод, я бы сказала. Не знаю, что и подумать! — прервала молчание бабушка.
— Мама! Как ты посмела?! Как ты могла... Ну, Галина Аполлинарьевна, она дура. Пусть Галине Аполлинарьевне. Пусть, пусть!.. Но ведь не тете Вере?! Мама! Ах, мама!..
— Юлька, возьми себя в руки, — высокомерно сказала мать. Пожала плечами и, не оправдываясь, поднялась к себе.
...А в пятницу вечером вместе с тетей Верой из города приехали Сашкец, Галина Аполлинарьевна и какой-то почтенный человек, знакомый Галины Аполлинарьевны.
Он был пожилым, с седеющей бородой. Привез ананасы, консервы из крабов — их очень любила Юлька — и большущую, толстую курицу.
— Разведем костер, когда станет смеркаться, — поеживаясь от свежести, предложила Галина Аполлинарьевна.
— Прелестно! И зажарим на вертелушке эту покойницу, — бодро подхватил ее пожилой поклонник.
Добыли какое-то подобие вертела. Присев на корточки, он принялся умело и ловко поджаривать курицу, которую называл покойницей.
И тут-то Юлька, не выдержав, громко и отчаянно зарыдала.
— Ко всему прочему мне не хватало еще истерик, — жестко сказала мама.
— Юлька, родная, — обняла ее бабушка. — Наша девочка заболела. Я давно-давно примечаю... Трудный, переходный возраст. Она сделалась так неуравновешенна!.. Помогите, Галина Аполлинарьевна! Что-то с ней случилось... Я чувствую!.. Вы же врач, врач...
— Дайте ей валерьянки, — спокойно сказала Галина Аполлинарьевна. — Чайную ложку. Не разбавляя водой. Видите ли, нынешнее поколение так неуравновешенно. В лучших случаях легкая истерия.
Она сидела, поджав ноги, в свежей траве у разгоравшегося костра. По ее полному, ухоженному лицу порхали зыбкие огневые тени. Глаза уставились завороженно в колышущееся пламя.
— Это, видите ли, принято называть протестом. Против кого, чего — не пойму!.. Бойкотируют институты. А если и поступают, так уж только на гуманитарные... Отчего? Не знаю. Я психиатр, не социолог... А простота их браков?.. Может, это зовется романтикой? Без романов... И все это — не пережив войны, теперь, когда им все подают на блюдце, на хрустальной тарелочке? Непостижимо!.. А чего стоят знаменитые битлы с их идеями: человек — цветок?.. Массовая истерия.
— Молчите! — топнув ногою, крикнула Юлька. — Ничего вы действительно не понимаете!.. Хиппи: человек — цветок. А битлз — это жуки, п е в ц ы... Их четверо... Вы всё повторяете вслед за другими, как лента магнитофона... Вы Рюбецаль, Рюбецаль. Все неправда. Мы... Мы нормальные!.. Это вы... вы все со своими кибернетическими приборами... Курицами-«покойницами»... Психопаты! Камбалы! Кра-а-бы, крабы!
— Юлька, как ты смеешь так говорить?.. С нашей гостьей, с по... с человеком старше себя? — сдвинув брови и вскакивая, крикнула мать.
— Уйди! Уходи! — прижимаясь к бабушке, с ненавистью ответила Юлька. — Я, понимаешь, ви... ви... вижу тебя насквозь! Почка!.. Жизнь!.. А на самом деле изобрела для них, как грозилась, кибернетическое существо... Жестоко! Бесчеловечно! Насмешка над чувствами, над любовью.
— Прошу извинения, у нее жар, — сокрушенно сказала бабушка. — Моя девочка! Бедные-бедные мои дети!
И, укладывая Юльку в кровать, вдруг в отчаянии заломила пальцы.
Колыхалась от ветра штора в Юлькиной комнате. Юлька всхлипывала, проваливалась куда-то и опять просыпалась и всхлипывала. Рядом сидела задумавшаяся бабушка и тихонько, как маленькую, похлопывала ее по плечу.
Бабушка задремала. И будто сделалось ей опять тридцать восемь лет. И будто она проснулась во время войны и эвакуации в деревне на русской печке.
«Верушка голодная!» — подумала тридцативосьмилетняя бабушка.
И уснула опять.
«...Верунька!.. Такая слабая... тонконогая, тонкорукая. Тонкие волосенки, угрюмый взгляд...
До зимы далеко. Поменять бы разве шерстяную свою жакетку на яйца для Веруньки?..» — решила бабушка, переворачиваясь и кряхтя на холодной печи.
— Женюрка! Спишь?.. Что делать-то будем с нашей Верушей? Страшно!.. Не убережем.
— Убережем, не волнуйся, мама... Спи и не изводись.
Женя (старшая) тут же перебралась в ближайший от их деревеньки город. Жила в общежитии и работала.
Только к концу войны мать узнала, что девушка была донором.
Появилось немного масла и сахара. Однажды она приволокла из города картофель в большом мешке. Недалеко от дома, где жили мать и сестра, сдаваясь, девушка принялась волочить тяжелый мешок по земле, безвольно скинув его с плеча. Прохудился мешок от трения, начала вываливаться оттуда картошка.
— Что же ты, Женюра моя, наделала?
И та, ни слова не говоря, пошла сосредоточенно собирать на дороге рассыпавшуюся картошку.
— Мама, ешь! Ты здорово похудела... Мне даже страшно сделалось, когда я издали увидала тебя.
Так она говорила. А глаза ее были жестки, жестки. И губы жестки... А сама все в том же сером своем платьишке... Часами просиживала там, в своем неведомом городе, в нетопленых библиотеках, чтоб заниматься, не отстать. Отморозила руки, ноги...
«А от Владислава ни слова, ни весточки», — переворачиваясь на холодной печи, бессонно думала тридцативосьмилетняя бабушка.
Армии наступали и отступали. Как проследить в движении огромных армий биение сердца своего сына?
Восемнадцатилетний, худой, высокий, неприспособленный. Классический тип ученого, как дед и отец.
Как-то весной она поехала по Волге на пароходе со старой своей приятельницей. Сошли в городе Сталинграде.
Лестницы, лестницы, лестницы, ведущие к кургану на той большой высоте.
Ожила война.
...Статуя матери в наброшенном на волосы платке.
На руках сын. Лицо убитого сына прикрыто знаменем. Юные солдаты у входа и выхода в Пантеон. Вечный огонь в огромной руке, простирающейся из земли.
Содрогались стены, звучащие музыкой. Шуман. Два такта хора. На стенах отблескивали тусклым золотом имена.
Они были детьми. Два такта. Ему было всего восемнадцать лет!.. Всего восемнадцать лет!
Шли военные, опустив головы (бывшие участники Отечественной войны)... Женщины... Содрогались плечи старух. Они беспомощно кланялись низким русским поклоном пылающему огню и поблескивавшим золотым буквам.
«Они были всего лишь простыми смертными».
Они были детьми!
— Что с вами, ма... мадам?
Упала с головы шляпка, волосы растрепались. Среди живых цветов, среди смертей и бессмертий стояла она и склоняла голову перед вечным огнем и керамикой золотых букв.
И пел вместе с нею хор свою скорбную песню: два такта, два такта...
— Сын! — говорили люди. — Сын!..
И никто не знал, что лежит он не здесь.
— Выведите, скорее выведите ее!
Два такта, два такта.
— Мать! Уведите!..
«...Нет, не состарились. Не состарятся... Сыновья! Бессмертие!.. Вла-а-адислав!..»
— Унесите!.. Мать!.. Потеряла сознание...
Мальчики, девочки... Наши внуки! Кто в силах вас осудить?
Не я.
Перед Юлькой в белом своем хитоне стояла ожившая Мнемозина... Да нет же — бабушка! В белой ночной рубахе.
Она плакала. Тихо, беззвучно плакала.
9
Как бы ни был внимателен человек к окружающему его миру, каким бы ни обладал даром чувствовать, запоминать, слышать, все же увидеть мир во всей его свежести дано ему не каждый день. Только в редкие минуты, минуты дареные, он словно в первый раз открывает дерево, виденное множество и множество раз; вбирает его каждой частицей памяти — кору, смоляную каплю, листок... Жгуче выхватит и запомнит.
Но такое случается всего лишь несколько раз на протяжении целой жизни. Забудешь, а мир в тебе до тех пор, пока то ли в радости, то ли в печали не распахнет он снова перед тобой таинственные свои двери и ты опять откроешь великую бессуетность каждой травинки, листка, воды, неба.
Над рекой стелился туман, покрывал противоположный берег неровными клочьями. Зыбкий свет солнца таял, дремал, цепенел.
Юлька знала, как зовется этот туман. У него было название: одиночество. Влажные, чавкающие берега — одиночество. Вода в реке, ее течение, переполненное чуть слышными всплесками, шорохами, — одиночество, одиночество.
Она повалилась на влажную землю, зажмурилась и стала тихо-тихо шептаться с землей.
«Ты вечная, живая, большая», — сказала Юлька земле.
«Вечная? Нет. Со временем я погасну и превращусь в атомы».
«Но ведь это, не значит — смерть!.. Может, я тоже погасну. Может, я тоже превращусь в атом. Атом — значит Вселенная. Я буду рядом с тобой... Ты умная, ты родишь живое. Деревья, траву и людей с живыми сердцами. Ты не родишь машин».
«Верно. Я-то рождаю людей. А они рождают машины... Хорошее и дурное — ты же, девочка, все это знаешь — рождают люди».
«...Мудрая, ледяная, влажная, теплая... Отвечай по правде!»
«Ладно, — сказала земля. — Пойди-ка и поговори с Груней. Она старше тебя, она тебя, Юлька, на смех подымет. Ты успокоишься».
«А разве это возможно, — спросила Юлька шепотом, — поговорить с Груней?»
«Нет. Пожалуй что нет... Нельзя. Есть много разных слов, о которые ты расшибаешь голову, Юлька!.. Нельзя, нельзя».
«А кто придумал слово «нельзя»? — сурово спросила Юлька. — Это и другие, холодные, жесткие? Кто наградил их, мертвые, биением, похожим на биение живых и лживых сердец? Ты?!»
«Нет, конечно, — ответила ей земля. — Это тоже сделали люди».
«Зачем? Какие?»
«Обыкновенные. Но разве можно жить, Юлька, без слова «нельзя»... Давай подумай: расскажешь Груне, она, пожалуй, не удивится. Однако ведь не пришла же она к тебе, не жаловалась тебе, не распахнула перед тобой душу!»
«Вокруг — ни кошки, ни лодки, ни человека, — ответила Юлька. — Так сделай, пожалуйста, чтобы рядом со мною хоть появилась кошка!»
«Да будет тебе, — ответила ей земля. — Будто кошки купаются в реках... Уж будто люди приезжают за город в такую плохую погоду, чтобы купаться и загорать...»
«Дорогие земля, трава, дерево, сделайте так, чтобы хоть кто-нибудь промелькнул вон на той дороге. Я буду смотреть на дорогу, и пусть на ней сейчас же покажется человек!.. Такой же, как я, как Груня...»
Меж темных сосен замаячила точка — отчетливая в светлой пыли... Не точка это, а человек, человек! Ура-а! Человек!.. Он идет и свистит.
Подошел к берегу, недоброжелательно глянул на Юлькины, скрытые под водой ноги, отвернулся и принялся раздеваться. Остался в плавках, кинулся в реку, поднял фейерверк брызг, окатил лицо и волосы Юльки.
— Прошу извинения.
— Валяй. Подумаешь!
Он поплыл по реке кролем в противоположную от нее сторону. Юлькины ноги стали синеть от холода. Зубы защелкали. Она спряталась за деревьями, вытерла ноги, обулась. Пожалуй, надо бы уходить. Пора... да и сидеть здесь, собственно, негде, на этой чавкающей земле, что ли?
Она села в траву неподалеку от мальчиковой одежки и притворилась, что отжимает волосы. И вдруг ее шибануло запахом шоколада... Его спецовка была насквозь пропитана шоколадом.
Быть такого не может! Может... Еще как может! От его спецовки резко пахло цикорием и какао.
А шоколадный малый уже возвращался к берегу, он плыл кролем. Ступил на землю, сдвинул брови и снова сердито глянул в сторону Юльки.
— Пожалуйста... Если хочешь, я могу тебе дать полотенце!
— Да нет! Зачем тебе себя беспокоить?
— Чудак! Какое ж тут беспокойство?
Он взял у нее из рук полотенце, подхватил по дороге свою спецовку.
Вернулся, тщательно отряхнул полотенце и отдал его сидящей на траве Юльке. Она незаметно понюхала полотенце... Так и есть — шоколад!
— ...Скажи, пожалуйста, а ты... настоящий?.. Теплый? — спросила Юлька.
— Не особенно теплый, конечно. Я, признаться, продрог, как собака...
— А можно мне до тебя дотронуться?
— А знаешь, я, между прочим, сразу заметил, детка, что ты с «приветом».
Осторожно протянув вперед руку, зажмурившись, она, не дыша, дотронулась кончиками пальцев до его бровей, ресниц, глаз... Нос был холодным. От речной свежести.
— Ха-ха-ха!.. Если хочешь, валяй еще! — сказал шоколадный мальчик. — Не возражаю, не возражаю... А ты, между прочим, какого года?
— Мне восемнадцать лет.
— Здорова врать!
— А отчего ты так шоколадом пахнешь?
— Не твое дело. Хочу и пахну.
Перед нею был настоящий мальчик. Живой. Грубиян.
— Я, понимаешь, тоже озябла... Руки сильно озябли.
— Ну так, может, сунешь их мне за пазуху? Валяй. Я в твоем полном распоряжении.
— Чего-о-о?
— Ничего. Я тоже озяб... А веду себя, как положено.
— Озяб? Ну так вот что, — сказала Юлька, — пойдем к нам в дом и напьемся чаю.
— А у вас здесь что?.. Садовый участок?
— Приличный участок, — кивнула Юлька.
— А твоя мама в какую смену?
— Все больше в ночную... Она почти всегда работает по ночам. Говорит, что люди делятся на дневных и ночных... Мама — ученая. Кибернетик.
— Может, скажешь еще, профессор? Ты, погляжу, действительно здорова врать.
— А что я такого тебе сказала?
— А то, во-первых, что ни один кибернетик не называет себя кибернетиком... Кибернетика — это подход к явлениям, усматривающий во всем обратные связи. Ясно?
— Ясно, конечно... Но она математик. А математика — ведь это наука точная...
— Темный ты, как я погляжу, человек. Математика — наука несовершенная, поскольку многое из наработанного еще не доведено до такого предела, чтобы стало возможным все это применить к реальным объектам... Не все на свете может быть описано математически, не став предельно обеднено.
— Так, так, так... — ответила Юлька. — А я, понимаешь, чистейший гуманитарий... Между прочим, ты не читал в детстве такую сказку про человечков, сделанных из петрушки, моркови, репы?.. Они ходят по свету, как настоящие, только без душ и сердец.
— Не помню. Кажется, не читал... Ты вот что, насколько я понял, имеешь в виду: историю, рассказанную де Крюи об операциях по рассечению лобных долей. Верно? После такой операции люди продолжают выполнять все функции человека, но как бы начисто лишаются индивидуальных свойств.
— Ничего подобного. Я имею в виду человека кибернетического... Людей-машин, понимаешь? Людей, которых не родили, а изобрели и пустили в жизнь. Они из колесиков и металла, без живых сердец, без отклика на чужие радости и страдания, без собственных мыслей. Повторяют чужие слова, как пленка магнитофона...
— Видишь ли... стереотипность мнений, ну, например, у художника, бывает, по-моему, на все, что живо не касается его самого... Или, скажем, ученый, он может мыслить стандартно решительно обо всем, что не касается его области, но быть глубоко индивидуальным в единственной области, которой отдал жизнь... Самостоятельность мышления — тоже понятие растяжимое.
И вдруг глаза у мальчика округлились. Мыслитель замер. Он глядел на противоположный берег.
...На том берегу в зеленом, выгоревшем от солнца купальнике стояла Жук Груня. Она, видимо, только что выкупалась и старательно отжимала косу. Повернула лицо к реке и застыла с поднятыми руками. Глянула в сторону леса, задумалась. Леса уже легонько коснулась, осень, средь листьев зеленых проглядывали багряные, желтоватые... Полыхала издали ярко-красным рябина. И Груня забыла, что надо опустить руки: стояла босая, в мокром зеленом купальнике, словно цветок на стебле, красивая до того, что невозможно было от нее оторвать глаз.
Подхватила платье, ушла за дерево, переоделась. Вышла босая, неторопливо пошла вдоль берега.
Теперь она стала похожа на обыкновенную девушку, только очень красивую, которая шла, низко-низко опустив голову, и размахивала сандалиями.
— До чего хороша! — ошалело выдохнул умный мальчик.
— Да... Действительно. Девушка, — высокомерно ответила Юлька. — Между прочим, намного меня моложе... Хорошенькая... Но в ней чего-то недостает... Она похожа на ветку дерева или цветок.
— Много ты понимаешь!
Сделалось тихо. И вдруг Юлька, вздохнув, сказала решительно:
— Я хочу у тебя спросить... Ответь по-товарищески. Только правду!.. А я какая?
— Ты? Ничего себе. Симпатичная.
— Скажи, пожалуйста... только правду!.. А если б ты встретил меня на улице, ты бы за мной побежал к автобусу?
— Возможно... Это зависит от настроения.
Помолчали.
— А знаешь, — сказала она, — чего я больше всего на свете хочу?.. Горячего чаю.
— Что ж!.. А я, например, сегодня даже не пообедал.
— Идем! Мы очень близко от нашего дома. Ну? Не валяй дурака! Идем! — И подумав: — Ладно, я, может быть, тебе подарю перевод Рильке.
— ...Ну, а что ты скажешь им про меня?
— Кому?
— А твоим?
— А что, ты считаешь, я им должна сказать?.. Я скажу, что ты... А как, между прочим, тебя зовут?
— Толя... А тебя?
— Юлька... Так вот, я скажу, что у тебя от купанья сильно озябли ноги. И что ты пришел потому, что тебе захотелось чаю.
Когда они поднялись от реки, в глаза ударило вечернее солнце, но дальше стоял темный лес, видно было реку со стелющимся над нею редким туманом. Далеко за полем уже мелькали зажегшиеся огни.
Они шли по корням и упругим тропинкам. Юлька, шагавшая впереди, наклонялась от веток. Потом сбежала в разлужье и остановилась на границе тени в блеске низкого солнца. Небо все еще было светлое, как чай с молоком.
Они шли и размахивали руками. Он отпустил ее руку. Рука у Юльки осиротела.
— Вот наша калитка. Третья от дороги.
В саду на скамейке сидела мама и щурясь смотрела на клумбу, которую недавно полила тетя Вера.
— Заходите, — увидев их и вежливо улыбаясь, сказала мама.
Толя оцепенел от застенчивости. Потом, придя в себя, он зачем-то вытянулся по-военному... И вдруг гаркнул не идущим к делу громовым голосом:
— Анатолий! Кононенко!
После чего, подумав, выбросил вперед негнущуюся ладонь.
— Вернихова, Евгения Васильевна, — пожимая негнущуюся ладонь, серьезно ответила мама.
А на террасе под лампой сидела бабушка и задумчиво штопала шерстяные рейтузы Юльки.
— Анатолий!.. Кононенко! — все тем же громовым голосом возвестил Толя.
— А как по отчеству, если позволите? — учтиво спросила закаленная жизнью бабушка и отложила в сторону недоштопанные рейтузы.
— Степанович, — сорвавшимся голосом, совершенно уже растерявшись, ответил Толя.
— Бабушка! Он не обедал! Я ему подогрею борщ.
— Зачем же? Ты уж, как водится, занимай гостя, а я, дружок, соберу поужинать. Время позднее. Ужинать всем пора.
Когда Юлька потом вспоминала про тот вечер, ей выделись светлый круг над столом, мошкара, кружившаяся, как пыль; и то, что из сада тянуло свежестью; и то, что мама изредка поглядывала на Толю с какой-то странной, доброй полуулыбкой.
Разве Юлька могла догадаться, что чувствует ее мама, глядя исподволь в это детское, растерянное лицо, полное скрытых сил жизни?.. А вдруг в улыбке матери были воспоминания о собственной юности?.. А вдруг — сострадание старшего за все те бури и грозы, которые ему еще предстоит пережить, грозы, которые и есть жизнь?..
Кстати, единственная из всех она догадалась, что Толя работает на шоколадной фабрике, потому что его одежда насквозь пропитана запахом шоколада. Когда мальчик ушел, она сказала об этом Юльке.
— Счастливец! Каждый день сколько хочешь ешь шоколаду.
— Заглядывайте почаще, убедительно вас прошу, — прощаясь, сказала бабушка. — Я поняла, нашей Юльке попросту недостает сверстников.
А мама этого не сказала.
— Рада была познакомиться, — величаво кивнула она, стараясь казаться ученой, солидной мамой. Но, пожимая Толину негнущуюся ладонь, бедняга не выдержала — прорвало! — улыбнулась все же своей веселой, насмешливой полуулыбкой.
10
Какой-то уж больно странный сон приснился нынче Юльке под утро... Сон. Но в этом сне, словно в сказках и настоящих снах, перемешались правда с неправдой. Были в нем такие слуховые и зрительные подробности, которые сочиняются только жизнью, самою жизнью.
Ей приснилось вот что.
Будто бы у калитки их дачи неожиданно остановилось такси. Водитель затормозил, и у спящей Юльки от предчувствия чего-то сильно-сильно забилось сердце.
Из такси вышел папа. В руке у папы был чемодан.
Он не спеша расплатился с водителем, тот развернулся и укатил, энергично разбрызгивая колесами грязь (всю ночь шел дождик).
Папа направился к дому характерным широким и мягким шагом. Он был в клетчатой кепке с начесом, в коротком пальто. Из-под кепки выбивались густые седые волосы. Отец едва приметно сутулился. Постарел.
— Папа приехал, — чуть слышно сказала Юлька.
Но мама ее услышала. Она уже сбегала с верхнего этажа в сад, стуча большими своими ногами по деревянным ступенькам лестницы так медленно, так отчетливо, будто колотящееся изо всех сил сердце. Выбежала навстречу папе, раскидав руки.
Остановившись, он ждал ее. Ждал, улыбаясь, поставив на землю свой чемодан.
Добежав, она с маху прижалась к его плечу, высокая, почти такая же высокая, как отец. И вдруг наклонила голову и заплакала.
Растроганный, он гладил ее по рыжеватым растрепавшимся волосам, говорил:
— Успокойся, Зяблик. Видишь? Вот. Я пришел... Где наша девчонка? Где Юлька, Зяблик? Ну, ну, поплакала, и довольно. Все хорошо.
На этом месте Юлька проснулась. Сон был такой отчетливый, что, встав, она побежала в сад искать следы от их ног на песчаных дорожках.
— Ты что-нибудь потеряла, детка? — спросила бабушка.
— Да, — ответила Юлька. — Я потеряла, я потеряла...
А через час на дачу пришел почтальон. Он принес телеграмму. Первую телеграмму в жизни, адресованную Юлии Дмитриевне Антонович, то есть Юльке лично. Юлька решила, что это от Толи. (Он обещал сегодня после утренней смены приехать к ним, но, должно быть, не смог и предупреждал.)
— Ой, бабушка, это мне... Не мешай, бабушка.
«Партийная организация Ленинградской Академии художеств приносит вам свои искренние соболезнования по поводу внезапной кончины вашего отца Дмитрия Всеволодовича Антоновича, наступившей скоропостижно сегодня ночью вследствие инфаркта тчк Гражданская панихида Ленинградской Академии художеств двадцать шестого августа час ноль ноль тчк Похороны три тридцать Полковом кладбище.
По поручению партийной организации и коллектива товарищей
Н. А р т ю х о в а»
— От кого?.. Что? — спустившись в сад и тормоша Юльку, дрожащим голосом дознавалась мама. И, не дождавшись ответа, грубо вырвала телеграмму из Юлькиных рук.
Крик, короткий и страшный, огласил сад. Так не могла кричать ее мама. Так вообще не мог кричать человек. Разбросав руки, лежала она на песчаной дорожке и захлебывалась от крика.
— Мама!.. Мама!.. Он умер... Его больше нет, мама! — кричала мама.
Бабушка с тетей Верой, наклонившись, держали ее за плечи. Руки у тети Веры дрожали, лицо казалось растерянным, рот был полуоткрыт.
— Мама!.. Он умер. Его нет. Его больше нет...
— Он есть, дитя мое, — отвечала бабушка. — У тебя есть Юлька. Осталась Юлька... Женечка!.. Героиня наша! Наша кормилица!.. Гордость!.. Боже!.. Бедные, бедные мои дети.. Женя, у тебя от него дочь...
Лицо у мамы было искажено. Она смотрела на них безумными, невидящими глазами.
Тетя Вера и бабушка пытались ее поднять. Но она была высока, тяжела...
И вдруг распахнулась калитка. В раскрытой калитке стоял нарядно одетый Толя.
— Мальчик! — сказала бабушка. — У нас... у Юльки... отец!.. Помогите. Она обезумела... Она... О боже! Нет, нет, сюда... Здесь больше воздуха. На террасу... Верушка, скорей, валидол у меня на столе.
Мамины побелевшие расширенные глаза остановились на юном, содрогавшемся от сострадания лице незнакомого мальчика.
— Мальчик!.. Он умер, мальчик! — тихо сказала мама. И, приподнявшись, облокотилась о бабушкино плечо. — «...Твой голос для меня и ласковый, и томный...»
— Бабушка! Мама поет, — зарыдала Юлька.
— «Тревожит позднее молчанье ночи темной... Мне улыбаются, мне улыбаются... И звуки слышу я... И звуки слышу я... Мой друг, мой нежный дру-уг...»
Теперь уже рыдали взахлеб тетя Вера и бабушка.
— Этот мерза... Он пел ей, пел ей, поймите, этот романс. Этот страшный романс... — вне себя от горя и гнева кричала бабушка.
Мама всех оглядела, заметила Юльку, протянула руку вперед, зажмурилась и принялась осторожно кончиками пальцев ощупывать ее вздрагивавшее лицо, глаза, брови. Вздохнула глубоко, как будто бы набирая воздуху. И заплакала.
— Нельзя отпускать Юльку, — сказала бабушка вечером тете Вере. — Она может ее позвать, может вспомнить о ней.
— А вы бы спросили хоть для видимости меня!.. Хоть для блезиру, ясно?.. Ведь я уже почти совершеннолетняя!.. Так вот, довожу до вашего сведения: я б не поехала, даже если б меня гнали силой. Он мне чужой, я в последний раз ею видела, когда мне было пять лет. И он предал... предал! Оставил такую... такого... Он предал маму!
Через много лет Юлия Дмитриевна Антонович — Юлька — узнала, что ее отец («мерзавец») был талантливый, работящий, легкий, товарищеского склада, глубоко обаятельный человек; что таким отцом она могла по праву гордиться (и про то еще узнала она, что отец был наповал избалован женщинами). Детей он оставил после себя одну только Юльку — Юлию Дмитриевну Антонович.
Как сложна, как несправедлива, как запутанна жизнь.
На четвертую ночь наверху в окне загорелся свет. Может, мама опять работала?
И вдруг Юлька услышала ее тихий фальшивый голос:
— «...Мне улыбаются, и звуки слышу я: мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя...»
...Где он теперь? Может, в этом высоком небе?.. Знал ли, как его здесь оплакали? Понимал ли силу ее любви?
— «...Близ ложа моего печальная свеча горит: мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви; текут полны тобою... И звуки слышу я, и звуки слышу я...»
Лестница. Садовая лестница... Вот она.
Юлька спрыгнула в тапках во влажный сад, приставила лестницу к маминому балкону.
— Не пугайся!.. Это я, Юлька.
В раскрытом окне со стороны сада — явление номер один — показалось, словно призрак, Юлькино взбаламученное лицо, обрамленное растрепанными волосами. От неожиданности мать вздрогнула.
Ловко, как кошка, Юлька вскарабкалась на подоконник... Неверным шагом, словно колеблясь, подошла к матери. И вдруг рванулась вперед...
— Что с тобой? Успокойся, Юлька.
Нет! Не желала она успокаиваться. И хоть бы все вокруг завертелось юлой, она, Юлька, назло вам всем, не успокоится, не успокоится!..
Присела на корточки рядом с мамой, заглянула снизу в ее лицо с чуть вздрагивавшим ртом, зажмурилась и быстро, чтоб ничего не видеть, уткнулась носом в ее колени.
От маминых колен пахло шерстью. Изношенной!.. (На себя она отчего-то вечно жалела деньги.)
Всхлипывая, как маленькая, Юлька принялась целовать колени матери сквозь старую шерстяную юбку.
Потом легонько приподнялась и, давая волю себе, изобретая и открывая, вздохнула, набрала в легкие воздуха.
— Мама! Ты слышишь? Слышишь? Я очень люблю тебя.
— Я тоже... Очень, очень сильно люблю тебя, — улыбнувшись, тихо сказала мать.
...Дальше Юлька не знала, чего бы еще сказать, не знала, что изобрела только что самое бессмертное на земле слово. Захватанное, много-много раз повторенное, спрягаемое, это слово было высоким и человечным, ибо оно означало самое большое и самое незащищенное на земле чувство.
Разве есть на свете что-нибудь сильней, чем «люблю»?
11
Этой осенью, как и всякой нормальной осенью, сумерки стали ранними. Частенько накрапывал дождик. Под фонарями желто отсвечивали косые, рваные струи дождя. Тощий дождик, вполне городской, досадный, однако едва приметный.
О том, что дождь, вопили городские лужи, широко подхватывающие отблески городских огней. И не только лужи, а потемневшие мостовые и тротуары, ставшие словно отполированными. Там, где уличные светофоры, земля загоралась зеленым, красным. И гасла.
Час вечерний. Час городской...
Толпа у входа в кино. Юноши и подростки с приподнятыми воротниками, не защищавшими от дождя. «Нет ли билетика лишнего?» А из дверей, где касса, бьет желтый свет. До чего же хочется проникнуть в кино, в теплоту фойе, в темноту зала!
А небо над электрическим светом улиц черное, очень далекое и без звезд. Но кто же из городских жителей смотрит вверх, в небо, и кто из них замечает звезды? Небо темнеет над желтым маревом вечерних огней. С тех пор как в городе новостройки, будто выше стало оно и чернее. И такое стало далекое, что вовсе застлали его городские заботы, включенные телевизоры, премьера театра, что на Таганке... И мысли о старости в тех домах, где она живет; и мысли об уходящем времени там, где юность; и как бы за ним поспеть, как бы его нагнать и как бы не растеряться, не упустить чего-то, не проморгать...
А оно промаргивается!.. Даже у самых шустрых, потому что охватить все сущее — увы! — невозможно, каким бы ты ни был дошлым. Да и что охватить-то? Не всякий об этом знает. Только дождик аккуратно охватывает мостовые и тротуары. Да и то всей Москвы ему, бедняге, не охватить, потому что уж больно сильно она разрослась: там, где еще недавно был пригород, нынче Москва, окна ее домов повернулись к лесу. Охватить... Но что?
В этот вечер, как каждый вечер, стоит огромная очередь у раздевалок Ленинской библиотеки.
Склонившись под лампами, люди что-то читают и что-то записывают. И что-то жуют внизу, в столовке, переводя дух. И, влившись в очередь у кофеварки, требуют кофе покрепче, покрепче, такого, чтоб освежил мозги.
И в тот же вечер — осенний, с рано наступившею темнотой, — все столики в кафе-мороженых заняты и заняты все столики в ресторанах.
А продуктовые магазины?
«Елисеевский» так и кишит людьми.
Попробуйте затаитесь, гляньте в лица людей, стоящих в очередях... Каждый, сам об этом не подозревая, ведет с собою свой внутренний монолог. У одного — вздымаются брови, словно в глубоком раздумье или в страстном ответе кому-то невидимому. Другой ни с того ни с сего начинает темпераментно размахивать левой рукой (в правой — кошелка). Кто-то улыбается своим мыслям, чье-то лицо выражает смутное раздражение.
Лица рассеянные, усталые, сосредоточенные; глаза, глядящие вослед уходящему дню; отречение от мира. Отдых. Во время стояния в очереди, у кассы.
По блестящей от дождика мостовой, давая гудки, летит машина с красным крестом. Ей дают дорогу. Речь о жизни — «скорая помощь».
...Много, ясное дело, в Москве заводов. И в этот вечер, как в каждый вечер, работают вечерние заводские смены. Не останавливаться же заводам из-за рождений, спасенных жизней?
Под светом лампы на кухне далеко за полночь будет читать в этот вечер книжку о «несовершенной науке», названной математикой, некий мальчик — рабочий кондитерской фабрики, которого зовут Толя.
И в этот вечер станет летать по городу некая давно знакомая нам машина.
Положив на баранку тонкие, «золотые» руки, будет мчать в машине тетя Вера под дождиком, глядя вперед прищуренными глазами, а рядом с нею будет сидеть орнитолог Сашкец — великий мастер очаровывать продавщиц. Машина заедет в какой-нибудь тупичок и там остановится. Тетя Вера снимет с баранки свои «золотые», едва приметно вздрагивающие руки. А дождик неутомимо станет хлестать в боковые окна машины. Он слезами будет стекать по стеклам, слезами горькими, человеческими. Но переднее, ветровое стекло останется чистым, прозрачным, ведь на этом стекле работает «дворник» — движется туда и сюда, не ускоряя и не замедляя своего автоматического движения.
Тихо станет в машине. Дождик в том городском закутке, где невзначай остановились они, защищая и прикрывая их, будет хлестать в боковые стекла. И вдруг тетя Вера скажет, что прочтет стихи Гумилева, и станет читать их шепотом, глядя сверкающими глазами в деревянный профиль, профиль не настоящего, а придуманного человека. Ничто не дрогнет в деревянном лице с коротким вздернутым носом от звука шепота ее, и ее дыхания, и зрелища ее трогательных чуть вздрагивающих рук. И будет биться дождик в боковые стекла. Но прервется его биение и остановятся его слезы, когда оба, закрыв глаза, вдруг, ни с того ни с сего, снова примутся целоваться.
А некая девочка, которую зовут Юлька, будет в этот час сидеть у окна на даче и ворчать про себя, что они так долго не переезжают. Осень. Пора, пора! Она уже опоздала в школу. Но мама ей отвечает: «Экие пустяки, нагонишь... Для твоего спокойствия я черкнула в школу открытку».
Из верхнего окна — из той комнаты, где работает мама, — рвется привычный свет.
И, дыша на стекло, Юлька будет стараться постигнуть что-то, догадаться о чем-то, а оно — ускользать, ускользать...
И вдруг ей откроется, что ее мама — душа простая, что мама не равнодушна, что она человек, по существу, совершенно собою не занятой... И что мама бессмертна! Ну да, поскольку куда же деваться всему, что зовется любовью, трудом, вдохновением, горем!
Ясно как дважды два, что за человек мать.
Но разве дважды два — само по себе понятие совершенное?! Недаром Толя сказал, что математика — наука, способная многое обеднить.
Математика! Самая точная из всех на земле наук. Вот за это, должно быть, он обозвал ее несовершенной.
Чем больше дано человеку, науке, искусству, страстно чувствующей душе, тем больше спрашивается с них. А с кого же еще спросить?
...Ладно. Ну а теперь она может немного, совсем немного подумать о Толе.
Юлька знала, что он работает на кондитерской фабрике, что отец его умер, когда Толе было шесть месяцев, а мать — штукатур.
Как же так получилось, что именно он увлекается математикой и стихами?
Один раз, когда Юлька его спросила: «Скажи, как по-твоему, что такое счастье?» — он ответил ей не задумавшись: «Счастье — это хотеть».
Что за удивительный человек Толя!
Ладно!.. Ну а что такое лезущее ей в сердце тревожное и жадное «почему»?
Почему, почему, почему — неясное и неточное, как математика. Огромное, как земля... «Почему», на которое бывает столько ответов. И каждый точный. И ни единого абсолютно точного оттого, что в каждом ответе новое «почему?».
Полно, Юлька! Вот свет. А вот тень.
Из окна верхней комнаты рвется свет. Разве можно оспорить, что это свет. А внизу темно. Темно почти совершенно, только смутно угадываются кусты.
Тьма и свет — вот понятия совершенные!
Да. Конечно.
А верно все-таки, что очень хороший человек Толя?
— Юлька, иди пить чай и позови маму! — крикнула бабушка.
— Бабушка, она скажет, чтоб я отстала.
— Вот еще!.. А собственно, почему?
12
О себе она говорила:
— Я человек простой, имею только четыре класса... Когда мужа убили (ох и красавец был — белый, высокий, полный!), между прочим, работал в лесной охране, я сразу пошла на стройку. И приняли, знаете. Штукатуром.
Прикатывает тотчас же Толин дядя — отцовый брат. Видит, что мы живем в общежитии (Толя — в яслях, а куда же? Грудной. Я работаю)... Деверь взвесил все это обстоятельство и заладил: «Отдай! Я ему не чужой. Я ему — Кононенко. Одна фамилия».
Ну я прикинула — так и так... Податься некуда. Отдала.
На свою погибель!
Стоим на вокзале у поезда, деверь держит мальца на руках, а Толя — много ли ему надо? — схватился у матери на глазах с дядькой, с отцовым братом, обниматься и целоваться. У матери, понимаете? У матери на глазах!
Тот ответно его ласкает. А я валюсь. Ну, прямо с ног валюсь и валюсь. Исхожу слезами. Люди меня поддерживают под мышки. У меня долой с головы платок.
И что же они сотворили, ироды?!
Набаловали ребенка до невозможности, он у них прямо по головам ходил, особенно эта... Извините, конечно, ну, как там ее... ну, эта... деверева жена. С рук не спускала!.. Двое девок у них. Очень просто: им интересно иметь мальца.
Приезжаю летом. Сын меня не признает, мамой не называет. Папа да мама — деверь с его женой. И выходит, я не родительница, а неведомо кто!
А все это горе, учтите, исключительно из-за моего материального обстоятельства.
Терпела до самого шестого Толина класса. А Толя тем временем как есть совершенно обхулиганился. Если все рассказать, так лучше, пожалуй что, не рассказывать... По-людски и не обедает никогда, таскает из подпола яйца, когда захочет. Ночью все в доме спят, а он схватил себе моду на лыжах по лесу гулять. Надоест — в окно. И повалится. Другой раз даже и не раздевшись. А им все хиханьки, хаханьки.
Хорошо.
Объясняю деверю: я его заберу с собой.
А он: «Учительница сказала, у Толи к математике исключительная способность. Ты в состоянии такое объять?»
В состоянии не в состоянии, ребенок мой. И забрала. Разговор короток.
Приезжаю в Москву, являюсь с Толей к начальнику стройки... «Создадите условия хоть сколько-то подходящие или как? Или на улицу мне с дитем?» (И пару, знаете, крепеньких и горячих слов, а чего мне терять?!) Он аж рот раззявил и в тряпочку. Нечем крыть.
После этого создали, конечно, в общежитии условия: в комнате только еще двое женщин, Толя да я... (Толе кровать совершенно самостоятельная. Спи, как барин.)
Он, бывало, на дню даже в комнату не зайдет. (Мы на первом этаже общежития.) Глянет в окно, стоит ли еда. Стоит. Сейчас же, как кошка, вспрыгнет на подоконник и ну уписывать, тоже сидя на подоконнике. Молодой. Растет.
Я восемьдесят рублей в новом исчислении тогда уже в месяц имела стойких, без прогрессивки. Ну, школа поддерживала, конечно. Два раза выдавали ботинки, спинжак... Завтрак бесплатный, само собой.
И вдруг приходит ко мне учитель из ихней школы: «У него, говорит, к математике, знаете, есть способность. Я буду его учить дополнительно».
А я отвечаю: «Нет у меня, извините, на это средств».
«А я на ваши средства плевать, говорит, хотел. Мне только ваше согласие необходимо».
«Раз так, пожалуйста, отчего же, если есть у него способность. Согласна. До конца десятилетки я дотяну, легко ли, трудно ли, так это, если хотите, ни до кого касательства не имеет».
И дотянула. Ну, конечно, школа маненечко поддерживала: сапожки, спинжак...
И я, как мать, дала ему полную десятилетку. Большое спасибо партии и правительству.
«Ну что ж, говорю, теперь, говорю, в институт, что ли?» — «Нет, — отвечает. — Я, мамаша, если хотите знать, не мальчишка. Желаю культурненько одеваться. Пойду работать». — «А может, вытянешь на вечерний?»
Подал заявление в университет. А сам не готовится — каждый день в Серебряный бор. Ну что я скажу? Что могу сказать? Сама-то имею только четыре класса! Штукатур. Человек не особо квалифицированный.
Экзамены, значит...
Он приходит как-то вечером и говорит: «Мамаша, знаете, а профессор вот эдак на меня поглядел, улыбнулся и вдруг: «Уж больно хороший, говорит, парень, дадим, говорит, дорогу... Он как будто бы моя личная молодость...» — и смеется... Что ж, вы ходили туда, мамаша? Это вы унижались, да?!»
Да куда это я ходила?! Я и не знаю, к кому ходить!
День пришел, в университете вывесили объявление. Мы с ним к университету (я аккурат в этот день в вечерней)... Стою на улице. Жду.
Приходит и объясняет: «Висит, вам назло, фамилия Кононенко». — «Не может быть, — говорю. — Не ты один Кононенко. Здесь со всего Союза. Иди погляди еще раз, какое имя там напечатано». Приходит и говорит: «Анатолий». — «Не может такого быть. Иди, говорю, погляди-ка отчество». Приходит и говорит: «Отчество, говорит, вам назло, Степанович. Отпечатано: Кононенко, Анатолий Степанович. Черным по белому. Долго вы, мамаша, будете гонять меня туда и сюда?»
Я сомлела. Я... Да что вам сказать, не знаю... Стою посредине улицы. Как скаженная...
Все тут вспомнилось! Все встало передо мной!.. Зима. Морозы. Тащу раствор. Поколели руки... А брань невозможная. А бригадирское хулиганство! Все же и я молода была... А холод. А я — раствор... Застывает... Мо-о-о-ло-дость! Бабья жизнь моя никудышняя! С двадцати пяти лет вдовею.
«Видишь ли, слышишь ли? — говорю покойнику, Толиному отцу. — А может, ты подле него стоял? Может, тому профессору, приличному человеку, это ты в уста слова хорошие положил?»
«Опамятуйтесь, мамаша! — увещевают люди. — Молодой. Поступит на другой год. Нельзя же так убиваться!»
«Да он принят! Принят. А я штукатур. Имею четыре класса. В люди вывела... Зима, говорю, раствор... Бывало, руки у меня поколеют... Ног не чувствую. Бывало, недоедаю... Он у меня, говорю, единственный».
«Очень прекрасно, — спокойненько отвечают. — Видать, вы женщина энергичная!»
«Героиня вы! Вот кто вы», — говорит мне одна гражданка. И схватилась плакать вместе со мной.
А студенты из университета:
«У этого мать, говорят, малахольная. Вызовем, говорят, карету и доставим ее в «Матросскую тишину».
Поступил на вечерний. А утром работает на кондитерской. Им ничего, довольны. Он малость машинами управляет. Хорошая, говорят, у него математическая способность.
И откуда взялась у него такая способность? Не иначе, в отца. Вы б только его видали!.. Исключительно представительный, белый, полный. Вина не пил. В рот не брал... В отца, в отца, не иначе, пошло у него. В отца, в Кононенко.
13
Огромный город не поразил Толю. Ему было двенадцать лет, он уже успел побывать в Виннице, запомнить ее автобусы и трамваи, большие улицы и большие дома.
Только одно в Москве удивило его: светофоры. Часами он стоял на уличных перекрестках и, моргая, глядел на их зеленый и красный свет.
...Этажи сообщаются между собой. Шоколадные зерна льются с четвертого этажа на первый, уже размельченные, отделившиеся от какавеллы.
Мир шоколада, мир умных машин... Сперва он не вспомнил, какую это в нем вызывает счастливую, дальнюю ассоциацию — красный и зеленый глаз светофора!
На четвертом (на самом верхнем) этаже — сушка. Здесь в огромных мешках бобы — из Мексики, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Венесуэлы, Колумбии, Тринидада...
Цех огромный. Четыре высокие печи. В печах температура сто тридцать градусов. Тут же мигающий зеленым и красным пульт управления.
Мешки с бобами подвозили на вагонетках, опрокидывали в стальную воронку, они вякались о стены со стуком камешков.
А дальше все шло как бы помимо воли человека. Машина подхватывала бобы, просеивала их и снова просеивала. Печь перекидывала бобы с одного огромного сита на другое, на третье.
Но дальше, в другом конце огромного цеха, жила другая машина — одна-единственная, обжарочная. Температуру в ней поддерживали газом. Печь билась, стучала. Здесь поджаривали бобы особо высоких сортов, миндаль и орехи. Главным тут был рабочий, его опыт, его умение.
У этой печи существовал «щуп»; заслонка, — как и во всех на земле печах... Печь нагревалась живым огнем. Здесь видны были вращавшиеся зерна какао; тут, на глазах у людей, двигалась огромная стальная тарелка.
А рядом еще одна машина, работавшая по приказу пульта, в ней бобы освобождались от какавеллы, которая их обволакивала. Этот цех был царством мужчин. Женщины — чуть подальше, в отделении трюфелей.
Масса, из которой изготовляют трюфель, лежит в огромном чане, влажноватая и как бы расплавленная. От нее бьет нежный дух трюфеля.
В цеху, где женщины, машина выбрасывает уже совсем готовые трюфели. Поток трюфелей, коричневая трюфельная дорога без конца и края... Десятки, сотни, тысячи трюфелей. Трюфели — еще не завернутые — льются сладкой рекой. Водопад, водопад трюфелей! Его течение нескончаемо... Трюфелями наполнены ящики, ящички; трюфеля на больших деревянных досках...
...Шоколад и опять шоколад — поток извергающегося шоколада; булыжники шоколадных дорог, дороги, мощенные шоколадными плитками.
Бежит дорога: машина выбрасывает шоколад, шоколад, шоколад.
Но в этих огромных залах, которые зовутся цехами, самым обольстительным был все же верхний — четвертый — этаж, там, где мешки, набитые шоколадными зернами, орехами и миндалем.
Шар земной! Географическая карта, моря-океаны. Голос из дальних стран. Острова под жарким и ярким солнцем; тропические деревья.
Бобы совершенно разного цвета, на вкус горько-терпкие, желтые, белые, фиолетовые...
Не так давно они были еще плодами, похожими на огромные огурцы: зеленые, желто-зеленые, золотистые, оранжевые.
Внизу, на первом этаже, зерна шоколада «облагораживали». Им придавался запах кофе и нежный запах эссенции. Здесь шоколад превращался в «тертый». Потоки, реки жидкого шоколада. Эти потоки взбивали, перемешивали, подогревали и охлаждали машины. Неутомимое кивание машинных частей, выступающих из шоколадных рек. Кажется, будто огромные поршни кланяются.
И всюду зеленый и красный глаз неподвижного пульта: он здесь правит всем.
Всюду стук и биение... Шоколад и опять шоколад.
На втором этаже машины самые квалифицированные, они отливают шоколад в формы, охлаждают его... Батоны маленькие и большие; плитки тонкие, толстые, продолговатые, круглые и квадратные. Машина их одевает: обертывает в фольгу.
Неподвижен в цехах и безмолвен только пульт управления. Стоит и подмигивает зеленым и красным глазом.
Бригадир обещал в короткое время сделать его обжарщиком. И сделал. Толя был малый грамотный, его сметливость поражала даже мастера цеха.
Вскоре все у него сложилось, как у любого рабочего с шоколадной фабрики: он возненавидел сладкое, особенно шоколад.
Однажды в трамвае кто-то сказал, когда Толя ехал домой со смены: «Шоколадом тянет».
Бедняга тут же спрыгнул с подножки и дальше побрел пешком.
Был он высокого роста, очень светловолосый, голубоглазый, с раздвоенным подбородком.
Не прошло и недели, как мальчик стал получать записки от девочек-учениц. Толя огласил записки ребятам. С тех пор они дружно (и разнообразно!) дразнили девочек.
Однако женская красота имела над ним необъяснимую, колдовскую власть. Он мечтал о победах, не понимая, что это происки тайного самолюбия.
Девушек он начинал разглядывать с ног. Ноги были: красивые, некрасивые, относительные, говорящие, сексуальные, вызывающие, нагловатые, лишенные вдохновения и души.
Студенты, так же как и заводские ребята, норовят познакомиться с девушками на улицах. Это, видимо, признак времени, «веяние времени», как принято говорить.
В метро им никогда не бывает лень по многу раз подниматься (и спускаться) по лестнице с единственной целью — как следует разглядеть хорошеньких.
Ребята выскакивают из вагонов, углядев красивую или смазливую девушку; несутся вслед за автобусами, заметив славное личико или красивые ноги.
...Однако Толя кроме красивых женщин тайно (и страстно!) любил машины. Был он пытлив и вместе рассеян, как бы всегда погружен в себя. О чем он думал?.. Этого мальчик иной раз и сам не знал.
Когда он задумывался, его лицо становилось похожим на лицо девочки. Открытый взгляд голубых глаз и улыбка выражали сердечность и доброту. (Бедняга!)
Привычка некстати задумываться не раз его подводила.
Случилось так, что во время утренней смены он пережарил зерна. И надо же, право, чтоб именно эти зерна взяла на пробу лаборатория!
Бригадир орал на обжарщика, перекрывая шумы машин. Ноздри его раздувались, лицо от натуги побагровело.
Крайне самолюбивый, Толя вдруг заорал в ответ, что сейчас же уйдет с завода.
Оба размахивали руками. Немое кино. Голоса тонули в шуме и грохоте.
Когда смена окончилась, гордость завода — юный обжарщик побрел в раздевалку, швырнул в свой шкафчик халат и шапку.
...Куда податься? Подальше, подальше, долой из города!..
Он пошел на вокзал, сел в первый попавшийся поезд.
Сидел в вагоне и молча, надменно и замкнуто пах шоколадом.
Долго брел он к реке, ломая с досады ветки кустов; останавливался, вспоминал бригадира и ни с того ни с сего, точно так же как тот, раздувал ноздри.
Тропа... Под солнцем — оно уже клонилось в сторону запада — поблескивала река. На берегу сидела девчонка и, задумчиво подперев кулаком щеку, болтала в реке ногами.
«...Мой голос для тебя и ласковый, и томный тревожит позднее молчанье ночи темной... Близ ложа моего печальная свеча-а-а...»
Просунул щуп в отверстие печи, высыпал на ладонь зерна. «Не готовы», — решил он привычно, почти механически.
— «...Текут, ручьи любви; текут полны тобою. Во тьме твои глаза блестят передо мною-ю-ю...»
— Как дела? — подходя к печи, заорал бригадир, перекрывая шумы огня.
— Как сажа бела! — не соизволив взглянуть на него, ответил рабочий.
Бригадир взял щуп, вынул несколько зерен, быстро их расколол и, ни слова не говоря, ушел в глубину цеха. Вернулся.
— Эй, Толя!.. Слышишь? Давай наклонись. Они, понимаешь, смонтировали регулятор для твоих тепловых процессов... Все как следует, а чего-то недостает!.. Самой малости, говорят. Но они, понимаешь, гнут... Может, скоро получишь пульт управления.
Так, напрягая голос, орал бригадир, заглушая биение машин и тягу огня.
Несмотря на кондиционированный воздух, в цехах было жарко. В распахнутые окна врывался с улицы дневной свет, мешаясь подле трюфельной с зажженным с раннего утра электричеством.
Выплыла из полумглы молодая работница, подошла к Толе, неслышно что-то сказала ему. И вот уж она у мешка, где жареные орехи, набрала в лоток. Удаляясь, глянула на Толю через плечо и улыбнулась пьяно, вакхически.
Пронеслась по цеху, как ведьма с метлой, пожилая уборщица тетя Муза. Огромная метла ее двигалась по-колдовскому бесшумно: взад-вперед, взад-вперед... Тихий шепот метлы съедали могучие шумы. Это гудел огонь, это бились печи, большие сердца печей.
— «...Мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви; текут полны тобою...»
...Сбросил все, что было на нем, сердито принял душ и переоделся.
Библиотека на той же улице, что проходная фабрики.
— Примите, пожалуйста, — сказал он библиотекарше. — Я сдаю.
— И что же вам предложить взамен?
— Нет ли, случайно... О системе автоматического регулирования тепловых процессов?.. Это раз... А второе... Может, найдется что-нибудь стоящее о любви. Только, пожалуйста, если есть, то хотелось бы посерьезней... Из классики.
— Стендаль, — не дрогнув бровью, ответила пожилая библиотекарша. — «Красное и черное». Превосходно! Рекомендую... Ну, а что бы вам предложить о системе нагрева?.. Вот: «Регулирование тепловых процессов. Е. Вернихова». Получено позавчера. Новинка.
— Да, да... О тепловых процессах — она! О тепле. Об огне!.. Она!.. Простите, вы, кажется, что-то сказали?
— Я сказала, что это классика. О любви. Роман отличный. Переводной, — с каменным выражением ответила библиотекарша и лукаво глянула на Толю из-под бровей.
14
Мама возвращалась на дачу, как и в начале лета, с кошелками. Снимала на ходу шляпу, подставляла ветру лицо. Вокруг стояла блаженная тишина, осеннее тепло, кротость.
Начало и вовсе рано темнеть. В шестом часу выплывала в небо луна, молодая, окруженная облаками. В их саду появилась вечерняя дымка. В кабинете матери загорался свет. Он гас все позже и позже... Казалось, мать ничего не видит вокруг себя.
— Понимаешь, мама, — говорила мама бабушке утром перед отъездом в город и щурилась. — У меня бывает такое чувство, что я близка... совершенно близка... А оно ускользает и ускользает...
— Пей кофе, Женя. Ешь бутерброд.
— Сейчас. Я пью. Я ем... Разве ты не видишь, что пью и ем? Еще немного, совсем немного, и мы переедем в город.
А тетя Верочка иногда уже оставалась ночевать в городе... Ну а если и возвращалась, то вкатывала машину в гараж не раньше часов одиннадцати, с наступлением осенней глубокой ночи. Она по-прежнему кого-нибудь прихватывала с собой. Чаще всего это был Сашкец.
Являлась время от времени Галина Аполлинарьевна, едва здоровалась с Юлькой и бабушкой.
Из глубины повлажневшего, тонувшего в ранней темноте сада раздавались приглушенные голоса.
А туман в саду мешался с желтым светом из маминой комнаты и становился все голубей, голубей. Осенние ночи долги. Где-то, взывая к жалости, ухал сыч.
Однажды Юлька услышала:
— Перенаселена страна одиночества! — это ухнул (да нет же, сказал!) Галине Аполлинарьевне ее пожилой поклонник.
Дрогнул желтый свет, бегущий из маминого окна... Или, может быть, это померещилось Юльке?
Сашкец напевал частенько вполголоса по тети Вериному заказу Высоцкого.
В воскресенье, проснувшись, Юлька увидела их под деревом, в осеннем позднем рассвете (никак, бедняги, совсем не ложились спать!).
А бабушка уже поднялась. Из кухни тянуло теплом и душистым запахом кофе. А наверху, над домом, как ни в чем не бывало светило солнышко... А внизу, у дома, тетя Вера и тети Верин Сашкец как ни в чем не бывало стояли у всех на виду в обнимку под яблоней. Он улыбался ей своей готовой, робкой полуулыбкой.
— Бабушка! Как она может?.. Ведь он зануда?!
Бабушка с грохотом уронила на пол кастрюлю.
— Нет!.. И откуда ты только такая взялась? — перекрывая грохот кастрюли, сказал Сашкец.
— Завтрак готов, — выглядывая из кухонного окна, с ледяным выражением сказала бабушка.
Каким счастливым казался Юльке порозовевший сад, медленно выступавший из голубого тумана. Мир так добр. И щедр... Только Юлька одна в этом мире тайно страдала, мучалась. Она понимала, что это глупо, но отделаться от наваждения не могла: вселенная больших чувств и больших страстей жила теперь для нее как бы рядом с чувствами бедными, словами не изобретенными, словами-эхо.
Однако что это нынче с бабушкой? Опять уронила на пол кастрюлю. Наверху, в кабинете матери, тотчас же, как бы откликаясь на грохот кастрюли, погасла лампа. Все позже и позже гас этот желтый свет, иногда она забывала его гасить. Ночь удлинялась — ночная птица начала переколдовываться в дневную.
Могло показаться, что мир вокруг Юльки и бабушки томится в осенней бессоннице. Здесь не спал никто, кроме них двоих, — ни сад в голубом тумане, ни Юлькина мама, ни тетя Вера.
И как только доставало на это сил?!
Однажды днем, когда тетя Вера и мама уехали на работу, Юля застала в саду свою бабку в состоянии и виде необычайном. Бабка стояла во весь свой большущий рост посреди центральной дорожки, поднимала вверх руки, заламывала их и, горько всхлипывая, бормотала что-то себе под нос.
«Может, выпила?!» — совершенно несообразно решила Юлька. Бабушка не пила никогда.
Если случалось, что тетя Вера нальет себе рюмку водки, бабушка говорила басом:
— Слава богу, что вовремя умер отец. Не дожил до эдакого позора!
— Бабушка, — тихо спросила Юлька и осторожно подошла к бабушке, — бабушка, что с тобой?!
— Юленька, утешение мое... Знай во всем чувство меры!.. Не уходи с головой в науку! Не уходи с головой в науку... И... и... Во всех отношениях... чувство меры!! О боже... Бедные, бедные мои дети... Юлька, молю тебя! — И бабушка отчаянно зарыдала.
— Бабушка!.. Я не уйду с головой. Не уйду! — клянусь! — содрогаясь от сострадания, принялась утешать Юлька. — Я... вот увидишь, увидишь, бабушка... Если хочешь, я даже могу не кончать школы.
— Глупости все, — ответила бабушка и махнула рукой. Пошла к террасе, вздрагивая на ходу всем своим грузным телом. Ее спина выражала полную безнадежность.
Они встречались на берегу реки, случалось, и под дождем. Когда шел дождь, он, хохоча, пробегал в синем толстом плаще той узкой дорожкой, которую знали только местные жители. Дорога петляла от станции до моста.
Юлька ждала его в серых коротких ботах, надетых на босу ногу, опершись спиной о дерево, раскрыв огромный бабушкин черный зонт.
К ним на дачу Толя больше не приходил. Он почему-то стеснялся мамы. Это было глупо и странно, но Юлька его не разубеждала. Так даже лучше — куда таинственней. Корни деревьев, цветов и трав не видны окружающим. Они скрыты землей. В жизни у каждого должно быть тайное тайных, спрятанное от чужого взгляда, такое, чтобы никто не мог до него дотронуться.
Они следили за дальними первыми огоньками, что вспыхивали один за другим в мутно-молочном тумане. Все вокруг было ясно и мирно даже тогда, когда накрапывал дождик.
— Как ты считаешь, — подумав, однажды спросила Юлька, — можно ли наши с тобой отношения хоть условно считать романом?
— Хочешь по правде?
— Да.
— Так вот, наверняка сказать не могу. Но безусловно, дружба.
— Мама считает, что слово «люблю» вообще как будто вышло из обихода. В ходу слова «дружба» или «я к тебе хорошо отношусь»... И еще: «А зачем слова?»
Черный грач осторожно взвился над желтой травой. По горизонту за речкой, словно стекло, дрожал и струился пар.
Юлька вздохнула:
— Я тебя сейчас на чистую воду выведу! Отвечай... Только быстро, не выбирая и не задумываясь. Назови сосуд. Любой! Только быстро.
— Ну, чайник. И что?
— А ничего. Это психологические тесты... Сейчас я все тебе объясню. Это значит: ты хотел бы казаться чайником... Вот я человек, а вот чайник... Здорово! Дальше, дальше давай... Зажмурься и назови пейзаж, и чтоб в нем водоем. И опиши мне, что там на берегах. И какого цвета. Ну! Побыстрей!
— Бассейн. Такой, как у нас на Кропоткинской, ты же знаешь. А вокруг деревья. Зеленые.
— Это значит — такой ты на самом деле. Не просачивается вода. Она отрезана от земли цементом. А зеленое — это покой... Ты человек спокойный. А теперь опиши мне комнату. Любую, какую хочешь!..
— Подожди-ка. Первое, чтобы была побольше, квадратная, очень светлая... Не такая, как у нас с мамой. Наша похожа на коридор.
— Это твоя душа! Большая, просторная... Я еще плохо могу разгадывать тесты... Это Грунин профиль. Но ее отец говорит, что тесты — пустое. Американизм.
— Если ты пойдешь на психологический, Юлька, не знаю, как ты справишься с математикой, — сказал он, жуя травинку. — Психолог — первый помощник конструктора... Ты это учла?
— Я сдам. У меня пятерка по математике.
— Пятерка, пятерка... Как будто бы в этом дело... У тебя нематематическое мышление.
— Плевать.
Помолчали.
В реке глубоко отражались берег, небо, последние светловатые полосы облаков. И вдруг зарделся алым, последним глянцем изгиб реки. И сразу словно погасла воздушная бездна. На землю легла влажноватая темнота осеннего вечера.
— А ты знаешь, что Хлебников оставил кроме стихов очень интересную и странную работу по физике?.. Один знакомый тети Веры занимается Хлебниковым, он откопал в архиве... И там, знаешь, это даже выписала тетя Вера: «Из центра круга времени исходят лучи судеб. И каждой жизни соответствует свой единственный радиус...»
— Да какая же это физика?!
— А вот и физика... Работа Хлебникова о времени.
— А может, все это проще? — ответил Толя. — Каждый, мне думается, вообще несет в себе свою судьбу... Судьба — это что? Характер и устремления... Но мысль Хлебникова «оставит след своего воздействия на земле»... Так утверждает физик Уорф. Он говорит, что мысль человека охватывает вселенную, а стало быть, материальна.
— Значит, душа бессмертна?! — быстро спросила Юлька. — Значит...
— Да ведь это Гёте еще сказал! Но он считает, что не каждому дается бессмертие... Лично я это понимаю так: бессмертие не только тем, кто построил мосты, написал «Фауста»... Бессмертие, допустим, и матерям за силу, в общем, разных переживаний... Однажды я чуть не выбил себе правый глаз, когда открывал фортку. Если б ты видела, как ревела мама!.. Так куда ж деваться такому?.. Ясно уйти в бессмертие. Каждый атом — вселенная... Космос вибрирует каждым атомом. Поэтому я уверен, что Гёте прав. Только не каждый сделается бессмертным. И... и, в общем, можно подумать, что ты не проходила в школе физику и математику.
— А при чем здесь физика и математика? Про вибрацию космоса мы, конечно, не проходили... Но я-то читала Гёте. Читала «Фауста»... Одно я знаю... Что ты живой, а значит, бессмертный. Во-первых, ты плохо воспитанный, даже грубый. Во-вторых, ты любишь поговорить. В-третьих, ты похож на себя и больше ни на кого... Ты обижаешься, лезешь в бутылку... В общем, у тебя комплексы.
— Чего-о-о?
— Ну, комплексы, комплексы... У одних комплекс неполноценности... У других... Я люблю сидеть на кухне и думать. Когда все спят. И вот я думала, думала и открыла, что бывают комплексы обреченности... Ну, Груня, Груня... Человек уверен с самого детства, что ему всегда будет плохо. И он тянет на себя это «плохо», выкликает его. И другого не может сделать счастливым... Не может. Ясно?
Толя посмотрел на нее снизу вверх смеющимися глазами.
— Юлька, мне сегодня в ночную... Пожалуй, пора идти.
Небо было уже почти совершенно темным. Из его глубин глядела вниз мягкая звездная бесконечность. Вдалеке прогрохотал поезд.
Они встали и медленно, нехотя пошли знакомой тропой к мосту. Шли, взявшись за руки, размахивая руками.
— А руки у тебя теплые! — словно сделав открытие, ошеломленно сказала Юлька.
Он остановился, вздохнул и сказал:
— Я хотел спросить у тебя... Ты только не обижайся... Ладно?
— Ладно!.. — выдохнула она.
— В общем... Можно я тебя поцелую?
— Я согласна! — живо ответила Юлька.
— А ты... ты уже с кем-нибудь целовалась?
— Сто раз!
— Здорова врать.
— А ты?
— Вот еще!.. Стану я перед тобой раскрывать душу!
...И вдруг на дорожке, ведущей к станции, возник худощавый, элегантно одетый профессор Жук. Рядом с ним в ярко-белом костюме шагала Груня. Она заметила Юльку, улыбнулась и помахала Юльке рукой.
— Де-евушка-а! — что было мочи заорал Толя. — Вы теряете поясок... — И он рванулся за Груней.
— Это гнусно, гнусно. Я всего от тебя ждала, но такого, такого... — схватив его за рукав и удерживая, сказала Юлька свистящим шепотом. Она всхлипнула и зажмурилась. — Ты... ты просто в нее влюблен! Ты влюблен, да?
— Да ты что?! Ты с цепи сорвалась? Посмотри, вон лежит в траве ее поясок...
— Пусть лежит, — сурово сказала Юлька.
— Я давно собирался тебе сказать... Только ты, пожалуйста, не обижайся. Ладно? В общем... В двух словах... Мне очень нравятся, Юлька, твои глаза.
— Молчи!
— Подожди-ка... О чем это, бишь, мы с тобой только что говорили?
— Про то, чтоб поцеловаться.
— Ах, да.
И он осторожно, едва приметно коснулся губами ее волос.
— Идем... Опоздаешь к поезду.
Они шли к поезду. Шли так долго, что Жук и его красивая Груня успели добраться до города, сесть в такси и доехать до здания университета, что на Манежной.
А Юлька с Толей все шли и шли... Останавливались, целовались.
— ...Это я исключительно ради бабушки!.. Я люблю нашу бабушку. Я ей слово... слово дала!
— Чего-о-о?
— Не уходить с головой в науку.
— Чего ты мелешь?
Впереди сквозь сосенки замаячил свет, загрохотал поезд. Его гул как будто все разрастался и разрастался, надо думать, поезд бежал под уклон.
Опустив голову, Юлька так внимательно, так прилежно оглядывала свои ботики и траву.
— Млечный Путь!.. Как отчетливо!.. Видишь? — спросила она. — Теперь я все поняла!.. Я вдруг поняла бессмертие...
И бессмертная Юлька с бессмертным Толей снова поцеловались.
А бессмертный профессор Жук шел тем временем быстрым шагом по внутренней лестнице университета, что на Манежной площади. Он кивал то вправо, то влево лысеющей головой. Коридор, по которому он шагал, был полон неясным гулом... Высокий, стройный, едва приметно сутуловатый, профессор Жук плыл, покачиваясь — от учтивости и прекрасного воспитания, среди моря маленьких и больших портфелей, причесок с шиньонами, стрижек коротких, полукоротких; волос, распушенных по плечам и кое-как подобранных одинокой шпилькой... Он плыл среди стихающих при его приближении голосов.
15
Головы наклонены. Тетради распахнуты.
Профессор сощурился, рассеянно глянул вперед на замершую аудиторию. Взглянул и медленно зашагал, зашагал, зашагал, обходя свой лекторский столик. И улыбнулся. (Быть может, сознанию своей власти над ними, пусть даже короткой.) Он шагал, чуть раскачиваясь, не замедляя и не ускоряя шага, повернув к студентам смеющиеся глаза.
— Итак, сегодня о мысли и слове... Не правда ли? Что ж... Начнем. Искомые нами внутренние отношения между мыслью и словом не есть величина постоянная. Она возникает и разрастается в ходе развития мысли и слова. Значение слова — это феномен мышления, феномен речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и ею освещена. Не так ли?..
Как тихо он говорил. Иногда, словно бы проверяя себя, неожиданно переходил на шепот. Каждый учитель знает: чем тише ты говоришь, тем верней фиксируешь внимание слушающего. Он был учителем. Он это знал.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Отношение слова к мысли и образование новых понятий есть сложный, таинственный и н е ж н ы й процесс души, говорил Толстой... То, что с точки зрения грамматически правильного языка следовало бы считать безусловной ошибкой, может, если оно рождено самобытной натурой, иметь художественную ценность, стать как бы языковым открытием, ломающим все каноны.
Полное устранение несоответствий в пользу п р а в и л ь н о г о достигается лишь по ту сторону языка — в математике. Математика — мышление, происходящее из языка, но преодолевающее его. Наш обычный, разговорный язык находится в состоянии подвижного равновесия между идеалами математической и фантастической гармонии... Это следует помнить. Знать.
У людей, находящихся в душевном контакте, возможно то понимание с полуслова, которое Толстой называет лаконичным и ясным почти без слов... Так могут быть сообщены друг другу самые сложные чувства, понятия... Не правда ли? Каждый из нас мог убедиться в этом на собственной практике.
Тишина. Студенты старательно и торопливо записывают.
— Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу... Надеюсь, друзья мои, поскольку все мы во взаимном контакте, все ясно для понимания и на более популярном разъяснении этой мысли мне останавливаться не следует.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не школа, само собой разумеется. Но к концу его лекции внимание все же легонько ослабевает.
Трудно писать, писать, неотрывно писать, и, совмещая это, глядеть на лектора, и, совмещая это, ловить его шепот. И настораживаться во время частых коротких пауз, которыми он, чтобы подхлестнуть напряжение, то и дело перемежает речь.
...Мечется взад-вперед по аудитории и едва приметно раскачивается между грифельной доской и плотно закрытой дверью. Верхняя губа, легонько вздернутая над выступающими вперед зубами, делает его насмешливое лицо похожим на лицо мальчика.
Головы студентов наклонены. Мелькают руки. С досадой отшвыривается карандаш — он исписан... Другой карандаш.... Самописка! Интересно, когда в ней успели усохнуть чернила?
— ...Итак, смысл Земли — это солнечная система, которая дополняет представление о Земле; смысл солнечной системы — Млечный Путь, а смысл Млечного Пути... Это значит, что мы никогда не знаем полного смысла чего-либо и, следовательно, полного смысла каждого слова... Слово — неисчерпаемый источник новых проблем. Смысл слова никогда не является полным... В конечном счете он упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом...[5]
Звонок.
Когда студенты хлынули на улицу из здания университета, уже зажглись огни.
Остановитесь! Гляньте на площадь... Движение одностороннее — по ту сторону площади мелькают красные глаза непрерывно следующих друг за другом машин. Фейерверк хвостовых ярко-красных огней, проносящихся возле самой земли. Машина, еще машина... Поток немигающих красных глаз.
И чуть влажные мостовые. С чего бы? Ведь дождь как будто нынче не шел?..
Это осень, осень. Вот и вся недолга! Поэтому влажные мостовые.
Они разбредались группами, парами. Очень разные. Одетые красиво и одетые кое-как. Студентки вдумчивые, в беретах, нахлобученных низко на лоб; студентки чуть легкомысленные, без шляп и косынок, с распущенными (распатланными) волосами, как говорят старики.
В основном красивая молодежь, загорелая после летних каникул.
— А Булгаков все-таки гениален! — рассеянно сказал студент своей спутнице и огляделся вокруг, размахивая, портфелем.
Ушли. Растворились в потоке улиц.
Двое, выйдя из университета, зашагали молча, в сторону Театральной площади. И вдруг он выдохнул, как бы борясь с собой:
— Нет!.. И откуда ты только взялась такая?!
— Мне хорошо с тобой.
— Наконец мы с тобой вдвоем.
(Юлька!.. Где Юлька?!)
Центр города тонет в потоке скрещивающихся огней. Зеркало тротуаров слепо вторит световой желтовато-красной мелодии большого города.
...А на даче темно. На даче свет вырывается из одного-единственного, хорошо знакомого нам окна. Он слаб, однако совершенно самостоятелен: «Пьет из маленькой рюмки, да из своей».
Человек, которого зовут Юлька, сидит внизу и не зажигает огня. Человек этот занят. Он занят по горло: человек «мыслит» (занятие не бросовое, почтенное, трудоемкое)...
Хорошо, что ей не дано быть подвижной, как мысль. Что бы она, бедняга, сказала, если б подслушала высказывания студентов? Вся эта группа лиц была бы ею тотчас причислена к лику кибернетических, не способных к великому феномену самостоятельного мышления, отражение которого — великий феномен: слово.
...Юлька на даче. Затаившись, она смотрит в окно.
Начал накрапывать мелкий дождь. Каждая его капля, ударявшаяся о землю, пела свое, как умела и как могла. Но общий смысл этой неожиданной дождевой мелодии было — счастье. И Юлька запела себе под нос серенаду Шуберта. Это было ее величайшим секретом. Как только она находилась в состоянии внутреннего подъема, она мурлыкала про себя эту очень красивую серенаду.
«Ля-ля-ля-ля!» — заходясь от восторга, пела про себя Юлька.
«Ля-ля-ля-ля!» — старательно исполнял для нее дождь.
Дождь и Юлька заняты. Оба поют.
Вернемся в город, к университету, что на Манежной.
Две студентки. Одна легонько прихрамывает. Она держится за локоть своей подруги. Глаза сощурены, лицо бледно и сосредоточенно.
— Я все поняла теперь... Я все поняла!.. Почему я тебе говорила, что мне как будто требуется переводчик?.. Видишь ли, я исхожу из того дурацкого положения, что мои разъяснения совершенно излишни, как будто бы говорю с самым близким мне человеком и все само собой разумеется из подстрочия... Разъяснять мне стыдно: это неуважение к собеседнику, к аудитории...
Девушка с юношей.
— И повсюду, повсюду, — жалуется она, — эта чертова математика. Можно с ума сойти!.. Как джинн из бутылки: «слово» — и на тебе, математика... Изволь со мной объясняться только «на уровне гармонии математической»... А может быть, я привыкну?..
Двое студентов.
— ...Ночью у меня бывают минуты, когда как будто бы стены поют... То есть не то... Что-то поет внутри меня... Можно, я тебе прочитаю?
— Валяй читай.
На улицах города, в скверах и переулках шла своя жизнь. Открытая и затаенная. Жизнь страстей, человеческих темпераментов, радостей, горя, надежд, примирений, смирении и отсутствия желания смиряться и примиряться.
Загорались окна домов.
...Вон окошко третьего этажа. Стол, а за столом мальчик. На столе перед мальчиком каша.
— Ешь кашу. Кашка хорошая, мой дорогой, — сказала бессмертная мама бессмертному мальчику бессмертнейшие слова.
А вон окошко в высотном доме. На подоконнике сидит кот. (Самый красивый из всех на земле котов!) Маленький, а усатый. Кот умывается. Он мечтает о сапогах. Современных, высоких... На прочной молнии.
Окно и еще окно...
По комнате шагает удивительный человек: он кончает книгу, сильно устал и ничего вокруг себя не видит, не замечает. Ходит взад и вперед мимо письменного стола, нечесаный и в халате. Он думает свою думу.
«С тех пор как пришла и ушла война, — так думает человек, — люди видели много горя. Их не поразить никакой холодностью, жестокостью и бедой. Поразить их можно, только напомнив, что на свете есть забытые, простейшие поговорки, вроде: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь»; «Жизнь прожить — не поле перейти»; «Страху на служи — не наслужишься».
Додумав до этого очень умного места, человек рассеянно почесал свой нос и решил воспользоваться правом поэта — оттолкнуться от земли пяткой. Так он и поступил: оттолкнулся от коврика расшлепанной старой туфлей и полетел, полетел над городом. Долго ли он летел, сказать затруднительно, однако прилетел в пригород и заглянул в окно, за которым сидела Юлька.
— Здравствуй, юность! — сказал он Юльке.
— Здравствуй, юность, — ответила Юлька, которая сразу его признала, несмотря на то что он был нечесаный и седой. — Объясни-ка мне наконец, что такое вечность?
— Ты, кажется, думаешь, Юлька, что я все знаю? А я ничего подобного... Я темный, могу ошибаться и заблуждаться.
— Неправда! Ты совершенно белый, седой, — рассердившись, сказала она.
— Это частность, девочка. Просто я все на свете пытаюсь увидеть сверху, как с самолета... И вот я предполагаю, верней, догадываюсь, что бессмертие — это большие, зрелые чувства... А? Как по-твоему?.. Да, между прочим, Юлька, можно я почитаю тебе стихи? Я их подслушал нынче около университета, что на Манежной.
— Валяй! — сказала Юлька и терпеливо подперла кулаком щеку.
Он закружился перед ее окном так бойко и непоследовательно, что ей показалось, будто это гнутся и шевелятся ветки в саду.
КОЛОКОЛА
...И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...
Зависть? К кому?.. К чему? Но ведь его уже больше нет.
Никогда это не было завистью. Обычное чувство обиды, что ли...
Он был лишен самостоятельности мышления. Человек для него определялся степенью удачливости, и, пожалуй, больше ничем. Но если б ему такое о нем сказали, он бы стал хохоча отмахиваться. И все это — развалясь в кресле, и все это — глядя на тебя холодными маленькими глазами, глубоко спрятанными под чуть набрякшими веками. А говорил он очень своеобразно: роняя слова, иногда убыстряя речь (почти что захлебываясь), но никогда не повышая голоса. Тон, вернее, мелодия выражала неосознанную небрежность человека преуспевающего, который умеет жить (а другие вот не умеют. Бьются, бьются, ан не умеют).
Тем не менее он был способен и преклоняться и удивляться. Попросту где-то тайно неуравновешенный, он уважал силу: не сочувствовал мужеству длительных, упорных усилий, потому что они не вели к победе, которую можно тут же увидеть и оценить. Не любил он душевной смятенности, не желал сострадать отчаянию. Он был, однако, умен. И я желала его сочувствия, хотела быть понятой им, оправданной, несудимой.
Но полюсными людьми мы все ж таки не были: родились с интервалом лет в пять, на одном и том же юге нашей страны, в одном и том же портовом городе.
А город этот — особенный, совершенно неповторимый, город-оригинал. Правда, он до того затроган, что о нем не принято говорить. Что ж поделать! Не повезло. Родилась я именно там, но никогда не осмеливалась петь свою дорогую родину.
Наглый мой город-порт дал стране выдающихся холодильщиков, мукомолов и музыкантов. Он солнечен, поэтичен, воспет (увы! все решительно в нем воспето, вплоть до его «биндюжников»). Мой город балует и баламутит своих детей. А, как известно из наук, называемых психиатрия и психология, избалованные дети склонны до конца себя проявить: крылья у них не подрезаны, — вот в чем дело!
Далеко за плечами нашими клубятся детство и юность. Далеко за плечами нашими — летнее солнце, напевность речи и узкие, глубокие, что ли, дворы, не похожие ни на какие дворы и дворики. (Уж это точно! Уж это так!)
Но речь не о городе. Речь — о нем.
Нет! Подождите-ка, подождите... О нем и о городе.
Наша общая родина тем характерна, что, вечно помня о ней, ее дочери и сыны покидают ее, чтобы никогда обратно не возвращаться.
Мы встретились в Ленинграде.
Звонок. Шаги, — замедленные, чуть шаркающие, тяжелые, — они выражают печаль.
Стук в дверь.
Вошел, садится.
При свете настольной лампы отчетливо видно, что лицо его не только задумчиво, но и немного одутловато.
Молчит, вздыхает и вдруг принимается говорить. Он говорит небрежно и вместе сосредоточенно, словно бы сам прислушиваясь к каждому слову. Говорит, перебивая себя характерным: «Ты понимаешь?!»
Из соседней комнаты, где няня и мой сынишка, слышатся шум, пререкания.
Войдя, он оторвал меня от бессрочной моей работы, я вынырнула из света настольной лампы, вздохнула, пошла к печи.
Грею о кафель спину, ладони и слушаю, слушаю... Я люблю слушать.
Сидит, развалясь в кресле, глубоко сунув руки в карманы, толстый и снисходительный. Сквозь ботинок заметно, что и стопа у него очень плотная — стопа большого, тучного человека, заключенная в тюрьму потертого замшевого ботинка (ботинки всегда бывали потертые, — уж это так!). Вставал, потягивался. Снизу я видела его подбородок. Мы жались друг к другу у печки, молчаливо, скорее в мысли, а не в объятии.
Тек дальний свет из-под абажура на моем рабочем столе. В соседней комнате падали с тихим стуком на пол детские башмачки.
Прижавшись к нему, я улавливала медленные, тягучие удары сердца. Похоже на звук прибоя: отступ — шум; отступ — шум.
— Ты сегодня много работала?
— Да. А толку?
— Нет уж, не говори.
Тебе легче, чем мне! (Так думаю я.) Ты вынырнул, как «Аполлон из пены»[7], из звуков своего города. Тебя бил кулаками твой преподаватель музыки — наш бессмертный земляк. Он тебя запирал с твоей скрипкой в уборную. Ты сопротивлялся. И тебе, как всегда, везло. Ленивый, ты не был способен на горькое трудолюбие, не заделался скрипачом. Ты стал сочинять музыку.
Я помню, как все вы — юные музыканты — бродили жаркими летними вечерами, пропитанными тошнотворными, кружащими голову запахами увядших акаций, по улицам нашего дорогого города. Помню южное небо, бархатное и низкое. У тех звезд — не правда ли? — свой язык. И отнюдь они не планеты, а метины ваших первых влюбленностей.
Эй вы, ребята, мои земляки, эй вы, известные на весь мир музыканты! Эй вы, табуны молодежи, у которой в правой руке поскрипывали футляры от скрипок!
Выкрики наших неповторимых сограждан вырывались на улицу из раскрытых окошек.
— Ах, чтоб ты сгорела! Сдохни. Сдохни сию минуту!
И одновременно из этих же окон вылетали на те же улицы гаммы, ганноны. Город взбесился: здесь учили музыке шестьдесят процентов детей. (И все играли «Молитву девы»!)
Ты, дорогой земляк, — продукт безумия нашего города, его честолюбия, его деловитости. Время пришло, и ты стал торговать музыкой.
Как-то поутру — я у тебя ночевала — ты в отчаянии мне признался, что сейчас придет исполнитель песен, у которого ты ухитрился загодя перехватить денег.
Я тебя побыстрей заперла в уборную.
— Нет его! — сказала я вокалисту, пришедшему требовать свою песню. — Его вызвали в филармонию.
— Буду ждать, — угрюмо ответил мне вокалист.
И стало похоже, что тебе предстоит до конца твоих дней просидеть в уборной.
— Он есть! — заорал ты весело и беспечно и, заколотив кулаками в дверь, выскочил из уборной и подал певцу готовую музыку к его песне.
Помнится, на радостях мы с тобой побежали в кафе. В ту пору его называли «Нордом».
Ты не был беден, как оно полагается поначалу.
— Я задумал дельце, — так ты мне говорил. — Скуплю-ка я у тебя рассказы, а через десять лет на них заработаю. Ты согласна?
Люди смеются над неправильной речью жителей нашего города.
А моим ремеслом стало слово.
Моему ремеслу не учат. Каждый сам себе консерватория, филармония и оркестр.
«Эй-й! Женщина? Вы сюда ногами пришли?»
«Чего-о? Ах, да... Поняла. Нет, женщина, я приперла сюда руками».
Была молодость. А я, увечась, падая и вставая, перла все вверх и вверх по лестнице трудолюбия.
Меня ругали, возвращали мои рассказы...
Однажды мать сказала при мне:
— Как возможно, чтобы у человека решительно не было самолюбия? Объяснили, что не хотят! Объяснили и раз, и два... Так нет же!.. Она все лезет, лезет и лезет.
Но ведь я не выбирала своего ремесла! Это оно тихонько подкралось ко мне и схватило меня за горло.
Мы бы́ли бедны.
И вот, как истинный сын моего дорогого города, земляк приносил подарки моему мальчику. Выхватив подарок из его больших, толстых пальцев, ребенок семенил тупыми ножонками по длинному коридору: он бежал, чтоб похвастаться — показать соседям подарки.
Однажды земляк не принес подарка: забыл. Ликуя, выбежал мальчик навстречу ему. Он глядел вверх, приподняв большую, круглую голову. Вишневый взгляд его замирал. Сияющий, он соединялся с холодным, ленивым и умным взглядом взрослого человека.
— Ай-ай-ай! Прости, я забыл!..
И вдруг он вынул из бокового кармана крошечный носовой платок ярко-красного цвета.
— Вот. Заказ-экстра. Беги. Покажи соседям.
И малыш доверчиво побежал, топоча тупыми ножонками, показать соседям хорошенький «экстерный» носовой платок.
Годы шли, и прошла война.
— Мы сохранили твой письменный стол, — сказали соседи. — А твои бумаги пожгли. Мы отапливались буржуйками.
— Очень прекрасно, — ответила я. — Я для того писала свои бумаги, чтоб бумаги согрели вас.
— Ты что? Контуженая?
— Не контуженая, не раненая, целая и живая.
И я снова исписывала бумаги.
А земляк тем временем уже стал москвичом, приехал в командировку и завернул к нам на огонек.
Пустой была моя комната. Пустой и голой. В соседней — не слышно дыхания, не топали удалые ноги. Тихо было... В той комнате теперь гулял ветер. Бомбежкой выбило стекла, а новых не было.
...Мне бы хотелось сказать о том, какой люди изобрели удивительный сантиметр для измерения человеческого страдания. Странный был сантиметр. К кому ни приложишь — выходит, твой сосед, он больше страдал. Но приложи сантиметр к другому — и так обернется, что его горе ничтожно по сравнению с горем соседа.
Вот и пошел гулять сантиметр, вспыхивая от боли в руках того, кто его держал. Вспыхивая, но не сгорая.
Дверь распахнулась. Я встретила своего земляка оборвавшимися рыданиями.
— Его нет!.. Он умер. От тифа, — сказала я.
Мой земляк был демобилизован, так же как мой сосед. (Мой земляк, мой сосед и каждый третий на нашей улице.) Каждый привык к страданиям, к зрелищу ранений, смертей... Мой земляк сказал мне лениво:
— Все та же комната. — И: — А ты все такая же, неуравновешенная! Даром что фронтовичка... Однако не постарела, не постарела. Поди сюда!
И он жестоко и неожиданно попытался меня привлечь.
Одну минуту... Сейчас, сейчас.
Ведь кому-то я это должна сказать!
Мой сын любил машины — легковые и грузовые. Он говорил мне: «мама». На ногах у него были коричневые чулки в резинку. Теплыми были ноги.
И до сих пор не поняла того, что со мной случилось.
Но, может, сучка, лежащая со своими щенятами, когда-нибудь осторожно лизнет меня в щеку и во влажном движении ее шершавого языка будет ответ, которого я так жду?..
Я с детства, признаться, очень люблю собак. Говорят, что это психологический признак будущего гуманитария: человека, профессия которого станет гуманитарной.
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ
— Стыдно признаться, но сколько раз я стоял под ее окном, по другую сторону улицы. Окно загоралось. Я успокаивался, но странная какая-то досада одолевала меня. Вместо того чтоб быстро подняться наверх и позвонить в дверь, я продолжал стоять напротив окна. Я глядел зачем-то на зажегшееся окно, как будто оно меня утешало. И вдруг однажды я понял, чего хочу. Я хотел ревновать. Стыдно, но признаюсь: я хотел ревновать. Если б я увидел рядом с ее маячившей за окном фигурой другую тень, другого, шагавшего по комнате человека, — я, понимаешь ли, умер бы тут же, на месте. У меня сделался бы инфаркт. Я сел бы на что попало посреди улицы. Ноги бы не стали меня держать. От одной мысли об этом меня прошибал ужас. Начинало громко и тошнотворно сердце стучать. Самому смешно. Так чего ж я хотел? Зачем стоял напротив ее окна? Вот то-то оно и есть, что я боялся измены и жаждал ее. Черт знает какая мерзость! Какая пакость человек!
Иногда мне казалось, что она не может меня любить. Но она любила меня. Я это знал... Бывало, зажмурюсь, когда сижу с женой и детьми за обедом, хочу, пытаюсь себе представить — как это возможно меня любить? Немолодой, толстый.
«Что ты скривился, как среда на пятницу? — бывало, спросит меня жена. — Что за дикая у тебя манера бледнеть и жмуриться, как будто сейчас ты в обморок упадешь!»
Я опоминался и хохотал.
Ничего подобного смолоду я не испытывал. Такое смятение чувств, такой страх ревности и вместе жажда, что ли, страдания.
Я стоял напротив ее окна. Меня толкали. Люди возвращались с работы — час пик. Все — с работы, а я как пень посреди мостовой, на улице, с поднятыми глазами.
Что бы стало со мною, если б она от меня ушла? Разлюбила б, ушла? Нет! Представить страшно. Я бы умер. Нет, положим, не умер бы... Все же — дети, как тут ни говори, я — отец.
Но вот душила меня эта дикая, страшная мука, о которой нельзя никому сказать. Не воображение — а прямо черт те что за метафора!
...Все это происходило в Москве. Я перебралась в Москву. Я стала москвичкой. Он снова сидел напротив меня, как прежде, там, в моем ленинградском доме, и говорил, говорил, говорил.
А я — слушала. Что ж поделать? Слушать — моя профессия. К тому же он меня никогда не спрашивал — хочу ли я слушать. Ведь он объявил меня своим лучшим другом!
— ...Понимаешь? Тьфу... Я вдруг, ни с того ни с сего, пытался себе объяснить: ее нет! Ее больше нет. Все вокруг превращалось в тоску. Уйдет она — я буду ночью, тайно и одиноко разглядывать потолок.
«Тебе не спится, — скажет жена встревоженно. — Неприятности в комитете? Дать валидол?»
А я буду лежать со своим ответом, ложью и мукой, со своим отчаяньем, один — посреди темной ночи, посреди города, посреди земли. Во всем мире, на всей планете — ты понимаешь? — ни единого человека, который мне бы мог ее заменить. Среди толпы, на улице, где столько народу, — она для меня одна. Моя мука, мой человек. Мой свет и мое тепло, моя жизнь и мое крушение... Никогда я так не любил. Может статься, это «под занавес»? Черт его разберет.
(Я молчала.)
— Ты мой ближайший, мой верный друг. С тобой одной я могу говорить.
(Объяснение в дружбе! И при этом — какое странное. Не клялся, что он мне друг, а уверял, что я его верный друг, которым на самом деле я не была.)
Нагл и холоден. К тому же чисто русская у него слабина: грешить с аппетитом и раскаиваться с удовольствием. Между тем его говор сохранил певучесть нашего дорогого города — певучесть юга.
...Погрузнел за годы. Да уж куда там было грузнеть?! Заграничный, плохо выутюженный костюм чуть не лопается по швам. А хозяин костюма — небрежен, как бы ленясь и жить, и дышать, и думать.
Он мне чужд со своими выпадами, недостойными умного человека.
— Мы пишем музыку. Музыкальная комедия репетирует... Раз, два! Премьера. И надо выходить кланяться. Маета!
Говорит — и жгучий, беглый, быстрый взгляд в мою сторону, в сторону человека, который медленно, тяжко продирается вперед без всякой тропы.
...По его понятиям, я теперь уже женщина немолодая. Как и он, я не считала себя молодой, но жила во мне гармония возраста. Уходящую молодость я не оплакивала — без того хватало забот.
И все же я не желала терпеть бестактность и жестокость, когда тебе объясняют, что молод другой. Не желала я этого, потому что самолюбива.
Глянуть бы хохоча в его маленькие, умные, сощуренные глазенки.
— Ты мой единственный друг! (Неужто?.. Как бы не так!)
ВЕЧЕР ВТОРОЙ
— Удивительный она человек, пристала: как бы эдак хоть на минутку, хоть мимоходом увидеть твоих детей... Раз спросила и два...
Я, будь дурак, сгреб ребят в охапку и в цирк... В воскресенье. Днем.
Между прочим, не помню, ты не видала моих удальцов? Да, да, про Эдика я тебе говорил... Ну да. И тебя, и кого только мог, и себя изводил изрядно... Помнишь, я себе отчего-то втемяшил в голову, что одно у меня желание, чтоб утром проснуться, лежать в кровати, а он потихоньку, совершенно самостоятельно! — толк двери, — и ко мне, и сказал бы: «Папа!» Можно подумать, я первый в мире совершил это величайшее изобретение: стал отцом.
Когда он еще был малыш — с одним-единственным зубом, я не в состоянии был от него оторваться.
Поверишь, терял элементарное чувство юмора, превращался в клоуна, завывал от умиления и любви.
И девочку я, понимаешь, тоже люблю совершенно особенно. Бедняжечка, она на меня похожа. Не повезло... Люблю, но прошла та первая свежесть отцовских чувств, то ли я молод был, то ли привык к этому иррациональному, из ряда вон выходящему обстоятельству... Безумие. Вдохновенная физиология!.. «Отец», понимаешь...
В общем, сгреб я ребят и — в цирк. Она сидела в кресле наискосок. Передать не могу, какое было у этой девчонки странное выражение, когда она разглядывала мою пухлую, розовую Наташу. Такое лицо, как будто ей в первый раз открылись, ну, скажем, Средиземное море, Кипр, Крит... Она их разглядывала очень внимательно, пытливо. Дрожали ноздри (нос у нее сильно вздернутый), ноздри будто бы говорящие: чуть что — раздуваться. Не нос — а выразитель душевного состояния. Для нее ребятки мои — были мной.
И что вы за люди такие, женщины! Черт вас знает!
Я накупил им яблок и эскимо, несмотря на запрет мамаши. Наташке — четыре воздушных шара... Не утренний поход со своим дорогим «папулей», а — оргия утоления желаний. Бесчинство! — по три порции эскимо!
Кувыркался клоун. Увидел меня, узнал, кивнул, задудел на трубе отрывок из моей оперетты. Я, понимаешь, не мог понять, как мне следует реагировать — поклонишься, чего доброго, а он — раз! — и запустит в тебя своей кепочкой... И вот он на меня, понимаешь, глядит своими грустными, серьезными глазами, обведенными розовыми треугольниками — а я — на него, из своего ряда. Эдакий поединок «взоров». Кончилось тем, что я нелепо расхохотался.
Забыл, между прочим, тебе сказать, что она, — надо же, право, такое стечение обстоятельств! — как моя дочка, тоже была Наташкой.
Так вот мои обе Наташки увлеклись представлением: Наташка маленькая — акробатами и канатоходцем, а Наташка большая — Наташкой маленькой. Так и светились глаза. Две кошки. Младшая — толстая, а старшая — так себе.
Но вот, к моему удовольствию, разряжается напряженная обстановка, настает перерыв, и я волоку свою ребятню на конюшню, подальше от Наты-старшей.
Как тебе передать, что такое антракт (цирковой антракт) в воскресенье днем? Абсолютное, бездумное счастье, пронизанное громким чавканьем, хрупаньем (это лошади, они закусывают морковкой) и воплями: «Ой, мама! Ой, папа, нет, ты смотри, смотри!..» И я, понимаешь, смотрю и вижу — рядом Наташка-старшая. Вышла-таки, чертовка, за нами следом. Стоит и держит в руках морковку.
— Папа!.. Папа! Эта тетя меня толкает. Ой, папа! Она меня, чесны-слово, погладила... Па-папка, скажи ей, пап-ка-а.
— Хорошо, скажу... Прошу вас, ведите себя прилично, гражданка! Не гладьте мою Наташу.
Даже она растерялась: замерла. Опустила глаза, чертовка.
И, дойдя до этого места, он захохотал. Так искренне и раскатисто, как хохочут только жители нашего дорогого, ни с чем не сравнимого города. Похохотал, обтер оба глаза клетчатым носовым платком и осел в своем кресле, о чем-то задумавшись.
Потом без всякого перехода подошел к моему пианино и принялся потихоньку что-то наигрывать одним пальцем.
— Расстроено! Как ты можешь играть на таком инструменте? Вызвала бы настройщика.
Лицо разгладилось, стало грустным. Глаза закрылись. Между бровей появилась складка. Сумерки поглотили пиджак, как будто лопающийся по швам, в сумерки ушли его большие, толстые руки, только лицо светлело — слепое лицо с закрытыми, дрожащими веками. Маска из темной глины — она выражала скорбь, напряжение.
Удивительный человек!
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ
— Не имею понятия — красивая она или нет. Ты же знаешь, я в этом не разбираюсь. Двадцать четыре года, лицо совершенно обыкновенное, вот разве что нос: говорящий нос с раздувающимися ноздрями. Сперва я думал, что у нее хоть фигура хорошая! Но как-то глянул пристально, — она как раз шагала навстречу мне, — маленького росточка, ни толстая, ни худая. Поразительная походка: она резко и живо отбрасывает ступни. Что-то в ней было клоунское.
И чудаковато, признаться, все у нас началось.
Собрались мы как-то вечером в ВТО — наша пожилая компания... Скучно — все те же привычные разговоры, переливание из пустого в порожнее.
Кстати, помнишь Дулицкого?.. Знаешь, знаешь... Не можешь его не знать... В этот вечер я как раз показывал за столом фокусы. И вдруг он прищурился: «Ловкость — единственное, чему я завидую в вас!.. Ваша ловкость воистину поразительна!»
Ладно. Допустим. Я не считаю себя бессмертным. Я — трезв, трезв! Но у меня дети! Это ли не богатство? Он, право, мог хоть этому позавидовать... Да и кто он сам, по правде-то говоря?
Я был задет. Но не выдал этого. Стало как-то еще скучней и безрадостней. Коньячок и расхолаживающие, опустошительные, никчемные разговоры... Ощущение, понимаешь, как в доме отдыха: вечер долой — вот те, знаешь, и слава богу!
И тут как раз мы видим Тарлецкого — известного трепача и бабника, направляющегося к нашему столику в сопровождении двух девчонок (поклонниц, — так следовало понимать). В этот вечер он проигрывал наверху свои песни. Видно, девчонки отпочковались от публики, из числа слушателей.
На вид — студентки. Общий облик — живой и цветущей молодости. Одеты скромно, как и подобает студенткам... Это почему-то выглядело непривычно, молодо и свежо... Удивительное несходство с обычными нашими дамами. Большинство из них, понимаешь, актрисы. Там все наперед известно! (Сама понимаешь, в театре все-таки кое-что от меня зависело.)
В глазах у девчонок выражение любопытства и поклонения. Когда я назвал себя, обе тотчас вспомнили мои песни. Для них я был мэтр, шаман, бог... Все мы — пожилые (а многие чуть плешивые), скучающие, утомленные и чуток пьяные — были в их глазах колдунами: людьми, творившими музыку, стихи, спектакли... Из мира сказочного, блистательного...
Черт возьми!
Как только девушки подсели к столу, все оживились разом, принялись острить, соперничать в остроумии. Фейерверк, фейерверк острот!
Обе смеялись, были оживлены, впечатления «забитости» — никакого. Напротив, я сказал бы, самоуверенности. Девчонки, видно, привыкли к уважению своих студентов.
Обе оказались филологами — будущими учителями. Одна из них (Наташа) сидела подле меня. Уж так получилось само собой, — я этого не «подстраивал».
Глаза у нее светились прелестным, юношеским выражением счастья. А нос — с раздувающимися ноздрями!.. Презабавный, право же — презабавный нос.
— Разрешите вам предложить карту?
— А нельзя ли без карты! Мне бы — пирожное!..
— А сколько примерно штук? — спросил я очень серьезно, желая смутить ее.
— Штук шесть! — сказала она с надменнейшим выражением. (Умна, чертовка!)
Принесли пирожное.
Она занялась пирожным и не принимала больше участия в разговоре. Как она ела! Облизывалась, вздыхала от наслаждения. (Ясное дело — на стипендию не разъешься.)
Одно, два, три... Я был заинтересован, чем это кончится! Не выдержал — и принялся хохотать!.. Она подхватила. (Умна, чертовка!)
Кончилось тем, что девчонка съела все шесть пирожных.
Я не выдержал. Я сказал, сохраняя серьезнейшее выражение:
— Наташа, развейте мою творческую печаль! Разрешите вам предложить еще десять пирожных!
— Спасибо. Лучше кофе-глясе.
Я снова весело рассмеялся. Вторя мне, она тянула кофе-глясе. Подняла глаза и глянула на меня насмешливо. (Ей заказал, а себе не заказывал. Она сочла меня чудаком.)
— А не прихватить ли, делом, с собой полдюжинки пирожных с заварным кремом?
— Пожалуй. Для ваших детей и жены. Каждый ценит внимание. Верно?
(Умна, чертовка!)
Мы вышли на улицу. Глаза ее выражали дерзость и радость.
«Что она знает такое, чего не знаю я?» Скука — мой постоянный вечерний спутник.
— Наташа, — спросил я шепотом, — признавайтесь! Вы знаете петушиное слово?!
— Знаю, — шепотом сказала она.
— Подарите мне это слово!
Она глянула мне в глаза, молча, пристально и внимательно.
— Уйдемте, — сказал я ей, повинуясь сам не знаю чему. — Уйдемте!
И мы ушли. Ушли, разумеется, не попрощавшись, незаметно свернули за угол.
— ...Чем же мне вас занять?
— Не знаю.
— Наташа! Давайте сыграем в одну удивительную игру: притворимся, что я ваш давний возлюбленный, что все между нами сказано. И... и знаете ли, перейдем на «ты».
— Идет! — сказала она, рассмеявшись, не удивившись.
(Видимо, из молодых, да ранних.)
Я живо остановил такси, сел, однако не подле нее, а с шофером.
— Не гоните, пожалуйста...
— Ладно. Авось не переверну.
Одиннадцатый час. Вся Москва — в огнях. Вечер еще не полный, небо, знаешь ли, совершенно светлое. Фу-ты ну-ты — огни, огни! Я — молчал. И вдруг заметил, что начал в и д е т ь... Я видел, понимаешь, все, решительно все, что делается вокруг. Молчал, как зарезанный. Боялся утратить это чувство прозрения. Да, да, вот именно!. И всему-то я радовался: сумеркам, лучикам коротким и длинным, бегущим от задних фар легковых машин... Повернулся ключ от шкатулки, где осталась моя сумасшедшая молодость — со всем тем особенным, выборочным, забытым, чего забывать нельзя.
Проклятье! Собачья старость!
Где оно — то бессмысленное, глупейшее ликование?! Огни на пристани... Нет, ты помнишь, как слегка покачивается пароходик или баржа и огонь ложится в черную воду, дробясь, дробясь?!..
Я забыл в этот час, что редко людям дано увидеть, ну, скажем, березу. Сотни, сотни берез. И вдруг, понимаешь, вот она! Вот! Со своей корой белесой, покрытой проплешинами, со своей смолянистой каплей... А закаты? Сколько раз в жизни каждый из нас увидел закат? Нет, скажи!.. Сотни, сотни закатов! И вдруг — на тебе! Закатище. С багрянцем, с заколдованной тишиной неба. А?..
Я — прозрел. Я стал молод. Как это случилось — не разберу!
Мы вылезли из машины. И она, — очевидно, не в силах так долго сидеть спокойно, — понеслась вперед в своих маленьких, бескаблучных туфлях... Ноги — детские. Полные. Совершенно детские!..
Мы стояли у Воробьевых гор. Внизу — Москва. Огни... Ну и что?! А ничего! Событие!.. Огни, огни... Понимаешь; я чувствовал, что сияю, как хорошо начищенный самовар. Она заразилась моим волнением, была весела, проста.
— Неужели все творческие люди так эмоциональны? — приставала она ко мне.
Ее лицо с падавшими на щеки темными, прямыми, коротко остриженными каштановыми волосами едва освещал фонарь. Но я видел блеск ее оживленных глаз, улыбку. Улыбка взрослая, лукавая, я бы сказал, совершенно женская.
Мы бродили почти всю ночь. И откуда только достало у меня сил?
Устал, однако. Но все вокруг продолжал в и д е т ь. Все. Даже ранний рассвет. В Москве я видел его впервые. Как хочешь, — хоть верь, хоть не верь, пожалуйста!
...Что ж я утратил такое, а? Что обронил бесценное? И когда?
Проводил ее, понимаешь, и, как мальчишка, поцеловал в парадном.
Шел домой и плакал, плакал от счастья, старый дурак.
Я думаю, что любовь — досуг. Она требует времени, простора, отсутствия забот... В тех, разумеется, случаях, когда она сама не является первоочередной заботой: например, заботой нормальной девушки выйти замуж.
Любовь — достояние молодости. Лишь юность наделена великими силами жизни. Редко в юности заботы бывают сверхмерными; горести — сокрушительными; безденежье — унижающим. Поэтому молодости естественно отдаваться чувству любви. Для любви есть силы и есть простор.
В пожилом возрасте, — если ты заморочен тревогами, если ты отец или мать и болеют дети; если ты должен думать о том, чтоб обеспечить семью; или если ты человек гармонический и, любя работу, полностью отдаешься ей, — вряд ли твои голова и сердце будут заняты мыслью суетной, о влюбленности. Как вообразить себе, скажем, крестьянина, работающего в поле по многу часов, многодетного и семейного, у которого голова забита любовью?
Как вообразить пожилого рабочего, согласного подработать, у которого голова забита влюбленностями?
Любовь — досуг.
Если книгу, над которой ты работал не один год, зажимают в издательстве и у тебя нет денег, чтобы заплатить за квартиру, чтоб справить шубу, а главное — душа твоя в великой тревоге — тревоге за дело жизни, — на кой тебе любовь? Не до любви.
Только в состоянии беззаботности, уверенности, что сыты дети, что жена на месте, как стол или стул, а работа оставляет много досуга, — душа твоя мечется: подавай ей, видите ли, любовь!
Как ум созревает лишь в состоянии покоя, дающего простор мысли, так в состоянии довольства в пожилом возрасте создается та почва, из которой может произрасти «любовь».
Недаром нынче не век любви. Эпоха войн и революций. Эпоха больших тревог, время — совести, время горечи и... забот. Наше время — время героев, оно не время любовников. Недаром так ропщут женщины: не всякая связь — любовь; душа остается неутоленной.
Поэтому, когда он сидел, насупившись в кресле, как всегда, глубоко засунув руки в карманы, и говорил, говорил, говорил... о любви, — толстый, большой, со вздыбившимися, небрежно зачесанными волосами, с полными губами, выдающими чувственность, и маленькими глазами, пристальными и умными, — я над ним смеялась.
Он рассказывал «своему ближайшему другу» — о фанаберии, о своей любви к молодой женщине. Но эту придурь я-то считала причудой барской.
И откуда берут странное право — с женщиной, которую любили прежде, — разговаривать о новой любви?
Как люди умеют списывать свое прошлое; как могут не уважать его — словно дворник с метлой в руках, выметающий двор от старых бумажек.
Что за странное свойство душевной памяти, в которой нет уважения к пережитому.
И кто дал право кому бы то ни было считать ту женщину, которую прежде любил, своим нынешним другом? Словно большое можно заменить меньшим, оставшись при этом другом?
Только тот, пожалуй, сумеет это, у которого есть в запасе известная доля холода и цинизма.
— ...Понимаешь?.. Я шел домой сквозь ночь и плакал, плакал, старый дурак.
ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ
— Как рыба, первый клюю на хорошего червяка и воображаю, что я в этом мире единственный. Ни разу я не влюбился в женщину, обойденную домогательствами других. И все же каждый раз я думаю, что открываю Америку. А она была до меня открыта.
Молодость. Звонки по телефону, хохот, придурь и беготня в кино. Подруг — табуны; мальчишек — толпы! Все невинно вполне, но разве я к изменам ее ревновал?!
Больше всего я ревновал к юности — к тем интересам, которые были как бы отроческими.
По воскресеньям она с ребятами ездила к своей бывшей школьной учительнице. «Тимуровцы!» — смехота... Они мыли полы, весной копали грядки... И все это, понимаешь, весело, оживленно, радостно. Однажды я ей сказал: «Не кажется ли тебе, что ты выросла из одежки Тимура? Ты — женщина!»
— Тимур жил в твои времена! Он устарел — Тимур. — И вдруг с той великой запальчивостью, к которой я еще не успел привыкнуть: — А совесть?! Если твой Тимур — это совесть, так знай: я никогда-никогда не вырасту из одежки совести.
Вспыльчива она была необыкновенно... И были у нее своеобразные щупальца такта, на то направленные, чтоб не поставить себя в положение ложное, не дать коснуться столь умело оберегаемого ею чувства собственного достоинства. В этом смысле она была поразительна, гениальна. Хохочешь? Что ж!.. Уверяю тебя, она существо с секретом — в ней сплетение силы и мягкости, она несколько высокомерна, но с этим как-то удивительно сочетаются чувства долга, товарищества. Типичнейшая студентка: вожак. Одно только непостижимо: каким образом эта девчонка досталась мне?
— Понять не могу, как случилось, что ты полюбила меня. М е н я! Опомнишься — поздно будет! А? Как по-твоему?
— Не опомнюсь. А если опомнюсь — поздно не будет. Я... я, понимаешь? — любуюсь тобой. Не смейся!.. Люблю за то, что ты так здорово над собой смеешься... За ум. За мягкое обаяние!.. За мудрость, богатство души... За талант. Молчи! — а я слышу, слышу... С тобой мне весело, я наполнена. Никто бы не мог мне тебя заменить. А кроме того — ведь случается, что человеку посреди улицы на голову упадет балка? Разве логика и любовь — синонимы?
(В высшей степени лестное определение для возлюбленного! Что мне было на это сказать?!)
— Я мучаюсь! Ты терзаешь меня, — не выдерживая иногда, говорил я ей.
— Мучайся, мучайся, мой родной! — отвечала она сияя.
Дар какой-то был у этой девочки человеческий. Талант обуздывать... Ей ничего не стоило, например, вдруг заплакать от растроганности и любви. Лицо — неподвижно (даже ее говорящий нос). А из рыжих глаз, больших и добрых, безостановочно бегут слезы. Да так, понимаешь, ловко, что не краснеет нос. Как было ее не любить, как было не испытывать перед ней угрызений совести?
Но я ревновал! Ревновал к их книжкам, к их необеспеченности, к их рваным ботинкам... К тому, что они табунами шлялись по вечерам где-нибудь около Воробьевых гор. Я ревновал к речному трамваю; к гаму и шуму, который они порождали в доме Наташи.
Ее родители жили под Магаданом, присылали ей, сколько могли... Девчонка вот уж шесть лет как снимала комнату, — была вольна и свободна — свободней любой студентки.
К Ленинской библиотеке я ее, видишь ли, ревновал тоже! И там они окопались. В перерывах между занятиями, собравшись группками в коридорах, лягали друг друга, видимо для разрядочки! Все вокруг шикали, а им — наплевать. Похохочут — и снова к столам.
Я шастал, старый дурак, по «Ленинке», разыскивая ее. Представить трудно, как надо мной глумились, должно быть, ее ребята: толстый, старый. По-оклонник! Дед!
Я искал ее в этих залах и, случалось, чувствовал себя таким злосчастным, таким потерянным. Мне было ясно, что все это стыдно, стыдно... Но я метался опять, опять и клялся себе больше не делать этого никогда.
Кончилось тем, что меня, уже знала вся книжная выдача в библиотеке. И я, чтобы чем-нибудь внутренне оправдать себя, занялся потихоньку историей музыки.
А как бессовестно, сукины дети, они меня выставляли!
— Папочка! Накорми нас, пожалуйста. Мы — голодные.
И я вел их вниз и заказывал харч, а они не стеснялись, нет! Они хапали апельсины, по три порции сосисок, по три порции расстегаев. Это бы длилось до бесконечности, если бы не встревала она: «Знаете ли, довольно, ребята! Вы не верблюды, чтоб три дня потом переваривать!»
Я помню вечернее освещение в «Ленинке» до того, как зажгутся лампы. Широкий, дневной полусвет: московский. Он смешивался для меня с удивительным чувством потерянности, с тем, что медленно, устрашающе медленно, билось сердце, когда я ее находил не сразу.
Ряды голов. Стопки книг. Раз! — и лампы зажглись на столах. Обхожу ряды по второму разу. Вот она! Вот ее склоненная голова и прямые волосы. Сосредоточенно грызет самописку, пальцы в чернилах. Она! Ликование подступало к горлу... «Ты, ты!»
Я подходил осторожно, бережно. Теперь мне некуда торопиться. Нашел. Разыскал. Как я мог ее не заметить сразу?!
Протяну руку, осторожно положу на учебник. Она обернется живо!.. Глаза сияют. Лицо освещено радостью. А я ревновал ее — старый, старый дурак! Лицо, глаза ее выражали такую искренность чувства, такую степень влюбленности и особенной какой-то человеческой, н а ш е й близости, что я зажмуривался. Моя рука на ее раскрытых страницах. Наклонится и быстро, прикрыв лицо волосами, целует руку. Мою! Неслыханно... Дорогая, родная, счастье! Изюминка в каравае!
И я ее ревновал к экзаменам, к зачетам, к ее волнениям, встречал ее не раз у входа в университет. Кто-нибудь думал небось: «Сумасшедший отец. Поджидает дочь».
Да, да... Я ждал ее — свою дочь. И понимал сразу, по выражению глаз, как моя дочка сдала экзамен.
Но мысль о том, что эти экзамены принимали профессора, — мысль недопустимая, неприличная, неуместная, — заставляла меня страдать. Я ревновал ее не к факту возможной влюбленности в старшего, а к восхищению, которое она, быть может, испытывала перед талантом лектора-педагога. Я ревновал ее к ее живости, смеху, снам, лыжам. Ведь не мне за ними увязываться!.. А? Как по-твоему?! Я — южанин, ты знаешь, что все мы — лыжники отнюдь не первостатейные... Ну, а ковылять рядом с ними — эдакому толстому, пожилому, — скажи-ка, это ли не безумие! Смеху, смеху не обобраться! Я и не ездил, хоть она меня и звала.
И вдруг я, понимаешь ли, вспомнил, что я тоже спортсмен. Ну да! А как же? Пловец. Ведь наше детское, чуть ли не врожденное умение хорошо плавать имеет свой современный клич: зовется как? Спорт!
Прелестно.
Я стал водить ее на Кропоткинскую в бассейне
Выйду, бывало, из раздевалки, поднырну под перегородку... Вокруг — хохот, визг, улюлюканье (и тут, разумеется, молодежь!).
Музычка смешивается со светом прожекторов, на мосту, над нами, троллейбусы — такие крошечные... Вокруг — город... Над бассейном — белесый пар.
Уходила в темную воду тяжесть моего «бренного» тела, я становился легким. Пушинка! (Вспомни-ка закон Фарадея, вот-вот!)
Где она? Вот она... Не она. Где же она среди множества этих юных голов, среди одинаковых купальных шапчонок? Где она? Вот она. Не она...
Где она?
Она!! И я обнимал ее мокрой рукой, как принято там у нас. И отфыркивался наподобие тюленя, и учил ее плавать! Эврика! Она плавала много хуже меня.
Плывем. Она неумело дрыгает в воде ногами. «Энергичнее! Веселей!» А над головами нашими белый пар, и никому нет до нас решительно никакого дела... Мягка хлорированная вода, прожектор — красный, синий, зеленый — старается во всю мочь.
— Ты счастлива? Я хорошо придумал?
— Ты все всегда хорошо придумываешь!
— Знаешь что? Выходи. Довольно. Ты посинела!
— Вот еще! Сам давай выходи!
А еще, понимаешь ли, я попытался ей подарить музыку. Уж это вышло, поверь мне, как-то само собой. При моем эгоизме я, право, понятия не имел, что это за своеобразное счастье что-нибудь отдавать другому... Может, такое приходит с возрастом? Кто его знает? Я, разумеется, меньше всех.
...Видишь ли... Одним словом, ее, так сказать, музыкальный уровень... неприличие. Анекдот.
Сперва, любя ее, я хотел поделиться с ней содержанием своей жизни, отдать ей то, в чем я был силен. Как ни говори, но я все же профессиональный музыкант с детства.
В общем, я начал водить ее на хоры в Консерваторию (опасался показываться внизу. Простейшая деликатность: увидят — скажут жене. Зачем причинять ей ненужную боль?.. Я все же хоть изредка, а щадил ее).
Сидели рядом... Я словно бы забыл о ней... Руки не протягивал, чтобы дотронуться до нее. И вот случилось, что музыка стала ей медленно открываться. Да с какой, понимаешь, силой... Оглянулся однажды: она вся замерла, на глазах слезы!.. А через несколько дней говорит: «Помнишь, как мы были с тобою счастливы, когда играли Бетховена?»
Удивительный она человек! Нет, ты пойми... Большинство женщин щедры и великодушны. Мы этого не заслуживаем... А в эстраде и оперетте... Одним словом, опять-таки кое-что от меня зависело. Среди молодых актрис многие были очень изящны и привлекательны. И дело, если хочешь, вовсе не в молодости ее! Случалось, я проклинал эту молодость. Мирился с ней, как с изъяном, с ее пороком. Прощал, так сказать, в смирении любви. Нет! В ней жила, понимаешь ли, какая-то удивительная сверхсила. Сила «переключалки». Что бы она ни делала, чем бы ни занималась, она отдавалась этому вся, целиком. Веселится с ребятами — так уж веселее всех; слушает чье-нибудь признание, так уж всеми своими глубинами, с такой силой отдачи, что на глазах слезы... Если занималась — то вся уходила в книгу; копала грядки у старой учительницы — становилась школьницей; слушала музыку — так вся растворялась в ней, перерожденная, замершая.
Нет-нет!.. Удивительный, богатейший, сильный она человек. Поверь!
Я ее со временем как бы вовсе перестал видеть, только то и знал, что это о н а. Ей не приходилось держать экзамена передо мной. Напротив, это она меня держала на поводу, совершенно к этому не стремясь. Легко, беспечно, походя... Я ведь, ты знаешь, я ли устойчив в чувствах?! Я холоден, — это для нас с тобой не секрет. Большую силу нужно, чтобы так глубоко уязвить душу... А ведь я действительно потерял счет времени.
В общем, я ввел ее в подтекстовый, что ли, звук своего тайного существования. Ты знаешь, я не люблю о музыке говорить... Считаю это кощунством. Да и о чем говорить? Так просто: музыка — это музыка.
— На! Вот ключик.
— Какой? Откуда?
И вдруг поняла, догадалась, что это ключ от моей страны. Молча спрятала заколдованный ключ за пазуху.
Слушаю, сижу рядом с нею и чувствую ее подле... Вот она! В простом платьишке, которое сшила сама; в лакированных бескаблучных туфельках, которые я ей купил, когда мы однажды шли по улице Горького и я каким-то наитием затащил ее в магазин.
Получив коробку с туфлями, она как будто сомлела от радости, посерьезнела, прижала ее к себе. И вдруг привстала на цыпочки и поцеловала меня — совершенно так, как это бы сделала моя дочь.
— Это ты-то старый?! Я много старше тебя, ничего ты не понимаешь! Толстый? Будь, пожалуйста, еще толще, а то мне страшно... Эта... Она красивая? Ну та, что премьерша... В твоей оперетте? Знаешь!
Я хохотал, польщенный, обласканный.
«Ревнуй! Очень правильно. Там только о том и думают, как бы свернуть мне шею!»
Как я томился, когда приходилось по вечерам оставаться дома! Не то чтобы я непрерывно по ней скучал. Попросту душа была лишена покоя: «Где она?! Что она?!»
Замечала ли моя дорогая жена, что делается со мной? Она умна, молчалива, ничего никогда не выдаст.
— Что ты куксишься?! Походи, прошвырнись немного. Тебе это, право, будет к лицу.
— Папочка, я с тобой, — говорила моя Наташка и тут же за мной увязывалась.
Она всегда была очень ласковой, кроткой и тихой девочкой. И сильно меня любила... Пройдет, бывало, по коридору — полненькая (если не сказать, чтобы толстая), маленького росточка... И плюх! — с разбегу прижмется лицом к моему животу. Сверху я вижу ее пробор, дорогие коски с темными лентами. Девка моя дорогая.
Положу ей руку на голову, чтобы услышать ее ласковое тепло.
«Люблю тебя, моя толстая, мой дорогой пухляк, колобок!» А у ладони, что на голове моего ребенка, своя жгучая память о прикосновении другом, о тепле знакомом, о коротко стриженных, зачесанных за уши волосах. Я закрывал глаза и вздыхал: «Наташка! Шибзик. Моя погибель!»
— А чем я твоя погибель?! Чем? Чем?..
— Ты не дочка, а лепетуха, — хохоча, отвечал я ей. — И вовсе ты папу не любишь. Нет!
— А вот и люблю, люблю!
— Прекратите эту любовную серенаду. Дай ей готовить уроки. Она — лентяйка, — спокойно, бывало, скажет жена. — Наташа!.. Меньше слов — больше дела: у тебя сочинение, а время — девятый час.
Дети ложились спать, и мы оставались с женой одни. Молчали. К счастью, то и дело звонил телефон, я подолгу трепался, о том о сем.
Иногда, понимаешь, я вглядывался в лицо жены.
Не знаю — красивая она или нет? Вкус у меня сумасшедший, я в этом особенно не разбираюсь.
— Она красивая! — живо вмешалась я. — Красивая удивительно. Красивая и достойная.
— Да. Я знаю. Ее трудно не уважать. И, видимо, хороша собой... Когда я увидел ее в первый раз, там еще, в нашем городе, — я как-то вдруг потишел, остолбенел, что ли.
Было лето. Она сидела на подоконнике, спиной к улице, и читала книгу. Мы вошли (я и ребята, которые меня привели с собой). Она отложила книгу и медленно, медленно улыбнулась навстречу мне. Не знаю, по какой сумасшедшей ассоциации, я тут же поклялся себе: «Эта девушка будет моей женой». И лучшей жены нельзя заказать, сочинить, придумать. Друг, безупречная мать, товарищ... И верила она в меня слепо — неведомо почему. В мой талант, в мои нереализованные возможности. Говорила настойчиво, что я себя не полностью выражаю, что не следует постоянно думать о деньгах, о машинах, дачах. О деле! А не о деньгах.
Вот так... Не помню, чтоб в доме у нас когда-нибудь повышали голос. Дети — чудесные, оба рисуют. Способные — замечательно. А сын вдобавок красив: в жену.
Музыкой я не пожелал, чтоб они занимались. Я этому воспротивился. Должно быть, наперекор своим юношеским и детским воспоминаниям. Не люблю свою юность! А ты?..
Подожди, подожди-ка, сейчас наберу воздуху. Шло время. Прошло два года. А я — дурак! — все еще был влюблен. И неизвестно было, и страшно подумать, чем это кончится!
Иногда я опоминался, и мне становилось страшно. Ведь это человеческая судьба, а я — женат, у меня — дети. Я, разумеется, никогда ей не обещал оставить своих детей. Да и она бы этого не приняла. Хорошая она девка.
Как же быть? Как быть?.. Я старался представить себе свою маленькую Наташу, выросшую и вдруг, ни с того ни с сего, нырнувшую в тот же омут. Во мне поднималась волна безотчетной ненависти к тому, кто б осмелился тронуть мою девчонку — толстую, кроткую, беззащитную! Это был, по моим понятиям, растлитель! Я бы убил его и плакал от жалости к дочери. Я бы небось принимал валидол, жена, страдая, меня бы еще по ночам успокаивала.
Допустить, что это могло бы вдруг оказаться любовью со стороны моей выросшей дочери, — я не мог. Никакая грязь не ассоциировалась с чистотой и невинной кротостью моего ребенка.
Грязь?! Какая?
Безумие!.. Разве моя любовь не сама чистота, вдохновение, святость? Разве ее любовь не безмерно искренна?
Зачем я нужен ей?! Для того, чтоб ее терзать? Разве могли обмануть меня ее взгляд, ее робость, нежность, улыбка?..
Когда я желал ее и тянулся к ней, лицо ее выражало такую смиренную, робкую радость! Как передать это сосредоточенное и вместе детское выражение ее глаз, глядящих из-под бровей?! Полуулыбку, движение ее рук — навстречу мне?! Великая святость желания, принесенная к ногам того, кого любишь. Смесь желания и сострадания... Покорность старого сенбернара и набегавшие на глаза слезы.
Вот и все!! Впереди — обрыв. И полет. И дыхание, которое обрывается.
Да что это я говорю такое?! Ты уж меня прости. Подожди минуточку: я отойду к окну. Сейчас, я сейчас... Видишь, как я развинчен, в каком я чертовом состоянии?
Ну вот. Прошло.
Я, как всегда, понимаешь, ничего не пытался решить. Ты-то знаешь меня, собаку... Жил. Просто жил, боялся ревности и хотел ревновать и жаждал душевной боли, чтобы не уходила острота чувств. Потому что все я мог представить себе — любую меру своих мучений, только не то, чтоб я разлюбил ее!.. Как мне это тебе объяснить?
Хорошо. Ладно: допустим, ты хочешь есть. «Сейчас мы кнопку нажмем, — предлагают тебе ученые, — и вы больше не будете голодны».
«Да не желаю я вовсе, чтоб вы нажимали кнопку! Не нужна мне кнопка! Я жрать хочу. Или быть голодным...»
Скажи-ка, ты поняла?
А как же! Поняла.
Все, решительно все на свете — здоровье, силы, отличнейший друг-жена, удача, материальная обеспеченность, прекрасные, сильные, счастливые дети...
Все! Все! Все! Плюс любовь!
А не хотите ли пирожков с бархатом?
Нет?! Ага-а... Ревновать хотите: чтобы немного перчику в это блюдо отменных харчей.
...Любовь. Она дается нам от избытка довольства или от заложенных в человеке сил. Эти силы зовутся: молодость.
Любовь, даже самая униженная, несчастная, все же — л ю б о в ь.
Не рак. Не ампутация конечностей, не хроническая болезнь сердца.
Это было во время войны. Он заболел корью. Мы жили в проходной комнате, спали на топчане.
Ночью он мне сказал, что у него болят уши. Мы с ним промаялись до утра. Когда стало светать, я спросила: «Чего ты хочешь: чтоб я продолжала с тобой сидеть или ты полежишь один, а я пойду поищу доктора?»
«Доктора!» — подумав, ответил ребенок.
Я вышла на морозную улицу.
Урал... Город Пермь.
Куда идти, где разыскивать ушника? Все специалисты были мобилизованы — работали в госпиталях, служили фронту.
Я шла и плакала от слабости и бессилия. На ходу застывали слезы, смерзались ресницы, я не могла разлепить глаз.
— Гражданочка, отчего вы плачете?
— У меня заболел мальчик. Осложнение на оба уха.
— И не стыдно вам плакать из-за эдаких пустяков? На передовой погибают люди! А тут... Ну пусть он, скажем, даже лишится слуха. Это не смерть, и глухой живет! Столько женщин лишилось своих детей! А вы плачете... И не стыдно?!
В тыловом госпитале работал ушник-профессор. Я робко сказала, зачем пришла.
— Транспорт! — ответил он.
Какой, однако?.. В тыловом городе, где мобилизовали все легковые и грузовики? Лишь трамваи катили по улицам. Но для профессора трамвай, не более как трамвай, — не транспорт.
По мостовой лениво ехал возница на дровнях. Я обхватила его шею руками, прижалась мокрой щекой к его бороде.
— Ладно. Будет скулить. Садись.
И мы договорились о том, что я расплачусь хлебом.
Он подъехал к госпиталю.
Профессор вышел на морозную улицу, в шубе, в бобровой шапке. Увидел дровни, крытые грязной соломой, и задумчиво пожевал ртом.
Я сорвала платок с головы и быстро, угодливо прикрыла клочья соломы. Стояла, заглядывая в глаза старику.
— Наденьте платок! — сказал он сердито.
— Нет!.. Нет.
Возница медленно покатил к воротам нашего дома!
А ведь я была молодая, красивая, полная великих сил. Так, может, было мне до любви?
На улицах меня останавливали солдаты, они пытались со мной знакомиться. Ко мне приставал молодой хозяин, у которого мы снимали койку.
Где же был во мне тот простор, та сила, что отпущены для любви?.. Там были они, где очереди за хлебом. Моя любовь была способна на воровство. Любовь исступленная — та, что сильнее смерти.
...Лет через десять по окончании войны я оказалась по делу в глазной лечебнице.
С верхнего этажа по лесенке осторожно спускалась пара: девушка и молодой парнишка — сестра и брат.
Мальчик был высокого роста, стройный. Глаза его были затянуты бельмами.
Оба плакали.
Когда-то (экая давность!) в эвакуации он заболел корью. Ему было два года, и он ослеп.
Сестра приехала в столицу из дальней провинции и устроилась подавальщицей (для того чтобы вызвать брата). Дети были сиротами войны.
И вот они тихо спускались с лестницы. Врач сказал, что дело мальчика безнадежно.
Они шли к выходу по длинному-длинному коридору. Им давали дорогу. Люди расступались, подавленные. Дети шли сквозь коридор слез, сквозь коридор молчаливого человеческого сочувствия...
— ...Я любить хочу! А вовсе не перестать любить. Жрать хочу или быть голодным.
Скажи-ка, ты поняла?
— А как же!
— ...За ней, понимаешь, много ухаживали. Естественно, ведь она была молода. Особенно был влюблен в нее один морячок из нашего города, — надо же, право, такое стечение обстоятельств. Понимаешь, один из тех идиотов, которые посылают по поводу каждого праздника поздравительные открытки!
«С Восьмым марта. Желаю здоровья, успехов в работе, хорошего настроения».
Но он был молод и был красив.
«Наташа! Почему ты колеблешься? Кроме этого — пожилого, толстого, я у тебя никого не вижу».
«А между тем он твой единственный настоящий соперник».
«Не может такого быть!»
Время шло. Ей надо было решать, решиться. Решать за меня и себя.
И она решила:
«Дорогой!.. Закрой-ка глаза! Садись. А теперь слушай. Ты слушаешь? Я выхожу замуж».
«Наташа-а-а!»
«Ну?»
Я сказал: «Хорошо! Но подари мне только еще дней двадцать... Ладно! Пятнадцать... десять... одну неделю!»
Я превращался в нищего.
И вдруг она уронила голову на руки и заплакала. Это решение, видно, и ей далось нелегко. Ведь она все же меня любила.
Как вы, однако, практичны!.. Если это любовь. Конечно, в высшей степени неумно остаться без мужа ради своей любви. Конечно, очень подло и неблагородно предать детей, покинуть жену, которая тебя полюбила, когда ты был еще беден, молод и был никем.
Все так.
Но как же быть-то и что бы в этом случае сделала я?
В ее случае, разумеется, осталась бы без мужа... А в его?
Здесь ответа нет, как не будет и нет ответа для меня, человека с особым, алогическим воображением, — на то — простое, куда девались лудильщики и шарманщики, бродившие когда-то по нашим дворам. Я готова думать, что они проживают теперь на луне, на той сторонке ее, что не видна с планеты Земля. Там, шатаясь меж ледяных сопок, они, как прежде, поют: «Лу-удить-паять» или «Гляжу на ваш я патрет, а вас в живых уж нет...»
Но человек побывал на луне и не нашел там ни одного шарманщика, ни одного лудильщика. Значит, вопрос исчерпан. Вернее, остался по-прежнему для меня неясным и нерешенным.
Так куда же девалось то, что так отчетливо живет в моей памяти? Заунывные песни наших дворов?
А где булыжные мостовые, по которым когда-то ездил на «штейгере» в нашем далеком городе мой красавец отец, с той девушкой, которую звали Мэя?.. Куда девалось южное молодое солнце и любовь, освятившая его молодость? А куда девались усы отца — лихие, закрученные кверху усы?
А где моя бабушка — папина мама, со своим коричневым, темным лицом? А где мое детство? Где солнце моего детства?
Все то же оно?
Да нет. Ушло. Просочилось сквозь пальцы желтыми каплями. Уж это я знаю верно.
От детства осталась привычка задавать себе те вопросы, на которые ответить нельзя.
Однако речь здесь не обо мне. О моем земляке, ведь так?
Первый час. Возвратимся к его рассказу.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕЧЕР ПЕРЕШЕЛ В НОЧЬ
— ...Ты ведь знаешь, — зачем мне лукавить перед тобой? Я и вообще-то прижимист... Да! Что ж греха таить.
И на эту свою любовь я денег жалел.
Я так, понимаешь, пытался себе это истолковать: она — молода, не хотелось бы, чтоб у меня сложилось ложное впечатление, будто она корыстна.
Но это был сущий вздор! Бескорыстна она была совершенно — я это знал. Дело было в другом: во-первых, я и вообще-то изрядно прижимист по отношению ко всем, кроме своих детей и какой-нибудь одной-единственной женщины... В данном конкретном случае этой женщиной была моя личная, уважаемая супруга... Я израсходовал на свою неожиданную любовь столько времени и душевных сил, что не хотелось бы к этому ко всему вдобавок отбирать у них хоть часть материальных благ. Очень стыдно, но ничего не поделаешь.
В таком духе, в таком разрезе.
Но и это, однако, кончилось, понимаешь? Черт наступил мне на хвост. И я сделался с нею щедр... Под занавес, так сказать.
Решил: старею! Это в последний раз.
Итак, мы сидели в международном вагоне и ехали, куда ветер дует — в Прибалтику. Направление ветра я обдуманно выбрал заранее — перед тем как отправиться с нею в это первое и последнее путешествие.
Сидели, молчали.
Она была ошеломлена (должно быть, ее смущала роскошь вагона. Первый раз в жизни ей приходилось ехать в международном). Положила друг на друга милые, полные; в щиколотках, детские ножки, в тех лакированных туфлях, что я ей купил тогда. Глаза светились любовью, растерянностью. Может быть, ей казалось, что все это не на самом деле, — раз-два! — проснется и никаких тебе путешествий?
Я от нечего делать ее тихонько разглядывал и в первый раз, понимаешь, сообразил, что очертание ее рта выражает жесткость. Она была как бы воплощением мягкой женственности, — все! — локти, руки, прямые пряди волос, которые она имела привычку то и дело прочесывать пятерней. Откуда же это жесткое выражение рта? Как я мог его раньше не замечать? Она — решительна. Но мне в голову не приходило, что она, быть может, жестока.
— Люблю.
— А я... — так она мне ответила, будто переводя дух. Мы были заперты в нашем первом общем, крошечном, покачивающемся на ходу доме, — отрезанные от мира, от будущего, от прошлого.
Поезд бежал и бежал, само собой разумеется. Люди ехали в командировки, разгуливали по платформам, пили чаи, закусывали.
...Чистые, светлевшие рельсы впереди нас, как серебряные шпагаты; огни, огни из черноты ночи.
Я закрывал глаза, я пытался вообразить: «Это всего лишь ты и твоя любовь... Но вокруг — Вселенная! Стоит ли расстраиваться из-за вздора и пустяков». Однако эти рассуждения совершенно не помогали: я не философ, ты знаешь, — я эгоист... Вселенная, то бишь звезды, мне представлялись кремушками, и словно бы мне лет шесть, я пристроился на ступеньках, на черной лестнице в нашем дворе, и подкидываю вверх эти кремушки. Я их швырял, а они возвращались и обжигали мне пальцы, как горячие угольки. Нарушение реальности, хоть завой наподобие собаки! Веселое путешествие.
И ни с того ни с сего я от тоски, что ли, — эдакий, видишь ли, пожилой Ромео! — хлопнулся на колени. Я целовал ее полные, кроткие руки, жался глазами к ее подолу... Клетчатая юбчонка. Студенческая. Было в ее одежке что-то обезоруживающее, трогательное, совершенно детское.
— Встань! — нахмурив брови, сказала она.
Принесли чай. И вот мы с ней принялись распивать чаи в нашем новом доме. Она хозяйничала. Как странно она хозяйничала! Эти руки, которые я так знал, — маленькие, короткопалые и широкие — играли кусочками сахара в синих обертках (точно так, как я в воображении играл раскаленными кремушками).
Наигравшись, она их медленно распаковывала, поддевая ногтем обертку, потом поворачивала ложку в моем стакане.
— Можно, я еще позвеню?
— Звени, дорогая. Звени!.. Ты и так звенишь.
Звон ложек, отстук колес.
Борьба, тщеславие, столкновение самолюбий, тревоги, успех! Что это значило по сравнению с ее прямыми, коричневыми волосами, улыбавшимся ртом, очертанием полудетских щек? Что это значило по сравнению с прелестью ее студенческого, старого свитера и ее короткой юбчонкой?
Она была широка в бедрах, узка в плечах.
И вдруг я заплакал. Не то чтоб навзрыд... Нет, нет. Прослезился (надеюсь, не чересчур для нее заметно). Это были слезы глубокой горечи и полноты счастья, чего-то, что на меня накатило и что я вроде прочно забыл, а оно пришло. Может, я бежал ей навстречу от обглоданных камешков нашего берега? Бежал, орал, искал и томился?
Помнишь, как наше море по ночам бело и густо фосфоресцирует?.. А скалы у берега, уходящие в черноту?
Все мечты, все предчувствия, вся выпитая водка, все происки честолюбия, — все к этим детским, полным ногам... Чтоб умереть, раствориться, сгинуть, начать сначала... Заиграть, понимаешь, гимны!
Подожди, пожалуйста. Ошалел! Сейчас. Сам не знаю, по правде, что нынче со мной творится.
В гостинице нам сообщили: мест нет.
Я прошел к директору, продемонстрировал свой союзный билет с эффектной надписью: «композитор».
Впечатления никакого. Мест нет. (Ночуйте на мостовой.)
Тогда я резко к нему наклонился и спросил, задыхаясь:
— Скажите-ка, вы любили когда-нибудь?!
В первую минуту его лицо не потеряло надутого выражения. И вдруг — он не выдержал, рассмеялся.
— Ах, бедный, бедный Ромео! (Так он, видишь ли, негодяй, обозвал меня и с выступившими на глазах от смеха слезами, все еще хохоча, соединился по телефону с администраторшей.)
Да никакая это, поверь, не была у меня истерика! Она и рядом не ночевала. Попросту иногда от ярости срабатывает наше знаменитое портовое хулиганство.
Два номера.
(«Любовь туда и любовь сюда», — как в нашем городе говорят, однако Ромео с Джульеттой не зарегистрированы. Вот так!)
Мы отперли двери нашего дома. Седьмой этаж, гостиница новая, окна без переплетов... Внизу — сугробы и маленькие дома с островерхими крышами, с чуть намечавшимися в синеве трубами.
Что за чудо? Как оно странно заколдовалось?
— Есть хочу, — сказала она.
Я обрадовался... Жизнь продолжалась: она хотела есть.
Мы вышли на улицу, наугад побрели по городу. (Уж так ли, признаюсь тебе, наугад?! Я слышал, что в старой части этого города есть корчма.)
Я знал в ней живость молодости, радостную, мгновенную, что ли, особую быстроту реакции... Одним словом — дело не хитрое: она была впечатлительна чрезвычайно.
Я сыграл робость, как настоящий актер, толкнул полукруглую дверь харчевни. Двери были окованы жестью и медленно поддались.
— Куда ты меня ведешь?
— Но, по-моему, ты хотела есть?
От входных дверей в глубь самой таверны вели длинные полутемные коридоры. Электричества в помещении не было. Во всяком случае, его не пускали в ход при гостях.
Собственно корчмой оказалась очень большая, простая комната с выбеленными известкой стенами, со звериными шкурами, растянутыми вдоль лавок. Но входящих поражал свет. На некрашеном, примитивном столе горели свечи; в камине, — неплохая, я бы сказал, имитация под старину, — потрескивали дрова. Полутьма от этого освещения не рассеивалась, напротив, казалась гуще, рассекалась дрожащими всполохами непривычного для современного глаза красного пламени. Оно освещало лица тех, кто сидел на лавках. Пламя колебалось от любого движения, дыхания. Огонь, понимаешь ли, озарял глазницы и лбы. Поэтому лица посетителей, сидевших у некрашеного стола, были словно бы иссечены тенями.
Свечей очень много: по две у каждого прибора (не так, как дома, когда хозяйка вдруг затеплит в подсвечниках две жалких свечи). Здесь создавалось впечатление своеобразного коридора, состоящего из огней. По стенам ходили тени: голов, плеч, рук. Тени! Никогда мы их больше не видим дома по вечерам.
От горящих в камине дров бил желтый огонь. Оттуда тоже бежали всполохи — то более бледные, то как будто бы набиравшие силу. Тут же, на полу, понимаешь, великолепная старая кочерга! И откуда только ее добыли?! Не кочерга — класс.
— Куда ты меня привел?
Я — ни слова: молчок, как будто бы потерялся. Она крепко схватила меня за локоть. Я вздохнул. (До сих пор не знаю, как хватило силенок не рассмеяться.) Оттого, что в харчевне не было привычно яркого света, люди разговаривали, словно бы не решаясь дать голосам волю. Кружки постукивали днищами о некрашеный стол. Посетители жались друг к другу на длинных лавках (стульев в харчевне, само собой, не водилось).
— Присядем?
Она робко кивнула. Едва держалась от удивления на ногах.
Бесшумно ступая, обслуживали посетителей подавальщицы. Но, нарушая, видишь ли, общую гармонию старины, весьма современно позвякивала касса. Они выполняли план: кассирша — по-видимому, ударник труда — энергически отбивала чеки.
В кувшинах на общем столе был грог, от которого валил пар. Тут же — квас в высоченных кружках. Он отдавал тмином.
Я, словно решился, попробовал: очень вкусно.
— Хочешь?
— Нет. Не хочу.
...На старинных тарелках из обожженной глины современные кавказские шашлыки с луком, нарезанным толстыми ломтиками.
— Ты ведь очень хотела есть?
— Мне... мне, кажется, расхотелось.
Бедняжке было не до еды.
Чего греха таить, — впечатление удивительное, я даже не ожидал. Будто это корабль со своей давно затонувшей командой, оживающей по ночам для того, чтобы пировать — проделывая все одно и то же сначала, опять сначала, чтоб утром кануть в смерть — уйти на дно моря (как оно и полагалось в сказке).
Чудеса! Спектакль. Великолепнейшая подделка.
Я вроде бы сам поддался наваждению, очарованию. Вглядеться бы! Нет ли здесь людей, по старинке обутых в деревянные башмаки?
— Что будете есть? — спросила шепотом подавальщица. — Шашлыки? Или фирменное блюдо — колбаски старых охотников?
— Фирменные колбаски! — решившись, выдохнула она.
Нам принесли колбаски. Вернее — две пылавшие тарелки, обильно залитые спиртом.
— Мешайте! — сказала шепотом подавальщица. — Колбаски должны хорошо прожариться.
Мы покорно переворачивали колбаски — блюдо старых охотников... И было нам так, как будто пламя сделалось нашей обыкновенной пищей. Не хлеб — а пламя! В таком духе, в таком разрезе... Спектакль, спектакль.
...А грог, между прочим, надо отметить, много пьянее водки. Коварный грог. Я этого не подрассчитал, опьянел с ходу и стал ей, бедняге, нашептывать неведомо что:
— Мы давно, понимаешь, давно здесь жили вместе, Наташа. Жили, жили и умерли. Мы сюда шагнулииз прошлого, дорогая моя жена! Разве на площади ты этого не заметила? Не узнала нашей ратуши и наших часов?
А наш булыжник на мостовой?! Ты просто меня забыла. Мы уже прожили вместе с тобой одну жизнь.
И осторожно, пьяно я целовал ее. Она, опьяневшая, завороженная, не отталкивала меня. Невесть что я ей громко шептал — перерожденный, безумный, помолодевший. Она хохотала тем милым, счастливым кошачьим смехом, который я так люблю у слегка опьяневших женщин.
Я жадно ел колбасу. Запивал ее грогом. А в промежутках, словно это само собой разумелось, целовал ее брови, ресницы. Охотничья простота нравов!
Свечи желтым отблеском освещали ее раскрасневшееся лицо.
Все жарче потрескивали дрова.
Я взглянул на нее. Лицо испуганно, щеки прямо-таки горят.
— Ты пьяная?
— Нет. Нисколько. Я... я... мне стыдно сказать: я счастлива!
(То-то, милая!.. Я этого и хотел. Отправляйся теперь к своему моряку, в его будни, скуку... Зато он молод! А?!)
Никто не обращал на нас никакого внимания: каждый за этим столом был занят собою.
Все вокруг — не больше чем декорация... Но разве моя с ней жизнь со вчерашнего дня была чем-то большим, чем актом пьесы? Комедии?! Да. Пожалуй.
Раздалась музыка. Наивная и, я бы сказал, фальшивая. Звук флейты (под старину) и тоненький, спотыкающийся голосок скрипки.
Я был изрядно пьян. И вот, понимаешь, со мной случился один из тех припадков «нашей», так сказать, типично «нашей» портовой абанковости, отчаянности, дурацкой эксцентриады... Валяй! Разворачивайся, комедия.
Я вскочил. Я вырвал скрипку из рук скрипача... Было похоже, что я собираюсь ее разбить. Но я спрятался за флейтиста и начал стыдливо ее настраивать.
Плохая скрипка. Мне помнится, что я морщился. Сыграл отчего-то одну из тех наивных импровизаций, с которых начал, когда мне было лет десять.
Дурак! Я словно орал, возвращаясь к прошлому. Глаза я, однако, закрыл... Как тут ни говори, а, пьяный, я снова держал в руках скрипку.
Сперва флейтист пытался поспеть за мной. Но я летел все быстрей, все бешенее и отчаянней.
И вдруг услыхал, понимаешь, пронзительный странный звук... Вернее, музыкальную фразу. Минуту! Сейчас я ее узнаю, узнаю...
Ускользнуло! Что-то знакомое... Это формула скорби.
Я опустил смычок и прислушался. По-видимому, то страшное играл я сам.
Я вернулся к столу и попросил водки. Однако водка не была «фирменным блюдом». А я все трезвел и трезвел.
Рядом сидела разошедшаяся, хохочущая Наташа, она объяснялась с соседями, пользуясь импровизированной азбукой глухонемых.
Подавальщицы начали задувать свечи.
— Как?.. Уже? — спросила Наташа.
— Милая, сейчас мы уйдем домой. Вслушайся, как это удивительно: наш с тобой «дом».
Да. Конечно. В первый и последний раз в жизни наш дом с Наташей был нашим общим домом.
И все же, мне думается, это зовется своеобразным умением жить. Даже качество, что ли, этих страданий — умение жить. Потому что оно и есть — полнота жизни.
Когда родилось во мне это бессознательное, тайное, что ли, соревнование с ним?..
Я как-то была в командировке на Дальнем Востоке. Шла на старом транспорте с торговыми моряками. Вокруг, как оно и положено, — однообразие морской земли — тоскливое, косоватое, — справа, слева, впереди, позади — движение волн, с их белыми гребешками. Волны и волны...
Бескрайность рождала тоску: это тебе не берег Черного моря, с веселыми подросточьими, отчаянными заплывами на маяк.
Случалось, судно шло сквозь туманы, давая тоскливые, безостановочные гудки.
Вокруг ни скалистого берега, ни островка, только одинокий маяк посреди волн.
Сыро. Холодно. Бьют в лицо нескончаемые ветра. Отсырела одежда. Сапоги от влаги покрылись плесенью.
И вдруг мне вспомнились твои частые, комфортабельные путешествия в дальние страны, путешествия, о которых ты так небрежно рассказывал иногда. Финляндия?
Что ж, Финляндия... Париж. Буэнос-Айрес... И — черт возьми! — острова: Борнео и Целебес.
И все это без особой радости, без нажима и без хлопот. Зрелище, впечатления, новые города.
Увидел бы ты меня хоть разок вот так стоящей на носу судна! — озябшую, в позеленевших от сырости сапогах.
Но эти мои путешествия, к сожалению, были необходимы. Я выступала здесь как старатель, просеивающий сквозь сито песок, чтобы добыть иногда ничтожнейшие крупицы золота. Не знала, где я его добуду и сколько намою, — я просеивала горы песка, нескончаемые лавины свежих и старых песочных образований — больших, как дом.
Такой была моя жизнь и мои путешествия. Не я их выбрала. Я уже говорила однажды, что мое дело как бы выхватило меня и бросило в гущу жизни. Взяло за горло. Всю целиком. Забрало с остатками молодости, надеждами, жаждой признания, мечтами о простом и однообразном счастье.
Он продолжал с каким-то отчаянием, прошагав по комнате:
— Ты женщина. И хоть ты многое понимаешь, всего ты понять не в силах. Например, ничего ты не знаешь о таинственном, так сказать, инстинктивном, что ли, существе женщин. Наиболее умные из них, наиболее «женщины» — если можно так выразиться — бессознательно не сразу нам открываются. Инстинктивно, что ли, оставляют разгон для завоеваний. Ты это вряд ли можешь понять...
Однако — не правда ли? — вечно таинственной быть нельзя. И тут происходит постепенная, так сказать, духовная сдача, ассимиляция. Пядь за пядью, шажок за шажком. А когда ты, казалось бы, все открыл, хлоп! — и пришла привязанность, ты попал в ловушку, остался духовным рабом до конца своих дней.
Вот... Ну ладно. К примеру, моя жена. Мать прежде всего. Я знал это сразу, тоже инстинктом, как бы не зная и не догадываясь. Моя! С первых дней и первого часа, со своей жалостью, состраданием, любовью.
А Наташа — не то, не то... Да и процесс этот был не так долог, отношения еще свежи.
Не разум ею руководил, а высокая и наивная мудрость пола. Инстинкт. Она была женщиной, так сказать, в наивысшем смысле. Застенчива в нашей близости до того, что я иногда себя спрашивал, не идет ли она навстречу мне лишь для того, чтобы откупиться и как бы постоянно собою жертвуя?
Я никогда не мог довести ее до забвения себя. И как бы даже отчаялся, смирился с этим, не ожидая от нее большего. Но тогда, когда я вовсе перестал ждать, она стала постепенно сдаваться...
Это была неприметная, медленная игра, как бы вечно оставлявшая мне надежду. И никакой уверенности.
Я видел женщин много более совершенных, чем эта девочка. Но они были более откровенны. Через какую-нибудь неделю ничто в них не оставалось тайной. Я охладевал.
Эта девочка — была женщиной, знающей не из опыта, а как бы с рождения неосознанное коварство противника, вечную готовность к предательству наступающей стороны.
Осторожно вела она свою застенчивую игру.
Как неожиданно она раскрылась, как бы сбросив кокон отрочества. Какой пламенной, огненной, что ли, бабочкой поднялась из мертвого кокона. Она ли это?
Она!
Ночью эта девочка, плача, захлебываясь, шептала мне слова, которые, видимо, знала давно, скрывая их.
Я был раздавлен, был ею пьян. Если б мы собирались не расставаться, надолго ли хватило бы наших шепотов и признаний? Но в том-то и дело, что нам оставалось всего лишь несколько дней, и тайное ей подсказывало:
«Сокруши его! Пусть он запомнит тебя такой».
После двух с половиной лет нашей близости это был угар, в который поверить трудно, безумие, на которое я давно себя не считал способным.
Нежность, печаль, отчаяние — все это вспыхнуло с новой силой, терзая меня, заставляя ей сострадать.
Она была в эти дни не только моей возлюбленной, но моей дочкой, моим ребенком.
Как я сочувствовал ее молодости, как был готов оберечь ее, как упрекал себя, что вторгся в эту, нежно любимую мною жизнь... Я корил себя за беспутство, за эгоизм. Но странно — не по отношению к жене и детям. Одним словом, что тут и говорить...
«...Я... я тебя отведу к порогу твоего дома. О тебе буду думать, — не о себе!»
И в чем я только себе не клялся! И чего себе не говорил!
Не смейся... Или я остановлюсь. Сам знаю: смешно.
Днем я ее энергично таскал по магазинам и магазинчикам... Я ей, видишь ли, покупал приданое!
Не смейся. Не смейся... Она была растерянна, сопротивлялась, совершенно этого не ждала, ничего не хотела брать. Но разве можно отстраниться от моей напористости?
В свете конца моя запоздалая щедрость приобретала иную окраску: нежной и верной памяти, благодарности.
Я готов был купить ей все! Практичными эти покупки не были. Какой-то халат из шелка... (Она надела его и вдруг оказалась взрослой.) Белье (по-моему, не ее размеров) — я в этом не понимал. Пакеты, пакетики, обувные коробки, вечернее платье, которое выглядело на ней, как платье матери или старшей сестры...
Нужные вещи не попадали в эту кошелку щедрости: вот разве что теплый, шерстяной джемпер... Он был великоват, но я все же купил его и зачем-то белые шелковые перчатки, доходящие до локтей. Когда нам их заворачивали, я заметил, что она плачет. Оказывается, понимаешь, это были свадебные перчатки. Экое дурацкое совпадение!
Мы обошли весь ряд магазинов, что на центральной улице. Я хотел уже завернуть в переулок, где, мне сказали, был еще один магазин. Как вдруг слуховая галлюцинация... Мне послышалось, что издалека, долетая до центра, бьют колокола.
— Ты слышишь? — спросил я ее.
Она поняла не сразу.
— Да. Слышу. Играют колокола.
Но как же может такое быть? Их мелодия ограниченна. Колокольный звон — это колокольный звон!
Все отчетливей пели колокола. Я узнавал мелодию. Я узнал ее. Вчера, там, в харчевне, вот это... на этом звуке...
Из-за угла очень медленно двигалась траурная процессия. Улицы были запружены народом. Катафалк по старинке тащили лошади.
Все больше, больше народу...
— Кто это? Что случилось?
Наконец нам попалась женщина, понимающая по-русски.
— Хоронят художника. Уроженца города. Он здесь прожил шестьдесят лет.
— А... колокола?
— Это местные колокола. Играет композитор Гачаусус с сыном Гедвином. В четыре руки.
— Какие четыре руки?.. Ведь это же колокола.
— Да. Они изготовлены в Бельгии. Это голос нашего города. Голос радости, голос смерти. Разве вы не слышите, что играют «Реквием» Моцарта... Не узнаете?
Русский язык не любит инородных словообразований. По моим наблюдениям, легко вбирая ряд новых слов, он, как всякий живой язык, оставаясь полностью разговорным, энергично отталкивает слова не русские. Не хочет с ними сливаться.
Понятие «реквием» несет представление о торжественной скорби. Понятие это стало международным, как «СОС» — крик о гибели, грозящей морякам в море.
По-латыни «реквием» — значит покой, по-русски, думается, это:
погребальная тризна?.. Нет... Заупокойная служба — вот что, — хотя такой перевод я не нашла ни в одном словаре.
— ...На следующий день (в воскресенье), — продолжал он, сощурившись, — мне сказали, что в сквере, около Исторического музея, состоится концерт этих самых, ну как их? — невиданных местных колоколов... Я заинтересовался, само собой стал с нетерпением ждать двенадцати... Когда-то я, помнится, так дожидался утренников у нас в знаменитом Оперном. Мне было тогда лет восемь. Но как же я восхитительно ждал, стервец! Как боялся, что занавес не взовьется! Понимаешь, я его заколдовывал! «Сейчас открою глаза, а занавеса не будет, не будет...»
Мы сидели в ложе второго яруса, ребята из музыкальной школы, и наш учитель. Я — самый маленький — требовал очень строго того, что мне причиталось. «Пусть они пустят меня вперед!» Как я моргал и сопел, какое напряженное ожидание счастья! Оно меня, поверишь ли, переворачивало. Смешно, но его предвестником была люстра (поскольку перед началом она, ясное дело, слегка тускнела).
С тех пор я с таким напряжением никогда уже не открывал для себя музыки. С возрастом все сделалось проще, обыкновеннее.
Но в этот день я все ж таки ждал. Я — ждал... Не скажу, чтоб с тревогой, но с давно утраченным любопытством. Оно, видимо, было профессиональным.
Наташу я приволок в сквер, где башня с колоколами (кстати, снизу они не видны совершенно); часам, понимаешь, к одиннадцати приволок... А мороз, по московским понятиям, был прямо-таки неслыханный, с резким ветром. Все вокруг стояло иззябшее, над снегом у башни даже будто стелился пар.
Даже ветки кустарников и те казались какими-то заиндевелыми — не в снегу, а в инее. Пар от каждого вдоха, выдоха. Одним словом, подходящая обстановочка для концертов.
Наташа была одета в зимнее пальтишко, плохо приспособленное для ожидания музыки на морозе. Сперва она деликатно подпрыгивала, потом принялась изо всех сил колотить ногами о твердый снег.
Часам к двенадцати стали в этот злосчастный, иззябший сквер прибывать туристы. Группы возглавляли синие от мороза экскурсоводы. Туристы слышали, но не слушали, щелкали аппаратами, садились верхом на каменных львов около Исторического музея. Кое-кто из счастливцев был обут в валенки — смех, взвизгивания. Но постепенно замерзли все.
Наташа озябла сильно, даже губы одеревенели. Я распахнул шубу, обнял ее, постарался кое-как натянуть ей на спину обе теплых полы. Но все это делалось механически. Я — ждал... Я, понимаешь, ждал, ждал...
— Как ты думаешь, концерт будет очень длинный? — спросила Наташа.
— ...К клавиатуре ведут полтораста крутых ступеней, — сказала женщина-экскурсовод, — ...колокола настроены хроматически, каждый соединен своеобразными приводами с клавиатурой... тридцать пять... их отлили в Бельгии... единственные в Союзе... три октавы... попробуйте-ка на колоколах исполнить пианиссимо!.. Органист — композитор... вместо клавиш несколько рядов колышков... колокола настроены в единой тональности, отлиты из одного сплава...
От здания Исторического музея отделился обращавший на себя внимание человек высокого роста. Он был обут в огромные валенки, смахивавшие на валенки ночных сторожей. Длиннополая шуба била по голенищам валенок.
Человек этот вышел из теплого помещения, замерзнуть еще не мог. Шел, однако, нетвердо. Мне показалось даже, что он пьяноват. Подошел, не оглядываясь, к подножию башни, вынул большущий ключ и растворил дверь. Сам не понимая, что делаю, я наклонился и быстренько заглянул во тьму.
Из башни пахнуло сыростью. Круто взбегали вверх винтообразные, старые лестницы. Я умер, умер от любопытства!
— Москва, — начал я бормотать и сделал зачем-то нелепейшую попытку расшаркаться (стремился небось произвести наилучшее впечатление). — ...Москва... коллега... — торопливо бормотал я (было ровно без четырех двенадцать). — Позвольте подняться с вами наверх, коллега... техническое устройство колоколов... в высшей степени интересно... до чрезвычайности... Чрезвычайно! (Впечатление удивительное: я утратил дар связной речи.)
Но самое главное, видишь ли, то, что мое волнение было искренне. Все рвалось во мне от детского нетерпения. Я действительно хотел разобраться в устройстве колоколов — этого своеобразного и обаятельного инструмента, о котором никто из нас ничего не знал. Подобие профессиональной жадности, что ли?.. Не понимаю!
— Никого не пускаю вверх, кроме своего сына.
Он посмотрел на меня высокомерно и раздраженно (клянусь, я бы тоже именно так смотрел на себя, будь я на его месте).
В дневном свете его сощуренные глаза с крошечным злым зрачком казались яркими. Лицо было в тонких синюшных жилках, худое, с ввалившимися щеками.
— ...Реквием!.. Вчера я случайно его услышал, — продолжал я. — Как вам удалось так отлично переложить вокал на голос колоколов?! Удивительно! Какая силища свежего впечатления! Удача... Удача, мэтр! (Я льстил, я, видишь ли, льстил ему... чего вообще не умел совершенно.)
— Реквием? — приподняв брови, спросил меня органист Гачаусус. — Я, однако, давно не исполнял реквиема. Ага!.. Коллега пишет реквием? Для колоколов?
Его голос сорвался. Он неожиданно захохотал... Потом хрипловатый его басок вдруг перешел на шепот:
— Пустое! Право... Что за причуда? Зачем вам реквием?.. Откажитесь!
Он смотрел на меня так пристально, с таким странным и, я бы сказал, назойливым любопытством. (Я не ошибся: божественный органист был пьян.)
Резко он распахнул полукруглую дверь святилища и еще раз глянул через плечо на меня удивительным взглядом будто застывших, мертвых зрачков. Мне вдруг показалось, что он незрячий. Распахнул и резко закрыл за собой дверь, словно бы от меня отмежевываясь.
Более удивительного приема я, пожалуй что, никогда не видел.
...Скажи, что может быть уродливей совершенной искренности взрослого человека? Это как предстать перед кем-нибудь абсолютно голым! Смех. Ничего нет глупей признаний непрошеных.
Я стоял растерянный (униженный, если хочешь знать), а за моими плечами — туристы, экскурсоводы, случайные посетители этого, как его, Исторического музея.
Но тут дернулась стрелка часов на башне. Раздался первый мягкий удар.
Концерт начался. Не знаю, впрочем, можно ли это назвать концертом, в силу необычайности. Можно... Хотя это нечто большее, чем концерт.
Казалось, что рвется воздух, что сверху на головы слушателей опрокидывается гудение колоколов. Каждый их удар давал протяженный отклик, похожий на разлетающиеся по ветру дымы костров. Звон складывался в мелодию, не утрачивая при этом своего главного очарования торжественности. Что я, жалкий профессионал, могу рассказать о музыке? Музыка — это музыка. И ваше это, и не мое, так сказать, дело — трепаться о невозможном.
Однако я все же понял, отчего такую власть над нами имеют колокола.
Сколько раз, понимаешь, когда я был маленький, мне казалось, что звенит раскаленный от солнца и жара воздух, я будто бы слышал голос колоколов.
А сколько раз в юности, в состоянии подъема, мне слышалось, что на меня наступает их гулкая и отчетливая мелодия? Мир гудел, не находя слов, не находя себе выражения, он гудел торжественным, дальним гулом. Этот звук бежал на меня, от полоски заката, от стен в моей комнате. Стены — пели. Да, они пели! Гулом колоколов. Словно бы выпевалось что-то, что было во мне, ища себе выражения, томясь.
Звук чистоты чувств, высоты «парения души» — какой-то ее наивысшей точки. Звук звука. Он слагался в мелодию.
А ведь была она очень простая, играли наивную «Колыбельную».
И вдруг — Сен-Санс. На колоколах!..
Стаккато здесь не было. Звуки как будто не отрывались, не замирали, как им было положено, — они продолжали тянуться, петься. На предыдущий голос наслаивался другой.
И вдруг, понимаешь, и вдруг — «Бухенвальдский набат».
Его исполняли почти сразу же после Сен-Санса. Без настоящей паузы. Это бы казалось кощунством, если бы через два-три такта ты не погружался весь целиком в торжественную, сотрясавшую сердце мелодию. Все металось во мне и плакало. Первый раз в жизни я по-настоящему услыхал «Бухенвальдский набат». Потому что он был создан, вот именно создан, с о з д а н для колоколов!
Кто сделал эту удивительную аранжировку? Гачаусус? Пьяница органист?
Все вместе длилось двадцать минут. Это указывала стрелка часов на башне.
Концерт окончился. Я перевел дух.
...Все это он говорил взволнованно, заглатывая слова, рассекая речь своим неизменным: «Ты понимаешь?! Ты понимаешь?»
Я понимала, конечно, крайнюю впечатлительность своего земляка, помнила его удивительное умение по-своему слушать музыку! Ведь он музыкант, и, хоть к своей профессии не относился свято, музыка все же была его любимым, пожизненным ремеслом.
За окнами светало (не то чтоб по-настоящему. Рассвет лишь угадывался по едва уловимым признакам).
Перед ним стояла чашка черного кофе, тут же ломтик лимона, который он не успел доесть.
Бессонница всегда под утро ведет к возбуждению, а тут вдобавок третья чашка черного кофе. Обо мне он забыл. Не спрашивал: «Ты, должно быть, устала?» или «Может, ты хочешь спать?»
Нет, я совсем не хотела спать.
Наташа, когда я ее нашел посредине сквера, продрогшую и ошалелую, посмотрела на меня каменно. Вот именно, что иначе сказать нельзя: она каменно на меня посмотрела. И вдруг ей в лицо ударила краска — она была странно взрывчатый человек. Глаза расширились. Лицо, понимаешь, выразило... презрение!
— Ты обо мне забыл! Ты меня забыл! Ты — забыл!
Я всегда пугался этих ее припадков ярости, которых не понимал, так они не вязались с ее веселостью, легкостью. Заводная она была! (Уж ты поверь!) И что-то кошачье... От кошачьей тихости. Поняла?
— Ненавижу! — сказала, она, вырывая из моих рук свои иззябшие руки в варежках. — Ненавижу!.. Уйди!
И губы дрожали. А нос трепетал, говорящий, единственный в своем роде, любимый-любимый нос с раздувающимися ноздрями.
Плохо, конечно, что я дал ей так крепко замерзнуть (но, между прочим, это не я накликал мороз); нехорошо, конечно, что целых двадцать минут я осмелился так сосредоточенно слушать музыку, будучи увлечен только музыкой, повернувшись спиною к ней, к скверу... Но поскольку это длилось всего лишь двадцать жалких минут, не так уже велико, насколько я в этом смыслю, было мое вселенское преступление, чтобы в ней проснулись болото и черти. А?
Она прямо-таки не давала мне до себя дотронуться. Стояла рядом, замерзшая, посиневшая. И вдруг от ярости, что ли, начала — клянусь! — подпрыгивать на дорожке сквера.
Я не выдержал и громко захохотал.
— Это чисто нервное, — пытался я кое-как перед ней оправдаться.
Ку-уда там!
Люди на нас оглядывались. Все быстренько расходились после концерта — обогреться и пообедать. Только она подпрыгивала на дорожке. Она — подпрыгивала. А я — хохотал.
Хорошо, что все на земле имеет конец. Кое-как я все же ее уволок из сквера, повел в кафе. Там я опять же быстренько заказал горячего.
И тут, когда мы оба уже стали было отогреваться и она сосредоточенно ела яичницу, у нее потихонечку, понимаешь, принялись дрожать губы. Она ела яичницу, а по лицу текли большие, чистые, светлые слезы. Нос не краснел при этом... И веки — тоже, Одним словом — явление! (Помнишь? Я тебе говорил.)
— Водки! — коротко потребовала она.
— Даешь помаленьку жизни? — спросил я учтиво.
— Ты меня породил, ты меня и убьешь, — «весьма разумно» ответила мне она. И, давясь, проглотила водку.
Мы спустились вниз.
У входа в кафе был киоск. В нем продавалась всякая ерунда для туристов.
— Надо купить открыток! — сказала Наташа. — Разошлю открытки друзьям.
Это было жестоко, это она сказала, чтобы меня допечь. И добилась, и допекла... Как понимать «друзья»? Друзья или «друг» из нашего с тобой города?
Долго, словно забыв обо мне, она стояла у этого (будь он трижды неладен) киоска, накупила проспекты всех местных достопримечательностей и вдруг сказала: «Знаешь что? А мы завтра с тобой поедем в «Девятый форт». Ладно?»
Место — страшное. Я сперва, признаться, заколебался, но не стал возражать. Наташа между тем разыскала у киоскерши одну из брошюр «Девятого форта» — участника знаменитого побега девятерых. Мы нагрузились альбомами с малоудачными репродукциями, книгой о монастырях, фотографиями городских памятников. (Об открытках она забыла!)
— Набили карманы, — весело сказала Наташа.
И действительно, все по дороге у нас вываливалось из рук.
А ночью ни с того ни с сего на меня напала бессонница.
Сперва я лежал в кровати рядом с Наташей. Я видел ее лицо (двери были застеклены, в коридоре горела лампа). Щеку видел, прикрытую спутанными волосами. Видел руку, которой она со сна потерла нос, щеку. Я лежал и не шевелился. Потом осторожно обнял ее, зажмурился, попытался уйти в эту руку, плечо — в милый теплый закуток, который так хорошо знал. Она шевельнулась и что-то забормотала.
Я побоялся ее разбудить, я боялся даже глядеть на нее: говорят, что спящий чувствует пристальный взгляд неспящего. Но не глядеть я не мог. С трудом отодвинулся и закрыл глаза, лежал и не шевелился, подложив под голову обе руки.
Не спалось. Да, да... Я знал ее слабости — вспыльчивость, властолюбие, которые так мне были чужды. (Лицо сонного, даже самого близкого человека иногда нам кажется отстраненным, чужим, таинственным.) Я любил до слез, до глупейшей какой-то жалости.
Вечером вот в этом кресле сидела она — разувшись, подобрав ноги, разглядывала репродукции и хохотала, хохотала по всякому поводу (и без повода!), — как вовремя другой раз она, чертовка, умела опоминаться... (Будто бы это вовсе и не она прыгала нынче днем, как петух, посреди сквера.)
Я попробовал ее подразнить. Она сейчас же подняла бровь и порозовела. (Разумней было не вспоминать.)
Сидела, свернувшись калачиком, потягивалась в глубине кресла. Потом принялась приставать ко мне: «А как это выглядело, когда мы оба были еще чужие?» Она хотела, чтоб я доложил досконально, какой она мне тогда показалась. Я ответил: «Прелестной!.. Очаровательной наповал». Она тут же поверила, успокоилась. «А вдруг я тебе когда-нибудь надоем?» (Уж будто забыла, что это «когда-нибудь» нам с нею не предстоит.) Бровь чуть-чуть поднялась. На пол с кресла посыпались одна за другой репродукции.
Про то, что нам расставаться, мы с нею вовсе не говорили. Не вспоминали даже об этом.
Да, да... День да ночь... Целых четверо суток... Целая жизнь! За ее предел не заглянешь. Не надо осмеливаться даже об этом думать.
Жить!.. Жить!.. И любить ее. И ссориться. И слышать ее дыхание...
Я встал и босой осторожно прошел по комнате.
Штора на окне была не задернута, город — темный: редкие дальние огоньки.
Жить с нею вон хоть в том, самом дальнем доме, дрова колоть, печь топить.
...Изредка, тихо шурша, проезжала машина по улице.
А шофером стать? Разве плохо? Пусть я шофер! Возвращаюсь домой к Наташе. И... и вижу ее беременной! Уж будто такое счастье бывает? А?!
Я прикрыл газетой настольную лампу и осторожно ее зажег. Сна — ни в одном глазу. Сидел у стола, в пижаме, старый, разутый дурак, повернувшись спиной к кровати.
От кровати накатывало тепло. И мне, как будто меня (словно Монти Бэнкса в старых кинокомедиях) хлопнули из-за угла по башке мешком, вдруг захотелось плакать. Сдурел. Был, видишь ли, человек, и нет человека!.. Все! Работенка чистая.
Я — зажмурился. Я пытался тихо перевести дух. И вдруг засопел, засопел... Что ты скажешь на этот фортель?
Я испугался себя. От нечего делать, чтобы как-то отвлечься, принялся потихоньку листать брошюрку «Девятый форт»... Страшно это! «Девятый форт» — на окраине прелестного города, — нашего города (моего!)... Города, где харчевня и колокола...
Людей сжигали, людей сожгли. А город — живет.
Сжигали, сожгли, развеяли по ветру. А этот форт... Ну да!.. Я не знаю, как это выразить... Он сделался словно бы достопримечательностью для приезжих... Нет, подожди, подожди... Я не то, я не так... (Это немыслимо, невозможно!) Если б перед тем как прорваться нашим войскам и освободить город, несколько человек пленных не проявили мужества сверхлюдей, не бежали, когда стражники напились (в сочельник), — что мы знали бы о «Девятом форте»?
...Ну ладно... Сбежали. Живут. Женились... И... и работают, понимаешь! Даже ходят небось в кино. Я... я не знаю, конечно, что снится им по ночам. Не знаю, какая часть души осталась у каждого — там, в форту... Но если бы не они, суд не имел бы ни одного свидетеля обвинения... Пепел — по ветру... Пепел — по ветру!..
Подожди. Как странно и прочно устроены люди... Как крепко скроены!..
Подожди-ка: Назым Хикмет нам рассказывал, что в Турции в камерах были сонмы клопов. Клопы!.. Клопы!.. Живой поток!.. Заключенные их черпали ведрами! Поняла? Как воду. И в унитаз. В парашу... А Назым Хикмет не только все это пережил, а творил, создавал, горел, как принято говорить: элегантный, красивый, собранный... Я понять, понять не мог эту великую, какую-то вторую силу человека...
А поэты Китая когда-то... как звери в клетках... А потом, уцелев, — свои изящные триоле: продолжалась жизнь духа, — все позади. Где же мера человеческой хрупкости и сверхсилы?
Я сидел один, будто сыч в ночи. И читал брошюру:
«...не дали лопат... заставили раскапывать мертвых руками... тащить на руках к кострам... черный дым валил от костров... все вокруг пропиталось устрашающим трупным запахом...»
Невредное ночное занятие я для себя изобрел. Что называется: подвезло.
...Хорошо. А что бы делал я на их месте?.. Я! Я?!.. Не знаю.
Как, однако, мы величавы издалека.
А любил бы я? Продолжал бы любить Наташу? Хорошо. А своих детей?
И я вдруг нырнул в то страшное отупение, в ту великую усталость души...
Жить!.. Жить!
— Ната-а-ша!
Она проснулась, подбежала ко мне испуганно и заплакала. Должно быть, я был как мел или вроде того.
Она гладила меня по щекам, глазам, волосам. Она сдвинула брови, лицо исказило выражение глубочайшего сострадания. В свете настольной лампы я заметил две тонких морщинки, соединявших ее нос с углами рта. Она прижала к себе мою голову, она всхлипывала молча, отчаянно.
— Что с тобой? Ты позвал? Ты звал?
— Нет. Ты сама проснулась. Что тебе приснилось, Наташа? Страшное?
— Нет. Не особенно страшное. Мы поднимались в гору. С ребятами. А под ногами — оползни. Я вцепилась в куст, он медленно-медленно полез из сухой, сыпкой глины и остался с корнями в руке у меня...
— Ладно, Наташа, ложись-ка спать.
— Ты тоже давай ложись!
— Хорошо. Я лягу, возьму тебя за руку...
— Дай честное слово, что ты уснешь.
— Клянусь! Чтоб я провалился на этом месте! Наташа. Это я... Я тебя позвал. Поняла?.. Не умею лгать!
Туман, черт возьми, туман! Чем дальше от центра города, тем он белей — лежит над шоссе, над полями. Из тумана выступают домишки и домики, белесый пар рассекают электрические столбы. Так холодно, что даже воробьи и те, понимаешь, не маячат на проводах. Светло, — но не видать солнца, не видать синевы над городом. А дорога — скользкая, по краям шоссе сугробы совершенно свежего снега. Все вместе прямо-таки — ощущение бесконечности. Едем в морозную вечность.
Наконец машина вздрогнула и остановилась.
«Девятый форт». (Звучит-то как? Звучит не «Девятый форт», а «девятый вал»!) Земля, иссеченная рвами, рвы, которые стали могилами.
Приходящих встречает таблица на двух столбах:
«...восемьдесят тысяч убиты, погребены, сожжены и рассеяны по ветру... граждане разных стран».
В дежурке музея женщины-экскурсоводы уютно вязали чулки. Потрескивали дрова, было жарко, на электрической плитке урчал кофейник. Вязальщицы не ожидали, что кто-нибудь нынче явится к ним: больно холодно. Нехотя отложив чулок, одна из девушек надела шубейку, обула валенки и позвала нас в маленький кинозал.
С дежуркой зальце соединяла укатанная дорога.
Мы сидели одни в кинозале и ждали механика. Наконец свет погас, началась хроника, длившаяся восемнадцать минут (о ее длине до начала пуска нас спокойно оповестил механик).
Черно-белая съемка, изъятая у кого-то из бывших начальников лагеря. Над землей — пар. Снег — повсюду, светлое небо рассечено крышами из черепиц. По снегу идет деловитым шагом молодая голая женщина. К смерти. Она кажется озабоченной. За ней — солдат. Очень холодно! Понимать надо! Солдат поеживается от холода. Энергичней! Живей, живей!.. И она поспешает. И спотыкается. Голова — обрита. Ноги — босы.
Скорее! Холодно. Живей! К смерти!
(«Я не умру» — так, должно быть, до самой последней минуты думает человек. Ведь он не знает, что значит «смерть»!)
А есть ли у человека память в самое последнее мгновение перед смертью?.. Память детства и молодых желаний? Есть ли, есть ли эта живучая память? Или только острое чувство холода, страх последних ударов винтовки... Размолотая душа?
«Я не умру» — так, должно быть, думают люди. А?! Как по-твоему? Да, так думает, так думает человек...
Рвы наполнены до краев. Деловитей! Живей! Мороз!
...Засыпают землей. Над ней шевелятся руки. Эту живую землю еще разок прочесывают снарядами. И окончательно засыпают рвы. Но земля (и подумать только!) вздымается, горбится... Дышит, дышит!
Я ведь — ты помнишь? — я был военным... В оркестре. Звание старшего лейтенанта... Но потом, из-за этих дурацких мешков с картошкой... Да нет, ты знаешь эту историю. Добыл картошки и поволок в Москву, к себе домой. Для жены и сына, без увольнительной... Ясно, разжаловали и послали в штрафную роту, в тартарары, Я оказался солдатом, среди бывших «лимонников»... Мои, так сказать, боевые товарищи... Ну, а потом ранение в правую руку, орден Красной Звезды. И... демобилизация.
По нас довольно-таки энергично стреляли, надо сознаться. Я был подносчиком боеприпасов, а местность отлично просматривалась врагом... Но кто же думал о смерти? Кто говорил о ней?.. Писем ждали, сомневались в верности жен и всякая прочая ерундистика... А я, понимаешь, недурно играл на гитаре и пел... На меня был спрос, уважали, можно даже сказать — того... одним словом, отношения наилучшие... И я — я тоже — того... Уважал, понимаешь ли, нашего капитана!.. Хороший был капитан. Ну, а потом ранение — туда, сюда... Возжелали, понимаешь ли, мне ее ампутировать, Но я заявил, что рука у меня не лишняя.
— Вы по специальности кто?
— Музыкант.
Одним словом, туда-сюда — гангренка. И все такое, но доктор остался с носом, я — с рукой... Ночей не спал, чего врать! Утешал себя мыслями о Бетховене. Не помогало.
Но что все это по сравнению с лагерем?! Что? Что? Что?.. Смерть?.. Разве дело в смерти? Я чувствовал себя... Я, был человеком! Среди своих... А тут... Одним словом, чего говорить? И так все ясно!
Я... Я помню рассказ о том, что Корчак шел в печь впереди колонны. Со знаменем своей школы. А позади, понимаешь, — дети...
Фашисты, фашисты, фашисты (да нет же, я не кричу!). Они сняли фуражки перед тем, как Корчаку войти в печь. Я... я... усвоил, что значит бессмертие. Усвоил. Да.
Одну минуту... Сейчас...
После хроники женщина-экскурсовод повела нас по казематам. Я увидел на стенах надписи, на всех языках:
«Мама, прощай! Завтра утром — расстрел».
«...Десять граждан Монако... Прощай, дорогая родина!»
«Товарищи!.. Дорогие! Родные! Отомстите! Не забывайте!»
Холод пронизывал нас. В камерах, надо сознаться, сыро. Я почувствовал легкий озноб, отвернулся, чтоб не видеть Наташу. (Руки у меня, я заметил, слегка дрожали.)
Экспозиция: челюсти, волосы, детские башмачки...
И понимаешь... даже тебе говорить неловко... Не знаю, как это произошло.. Возможно, от холода. Однако я, право, не очень зябок...
Я аккуратно сел на пол. Подол Наташиного пальтишка и подол шубейки женщины-экскурсовода — последнее, что я помню. Очнулся в дежурке. (Мужчина, видишь ли, упал в обморок!) В нашем милейшем городе, если помнишь, это прелестное состояние называют: «тихое нахальство».
Я лежал в дежурке с развязанным галстуком, в расстегнутой шубе. Надо мной — женщины... И... Ха-ха-ха-ха! — башмаки с меня стянуты, и я эдак элегантненько и задумчиво шевелил, понимаешь, перстами ног, перстами ног!..
Что я бормотал и как извинялся — не помню. До сих пор не пойму, как это я не сгорел со сраму?!
Когда пришел в себя, то сказал, что это чисто случайное: «аллергия» — и попросил продолжать экскурсию.
Наташа запротестовала. Но я был тверд как кремень. Скажи, а как бы поступила на моем месте ты?! Что мне еще оставалось делать?
— Полежи хоть немного! — молила Наташа.
Я снизошел, закрыл глаза, немножечко полежал.
И вдруг, понимаешь, во тьме закрытых глаз я, ни с того ни с сего, увидел лицо жены. Нет, нет, — не в мелких подробностях... Крупно встало лицо: в выражении грусти, усталости. И любви... Мать моих детей! Нет. Неправда! Я думал об этом не теми словами, не так... просто видел лицо. И вспомнил о нашем великом таланте отгонять прошлое. И о великом упрямстве прошлого.
Я, понимаешь, был болен при ней однажды... Болезнь называлась: гемолиз (какое-то чертово заболевание крови).
Она дежурила по ночам. А утром в больницу, поскольку я отдавал концы, приходили ее подруги (у нее всегда было много подруг). Они появлялись у меня в поле зрения — по две, по три...
А ночью приходило «оно» и врывалось в сон из предчувствий. У «оно» не бывает логики, только обрывки, клочья тревоги, боль. Все черно-белое, все без красок. (Сны — как зрение животного: красок нет.)
Лишенное возраста, опыта, способности утишать, «оно», то есть смерть, гудело, гудело, гудело...
Ни от чего не избавиться в час твой предутренний. Шумы твоего моря, круглое солнце без света, галька, обрыв... И берег. Глинистый. В нем глубокие трещины от солнца, жары, безветрия. А из щелей — муравей: их два, их три... Все рядом — убийство и муравей, жесткое растеньице, выпершее из глины, шум моря и тошнотворное чувство потери крови... Кровь! Твоя кровь!.. Ты!.. Ты.
И снова лицо жены — ее маленький подбородок и покоряющее выражение тепла, терпения.
А детей — нет. Не встали дети передо мной. Только голос товарища сына... Он называл Эдика моим именем — нашей общей фамилией (так когда-то меня окликали в школе).. Звонко и четко раздался молодой голос:
— Альгинский! Альгинский!
Меня звала моя молодость. Но из калитки дачи на этот оклик шагнул не я, а мой сын.
И вот, понимаешь ли, экскурсовод подвела нас к интереснейшей экспозиции. Перед нами были разнообразнейшие рисунки скульптуров и архитекторов: в «Девятом форте» шел, оказывается, конкурс на памятник жертвам фашизма.
Главная трудность такого конкурса, по моим понятиям, в том, что не раз уже подымало свой голос искусство, обращаясь к памяти человека. Оно, — оно одно не дает и не даст забыть. Уже не раз из шара земного вставали огромные руки — руки погибших, повернутые к небу ладонями; вздымались ввысь колонны из мрамора и бетона, изрешеченные пулями; пылали огни над могилами павших...
И все же один макет — «Девятого форта» — поразил меня. Поразил, поразил! Это был голос свежий и чистый. Голос... воды! На дне водоема — ты поняла? — каменное лицо; над лицом — в непрестанном движении — вода! Рябь бегущих вод. Они делали это лицо неотчетливым, непрестанность течения пела о вечности.
Здесь не огонь говорил о прошлом: здесь нашла свои язык вода. В ее движении — быстротечность, не смываемая течением жизни. На дне, под рябью прозрачных волнышек, лицо — принадлежавшее не человеку, а человечеству.
Это была работа Бертиниса. Двух Бертинисов. Отца и сына.
Они жили здесь, в этом городе.
Он нисколько не был похож на моего сына. Ни внешним обликом, — понимаешь? — ни тем особенным выражением радости и доброжелательности, которые выдают счастье. Хорош, должно быть, отец Бертинис, отхвативший такого малого!
Описывать человека вообще нельзя, особенно мне, особенно если я увидел его при таких обстоятельствах... Одним словом, «Девятый форт». Ан жизнь — вот она! Молодость — вот она: вера, талант, здоровье.
Вообрази-ка волосы, подстриженные ежиком, измазанные алебастром или черт его знает каким составом, а сверху — трогательный, самодельный беретик. Рабочее пальтецо — тоже сильно измазано.
Короче: восемнадцать, максимум девятнадцать лет, и руки в карманах для проявления независимости.
Они, видимо, монументалисты, потому что мастерская — большущая, с очень высокими потолками. Холодно. Печка-«буржуйка» трещит, а сквозь щели мороз. На полу ведра, бочки с каким-то белым составом. Присесть, разумеется, совершенно негде.
У стены — барельеф. Юный скульптор над ним работал. Он пояснил, что попросту помогает отцу — Бертинису.
Барельеф изображал старуху в национальном костюме.
Отца-Бертиниса на месте не оказалось. Бертинис-младший (Роберт) тут же нас пригласил к ним в гости. Но не раньше, чем в десять вечера, — раньше мы не застанем отца. Он протянул мне визитную карточку (откуда?.. Что?.. Странно, по вашим понятиям, верно? Как из другого века!). На карточке были адрес, имя, фамилия Бертиниса-старшего, телефон и его профессия.
Роберт не удивился, когда я сказал, что москвич, и, заикаясь, начал, как мог и умел (а я этого не умею), объяснять, зачем их разыскивал и почему пришел. Видимо, в мальчике жила та степень причудливой артистичности, при которой вообще не принято удивляться.
Стоя напротив нас и пытаясь не выказать нетерпения, «вундеркинд» смотрел блестящими, добрыми молодыми глазами на то, как я держу ее за руку. (Рассеянность, понимаешь, пальцы забыл разжать.)
Хорошо. Ну, а если б он вдруг узнал, как и зачем этот пожилой человек оказался с этой девушкой в его городе?
Ладно. Жил-был на земле; Что?! Свет, свет... И жила-была — что?.. А молодость, молодость, дорогая... Роберт был частью этого света и этой молодости. Рано и отчетливо выразившийся художник, он себе не давал труда сосредоточиваться на любви, которая не имела к нему отношения. Он был весь устремлен в будущее.
— Роберт! Чья идея памятника в «Девятом форте»? Отца или ваша?
— Ясно — отца! Как возможно даже об этом спрашивать?
— Хорошо. До свиданья, Роберт. До вечера.
Мы прошли старый двор, поднялись по узенькой деревянной лестнице на четвертый этаж, позвонили. Никто не открыл нам дверь.
Мы спустились вниз, прошли подворотню и стали ждать хозяев квартиры в сквере, напротив дома.
Еще не было десяти, я захотел проверить время и вдруг заметил, что мои ручные часы перестали тикать: с тех пор как мы уехали из Москвы, я их ни разу не заводил.
У подворотни Бертинисов был ресторанчик. У входа в него — толпа; на улице сдержанное, тайное какое-то оживление: пятница, канун выходного. Но в шагах прохожих не угадывалась московская суетливость, здесь жили иначе, другим был музыкальный камертон города.
Мы стояли под деревом, прижавшись друг к другу, и я ее обнял.
...Время придет, распустятся почки дерева, под которым мы оба стоим, длинней станет день, перестанут быть такими темными вечера; потом будет жарко, зашелестит на ветру дерево; купол собора по левую сторону улицы сделается более отчетливым в светлом небе; сквер переполнится голосами туристов, все изменится вокруг нас — на земле и в мире, только я и она будем вот так же стоять под деревом.
Мы стояли под деревом. Было до того тихо, что слышалось тиканье ручных часов, которые я завел.
Мы стояли под деревом, и дерево начало расцветать; посветлел воздух, завиднелся издалека круглый купол собора.
Мы стояли под деревом. Я поглядывал на подворотню Бертинисов. По двору прошла кошка.
«...Где я? Что со мной? Зачем я здесь?
Что же, в общем, выходит? Выходит, что я несчастлив?»
«Да, да... — ответило что-то во мне. — Ты очень, очень несчастлив. Безнадежно, непоправимо, в таком духе, в таком разрезе. И ничего тут, видишь ли, не поделаешь. Ничего ты не можешь, совсем ничего, потому что ты — это ты. От своей любви тебе не отделаться никогда. Не сможешь и не захочешь».
Я еще крепче закрыл глаза. И вдруг мне в уши поплыл колокольный звон тридцати пяти сумасшедших колоколов.
Мелодия становилась все назойливее, отчетливее. Точки капельных звезд наверху; крыши города; моя рука, обхватившая ее плечи, — все слилось в звон, гудели колокола.
Бертинис-старший сидел в глубине комнаты у обеденного стола, накрытого белой скатертью.
Я до того иззяб и был, признаться, в таком смурном состоянии, что первым делом, что называется, «выхватил» сознанием этот стол. («Куда девались нынче такие столы и белые скатерти?») Стол... (И дался же мне этот дурацкий, дурацкий стол!) Квадратный. Обеденный. Как у бабушки.
В общем — стол. А у стола — человек. Небольшого роста, немолодой, осевший, квадратный. Очень сутулый. Я даже подумал сперва, что такая странная «размолоченность» должна быть следствием какого-нибудь несчастья (может, он когда-то упал с лесов?). Он слегка привстал, улыбнулся:
— Здрасте, мадемуазель. А ви... музыкант?.. Художник! Садитесь, прошу, коллега...
И сел.
И все вокруг, понимаешь ли, потемнело и посветлело рядом с этой его улыбкой.
— Товарищ Бертинис, когда у меня забракуют очередной опус, я открою лавку улыбок. Я буду выдавать по талонам улыбки. Ваши улыбки. И у дверей моей лавочки образуется очередь, как летом у нас в Москве, часов в семь, — в любую женскую парикмахерскую! Я... я буду швырять улыбки, я осчастливлю город...
Наташа меня потихоньку дернула за рукав.
Бертинис-старший решительно ничего не понял. Но лукавый Роберт, стоявший тут же, расхохотался и принялся бойко переводить. Он был в восторге от «лавки улыбок». Удивить его любым выпадом было решительно невозможно.
Он перевел. Но Бертинис-старший все ж таки ничего не понял. И вдруг он махнул рукой (жест скромности). И тут-то я догадался, что он избалованный человек. Любимый, известный и оцененный... Наверно, по этой простой причине он может позволить себе проявлять скромность, я бы сказал — величайшая по нашим дням роскошь.
В комнате было светло, стены выкрашены известкой (на современный лад). У стен, прислонившись к ним, стояли бесконечные деревянные коричневые скульптуры. Все одна и та же варьировавшаяся тема: старик гусляр. Какие старые лица у всех этих гусляров, — цвет темного дерева создавал впечатление дубленой кожи, — морщины-борозды, потемневшие от солнца и ветра.
Я пошел вдоль стен.
В руках у каждого были гусли. Нет, не у каждого. Вот гусли у ног старика. Его руки спокойно опущены, будто слиты со старым телом, в необычайном выражении задумчивости, покоя. К плечам, к ногам старика, которые будто срослись коленями, лепились дети. Бесчисленная детвора. Мал мала меньше. Отчетливы только детские лица с полуоткрытыми ртами. Дети словно бы отпочковались от старика, срослись с деревянной фигуркой старого человека, примостившегося на пне. Дети — гусляр. Гусляр — дети. И музыка гуслей.
Что искал Бертинис? Чем ему не потрафил его гусляр? Разве он мог объяснить мне это, даже если бы я спросил? Он звука искал. Мелодии. Я — понимал, понимал. А как же?
Однако до чего хороши были все эти гусляры. Пение гуслей, дерева, солнца, травинок... Я хотел сказать «хорошо» или «здорово», но, само собой разумеется, не сказал ни слова! (Ведь принято, понимаешь, молчать. Дурацкое положение!)
— Спросите отца, пожалуйста, продаст ли он одного из своих гусляров.
— И спрашивать нечего. Не продаст.
Я оглянулся. Старший Бертинис сидел у обеденного стола опустив руки. Совсем как его гусляр. Он улыбнулся. Роберт прыснул:
— Папа, еще одна улыбка для лавки улыбок. — И вдруг очень заинтересованно и даже взволнованно — к нам: — Посмотрите наверх, пожалуйста. Это картины моего друга. Москвича — Андрея Варягина. Ему уже минуло восемнадцать.
Я посмотрел наверх.
Над темным городом, с едва мерцающими в его глубине окнами, проносится человек: он летит над крышами, над огнями, среди облаков, и дыма. Полет во сне?.. Да нет же! Раздумья, смятение, — тот полет, когда словно бы сверху оглядываешь землю и город.
Он был урбанист — этот юный художник. Город, повсюду город. Сугробы, снег, снег... Как всегда, земля по-своему спорила с небом, а небо не желало считаться с землей. Однако самым удивительным было то, что к домам не вели протоптанные дороги. Не иначе как их обитатели, все как есть, порхали по воздуху.
На переднем плане ночного города — лик человека. Он вне пола, вне возраста, — напряженное, грустное, монашеское лицо.
— Силен? — волнуясь, спросил Роберт.
— Силен, силен... Еще как силен!
Бертинис-старший посмотрел на меня, рассмеялся и быстро-быстро заговорил. Он говорил не по-русски, и я, само собой разумеется, ничего не понял.
— Отец сказал: вы словно бы что-то опознаете, ищете, прощупываете для себя. Верно?
Стоило Бертинису-старшему повернуть ко мне лицо и прищуриться, как от этого лица с крупным носом и глубоко посаженными глазами словно бы оторвалось и выпорхнуло непередаваемое выражение кротости, какой-то смиренной, что ли, душевной нежности... Доброта! Живет же на свете это неустаревающее понятие. Иначе зачем бы мы стали спорить: «наша ли» доброта или, может, она «не наша», а другая — гуманистическая, абстрактная.
Что ее сохранило в нем? Счастье? Да. По моему глубочайшему убеждению, оно в нас хранит эту высокую добродетель, как соль в бочонках — знаменитую рыбу скумбрию.
Счастье?.. А?.. Что ты скажешь на это дело? Откуда? С какого острова? Оттуда небось, куда канул обеденный стол моей бабки.
Но самое удивительное, что я и на самом деле что-то искал. Он спросил: «Чего вы ищете?» Но разве я мог сказать? Я шел, понимаешь ли, как ищейка по следу, — вот только и всего. Накануне мы с Наташей забрели погреться в музей, и я заметил цветные стекла. От витражей словно потянуло на меня торжественной, едва уловимой музыкой. Они для меня ассоциировались с готическими соборами. Шествие удлиненных тел, как бы устремившихся вверх, в полете; сумеречность, несмотря на ярчайшее сочетание красок: желтого, красного, синего — от нежной голубизны до глубокой сепии. Портреты обыкновенных людей труда, — а все равно рождалась ассоциация с органной музыкой. Окна из витражей, процеживая свет, не дают свободно прорваться солнцу в глубину здания. Мне послышался голос разрывавшихся музыкальных фраз, оттого, может быть, что так положено мне по должности.
Бертинис снова что-то заговорил.
— Отец говорит, что вы ему не ответили, — перевел Роберт.
...Но вдруг, понимаешь ли, я заметил, что вместо нормальных стекол в окнах комнаты, где мы сидели, вставлены витражи. А в этих витражах случайная щель.
— Парижский период, — увидев, что я разглядываю окно, живо и весело пояснил Роберт. — Отцовский юношеский период. Всерьез об этом даже не следует говорить.
Я и не думал об этом всерьез. Я думал только о щелях в стеклах, выражавших «парижский период» Бертиниса-старшего. Щели пересекали стекло параллельно — там, где рисунок скреплялся медью.
Квартира художников. Все небрежно, отсутствие признаков какой бы то ни было буржуазности. И впервые я со стесненным сердцем вспомнил свою московскую четырехкомнатную квартиру, поиски красной мебели, дух дурацкого соревнования, который нас охватил, когда мы наконец добыли себе квартиры... А сколько ушло деньжищ! Немыслимо! Стыдно вспомнить. Меня робко останавливала жена.
— Роберт, а ведь вы гордитесь отцом, его гуслярами, его парижским периодом? Верно?
— Нисколько! Я высоко ставлю его «Королеву ужей», «Мать», «Христа». Но у него был период провалов, и я ему говорил про это. Мы до того спорили, что маме чуть ли не водой приходилось нас разливать. А вообще-то я знаю, конечно, что мне здорово повезло с отцом. Везет, как это у вас говорится? — как незаконнорожденному. А я — тривиальный, пошлый законнорожденный... Правда. Во время работы мы спорим... Ужасно! Я гну свою линию, он — свою!
Бертинис-старший смотрел на нас с любопытством, ни слова не понимая. Так глядят близорукие люди, лишившиеся очков.
— Товарищ Бертинис, вы с сыном... В общем, вы ведь работали как соавторы. Чья идея проекта «Девятого форта»? По правде!.. Только по правде!.. Кто придумал бегущую воду — вечность? Это — прекрасно! Прекрасно!.. Вот пусть подтвердит Наташа.
Роберт от досады порозовел. Но отец смотрел на него вопросительно, и он перевел.
— Роберт! — твердо сказал отец. — Роберт, Роберт... (А что бы сделал на его месте я? Я бы, пожалуй, ответил так же.)
— Отец! — сказал Роберт.
— Роберт! — сказал отец.
— Отец!
— Ньет, не я, — Роберт.
И оба одновременно расхохотались.
(«Папа, если ты хочешь, чтоб я признал в тебе композитора... я не требую никаких симфоний... Серьезная музыка существует во многих жанрах... И в легком — тоже. Хоть какая-то политональность звучания... Ритмическое новшество... Что-нибудь!» — вдруг услышал я голос своего сына.)
Сомнений не было: здесь-то жили всерьез и всерьез работали. Об этом кричало все: стены, бедность, бабушкин стол, а главное — эти щелястые витражи. Но единственное, видишь ли, что меня оправдывало, это то, что я никогда не воображал себя... ни Чайковским, ни Берлиозом. Жизнь есть жизнь! В таком духе, в таком разрезе. Ведь так? Я — циничен!.. Ты-то знаешь, что я циничен?..
— Неужто? — спросила я. — Однако разве это самое тяжкое из твоих признаний?
— Ладно, не притворяйся. Я отлично знаю, что даже и не Сальери.
— Сальери? Нет. Он был трудолюбив. И завистлив. А ты не завистлив и не трудолюбив.
— Зато я жизнелюбив.
— Разумеется. И зачем тебе быть Сальери? Прежде всего надо быть собой.
— Я вообще не давал никогда оценок себе. Оценку мне дал мой сын.
— Полно, полно...
— Пожалуйста, не сострадай! Я этого не выношу.
— А что, если чуток «потоптать ногами», немного «посострадать»?
— Ничего. Я поверну оглобли. И все. Отставили. Будешь слушать? Или, может быть, сматываться?
— ...Мы пришли ровно в десять, и вот уж было одиннадцать. Я робко принялся объяснять, зачем пришел.
— Проекты?.. Ах да, фотографии проектов, — нисколько не удивившись, кивнул мне Бертинис-старший. И достал из шкафа растрепанную, старую папку.
— Простите, пожалуйста, — повернулся я к Роберту. — Я правильно понял, вы, кажется, премированы? Какую отец и вы получили премию на конкурсе «Девятый форт»?
— Одна тысяча рублей. Премия — два, — вместо сына ответил старший Бертинис. — Тут все — проект, фотография и газета. Я покажу.
— А когда приступят примерно к установке памятника погибшим?
— О, должно быть, очень не скоро, — беспечно ответил Роберт. — Третий тур — он длился у них два года, и ни на чем определенном не остановились. Запаситесь терпением: улита едет...
Между тем Бертинис развязал папку, мы начали рассматривать фотографии. Сидели так близко, что наши головы почти что соприкасались. Желая фиксировать мое внимание на какой-нибудь интересной мелочи, Бертинис прижимал к фотографии указательный палец, не рассчитывая на гибкость своего русского языка. Его седоватые брови вздымались, лицо оживлялось. Мы кивали друг другу, изображая одобрение и восторг. Странный язык — без языка!.. Желая сказать: стоит ли останавливаться на этом, — халтура! — Бертинис с досадой энергично махал рукой.
Должно быть, мы оба были очень смешны, потому что Наташа и Роберт сперва молчали, замерев, наблюдая за нами, а потом, не сговариваясь, одновременно и дружно, принялись хохотать.
Обернувшись к Роберту, я стал неуверенно и торопливо рассказывать о скульптурном ансамбле в городе Сталинграде, где Мамаев курган, где наши солдаты, где Пантеон. Рука из мрамора и вечный огонь, все сопровождается непрестанной музыкой. Хор голосов... Кажется, когда войдешь, что стены колеблются... Что... в общем, силу воздействия представить трудно! Старые женщины кланяются огню поясным поклоном, слезы на глазах у старших военных. Здесь виды искусства — архитектура, скульптура, музыка — как бы... как бы объединились для того, чтобы...
Я был взволнован и говорил невнятно, однако Роберт добросовестно переводил. Бертинис-старший слушал внимательно, я б даже сказал — почтительно. Он кивал. И вдруг, приподняв голову, посмотрел мне в глаза, прищурился, улыбнулся и сделал резко отрицательное движение рукой.
— Отец полагает, — перевел Роберт, — что слияние музыки со скульптурой... Он думает — так считает отец, — что скульптура должна звучать сама по себе. Петь она должна в таком памятнике, как «Девятый форт», обязана обращаться к сердцу сама по себе... Если хоть сколько-нибудь скульптура.
«Переведя» все это, Роберт вышел и возвратился с подносом, на котором стояли рюмки, бутылка вина, одетая в соломенное пальтишко. У пальто были крошечные рукава и маленький соломенный капюшон. Покрой его был очень моден, бутылка выглядела элегантно одетой дамой.
Увидев бутылку в этом пальтишке, Наташа от восхищения всплеснула руками. Потом они с Робертом снова дружно принялись хохотать. Бертинис-старший взглянул на меня, улыбнулся и сделал неопределенное движение пальцем около лба. Движение это, видимо, означало: «Молодость! Что с них возьмешь, не так ли?»
Я опустил глаза, сжал зубы, стал разглядывать скатерть. Не принял ли Бертинис Наташу за мою дочь?
— Роберт!.. Это — Роберт... Пальтишки — это Роберт! — сказал Наташе Бертинис-старший и указал подбородком в сторону сына.
Сделалось тихо. Едва приметно звенели рюмки. Роберт осторожно и бережно разливал вино. Все молчали и улыбались.
— За ваш талант, за искусство, за молодость, за этот гостеприимный дом, — сказал я, когда все мы уже собирались чокнуться.
Чокнулись. Выпили. Сели.
Роберт снова принялся разливать вино.
— За ваш проект!.. За его удачу, сердечность... музыку... А кстати, Роберт, я, знаете ли, забыл спросить, под каким девизом он был на конкурсе... Хочу рассказать в Москве.
— Девиз? — пожимая плечами, беспечно ответил Роберт. — Знаете ли, девиз был самый-самый обыкновенный, первое, что нам пришло в голову. Наш девиз был: «Реквием».
— Ну, скажем, к примеру, я притворялся. Допустим, я говорил себе, что утра вообще не будет, не будет, не будет утра! Что день и ночь конца не имеют — иметь не могут, и все такое... И допустим опять-таки, что ночью я вдавливался в подушку лбом, встряхивал, как дурак, головой, не желая представить, что все это может окончиться... Допустим, я в кулак зажал воображение и логику, жил сегодняшним часом — то, что мы так часто друг другу советуем. А попробуй-ка выполни! Оказалось, видишь ли, что выполнить все на земле возможно! Все, все на свете может выполнить человек. Взять и не думать. И все, и все...
Я не думал. Я просто жил. И жил, понимаешь, как будто бы передо мной — вечность, — что вздумаю, то успею сделать, пересмотреть, переиграть, выполнить. Такое воображение — искусство. Искусство! А как же? Но я им овладел!
«Завтра» перестало существовать. «Завтра» не было, было только «сегодня». Я жил минутой, жил часом... Я даже ссорился и мирился с ней, я — если хочешь знать — даже ухитрялся думать о разных разностях, да так, понимаешь, как будто бы только теперь научился думать по-настоящему.
Допустим... И все же — «завтра» приходит, а? Не повиснуть на тех часах на Ратушной площади, не остановить стрелок.
Ну как я тебе объясню?!.
Любовь? Да, конечно, — любовь. Но что это значит — расстаться с самым родным для тебя человеком? Ну, например: быть маленьким и по своей же собственной глупости, по велению собственных соображений, расстаться с мамой?
Все здесь было рядом — рука, плечо, смех, недовольство, обида, любые выпады! Не о том я думал — хорошая или плохая она. Она была с о б о й, то есть мной самим. Все признаки жизни — это она.
Погоди, погоди... Слов у меня совершенно недостает, объяснить это невозможно.
Помнится, я был маленький, но уже умел ходить, говорить и даже знал наш адрес, а не только свою фамилию. И вот в один прекрасный денек, когда мы с мамой гуляли по главной улице нашего города, было очень много народу, и много солнца, и она мне купила воздушный шар, — мама вдруг на минутку разжала пальцы — и я потерялся. Была улица и воздушный шарик — кажется, ярко-зеленый, а мамы — не было! Я стоял в толпе один, потерянный, и ревел.
Меня спрашивали: «Мальчик, что стряслось, отчего ты плачешь?» А я: «Потерял маму».
И уж нашлись, понимаешь, добрые руки, взявшие меня за вторую руку — свободную от воздушного шарика, я даже сказал свой адрес, а все ревел... Опустела земля: потерялась мама.
На всю жизнь у меня осталось воспоминание о безграничности моего отчаяния. Как мог человек вообще находиться на таком пределе отчаяния, на пределе сознания такой пустоты мира, — я это потом, когда уже вырос, понять не мог!
Отпустить Наташину руку?.. Оказаться на той же земле — без нее, хотя я знаю — она живая, живая (и даже, может, быть, счастлива!), — каково это? Нет, скажи!..
Пришло, однако, времечко ее провожать (такое было у нас условие, чтобы вместе в Москву не ехать). Это для того, чтобы не в Москве расставаться, мы знали, что там мы не сможем... Нет! Побалакали и успокоились: все как прежде... Плюс разбитые судьбы. Уж это мы оба соображали! Все как прежде плюс слабость, отчаяние. Трагедия ее. И моя. Сиротство моих детей! Мы всё знали — мы знали. Всё! Не я. О н а.
Это она придумала, чтоб ехать врозь. Она еще в Москве мне поставила такое условие дурацкое. И я его принял с готовностью: улита едет — когда-то будет, — это когда еще расставаться!
Но вот оно: «расставаться» — пришло. Разве я б это мог? Не мог бы, если бы не она... Она была женщиной. А это значит что? Решительность и холодность. Вот что значит быть слабым полом. Не спорь! Я не выношу споров. Уж какой тут спор?.. Иди! Провожай ее на вокзал: вот и вся недолга! Вот те и спор, вот те спор, понимаешь?.. А вот — наша комната (там, в гостинице) вся в конфетных бумажках, коробка из-под пирожных, обрывки газет и брошенная ею пустая коробочка пудры. Наш общий дом! Наш обжитой дом... Обжитой моим отчаянием и любовью.
Нет, нет... Не перебивай!
Вокзал. Толпа... Нет, нет... Еще до вокзала. Такси — таксист. Его имя-отчество — Иван Казимирович. Я спросил его. А тьма, понимаешь... А мы — на заднем сиденье, рядом — рука в руке... Вдавиться в нее! Не быть. Не существовать. Сделаться воротником от ее пальтишка, ее детским колечком, сумкой, железнодорожным билетом — чтоб рядом, чтоб дольше, дольше...
И темный вокзал.
Помнится, я на дорогу купил ей журнал. Рядом — цветочный киоск. Накупил ей цветов. Подумал: «Какие дольше стоят?» И сообразил: «Лилии», — здесь они назывались иначе.
Я купил лилий. А руки заняты багажом, а на перроне — темным-темно.
...Нет, нет, — перрон был не сразу. Сперва — вокзал и перевернутое выражение ее лица. Перевернутое выражение. Поняла? Ни радости, ни страдания, ни любви, ни нежности — ошалелость...
Не глядеть в ту сторону! Не видеть ее дорогих рыжих глаз — вот что я себе приказал. Я боялся, боялся при ней разрыдаться.
И вот, понимаешь, — сперва вокзал с его суетой и кафелем под ногами. Подтаявший снег на вокзальном полу. Он превратился в грязь. Скользкий и грязный кафель. И ее чемодан. И дурацкие цветы у нее в кулаке. И хрипловатый голос — голос, севший до хрипоты. «До свидания!», что ли, здесь нам друг другу сказать? Ведь на платформе поезд стоит всего только три минуты. Во тьме. В полумгле. Платформа, знаешь ли, освещалась плохо... «До свидания» — сказать друг другу. «Прощай» — сказать? Не хочу, понимаешь! Я не хочу прощаться. Я не могу, понимаешь ли, — не могу!..
В подушку, в подушку глаза и лоб.
В подушку? В какую? Еще осталось десять минут.
В подушку, в подушку лоб и глаза...
Жизни — десять минут. Десять минут вот с этой ее рукой и воротником ее коротенького пальтишка. Воротник повлажнел от ее дыхания.
И десять, десять минут ее лицо, и глаза, и лоб — под моей рукой, — беспомощное лицо и такое теплое... В горстку, в горстку. «Уйди-ка в мою ладонь. Вот я — тут — здесь моя ладонь. И весь я. И я твой. И я люблю тебя. И я больше жиз... жизни...»
Минутку, минутку.
— Подожди. Я сейчас, сейчас.
Да... Перрон. Так вот: темнота. Три минуты, ты понимаешь, там стоял поезд... Толкались студенты (были студенческие каникулы)...
— Чемода-ан!.. Чемо-дан!.. Наташа-а! Твой чемодан!
И лицо в окне. А я стою на темном перроне. И улыбаюсь. Эдакий богатырь.
— Ната-аша! Наташа-а! Чаю не забудь, чаю! Не забудь заказать постель.
Поезд дрогнул. Качнулся туда и назад. Как будто меня пожалел... Качнулся, тронулся. И отчаянное, отчаянное выражение ее глаз. И рот приоткрыт. Крикнуть, что ли, она собралась?
— Лети, дитя мое! Моя любовь! Лети — в жизнь. И будь сча... сча... счастлива. Будь благословенна. Пусть твои грехи упадут на мою безмерно грешную голову... А у тебя ни ед... единого... Ни одного греха! Лети. Будь счастлива. Уезжай. Пусть твой поезд врежется, в минувшую мою молодость. Там она осталась! Там... Позади. Поняла-а?
«Поняла, а как же», — ответили мне колеса.
Как я бежал вдоль перрона! Как я махал, как мерзко, как старательно улыбался!.. Я жив, я жив — я еще вижу ее в окне...
Но вот ни окна, ни поезда.
Пролетели. Затихли. Перестали стучать колеса.
Пусто, пусто, пусто сделалось на перроне. Я — один. Я и какой-то железнодорожник.
Схватиться за сердце!.. Потерять шапку. Завыть.
Но ничего такого не произошло. Толстый дяденька с солидным брюшком прошел сквозь здание вокзала и спокойно остановил такси.
Вот и гостиница.
Я слепой, да?.. Где огни? Все погасло. Что со мной? Я ослеп, да?
Одну минутку. Я сосредоточусь и все пойму. Уехала. Нету. Все.
Минуточку, полминуты... Мне надо сосредоточиться: ее нет!
Вот лифт.
Ее нет, нет.
Вот ключ от номера. Нет ее, нету, нет! А вот бумажки — бумажки от трюфелей. И я, поверишь ли, встал на колени и принялся, старый дурак, собирать бумажки.
Скажи, между прочим, а есть ли вообще предел человеческой глупости?
Подушка! Здесь лежала ее голова. Я гладил подушку. Я, старый хрыч, упал, понимаешь ли, на колени перед кроватью...
«Вчера»! Оно было, было моим. У меня осталось «вчера»! То, как мы весело отплясывали с ней вчера вечером в ресторане. Был банкет. Она надела свое нелепое вечернее платье. Мой ребенок — в длинном, длинном — нелепом платье!
Банкет оказался вечером наших и шведских спортсменов. Женщины — все как одна — в современных вечерних брюках. (Наташа с жадностью их разглядывала.)
Я выпил. И опьянел. Мы плясали. Свет то гас, то вспыхивал (прожектора). Орал в микрофон исполнитель песен.
И я плясал. Я — плясал. Все во мне скулило, а я — плясал. Будь здоров, как я нажаривал и как весело нажаривала она. А возвратившись в номер — ночью, после «отпляса», — я целовал следы от ее шагов, напугав ее до полусмерти. Представь — распластался по полу, как летучая мышь, — и полз и полз за ее шагами! Я целовал гостиничный пол. Нет! Представь!.. Да есть ли вообще предел безумия человеческого?..
Дорогие ноги в маленьких туфлях. Я дополз до этих дорогих, дорогих ног!.. И целовал ремешки на ее туфлях!
Она не выдержала: расплакалась.
— Не плачь! — молил я ее. — Люблю! — говорил я ей, задыхаясь, на таком, понимаешь, пределе любви и отчаяния, что, кажется мне, под потолком колебалась люстра.
Упав на колени, старый дурак, я вдавил лицо в ее теплые, в ее дорогие колени. К ткани платья, обжитого ею, лепился я; к рукам ее, к вырезу, где начиналась шея. Биение жилок на этой шее! Жизнь! За которую я трижды отдам свою.
Я перехватывал ее плачущие, ее искривившиеся от рыдания губы, я целовал ее слезы... Ни слезинки на ее дорогих щеках!
Я не знал, не мог бы поверить, если бы мне сказали, что человек способен вообще дойти до такого экстаза любви и слабости; до такого душевного содрогания, до такого самозабвения и растворенности.
...Здесь, на этой подушке, еще той ночью лежала ее голова... И я целовал подушку.
Зачем мне жизнь?! В этом мире нет жизни: из жизни ушла о н а — моя жизнь!
Не помню, как я провел эту ночь. То есть — вру! Разумеется, помню, отлично помню. Я шатался туда и назад — как маятник: ждал рассвета. Все было сущим безумием: законченным, так сказать... Я понял! Пока в этом мире есть я и она, я с ней не могу расстаться. И это открытие меня утешило.
Утром я помчался к аэродрому.
Вбегу к ней в дом. Пусть топчет, гонит... Я... я...
И вот в самолете я задремал... Мне приснилась дочка моя: Наташа. Не такой, как была теперь, а совсем еще маленькой — годовалой. Толстые ручки выпростаны из байковых рукавов, пальчики — растопырены... Шагает! Ко мне. Едва умела ходить, но уже умела любить.
Дошла. Прижалась к моей ноге, к брючине на моем, колене. Я схватил ее, поднял. В воздухе разъехались ее ручки и ножки — кошачьи лапки. Она смеялась, а я ее все подбрасывал и подбрасывал, пока на нас не прикрикнула мать.
Москва.
Как я домчался до ее дома, право, не помню.
Дверь — заперта. На двери — замок. Соседи мне обстоятельно рассказали, что Наташа не возвращалась, что каждый день телеграммы ей: от ее жениха.
...Между тем я знал, где Наташа. Я один знал... У старшей сестры она! Я-то знал. Не доехала, слезла на полдороге. Она, понимаешь, как-то проговорилась...
Сошла и там свои раны зализывала. Я догадался, я — догадался. Об адресе сестры я понятия не имел. И понятия не имел — как ее фамилия: сестра у Наташи была замужней.
Все углядела, сообразила... Практичность слабого пола! Не возражай! Но пока я сидел в передней перед закрытой дверью с большим замком, я понял вдруг, что она меня... быть того не может!.. Что она меня... быть не может... так же, понимаешь, как я ее... И что ей, может быть, еще тяжелей, чем мне, словно бывает еще тяжелее, а?!..
Эта девчонка... Эта чертова-чертова девка — решила... Освободить!.. Понимаешь? Ради моих детей... В цирке, помнишь? Ну да же, да! Как она смотрела...
Моя жизнь. Человечек мой. Моя жизнь. Жизнь, жизнь... Как мне жить без жизни? Давай ответь — раз уж так ты все на земле понимаешь! Как жить на свете без жизни и без любви?
...И он больше не приходил.
Перед его разлукой Наташа ему сказала: «Не будь один. К ней иди. Ведь она твой ближайший друг».
С тех пор он больше ко мне не пришел ни разу, ни разу не позвонил мне по телефону.
Однако несколько раз я все же его встречала (сложно было бы нам никогда не встретиться).
Украдкой я разглядывала его. Глаза — погасли.
Вот, допустим, свечи: горят. Подошел человек, сильно дунул и погасил свечу. Нет огня. Но свечи чадят воспоминанием о бывшем пламени.
Глаза — задуло. Они сделались почти совершенно тусклыми.
Говорили, что у него застарелая, очень тяжкая болезнь сердца.
Он умер через два года. Я узнала об этом из пространнейшего некролога.
«...всего 52... тридцать пять из них отдал нелегкому труду композитора... добрый, отзывчивый человек... (Неправда!)... Настоящим другом своим друзьям, большую утрату... его собратья, слушатели, сотрудники...»
Может быть, его смерть меня перевернула?
Нет. Когда подруга спросила: «Как ты отнеслась к известию о смерти такого-то?» — я сказала ей совершенно искренне: «Стыдно сознаться, но я ее не заметила».
Что ж делать? Он выбыл из моей жизни, дважды войдя в нее.
Но всё ли мы знаем о себе?
Однажды в некой очередной поездке со мной случилось вот что: я доехала до города, где они оба были тогда.
Лето, жара. Солнце обливало ярчайшим и как будто бы дребезжащим светом автостраду от «Девятого форта» — до центра города.
Дойдя до «Девятого форта», я остановилась и повернула назад.
Передо мной лежала серо-белая лента дороги, в ней плавилось солнце, по ее сторонам росло что-то повыжженное (не там, где деревья, нет, — деревья подальше, а здесь — трава и колючие растеньица с лиловыми головами, такие же, как на юге).
...А звучит ли ночью эта земля скрипичным концертом кузнечиков? Отдает ли она, как у нас, ночному воздуху то тепло, что скопила за день? Оживают ли здесь, в траве, с началом ночи тысячи существ — невиданных и неслыханных, чтобы петь, цвивиркать, летать и ползать? В этой жизни своей короткой, короткой, короткой... Кратенькой жизни суслика и тушканчика, кузнечика, светляка?.. Таинственные, темные, скачущие, пугающие человека, воскресают ли они в темноте ночи, чтоб творить свой ночной концерт — улюлюкать, тренькать, скакать меж трав?
Нет, должно быть. Ведь здесь по ночам трава не бывает такая темная, как у нас, потому что здесь не такое темное небо.
Я шла и шла. И вдруг почему-то разулась, остановилась, присела сперва у обочины, потом побрела под дерево, уронила лицо на теплую землю.
А вдруг я его любила?!
Нет.
Ну, а если вспомнить как следует?
Не любила. До отчаяния, до самозабвения я любила под этим солнцем только своего сына.
Стало быть, на земле бывает любовь? Наперекор войнам?!
Хорошо... А была ли я хоть сколько-то ему другом? Нет... Тогда, в тот первый вечер после войны... Я ждала от него простого человеческого сочувствия, я вправе была его ожидать, он — отец, он знал, что такое дети. И он подарил ему... Он ему подарил хорошенький, красненький носовой платок.
Уходя, они оставляют в жизни столь малый след! Он велик лишь в памяти матерей. Но есть ли на свете что-нибудь бесчеловечней смерти ребенка?..
...Все малыши на свете стали моим умершим сыном. Шли годы, — он продолжал расти. И вот уже большая часть человечества — дети и взрослые — сравнялась с возрастом моего сына: ведь я старела.
...Двадцать, двадцать четыре года... Ясное дело, что стрелки двигались. Я — старела, а он — взрослел... Двадцать пять, двадцать шесть...
Велик инстинкт материнства! (Он — мой земляк — сказал бы: «дурацкий, чертов-чертов инстинкт!»)
Город. Наш с тобою портовый город...
Нет, погоди, погоди, я сосредоточусь.
Помнишь, летом, утром, часа в четыре, ты и другие ребята вдруг меня выкликают. Спать хочется. А голоса все звонче, громче, нахальнее... Весь город перебудили. Я одна сплю. Мама ругательски ругает меня и с бранью выталкивает на улицу.
Вот — берег! Солнце уже взошло, но галька с ночи еще холодная. И вдруг я опоминаюсь — поют во мне силы молодости, здоровья.
В воду! Какая она холодная!
Медленно и кругло выкатывает белое солнце с той стороны моря. (Вот именно что совершенно белое — а не желтое.) Ты помнишь? Скажи, ты помнишь это белое солнце? Ответь! Скажи.
Мой земляк был дитя человеческое, с его страстями, грехами, страданиями.
Старея, я научилась... Да ладно!
Я все еще лежала под тенью дерева, у дороги, ведущей к городу. И вдруг я заплакала. Стало легче. Уронила лицо на землю и завыла, завыла в голос.
Реквием! Я знаю, земляк, что ты написал реквием... Тогда, когда еще говорил со мной, ты шел к нему своей таинственной дорогой, не ведомой никому.
В этом городе, з д е с ь! — я знаю, — живет твой реквием, земляк, там, где «Девятый форт», где колокола, где улица, на которой ты впервые услышал его дальние звуки, где та харчевня, где...
И я позвонила композитору Гачаусусу — хозяину колоколов (ведь это ты рассказал мне о нем, земляк).
Композитор Гачаусус (вечер):
— Кто говорит?.. Его друг? Но у вас, по-моему, женский голос? Ага, вот то-то и оно и есть, что сестра. Сестра и друг? Хорошо. Завтра. Точно. В десять утра. У башни. В скверике... Не опаздывайте: об этом я все же вас попрошу. Не один. В четыре руки, с Гедвином — моим сыном.
Композитор Гачаусус (утро):
— Не плачьте. Не выношу, понимаете ли, женских слез... Неудачной была наша единственная и последняя встреча с вашим высокоталантливым братом. Но кто же мог догадаться?!.. Пьян. Совершенно пьян. Неуемно пьян... Был мороз, а шуба на нем распахнута... И взгляд... Очень странно и грустно. Он был взволнован.
Вы, должно быть, знаете, что мы уже принимали его жену и сына — вашего племянника и золовку. Трогательный, очень трогательный молодой человек, он так бережно поддерживал мать. А впрочем, я — фантазер.
Сегодня мы будем играть для вас. Я и Гедвин — он уже наверху, на башне...
Скульптурный проект «Девятого форта»?! Как?! Брат и это вам рассказал? Как трогательно, какое внимание к нашему городу! Этот конкурс — событие для нас... Событие! Проект?! Вот вы говорите — проект, проект... Проекты!.. Ха-ха-ха! Все еще обсуждаются. Четвертый тур! Мы, знаете, запаслись терпением, мы готовы ждать... (И он снова громко захохотал.) Голоса в жюри раскололись. Они клонятся в сторону проекта другого, — поверьте мне, старику, — ничего не говорящего ни уму, ни воображению. Мы — люди искусства нашего города — принимаем это как личное, так сказать, поражение. До чего музыкален, вот именно — м у з ы к а л е н, проект Бертинисов — отца и сына, один из лучших проектов памятников жертвам фашизма! Лучший из тех, которые я видал... Я выступлю из состава жюри... Я...
Собрался народ, однако... Смотрите! Публика. Кто им сказал о концерте? Решительно ничего в этом мире, под этим солнцем не удается скрыть. Не правда ли, у нас чрезвычайно болтливое солнце?! Садитесь, мадам. Публика невоспитанна! Концерт для вас, а вам может не достаться места. Сюда: вот на эту скамью, под дерево.
Стены башни, неуклюже слепленной из бетона и нисколько не похожей на церковную колокольню, бежали вверх, все вверх, вверх, обрываясь высоко над черепичными крышами, над улицей, площадью и уж конечно над кронами шелестящих деревьев. Их было много, этих деревьев, и, поскольку лето, — очень много людей (народу). Вот они: пристроились поудобнее, чтобы послушать музыку; суетливо заняли все скамейки. Кое-кто из туристов сел прямо в траву, разостлав плащи (разведали, что сегодня концерт, но вряд ли о том, что «Реквием»).
Тихо скрипнула тяжелая дверь, закрывшись за органистом... Ступеньки в башне не были деревянными, я долго слышала — или мне казалось, что слышу, — шаркающие, немолодые шаги Гачаусуса. Но вот они замерли. Я заметила у подножья башни группу выстроившихся ребят (мальчишек), пожилую женщину в белом... Перед ними стоял хормейстер. Мне кажется, это был хормейстер, потому что в руке у него — дирижерская палочка.
Удар и еще один. Тугие, мягкие, круглые, торжествующие удары.
Тему вели три колокола. Их подхватывали десятки более тонких, более высоких колоколов, приглушая все гомоны, все городские шумы: смех; едва уловимое звяканье трамвайных рельсов; шорох колес по асфальту.
Город превратился в огромный концертный зал. Порвалось небо и брызнуло вниз.
Этого я не могла стерпеть, опустила голову и заплакала.
«...Я был жизнелюбив».
«Да. Ты был печален. И жизнелюбив».
«Я любил».
«Да. Любил... Любил, в своем вечно измятом костюме, в истертых замшевых полуботинках. Ты был неряха. Но человек совести!.. И редчайшего, поверь мне, редкого обаяния».
«Она сказала мне: «Положи меня, как печать на сердце твое».
«И ты положил ее, как печать на сердце свое? На больное сердце!.. Больное! Отчего ты мне про это ни разу не рассказывал? Ты положил ее, как печать на сердце свое. Значит, бывает такая любовь?»
«Зачем ты спрашиваешь меня? Ты же знаешь, — бывает. Каждый слышал, что значит любовь к своей родине. К своему сыну. А к женщине?.. Как же не быть любви? И вот я положил ее, как печать на сердце свое. На больное, немолодое, изношенное сердце свое».
«Чем ты это писал? Не глазами, не сердцем, не памятью!»
«Нет. Я это писал своей жизнью, — с ее детством, юностью, морем, солнцем. Разве ты не улавливаешь в ударах колоколов вздох и выдох моря, девятого вала?.. Зачем ты спрашиваешь меня?!»
«Да. Я узнала. Это самый грозный — это девятый вал! Но разве же это реквием?»
«Нет. Не реквием. Как ты музыкально необразованна! А еще человек из нашего города! Это осмысление жизни, всей жизни — перед самым ее концом. Разве реквием — обязательно заупокойная служба?.. Как страстно в часы тягчайшей болезни мы видим то, что осталось для нас по ту сторону занавеса: два муравья у трещины в скале, над обрывом, синяя головка бурьяна... Бурьян и растение — мята. Как славно пахнет она! Как я счастлив, силен и молод. А закат? А дождь? А радуга? Земля — ведро! И радуга, — понимаешь? — стала ее коромыслом... Я жил, я радовался и плакал. И я страдал. Мы привыкаем к жизни так, как будто она нам положена. А ведь жизнь — подарок!.. С какой готовностью мы расшвыриваем ее. Но это — в молодости. Чем старше, тем жаднее и корыстолюбивее человек. Он копит жизнь, как бы много ни было у него отнято... Речка... Поле, его тишина, необозримая, как покой.
Жить!.. Жить! Жить!»
«Ты живешь?»
«Да. Живу. Уж будто бы ты не знаешь?.. Как ты мучительно музыкально необразованна. Мне следовало этим заняться».
Звуки колоколов стали тише. Послышался женский голос:
И голос детей:
На верхней площадке башни еще чуть гудящие колокола как будто бы переводили дух. Странная вязь по краям, у каждого колокола. Они тяжелые и большие. Органисты — Гачаусусы — отец и сын, словно под куполом, под их медной сенью.
— Познакомьтесь, — учтиво сказал Гачаусус. — Мой сын — Гедвин.
Белокурый юноша, с тяжелым, асимметричным и вместе броским лицом, привстал и вежливо поклонился.
— Вы, кажется, очень взволнованы? — спросил Гачаусус-старший.
— Не... не знаю, право... Как мне вас отблагодарить?!
— Очень проста. Нада сказать «Спасиба!» — шутливо помог мне Гедвин.
— Спасибо!
Я села рядом, под медь огромного колокола, утерла глаза носовым платком... И задумалась.
— ...Да, да, свой собственный гибкий, выразительный музыкальный язык, — выхватывала я обрывки того, что мне говорил Гачаусус, — ...большая напряженность в соотношении интервалов... Не понимаете? Будет, будет!.. Музыкальный опыт каждого человека создается лишь его памятью. Вы запоминаете звуки, а это значит — можете следовать за произведением из звуков. Верно?..
...упор на альты, гораздо больше, чем на сопрано... Заметили? — продолжал бормотать из-под купола композитор. — И знаете ли, — вы ведь друг ему... Сестра и друг. Я потом прочитал все его партитуры. И был удивлен безмерно. Как и куда он швырнул свой талант?! Зачем? Из чувства юмора? От застенчивости? Это бывает, это бывает... Какой, однако, насмешливый человек! Ничего значительного: только вот эта великолепная оратория жертвам «Девятого форта»... Я, знаете ли, ходатайствовал о том, чтоб ему посмертно присвоили звание почетного гражданина нашего города...
Я слышала, но не слушала. Мне хотелось скорей уйти и прижаться головой к дереву.
И я ушла и прижалась головой к дереву, к его теплому, нагретому солнцем стволу — тут же, в сквере, у Исторического музея.
«Ты слышишь меня?.. Я тебя никогда особенно не донимала. А ты меня дарил откровенностью, не спрашивая, хочу я этого или нет.
Откровенность — дар. Я понимаю, я — понимаю... И всегда благодарна тому, кто приходит, чтоб что-то доверить мне.
Но до этого я додумалась, когда начала стареть. Есть, однако, нечто, за что я благодарна тебе по велению сердца: когда-то, очень давно, ты... Ты верил в меня. Не мне, а в меня! Это мне доставалось редко! И за это я выборочно благодарна до жестокой, жесткой щемоты в сердце.
Когда-то ты просил, чтобы я посвятила тебе рассказик «Глобтроттэр», говорил, что скупишь мои рассказы, а потом на них «подработаешь», пытаясь всучить мне деньги, притворяясь одним из бесчисленных торгашей с барахолки нашего дорогого города.
И моя благодарность тебе велика, глубока и так искренна, что я хотела бы...
Я хотела бы эту повесть тебе по...
Нет! Скажу, как сказал бы Грин:
«...Желала бы почтительно поднести тебе эту повесть».
Реквием, реквием!.. Ведь тебя уже больше нет!
Поверь! Этот реквием написан с дорого стоящей откровенностью.
Прими! Ты слышишь? Окажи мне честь и прими: прошу!»
МОНОЛОГ
Памяти моего сына
ПРЕДИСЛОВИЕ
Там, в конце длинного неосвещенного коридора — коридора сомнений, горестей, утрат и страданий, — теплится свет. Это горит свеча. Живой ее пламень все разгорается, крепнет.
И шагает по темному коридору на ее свет человек.
Впереди живое зыбкое пламя, все устойчивее, устойчивее...
Может ли вещь, которую я обращаю к тебе, мой невидимый собеседник, считаться биографической?
Нет.
Жизнь нынешнего поколения сложна. Всякий рассказ о прошлом состоит из множества нитей, продольных и поперечных.
В силах ли, должно ли, способно ли любое признание охватить многообразие жизни — при всем желании автора широко поведать тебе о пройденном?
Нет. Он сделать этого не в силах, не следует и пытаться. Повествование разрослось бы, запуталось. А лирическая повесть стремится быть покороче. В ней мало событий, и главное из них — исповедь.
Перепутанные между собой нити нарушили бы все каноны литературного ремесла. (А литература, как и всякая другая работа, есть ремесло.)
Поэтому эта повесть, как всякая другая, всего лишь попытка быть прочитанным, понятым и принятым. И не обо всем (ибо все необъятно даже в кратком отрезке жизни одного-единственного человека) должен пытаться рассказать пишущий.
Моя повесть — вещь не автобиографическая, но она основана на фактическом материале, которым по мере сил своих обязан владеть любой пишущий. Вот только и всего.
Любое время, особенно наше, ищет свою новую форму, «звук», тональность, свойственную ему одному.
Кто такой пишущий? Всего лишь человек.
Каждый литератор понимает свою задачу по-своему. И каждый, а в том числе и я, склонен п о - с в о е м у отдавать тебе, мой невидимый собеседник, свои чувства и мысли.
Я сознаю, что подчас они чрезвычайно спорны. Однако закон любой книжки, сработанной всерьез, это полная откровенность. Без этого ни одной, самой скромной, книге не дано обрести дыхание.
Надо помнить — и помнить твердо, — что каждый измеряет мир сантиметром, заложенным в нем самом. Другого способа видеть, чувствовать и судить у человека нет.
И еще хорошо бы не забывать, что наша память более склонна удерживать доброе, чем плохое. Иначе как могли бы мы жить?
Этой малостью мыслей и малостью других мыслей я стану прерывать свое нехитрое повествование о молодой женщине...
1
Сознаю ли я, могу ли угадать, предчувствую ли, куда поведет меня эта дорога?
Нет.
Я испытываю только сдержанное волнение от ожидающего меня путешествия и скованность от сознания близости чужих мне людей.
Я, как всегда, озабочена тем, как стану себя держать, ибо, будучи чужими, они все ж таки не совсем чужие — мои коллеги. Что-то в этой моей зависимости от них, без внешней зависимости, есть детское, глупое. Ведь это мои товарищи.
Я не выполнила завета своего убитого на фронте учителя: «Научитесь-ка презирать». Презирать я решительно не умею. Напротив: можно подумать, что душа моя состоит из множества «усиков» — уловителей восторга и боли (бывают же, например, уловители влаги!).
Но день так светел, дорога обещает так много, а я так люблю путешествовать!
Перрон и поезд. Меня провожают двое. Их обеих я очень люблю, не только маму — чего уж тут рассусоливать, это яснее ясного, но и вторую — мою ученицу. Она моя ученица, как бы не будучи ею, ибо самостоятельна вполне.
Чудесное свойство толковость. Она им владеет. Это то, что так сильно недостает мне. Я бестолочь. Толковость меня обошла. В чем это выражается, объяснить трудно. Видимо, эмоциональный фон опережает разум, логичность, умение строить сложное здание книги. Однако дело не только в этом.
...Итак — молодая писательница, провожающая меня, талантлива и толкова. (Она — ученая. Привыкла аналитически мыслить.)
Из глубины, — не из тех глубин, где живут мысли, не из тех, где чувства, — из тех, где инстинкт, поднялось однажды: «талант»! Поднялось, гудя в тишине ночи, заставляя меня ликовать, как человека, открывшего еще одну маленькую вселенную.
Талант! Страна, населенная мыслями только этого человека, только е г о людьми; страна, где в людях пульсирует живая кровь, где над ними — живое небо. Мир, трепещущий то радостью, то печалью. Ребенок, рожденный живым. Трепет, судьбы, горе и радости...
И вот она — «талант» — на перроне, подле меня, в дурацкой шляпке с высоким донышком. Очень серьезная и молодая. Стоит с цветком в руке и бормочет:
— Вы и об этой поездке напишете, вот увидите. И помните, я... то есть мы... то есть я... А?.. Хорошо?..
Люди из нашей группы все прибывают и прибывают.
...Поезд тронулся. За поездом побежала моя юная провожатая в шляпке с высоким донышком. На краю платформы мелькнула мама.
В нашем купе три бабы, один мужик, слегка хромой (след войны). Он молод. Во всяком случае, мне он кажется молодым. Мы с ним на верхних полках; Клава (моя соседка по дому) — на нижней. Она сейчас же, как только тронулся поезд, принялась укладываться.
Выхожу в коридор из тесного пространства купе. И там оказываюсь с глазу на глаз с самой молодостью.
В коридоре стоит дочь руководительницы нашей туристской группы — худая девушка с распущенными волосами.
Мы, естественно, и дальше встречались с ней во время поездки, тут и там мелькали ее распущенные волосы, ее худенькая высокая фигурка. И всегда мое сердце сжималось чувством выборочной, личной симпатии.
Говорили мы с девушкой о случайном, но что-то в моей уважительной к ней серьезности ее тронуло.
Мы признались друг другу, что не любим всего, что трудно дается (я была совершенно искренна и упустила из виду свою профессию). Имелись в виду только платья, любовь, поездки по белу свету.
Да, да. Я могу, разумеется, не любить того, что трудно дается. Но ничего, между прочим, и никогда мне еще не давалось даром.
Она ушла к себе, тряхнув на ходу прямыми длинными волосами, но след от нее остался, как от улыбки. Он и сейчас во мне.
2
Когда поезд с нашей туристской группой доехал до той остановки, где следовало высаживаться, был поздний вечер, быть может ранние часы ночи.
На вокзале нас встретила женщина-гид. По-русски она говорила плохо.
Тьма неба, неяркое освещение вокзала, большая группа моих коллег — все вместе, смешиваясь с чувством усталости, давало чувство странной ирреальности.
Я много ездила по нашей стране. Но тогда у меня была деловая цель. Дело и чувство свободы, раскованности рождало подобие опьянения, чувство новизны шибало меня еще на аэродроме. Неутомимое, неутоленное любопытство стучалось в душу. Я жадно оглядывала новое место — через окно такси, трамвая или автобуса.
Мир, впервые мною открытый!
А здесь мысли только о том, чтобы не отколоться от своей группы, не потеряться в темноте чужого города, и чудаковатое, незнакомое мне ощущение «путешествия», игры, в которую охотно играют взрослые.
Но так чувствовала и думала, видимо, я одна. У всех лица были нормально озабоченные (это для них не первая поездка «за рубеж»). Они знали, чего хотели. А я своего не знала.
Сели в автобус, автобус подкатил к гостинице.
Франкфурт.
Темными показались мне его улицы, и мало того что темными, но — невиданно и неслыханно! — через столько лет тут и там маячили опознавательные знаки прошедшей войны.
Не зализала еще земля своих ран.
Вон стенка полуразрушенного дома с пустыми проемами окон...
Война! Долго ли будет гудеть твое эхо?
«Да. Долго. Ведь в твоей душе все еще гудит оно, верно?»
Пронзительней всего кричат те самые-самые первые минуты, когда ты узнала о ней, о войне.
...Пробил ее грозный колокол над юностью, над молодостью твоей.
Был вечер накануне страшных событий.
Ветер гнал вперед твою юбку и волосы, которые можно сегодня, за давностью лет, весьма свободно назвать кудрями.
Как парус, вздувалась летящая вперед юбка (тогда еще не носили «мини»). То и дело падали на тротуар шпильки. Тебя обнимал ветер. Шляпка соломенная. И вдруг над соломенной шляпкой (помнишь: ты очень ею гордилась?) раздался гул: гул войны.
Синее небо. Лето. И вот, наподобие отражения в замутненной воде, ушла молодость.
Еще вчера она была. Накануне того безгранично страшного воскресенья.
Ночь. Шаги по улицам в белой ночи. Две пары ног, развевающееся пальто, соломенная шляпка, а над головами и крышами (небо цвета грязного жемчуга) — белая ленинградская ночь.
Катер по Неве летит на Стрелку. Ветер в лицо. А на островах под ногами поскрипывает гравий. Гладь залива, который все величают морем. Он плоский. Он неподвижный. Он отражает светлые небеса. Море — без тьмы и без флюоресценции.
...Два голоса, трава по краям песчаных дорожек. Бесконечность ночи, сливающейся с рассветом.
Рассвет.
Как можно не сохранить благодарной памяти о молодости своей? Как можно не уберечь прекрасной усталости той ленинградской ночи, незаметно слившейся с утром?
Да, да... Мы выиграли войну. Но в этой жизни, даренной и сохраненной, надо выиграть не только войну. Надо выиграть самих себя.
Я вернулась после войны в Ленинград, в одиночество своего опустевшего дома. Каждое утро в мою одинокую комнату приносил дрова для печи недавно демобилизованный солдат — сын дворника.
Мы с ним перебрасывались словом-другим, как двое фронтовиков. Он сидел на вязанке дров, мы смотрели друг другу в глаза, двое военных, чей бег внезапно остановился.
К этому чувству мы никак не могли приспособиться. Оглядывались назад, нам слышался гул прошедшего.
Трудно бывшему фронтовику. Очень трудно. Надо учиться жить...
...Туристская группа
Наш автобус катит вперед.
1970 год. Франкфурт. Пре-е-красно.
Промелькнула стена разрушенного войной и не восстановленного дома; затеплились зашторенные окна. В одном из них я узнала свои портьеры из ткани, что покупала в Москве. Смех и грех! Но ведь ткань-то была немецкая!
В окнах мелькали немецкие лампы, хорошо нам знакомые. Они продаются в московских магазинах.
Что увидишь в пространстве, освещенном только светом из окон домов?
Ничего. Мглу.
Но я, человек, привыкший к поездкам, вот именно — не к путешествиям, а к поездкам, ухитрилась различить и в черноте ночи смутные очертания города, его мостовые.
Айзенхютенштадт. Новый город. Вестибюль гостиницы. Свет. Чемоданы.
Я оказалась в комнате со случайной попутчицей.
В окно глядела ночь. Рядом со мной раздевалась женщина. Она уснула, а я заснуть не могла — все думала и думала об утрате и почему-то боялась проспать. Но вот наконец потихоньку я стала задремывать. Разумеется, я не знала, что ждет меня завтра. Грозным было то, что ждало меня завтра: пленка, прокрученная назад; отступ в прошлое, в печаль моей пролетевшей юности.
И вот пришло утро.
Из нас двоих я проснулась первая.
Подошла к окну и выглянула на улицу.
За окном незнакомый город — Айзенхютенштадт. Строители, видимо, попытались противопоставить его капиталистическим промышленным центрам. Объемно-пространственные композиции симметричны. Новые дома такие же, как у нас на окраинах Москвы.
Но Москва велика. Когда глянешь на ее новостройки где-нибудь на краю города (впрочем, кажется, теперь не бывает окраин), они (дома) почему-то сливаются с ощущением простора и широты неба, чаще всего с закатом. Все вокруг розово, будто тронуто тонкой кисточкой, которую обмакнули в розоватую краску. Дома... И вдруг кусок какого-то поля, где еще валяются железяки, рельсы, неведомо что — ошметки недавнего строительства.
Из окон гостиницы в Айзенхютенштадте видны только ближние улицы, крыши домов. Серо. Чисто. В свете разгорающегося дня просвечивают на окнах задернутые шторы.
...Шесть утра. Спускаюсь вниз. Оглянувшись, сажусь в какое-то кресло. Вокруг знакомая, хорошо мне знакомая речь — говорят по-немецки. (Язык для человека не умирает, он в нем задремывает.) Сколько лет прошло с тех пор, как я говорила по-немецки в последний раз?!
Всего однажды после войны мне пригодился немецкий язык. В Чехословакии, в магазинах. В Карловых Варах я была для русских переводчицей.
А там, в Чехословакии, помнится, есть Кракарош — огромное каменное изваяние, выступающее из скалы. Если схватить Кракароша за нос и быстро задумать желание, желание якобы исполняется.
Из пригорода приезжали чешки-молочницы, ставили бидоны на землю и хватали за нос бедного Кракароша. Его хватали за нос француженки из Парижа и наши русские женщины. Нос у огромного Кракароша со временем облупился (Кракарош жил в скале, высоко над землей). Мужчины деловито подхватывали женщин под локти и приподнимали их: «Скорей задумай желание!..»
Я тоже, не будь дура, задумала: «Пусть твой волшебный нос, дорогой Кракарош, подарит мне уверенность в несокрушимости сил человека».
Но я, должно быть, плохо или как-то не так дотронулась до Кракарошева носа, потому что вот: сижу в гостинице в креслице и не решаюсь выйти на улицу.
Постепенно, один за другим, из номеров выходят мои товарищи. Выходят и... марш на волю («Послевоенный город Айзенхютенштадт. Интересно!»). А я все сижу и сижу, словно мешком прибитая из-за угла.
Я, конечно, люблю одиночество, дающее свободу зрению и мыслям. Я — странник, не только много колесивший по земле, но человек воевавший. Много морей исплававший и после войны. Моря мне не друг и брат, однако я их все же пересекала — с их скалами, встающими из глубины вод, с их (очень, впрочем, редкими) дальними берегами, туманными очертаниями далекой земли, с их чайками, дельфинами, с их подводной таинственной глубиной, где так отчетливо и страшно слышится затаенная жизнь. И маяки темнели в дневном свете, как большие, торчащие из воды пальцы.
А маяки ночные с их зажегшимися, призывными, мигающими огнями?
Даже на самом маяке — посреди моря — я однажды была. Там, где пришвартоваться-то, казалось, — да и на самом деле, — было трудно (острые скалы). Спустившись с большого транспорта, мы подошли на лодках к скалистому берегу.
Сверху, из окон маяка, я вдруг по-новому увидела просторы моря. Как велика, как печальна, как однообразна была его серая, его дышащая испарениями равнина.
Ветер, волны, отраженный свет транспорта в водах морских, а дальше — мгла, тайна, затаившаяся и незримая.
...Здесь за берегами гостиницы — всего лишь Айзенхютенштадт. А я боюсь выйти, боюсь потеряться, отстать от группы.
...Подъехал автобус. Мы оперативно выволакиваем из номеров чемоданы. Молодые мужчины — их двое (бедняги!) — энергически орудуют с багажом.
Автобус трогается.
Вперед.
Здесь уместно упомянуть, что в автобусе (то есть в нашей группе) оказалось всего лишь двое бывших фронтовиков. (Вероятно, смешно говорить об этом сегодня, когда далеко отступила война, но в данном случае это существенно.)
Фронтовиком был мой бывший сосед по купе (тот, который хромал). Он и я. Мужчина — армия. Я — флот.
Перед тем как автобус тронулся, мне померещилось вокруг какое-то странное оживление. Руководительница группы о чем-то шепталась с женщиной-гидом, та шепталась с шофером.
Едем, едем и едем.
Окаменело смотрю в окно.
Шофер автобуса — молодой паренек с волосами, стриженными скобкой. (Женщина-гид сказала, что он молодожен и что жена его в Берлине.) Хороший парнишка шофер, славный немец из поколения молодых.
Что они, кто они — молодые немцы? Ничего я о них не знаю.
Все циклично, все повторяется, но, может быть, недостаточно помнить свою собственную юность?
Я уже несколько раз дарила шоферу сигареты. Он принимал их очень просто и мило.
...Итак, мы едем. Едем по полю. Все отчего-то с любопытством косятся в мою сторону. В руках у нашей попутчицы, молодой девушки — той, что с распущенными волосами, — цветы.
Памятник.
Машина вздрагивает и тормозит.
Словно пыль на незнакомом мне памятнике — пыль времени. Огромный якорь, огромная якорь-цепь.
Некрасиво. Грубо. Покинуто. Памятник у самого входа в город — там, где первые городские дома.
Товарищи, прихватив фотоаппараты, спускаются вниз.
Вышла из машины длинноволосая девушка с цветами. С непередаваемым чувством изящества, склонившись, возложила цветы у подножья памятника.
Я... а ведь я здесь когда-то уже была...
Да это же Фюрстенберг! База нашего флота в Германии.
Фюрстенберг! Фюрстенберг! Как я могла его не узнать?!
Женщина-гид:
— Мы слыхали, что вы моряк и здесь воевали. И вот мы сделали этот крюк ради вас. Тут, говорят, была ваша база.
Я ошалело молчу.
...Эхо-о-о! Звук ускользающий. Издалека бежит дыхание прошлого. Когда-то очень давно я на самом деле была моряком, носила тельняшку (узенькую тельняшку, в которой бы не вместиться сегодня моей расширившейся груди!).
Юность в белом платье, ты с трогательной серьезностью приносишь цветы моей ушедшей молодости — тому страшному крику, когда меня ранило и кровь, молодая и жаркая, испачкала мой выходной офицерский китель. Первая моя мысль: не «а буду ли я жива?», а «что я буду делать без выходного кителя?!».
И вот теперь ты склонилась, чтобы возложить к подножию памятника цветы.
Не говори: «никогда». Не смей! Не греши. Потому что я, например, не могла догадаться, что когда-нибудь опять окажусь в Фюрстенберге, что автобус сделает ради меня этот двадцатидвухкилометровый крюк.
Знала бы, не села бы в поезд, в автобус.
Мое прошлое — это я, зачем же мне до него дотрагиваться?
Не хочу!
Молодой шофер и молодая девушка, с цветами! Почему вы до сих пор поете наши песни? Что для вас пронзительного в той, далеко ушедшей войне?!
Звенят, гудят и дрожат провода, бегут новые соки в стволах деревьев. Грустно шевеление травинок над могилами павших.
Не выплакать, не выкричать войны.
3
Этой дорогой и этим поездом я уже ехала однажды.
Нас, военных, доставляли тогда из Москвы в воюющую Германию.
В вагоне, помнится, было много народу, все невольно жались друг к другу, каждый, которого жали, от раздражения ненавидел того, который жал.
Я была единственной женщиной в этом вагоне — меньше всех ростом и самая робкая. Несмотря на присущую мне одесскую дерзость (быть может, происходящую от слабости — я все же не в силах толкнуть, потеснить другого человека), я стояла, стиснутая плечами, спинами, животами в темных морских и сероватых армейских шинелях, молчаливая, опустив голову. Всех это почему-то смешило. Я стала поводом для острот. Чем больше меня пытались задеть, тем ниже я опускала голову. Не хватало воздуха. Я спрашивала себя: «Сколько эдак смогу простоять, сколько буду в силах все это вынести?.. Часы, сутки? Неделю?»
Но ехала я, к счастью, не одна. Лейтенант флота, который ехал со мной, был жизнеспособный человек.
Пробившись через все эти ноги, спины, фуражки, насмешки, он проскользнул в передние вагоны (плацкартные), долго отсутствовал и вдруг возвратился — важный, довольный... Он мне сказал: «Пошли!»
Мы стали ввинчиваться в толпу по направлению к площадке вагона. Нам вслед летели насмешливые окрики.
Вот и площадка. Воздух и ветер. Возможность дышать, расправить плечи.
Мой попутчик самодовольно шагал впереди, я едва за ним поспевала. Но ведь я привыкла не жаловаться (ах, если б эта полезная привычка осталась со мной до сих пор!).
Мы шли. Он оглянулся, посмотрел на меня. Лицо почему-то выразило пренебрежение.
Площадка, другая...
И вот купе на четырех человек. Два места заняты — нижняя и верхняя полка.
Лейтенант, добывший нам это великолепие, лег на нижнюю, а я все стояла, не в силах опомниться.
— Специальное приглашение требуется тебе, что ли? Взбирайся-ка наверх. И ложись.
Я повесила на крюк свою шинель и задумалась по глупости, как быть с сапогами. Виновато, робко, чтоб никому не помешать, взобралась наверх и там стянула сапоги. Волнение от бега и неожиданности, от давки и человеческого раздражения, обрушившихся на меня, было так сильно, что я не сразу смогла уснуть.
За окном — ночь. Проплывая мимо поезда, моргали деревья. Создавалась картина суетной жизни неба, жизни пристанционных не то чтобы огней, а какого-то неясного, едва уловимого, замаскированного света.
Я лежала на голой полке в темной военной форме, на большущей земле, где шла война, в маленькой вселенной своего тела, мыслей и робости. Эта маленькая вселенная мне казалась огромной — она была огромна в своей противоестественности, печали.
В вагоне — трое мужчин. Окно зашторено тонкой шторой. Сжавшись, я глядела на волю сквозь ее щель.
На нижней полке лежал человек с открытыми глазами, Глаза смотрели вверх, на меня, смотрели с удивлением и любопытством. В любопытстве вообще нет холодности; это теплая категория, потому что в нем, в любопытстве, вопрос и признание того, что ты существуешь. Я была, должно быть, одним из самых маленьких и тощих военных, которых он когда-либо видел.
Рано утром выяснилось, что это поляк: в польской армии, и тем более во флоте, было гораздо меньше военных-женщин, чем у нас.
Лицо поляка тонуло в полумгле. Волосы были лохматые, с рыжинкой. Его товарищ (человек с верхней полки) спал, повернувшись лицом ко вздрагивающей стенке вагона. Мне был виден только его затылок, его ноги, но не в портянках, а в шелковых носках.
Мир рушился на меня движением поезда, его мерным покачиванием; его мглой там, за окнами; войной на шаре земном; спокойствием звезд — высоких, млеющих в светлевшем небе.
Я согнула руку, положила голову на согнутый локоть и крепко уснула.
...Утром стало известно, что мы проезжаем границу.
Надо вспомнить, что в те времена не были приняты поездки за рубеж. Ощущение того, что я проезжаю границу своей страны, отдалось во мне почти физической болью — незабываемым ощущением рывка, выброса.
Такова психология человека, связанного со своим временем.
Польша. Варшава.
Но перед нами не город — его скелет, обгорелые камни, выщербленные, задымленные. Поблескивает широкая и далекая Висла (странным кажется, что река все еще течет, что она сохранилась, не умерла).
Как пустынны улицы! Варшавяне, должно быть, спят в подвалах или на третьих, вторых этажах своих полуобвалившихся черных домов.
Вокруг расщепленные деревья, есть среди них деревья без крон — стволы похожи на черные пальцы, что-то растерянное, недоуменное в этих торчащих из земли пальцах, в этих бедных стволах, избитых и обезглавленных.
А как страшны пьедесталы памятников без памятников! А развалившиеся костелы? А этот пустырь посредине города, в том месте, где раньше, как нам сказали, был Венский вокзал?
Изрытые площади, взорванные мосты... Нет больше старого города, умерла Варшава, обвалились ее дома и домишки, унося с собой сотни дыханий, улыбок, рождений, плачей, вечерних сидений за чайным столом. Здесь, быть может, жили когда-то люди, что ходили еще в камзолах.
Нет больше тех старых стен, нет мха, коснувшегося старых оград. Казалось, не только улицы умерли, но и самое воспоминание, что в мире живет не одно разрушение, а рождение, создание, радость.
Притаившийся где-то в щелях человеческий муравейник...
Как страшно!
Я первый раз за пределом своей страны. И вот «заграница» встречает меня останками обгорелых домов.
Как жалко, как страшно возвышались их стены. В проемы выбитых окон глядели плывущие облака. По городу неведомо почему проезжали монахини на велосипедах. Их белейшие накрахмаленные головные уборы с торчащими по обе стороны большими белыми углами, в сочетании с черной одеждой и велосипедами, — вот что стало моим первым понятием о том, что не есть Россия.
4
— Скажите, пожалуйста, — спросила я вежливо и осторожно женщину-гида, сопровождавшую нас и с ликованием смотрящую на меня (ибо меня привезли сюда, в Фюрстенберг, действительно проявив большую человеческую чуткость!), — скажите, пожалуйста, здесь, в Фюрстенберге, живет еще фрау Соббота?.. Это, вероятно, очень наивно с моей стороны. Вряд ли вы с ней знакомы. Но, может, знаете? Волей случая? Что с ней стало? Она когда-то была моим другом.
— Как же, как же, — ответила женщина-гид, — я действительно ее знаю. Знаю отлично. Здесь, за углом, ее обувной магазин. Вы даже можете сняться возле витрины. «Фирма Соббота». Пожалуйста! Рейнхардт, отвези-ка нас до следующего угла, до магазина «Обувь».
Никто вокруг не понимал решительно ничего. Мы говорили по-немецки, и говорили взволнованно.
Туристы заняли свои места, мы покатили по улицам Фюрстенберга.
Фюрстенберг! Как ты далеко от меня отступил. Я тебя не узнаю.
С годами, если отсчет не ведется от времени детства, принято всему, что вокруг, расцветать и преображаться, становясь богаче, нарядней, пышней, — хотя бы земле, хотя бы деревьям. Ведь прошли десятилетия с тех пор!
Когда-то город был зелен, хоть и разрушен войной. Он был — вода и цветение, он был — берега Одера и спелые клубничные ягоды... Тогда шевелилась листва, колыхались ветки, тесно прижавшись друг к другу, стояли кусты, освещенные вечными (а может быть, и не вечными!) солнцем и луной, рассветом и сумерками, а теперь все бедно, безрадостно, голо.
Я стала старше. Юность прошла.
Прильнув к окну туристского автобуса, я впивалась глазами в тротуары и мостовые.
Узкие. Провинциальные. Народу на улицах очень мало — по нашим российским понятиям. Большое количество глухих, высоких, длинных заборов, чуть выгоревших от солнца.
Где буйство былого движения? Где гоньба мотоциклов? Где молодые красивые немки на узких улицах города, только что нами занятого? А главное, где шествие листвы, зеленого света, гармоническое сплетение цветущего? Где не забытый мною перламутровый свет над городом? Куда все это девалось? Как странно стерся мой Фюрстенберг. Что это значит?
Товарищи в автобусе спокойно переговаривались.
— Вот! — ликуя, сказала мне женщина-гид.
И автобус остановился.
— Вот. Пожалуйста, фирма Соббота!
И я увидала окно и выставленную в окне обувь.
— А фрау Соббота в этом же здании, на третьем этаже. Вы помните, конечно? — продолжала женщина-гид. — Она постарела. Сдала. К сожалению, ее нет сейчас в городе. Уехала навестить сестру... Попросите тех, у кого фотоаппараты, заснять вас у магазина. На память. Ведь почти что у всех фотоаппараты!.. Как странно, что женщины тоже были моряками во время войны! Я это узнала только сегодня от ваших товарищей... А вот и улица Флота. Вы ее узнаете? Не правда ли? Улица моряков!.. Справа, справа... Что с вами? Вам плохо?!
— Да нет... Просто так... Со мной ничего...
5
Север.
— Не забудьте предупредить своего старшину, — говорит мне вечером мой начальник, — что завтра вы отбываете на передовую. Возможно, на целый месяц... И в кубрике объявите. Девушкам. А то как бы не забеспокоились.
— Есть предупредить старшину, что я отбываю на передовую.
Тишина, тишина, тишина. Звук Севера, звук городка Полярного. Большущая тишина тундры. Не раздастся здесь скрежет трамвая — здесь нет трамвая. Не прошуршат колеса грузовиков — какие ночью грузовики?! Ничто живое не шагает ночью по этой равнине, на которой вырос маленький городок. Не видно птиц в высоком широком небе, даже утром не видно, когда просыпаешься.
Птицы — они не дуры. Зачем им мертвая тундра, где лишь снега, и снежные горы, и ледяное море? Есть на свете иная тундра, где застыли и сохранились остатки жизни.
Птица — она все знает. Она — опытный путешественник.
Мы, девушки-моряки, живем у морского залива, у моря, открытого Баренцем. Так оно и зовется — Баренцово.
Там, где суда и отбросы с камбузов, взлетают и суетятся чайки — над пирсом, камбузами, незамерзающими волнами. Их согревает теплое течение Гольфстрим.
Наша команда находится далеко от пристани. Нам не слышно шуршания вод, даже звуков прибоя о доски пирса.
Война... В этот час, в час ночной, выходят в море подводные лодки, и мы, девушки, это знаем. Ночь Заполярья — это война. Война полярников. В час ночной тишины воюет Северный флот.
Мы знаем, что от берегов отправляются в море моряки истинные, — не мы. Они отправляются в глубину морскую на современных подводных лодках. В холодную тишину.
По утрам они возвращаются.
Залп. Второй... Это значит — вернулись наши. Залп — один потопленный вражеский транспорт; два — два потопленных вражеских транспорта.
Все мы, девушки, подававшие заявления на флот, не знали, что женщины не ходят по морю на кораблях.
Только мне одной в обход всякой логике приходилось впоследствии плавать на транспортах. По морю пешком не пройдешь, не так ли? Ведь ты не Христос. А нашей группе, седьмому отделу, следовало добраться от городка Полярный до полуострова Рыбачий, до хребта Тунтури, где Северный флот держал уже много месяцев на сухопутье оборону города Мурманска.
Начальник рассказывал, что в первый раз меня вообще не хотели брать вместе с ним на борт и якобы капитан катера, увидав меня, встал на мостик и пожевал краюшку черного хлеба с солью. Он должен был меня обезвредить.
Капитан жевал. Он ел хлебушек из патриотизма, чтобы благополучно доставить к Рыбачьему необстрелянным доверенный ему катер.
...Нас было трое: наш маленький капитан (начальник), старшина-радист и я — переводчица. Мы ехали на Рыбачий.
Большие стеганые брюки, которые мне выдали, наш радист из жалости подпоясал на мне ремнем чуть что не под мышками.
Он встряхнул меня и затянул ремень накрепко — повыше, потуже...
— Вы бы все ж таки хоть из скромности сидели на одном месте, — сказал мне начальник. — Как-то все же нехорошо получается. Вас неохотно взяли на борт, а вы, вместо того чтоб проехать понезаметнее, носитесь туда и назад, как Сельфида. Как вихрь. Под самым носом у капитана.
Мой начальник — самый добрый и самый рассеянный на свете человек. До войны, несмотря на молодость, он успел защитить какую-то диссертацию по турецкой литературе.
«Приехал я к матери и говорю: «Мама, я кандидат наук». А она: «Да когда же ты, мой сердешный, станешь членом науки? Все бьешься, бьешься, а бесполезно. Мытарь ты мой!..».
Два раза начальник отдавал мне часть офицерского своего пайка — печенье и масло.
— Такие вещи не для мужчин. Они для детей и женщин.
— Но при чем здесь я? По-моему, я матрос.
— Как хотите, но, между прочим, печенье ваше.
Нашему старшине-радисту маленький капитан отдавал свои папиросы: он не курил, не пил.
Смешной он, наш маленький капитан: светловолосый чуть не до седины, белес, как крестьянские дети. Голубые глаза его почти не видны. Они скрыты большими очками. Нос кнопкой. Когда он о чем-нибудь говорит с увлечением и жаром, нос у него раздувается. Ноздри так и ходят, так и трепещут. Не какой-нибудь, а говорящий нос у нашего маленького начальника.
— Я бы отдал свою диссертацию за арию из оперетты «Сильва». А кстати, что это вы соорудили на голове? Трубочки, что ли, без заварного крема?
— Это я... это мы... для того... наш кубрик...
— Не перечьте мне! Размочите сейчас же этот дьявольский перманент.
— Я обрею волосы! Достану синильную кислоту и окуну голову.
— Не перечьте! Довольно сенсаций! Скажут, что вас обрили наголо на гауптвахте. Большая честь для отдела, не так ли?! Почему вокруг вас все девушки, как подобает девушкам, а вы — в обличье папуаса? Проверьте листовки, организуйте отправку. Ясно?.. И по вечерам, вместо того чтобы кудри крутить, могли бы несколько позаниматься с наборщиками, помочь им кое-как овладеть шрифтами... А кстати, слышали сверхмощную новость? Мурманску сдался вражеский транспорт. Прибыл с нашей листовкой. Листовка была в руках у кого-то из старшего офицерства. Вот так, в таком духе, как говорится. Погодите-ка... Между прочим, имейте в виду: я все вижу через ученые окуляры. Чтобы листовки нынче же были на почте. Ясно? А кудри тщательно прикройте беретом... Если ясно, то действуйте!
Мы действовали. Плыли, или шли, как говорится по-флотски, по морю, где теплое течение Гольфстрим. Хотя море здесь никогда и не схватывается льдом, но воды его — ледяные воды.
Над Рыбачьим — белое небо с блещущим солнцем. По снегу тянутся темные полосы — следы шагов. На этих узких дорогах снег смешивается с грязью. Вдалеке угадываются редкие маленькие землянки.
Но вот исчезают землянки, не видно дыма из труб.
На смену той, обжитой нами земле приходят земли другие — земли времени оледенения. Да нет... Вот меж щелей в снегах маячит морошка, трогательная, розово-красная и печальная. Она думает, что никто не съест, не тронет ее. Но она ошиблась.
— Где вы там? Не отставайте!
— Сейча-а-а-с...
Какими звонкими здесь становятся голоса!
Сколько времени нам идти! Кто знает. Все кругом было — и земля и небо. Злая, злая земля.
Это фронт? Это передовая? Да нет же! Фронт — огонь и стрельба, а не бескрайний белый, дикий и такой молчаливый простор Рыбачьего полуострова.
Нас теперь одиннадцать человек — караван во льдах: наш начальник, наш старшина-радист, я и восемь матросов-подносчиков с нашей радиоаппаратурой.
Перед нами — равнина, а дальше — хребет Тунтури, длинная рыжая каменная гряда, куда мы держим путь.
Мы шагаем молча в своих измызганных, мокрых белых халатах поверх серых брюк, серых стеганок.
...Мы шли, мы влачились по белой равнине. Над головами нашими было солнце. Оно бежало навстречу нам множеством обжигающих маленьких круглых солнц.
Мы шли. Мы шли. Мы утратили чувство времени. Хотелось есть, обогреться, разуться. Сильно хотелось чаю. А бывают разве на свете чаи, огоньки в печурках?
— Не отставайте, — говорил мне наш маленький капитан.
Мы шли. Мы шли.
Долго ли?.. Этого мы не знали.
— Взгляните-ка на часы, товарищ начальник!
— Не отставайте, не отставайте, не отставайте!
Не видно ни птицы, ни дерева. Что это бьется о камни коротко и назойливо?
Осколки металла. Пули!.. Они падают в снег.
— Не отставайте, не отставайте!
Вспыхивают под солнцем крошечные озерца; здесь водится жирная рыба форель, ничего не знающая о рыбаках, о сетях, о спиннингах. Вот в ледяных озерах яркие рыбьи тельца, блещущие на солнце.
Я иду и размахиваю руками, мне кажется, что так легче шагать.
— Что вы там делаете, вы пляшете? — оглядываясь, спрашивает меня капитан.
— От наказание на наши головы! — вздыхает радист.
Мы идем, а хребет отступает все дальше, дальше.
Может, уже наступил вечер? А может, ночь? Кто знает? Перед нами все та же равнина, все те же камни, все те же блестящие озерца.
Вечный день и снег, снег...
Через пористые снега не проехать машине, не проскакать коню. Одолеть их, видно, под силу только военному человеку.
— Земля-я-анка! — сказал радист.
— Бросьте дурить, — очень строго ответил начальник.
Она мелькнула на белой равнине, будто оазис в желтых песках.
Мелькнула. Пропала.
Мы продолжаем шагать, не ускоряя и не замедляя шага. Молчим. Не надо думать ни о каких землянках.
Мы шли. Мы шли. Чтобы не отставать от мужчин, я размахивала руками. Все притворялись перед самими собой, что не верят они ни в какое тепло, ни в какие чаи, землянки.
Землянка исчезла. А над головами все то же солнце. А впереди все те же темные камни и светлые озерца. Тундра, тундра...
— Землянка! — снова сказал радист.
Вот она. Стоит в котловине, защищающей ее от ветров. Впереди неясно виднеются горы — хребет Тунтури. К землянке ведет настоящая, вытоптанная людьми дорога.
— Не отставайте! — захлебываясь, говорит наш маленький капитан. Он, возглавляющий шествие, устал, может быть, сильнее нас.
Стук в дверь (военная вежливость). Двери распахиваются. На пороге — солдат-вестовой.
— Товарищ майор, к нам гости, гости, товарищ майор! — обрадовавшись, кричит вестовой.
Мы в сенях.
Но, видно, даже землянке не уберечься от талых вод. Под ногами нашими в сенцах широченная лужа. Мы оглушены теплом. Вот печка... Вот чайник... Из его носика валит пар.
— Нет, удивительно все же, — вдруг говорит мне наш маленький капитан, — как это вы ухитрились нанести в жилье на сапогах столько грязи? Простите, товарищ майор. Они у меня совсем одичали в тундре. Медведи! Медведи!
Мои сапоги и на самом деле, как будто опомнившись оттого, что им больше не шагать, расплакались на свой лад. Сапоги мои плакали мутной водой.
Сев на пол, я принялась побыстрее стаскивать их. И вдруг случилось немыслимое, чудесное! Хозяин землянки встал на одно колено и стащил с моих ног измокшие, измызганные сапоги.
Он сделал это с выражением величайшего простодушия и вместе с тем почтительности, будто в моем лице приветствовал всех на земле женщин. Всех женщин, шагающих в сапогах.
— Сева, дай-ка мыло, дай полотенце и побыстрей собирай на стол. Действуй!.. Сахару. Хлеба. Шпику.
— И тушенку, товарищ майор?
— А как же! Ясное дело. Все собирай. Есть тушенка — давай тушенку.
Стол был накрыт газетой, чистой старой газетой.
В слюдяное окошко глядела тундра. Но кто же думал о ней? Мы пили чай.
Добро и робко косились в сторону моих иззябших рук глаза майора.
Он был почти совершенно лыс. В его бровях поблескивали сединки. Из-под измятых, усталых век глядели глаза, желтоватые и усталые, глаза с хитрецой.
— Сева, — вдруг сказал майор вестовому, — приготовь-ка для гостьи яичницу! Слыханное ли дело — девушка! В нашей землянке — девушка! Гостья!.. Чествуй. Изжарь яичницу.
Бодрясь, расхохотался наш маленький капитан, решив, что майор острит. Его смеху вторили радист и матросы, Откуда здесь, где не бывает птицы, взяться яичнице?
— Сию минуту! — весело подхватил вестовой. — Раз такое прекрасное чудо, как девушка, будет яичница.
Из красного света коптилки выплыли две руки. На широких ладонях лежало четыре пестрых больших яйца.
Далеко от нас, на склонах крутых и отвесных гор, вьет свои гнезда птица гагара. Взобравшись на эти склоны, добыл яйца гагары молодой и ловкий солдат-альпинист.
— А как звать-то вас?.. Для памяти... Для примеру... — спросил вестовой.
Я сказала.
Оно, мое домашнее детское имя, лежало там, за пределами тундры, за пределами войны — там, где птицы вьют свои гнезда не только на скалах. Они вьют их, помнится, на деревьях.
Широко и добро улыбнулся этому неожиданно сорвавшемуся у меня короткому имени пожилой хозяин землянки — майор. И вдруг он сказал:
— А красивое имечко. Очень славное... Я, знаете, получил из дому письмо. Жена запрашивает, как наречь нашу дочь...
— С вас пол-литра! — сказал радист.
— Сердечно вас поздравляем, — подхватил наш маленький капитан.
Вестовой поставил передо мной яичницу. От нее шел пар.
— Здоров заливать, — чуть слышно шепнул мне. на ухо вестовой. — Нет у него жены. И нету детей. Очень даже большая случилась беда. Всю его семью... того... убили фашисты.
— Ешь давай!.. Нажимай на яичницу, дочка, — не расслышав его и переходя на «ты», сияя сказал майор.
Через час мы собрались в дорогу.
— Ни пуха вам, ни пера. Хорошие, храбрые вы ребята, право, — ободрил нас хозяин землянки.
— Можно мне поцеловать вас?.. Если, конечно, можно? Потому что я очень люблю яичницу.
— Что это значит?! — заорал наш маленький капитан. — Где элементарная военная дисциплина?.. Уж вы нас извините, товарищ майор. Они у меня совсем одичали в тундре! Медведи, медведи!
Увидев на равнине бредущих впереди людей, враг принялся энергично стрелять по живой цепочке. Пули снайперов с коротким и нежным стуком ударялись о валуны. Однако солнце било немецким снайперам прямо в глаза. Яркое, оно лишало их нужной прицельности.
— Надо разбиться на группы, — сказал наш маленький капитан. — Такое скопление людей подозрительно для противника. Я пойду вперед и возьму с собой пятерых подносчиков. Вы пойдете следом, Васильев... Кстати, вы отвечаете мне за сохранность и жизнь переводчицы. Ясно?
— Ясно. Кроме прочего, я отвечаю за сохранность и жизнь переводчицы.
— Пошли, — сказал наш маленький капитан.
Нас стало пятеро. Мы залегли в траншее. Ребята поставили на землю аппаратуру и закурили. На дне траншеи была ледяная вода, а за бортом траншеи — равнина в ржавых воронках. На снегу виднелись комья свежей еще земли и осколки черного камня.
Долго курят ребята. Мы ждем. Чего мы ждем? Но этого я не знаю. Вокруг все то же: тундра с черными валунами, неглубокие ржавые впадины, осколки камней и огромное небо с очень светлым холодным солнцем.
— Я добыл себе невесту с козой, — сев на корточки и пригибая голову, шепотом весело рассказывает радист. — Мне очень даже полезен стакан хорошего молочка в условиях Дальнего Севера... А? Как, ребята, по-вашему?.
Матросы прыскают со смеху. Все знают, что никакой невесты у него нет и что в Полярном нет ни одной козы.
Они хохочут и шепчутся. А вокруг траншеи ни жилья, ни птицы. Снег, снег... Огромные небеса. Серо-белый купол не рассекается ни деревом, ни кустарником.
— Спрячьте-ка голову, — сердито и коротко говорит мне радист. — Расселась прямо как дома на оттоманке.
Немцев я не боюсь, поскольку их никогда не видела. Но я сильно боюсь своего начальника — маленького капитана. Он, должно быть, уже в землянке и поджидает диктора.
— Ребятки!.. Куда бежать?..
— На-а-зад, назад!..
Однако поздно. Я выхожу из траншеи, оглядываюсь — и бегу. Бегу что есть мочи, размахивая руками. Бежать нисколько не тяжело. Это не требует от меня ни малейших усилий.
Весело ударяют пульки о камни.
Что-то шмякнуло в снег. Взлетели снежные комья. Это похоже на белый фейерверк.
И снова фейерверк. И снова бьются с жестким стуком пули о черные валуны. Кое-где расступился снег. В щелях закраснелась морошка. Вкусная ягода. На ходу я ее срываю.
— Назад!
Я бегу. Рядом со мною взапуски бежит ветер.
И вдруг я оглядываюсь.
Следом за мною бегут матросы и старшина.
Нас пятеро. Пять вселенных на белой равнине снега. Пять сердец. Пять жизней. Я — впереди.
Возвратившись в Полярный, наш маленький капитан, хохоча, показывал, как он глянул вниз на равнину и ахнул: увидел, что я несусь впереди и размахиваю руками. За мной старшина. А-за ним матросы. Гуськом, гуськом... Вот эдак. Ха-ха-ха-ха!
Как передать, что такое война у подножья хребта Тунтури?
Здесь, на склонах хребта Тунтури, на полуострове, что зовется Рыбачий, у берегов холодного моря стояли люди, стояли насмерть. Здесь держали они оборону города Мурманска.
Оборона. Какое страшное слово! Дни, недели и месяцы ожидания.
Оборона — лето без солнца, почти без лун, тусклое белое небо, распростертое над землянками. Небо, лежащее над горами, над горным хребтом, где нет ни дерева, ни кустарника.
Когда зима, тундровый снег становится тверже, воздух каленее. Небо чернее. Большое тусклое небо над белой землей. Два-три брезжущих светом часа.
Ночи долги, как месяцы. Изредка коротким пожаром затеплится в небе северное сияние. Но и оно, говорят, тускловатое, не такое, как на Северном полюсе. Тусклое, томное, беглое, будто лень ему здесь разгореться всерьез.
День. И снова ночь, ночь...
Должно быть, когда-то, когда Земля освобождалась от оледенения, она забыла об этом крае, об этой дальней точке своей. И вот остались на свете снега.
Черные камни на белой равнине. Не так чтобы густо они лежали. Нет, нет... Но все же — одни на снегу, среди необозримых пространств снегов и вод. Черные, отшлифованные, облизанные ветрами, исхлестанные снегами.
Белая равнина и черный камень. А еще дымок, дымок из трубы: жилье человека — землянка.
Дым похож на дыхание. Он бежит к небесам — жестоким, высоким и белым.
Бесконечность снега. Бесконечность земли. Бесконечность времени. Бесконечность неба. Все это называется — «оборона».
Противник сидел по другую сторону сопок, по другую сторону Тунтурей. Им достался склон, сливающийся с шоссе, — не то что у нас.
С великим трудом мы переправляли раненых на Большую землю. Каждый наш шаг был виден противнику.
...Лето. Полярный день. Вечный день. Ни луны, ни мглы, ни ночей, ни мхов, чтоб заделать щели в землянках. Хрупкие их дверки подхватывал ветер. По слюдяным окошкам выбивала тихую дробь пурга. Ветры, ветры... И блеск ледяного солнца.
А печурки — чем их топить?
Кустарником.
Но где же набрать кустарника? Ведь кустарник на склонах гор обломан, оборван.
И все же в землянке упрямо горит огонь. От крошечной печки бегут красноватые сполохи. Из мглы выступают лица матросов.
Все тонуло в дыму махорки. Безостановочно булькал на огне чайник. На длинной проволоке сушились портянки.
Огонь коптилок отбрасывал неширокие, дрожащие, нетвердо очерченные круги.
Из темноты раздавались стоны. Занавешенная тремя белейшими простынями, дремала в свете коптилки операционная.
У слюдяного окошка, где, откидной стол, — вторая коптилка. Красноватый свет ее кажется дрожащим и робким. Полушубками забиты щели в углах. Кое-где намело снегу.
Время от времени откидывается входная дверь. Вместе с клубящимся паром врывается в жилье человек — матрос.
На дворе все бело. Огромное колеблющееся пространство, видное на мгновение сквозь открывающуюся дверь. Все мглисто от неба до самой земли. На сугробы наваливаются сугробы. Над утоптанным, обледенелым снегом как бы вырастает новое, пухлое поколение снегов.
Пурга.
Пурга продиралась сквозь щели, пыталась выломать слюду из окошка.
Люди, которые возвращались с вахты, шумно и вместе молча встряхивали тулупы. Снег растекался по полу, таял, бежал под нары большими лужами.
Казалось, будто пурга молит нас, людей, об отдыхе и покое, стремится задуть огонь в печи, погасить коптилки, упасть тулупом под нары и тоже спать, спать... И храпеть, отдыхая. И видеть сны.
Когда человека вдувало в землянку, ветер подбрасывал пламя коптилок, выхватывал ручку двери из замерзших пальцев.
Она бушевала, пурга! Но никто в землянке не обращал на нее никакого внимания. Все смотрели на нас. Развлечение! Прибыли «разложенцы». Вот радиоустановка. Сейчас будет музыка. И того... Одним словом: трансляция.
— Внимание, товарищи... Приступаем. Просим вас соблюдать полнейшую тишину. Учтите, шумы передаются.
Мне страшно. Тихо колдует что-то свое радист. Сейчас я заговорю в репродуктор.
— Больше энергии. Бодрей. Веселей! — говорит мне начальник. — Старшина! Прежде всего попрошу вас поставить музыку. Легкую музыку по возможности. Мы должны фиксировать внимание противника. Так. Приступили. Ну!
— Сей минут, — отвечает радист (и считает, что это он на немецкий лад). — Мы их, знаете ли, фиксируем... До того фиксируем, что они ополоумеют.
Раздается шипение. Чуть подпрыгивает иголка.
Раненые с перевязанными головами и забинтованными конечностями привстают с коек. Протер наконец и стыдливо надел очки наш маленький капитан. Как спокоен радист! Как строго лицо хирурга. Шутка ли, в его землянке разлагают войска противника.
Все серьезны. Хочу смеяться, видимо, я одна.
Я и противник. Он заглушает нашу пластинку бросками мин.
— Энергичней. Грозней. Валяйте!
И я стараюсь. Я становлюсь мужественней. Все мужественней и мужественней. Я сильно стараюсь. Я горстями швыряю свое возросшее мужество в репродуктор.
Но, будучи матросом армии победителей, я добра: я предлагаю немцам, несмотря на их никудышное положение, сдаться и сохранить жизнь.
— Сдавайтесь, сдавайтесь, солдаты!!!
— Не с таким пафосом! Они решат, что кто-то нас пародирует...
...Я сплю. «Играй, играй, моя музыка. Пой, моя музыка!» Ноги болят.
«Вам... гм... очень больно?» — слышу я во сне чей-то знакомый голос.
«Нет. Не особенно больно, товарищ начальник, можно терпеть, конечно».
«Вот. Берите. Хромовые голенища».
«Голенища? От вас?.. Не может этого быть». («Играй, играй, моя музыка!..»)...
«Война!.. Чего ж вы хотели?.. Чтоб я не был вашим начальником и швырял вам под ноги розы? Вот! Это все, что я мог добыть. Хорошие. Хромовые. Серенада — не голенища...» — это слышится мне во сне.
Сны причудливы. Ни с того ни с сего какие-то голенища!
— Перебежчик! Вставайте! — кричит начальник.
И это явь.
Я просыпаюсь.
В окошко землянки заглядывают легкие, нежные отражения солнца.
Повернувшись щекой к слюдяному окошку с видом добитого обстоятельствами человека, сидит наш маленький капитан.
Против него, опустив голову и зажав ладони коленками, незнакомый мне человек. Лицо у него интеллигентное, остроносое, молодое.
— Мы вас ждем, — говорит мне начальник с яростью. — Разумеется, если сумеете уделить нам минутку внимания. Без вас мы в данном конкретном случае, увы, обойтись не можем... Увы! Мы действительно без вас обойтись не можем. — Голос его осекся от злости. — Мы в вас нуждаемся, а вы спите... Ну как? Готовы, надеюсь? Совершили свой утренний туалет?.. Битте, долмэтчер, — сказал он, указав на меня перебежчику.
— О-о-о, фрейлен!
Вопль любезности.
Это был первый немец, которого я увидела на войне. Немец! Живой. Один из тех, кто убил моего отца. Один из тех, по воле которых голодает, нынче в осажденном городе моя мать!..
— O-o-o, фрейлейн!
Живой. Настоящий немец!
Вокруг толпились все, кто был в силах ходить. Ребята, пришедшие с вахты, внимательно оглядывали перебежчика, прислушивались к тому, что говорит ему начальник и перевожу я.
— Его зовут Отто Генц. Он антифашист. Он просит учесть его убеждения... Давно он решил: при первом удобном случае перебежать на сторону русских. Вчера, поскольку была пурга... И плохая видимость. Это раз. А второе то, что поднят был ураганный огонь в ответ на трансляцию... Да, да... Он, разумеется, рисковал жизнью. Он просит это учесть в дальнейшем. Он рисковал жизнью. Он верит в твердость слова противника. Русские обещали сохранить перебежчикам свободу и жизнь.
Вчера, когда все пошли спать — это было в левой от переднего края землянке — он притворился, что вышел по нужде. Под утро дополз до колючей проволоки... И ринулся сейчас же вниз, в нашу сторону. Его увидел русский матрос. Он, перебежчик, поднял вверх руки. В одной из них был зажат носовой платок. Как белый флаг. Когда матрос подошел, он, Отто Генц, объяснил ему: «Гитлер капут».
Теперь война для него окончена. Военные действия не отвечают его гуманистическим убеждениям.
— Диспозиция частей? Каков ваш личный состав? Каково настроение противника? Каким оружием располагают близлежащие части? — опуская лирику, деловито допрашивал пленного немца наш маленький капитан.
В этот период войны на Севере перебежка немца на нашу сторону была событием значительным. Каждый к этому событию отнесся по-своему. Начальник радовался, что нас перестанут дразнить в Полярном «листовочниками» и «разложенцами». Старшина ликовал, что сумел протянуть рацию под носом у врага: он был храбр — и вот награда за его храбрость. Я же так приняла это обстоятельство, что вывела, мол, из строя вражеского солдата.
У всех в землянке, даже у раненых, было чувство приподнятости. Все хотели узнать, как живет противник на той стороне хребта. Перебежчика засыпали вопросами. Я переводила.
— Что они едят? Что пьют? Сколько у них землянок? Живут ли врозь на той стороне солдаты и офицеры?
— К их землянкам ведет шоссе из Норвегии, — объяснял пленный. — На той стороне хребта есть деревья — пихты и ели. Там земля живая, там птицы, не то что здесь. С той стороны к подножью Тунтурей по шоссе подкатывает грузовик. Каждые сутки немецким солдатам и офицерам подвозят пищу, письма и боеприпасы.
Он говорил все это сдержанно, немного смущенно. До перебежки он, видно, и представить себе не мог, как выглядит наш склон Тунтурей. Его удивляло теперь, что здесь так мало землянок, что мы живем в землянке санбата. Он не знал, что подходы к нашему рубежу идут только через огромное снежное поле, обстреливаемое врагом. Что другого подхода к нашим землянкам нет.
Мой начальник знал турецкий и английский языки. Но немецкий он знал пассивно и разговаривать не умел — не обладал достаточной беглостью.
Сидя втроем у слюдяного окошка за откидным столом, мы — наш маленький капитан, я и немец — составляли тексты для выступления по радио Отто Генца.
Видно было, что ему не хочется выступать от своего имени, что он жмется и чего-то недоговаривает.
— Разве вам недостаточно, что я, берлинец, проведу эту передачу как диктор?.. Могу, если вы хотите, проверить любые ваши листовки, придать им блеск. Я готов помогать: листовки и передачи сделаются безупречными в смысле формы. Но мне не хотелось бы себя называть и говорить от своего имени... Право, я думаю, это лишнее.
— Товарищ капитан, он почему-то не хочет сказать по радио, что это он — Отто Генц.
— «Почему-то»! — пожал плечами маленький капитан. — Естественно, он боится Гитлера... Боится расплаты. Ясно? Однако ему придется поговорить. А на листовках в Полярном мы напечатаем его фотографию. Это будет наилучшей агитацией для нашего отдела: вот он, пленный. Перебежчикам мы действительно сохраняем жизнь.
Принесли ужин. Надо было накормить немца. Оказалось, что у нас нет лишнего котелка. Радист ему отдал свой котелок. Немец ел стыдливо и медленно. Нет!.. Не скажешь о нем, что перебежчик. Впечатление такое, будто кто-то из наших ребят приволок «языка» с другой стороны сопок.
Мы ужинали. Молчали. Каждый был занят своими мыслями.
А за пределом землянки, за слюдяным окошком, продолжалась тихая, огромная, вечная жизнь.
Я подняла глаза. Ярко, жутко и неподвижно блеснуло солнце. Оно, как и прежде, творило свою работу, обдавая сиянием белую пустошь. Озерца внизу, похожие на разлужье, были подернуты сверкающей рябью. Вокруг стояла заколдовавшаяся, затаенная печаль зимы и вечного снега.
Немец давился, ел. Теперь он напротив меня. Сидит, переплетя пальцы, низко опустив широкую голову, похожий на человека, перенесшего тяжкое потрясение.
И вдруг с видом очень застенчивым и виноватым он глянул на старую банку из-под консервов. Она стояла в углу, у двери. В этой банке хранился жир для смазки сапог.
— Вы позволите, фрейлейн?
Я не поняла, что именно должна ему разрешить.
Сопровождаемый конвоиром, немец робко подошел к банке и старательно смазал жиром свои военные башмаки.
— Обувь надо холить, — сказал он мне виновато. — Моя покойная мать говорила: каковы ботинки, таков и сам человек.
— Немецкие солдаты! — хрипло прозвучал голос немецкого перебежчика. — Я, Отто Генц, нахожусь среди русских. Я жив и здоров. Меня приняли хорошо. Мне сохранят жизнь. И дали поесть: пшенной каши, немного тушенки, сладкого чаю и хорошие белые сухари. У русских офицеры живут на переднем крае в одной землянке с солдатами. Пьют и едят то же самое, что солдаты. Друзья мои, Генрих Верт и Фриц Бауэр! Переходите линию фронта. Сдавайтесь! Русские побеждают под Сталинградом. Положение нашей армии безнадежно. Перебегайте к русским!
— Все. Ваша очередь, диктор, — сказал мне маленький капитан.
— Немецкие солдаты! — с чувством крикнула я. — Рядом со мной ваш товарищ. Я ему отдала свой шарф. Вы ведь знаете: он бежал налегке. Отто Генц пробудет у нас до конца войны, а потом поедет в Берлин. Скоро настанут дни нашего генерального наступления на этом участке фронта. Перебегайте, пока мы еще стоим в обороне, пока мы еще не перешли к боевым действиям. Будет поздно! Не принимайте участия в ненужном кровопролитии. Тишина и отсутствие боевых действий со стороны русских обманчивы. Мы обороняем подходы к городу Мурманску. Но близок час, когда мы пойдем с боями вдоль шоссе по направлению к Норвегии. Далеко позади останется хребет Тунтури и могилы ваших товарищей. Сдавайтесь! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!
6
Нынче, при свете ясного дня, когда в мою комнату долетают дальние шумы улицы, тарахтят автобусы, слитно шуршат машины и прохожие у переходов, дожидаясь зеленого света, ворчат: «Он что, уснул? Обалдел, а?..» — итак, в этот ясный солнечный день, теперь, когда, казалось бы, далеко отступила война, мне вспомнилась одна незначительная история.
Может, она имеет значение лишь для меня одной. Но я верю тебе, мой друг, мой таинственный собеседник. И обращаю ее к тебе.
Трансляции с переднего края велись относительно регулярно. И вот однажды мы шли сквозь тундру. Нас было двое: я и подносчик аппаратуры. Ему было лет восемнадцать.
Мы шли, а со всех сторон, как оно и положено в летнее северное время, ослепительно блестел снег. Снег был пористый. Каждая снежинка, оставшаяся живой, блестела из самых последних сил, сверкала светом всех в мире солнц — множеством самых разных оттенков, неслыханных и невиданных, — не только красным и голубым, сиреневым и оранжевым. Она сияла черным. Как странно, право!.. Бесконечной была она. И пела свой гимн, и орала об остроте и жгучести черноты, прикрывая ее снегами.
Купол жизни — небо стояло над нашими головами, высокое, строгое, лживое и обездоленное, потому что небо должно быть ярко, пронизано дрожью солнца или дождя. Но это небо мертво! Так сделала война, так она захотела, распахнув свой занавес над землею необитаемой. Живучи здесь оказались лишь черные камни, притулившиеся к снегам.
В тишине пронзительно, остро и так назойливо свистели пули. Но кто на них обращал внимание? Мы привыкли и к этому свисту, и к этому небу, и к свечению этой земли, и к мокрым кирзовым сапогам.
Мы шли. Так шагают военные, для которых близость смерти — работа. Мы думали о супе, каше, а не о смерти и свисте пуль.
На нас были белые маскхалаты. На плечах у юноши аппаратура, на мне — рюкзак.
Мы смеялись. А как же иначе? Смеялись над чем придется — над тем, что я, например, из простыни решила справить себе гражданское платье; над тем, как он, бывало (якобы!), являлся там, у себя, на танцы: брюки из шелкового полотна, рубаха из голубой фланели, а в руках тросточка. И все (ох-ох-ох!) от восхищения замирали.
Без улыбки и смеха не проживешь. Можно жить без тепла, на овсе и на сухарях, но каково без смеха? Право, легче прожить без каши.
Ладно. Сейчас... Сейчас...
Пора признаться, что, несмотря на мою поражающую моложавость, худобу и странную инфантильность, я до войны успела побывать замужем. У меня был сын. Я овдовела в первые дни войны, сынок мой умер от тифа.
Мой мальчик меня любил. Я это твердо знала и знаю. Встречая меня в передней, он целовал мое пальто, видел во мне напарника и ребенка. Мы с ним играли в маму и папу, принимали гостей, раскалывали квадратный кусочек сахара на много маленьких сахарков, пекли хорошенькое карликовое печенье. Я добыла ему откуда-то крошечный самовар. Мы вместе его вздували.
Мой мальчик был высокого роста, хорошо ориентировавшийся в пространстве (не то что я). Глаза его — словно крылья, всегда в полете.
...Велосипед... Я не успела купить ему трехколесный велосипед. Я была бедна.
Он знал все марки машин. Потому что — мальчик. Мой сын был мальчиком.
Перед тем как уйти на фронт, я каждый день зарывала в холмик его могилы игрушки. По ночам мне казалось, что он стучится в двери ко мне. Он одет в свое некрасивое желтое пальтецо. Стучится и улыбается робко, потерянно...
— Ма-а-ама!
Защитить?.. От кого? От смерти?
На фронте никто не знал, что я мать и вдова. В потоке горя народного мое горе казалось малостью каждому. Но не мне.
Итак, мы шагали к хребту Тунтури, пытаясь смеяться по всякому поводу, чтоб скоротать дорогу.
Волосы у моего попутчика были светлые. Глаза голубые.
Увидев такие глаза, девчонки ошалевают: «А отчего у тебя такие глаза?» — «Ха-ха-ха! А мне почем знать?»
Живые, нежные, тонкие волосы, развевающиеся под шапкой-ушанкой. Белый чуб легонько колышется на ветру. Пух, в который, должно быть, девчонке так хорошо зарыться губами и носом.
Хорошо бы десятикласснице прижать к себе эту голову, вдавить в себя, в свое тепло.
Рукам бы этим хорошо рассекать волны. Хорошо бы! В теплых морях. Хоть в Черном, у которого я родилась. Им бы рассекать воду, а губам фыркать, выплевывая ее. Ногам хорошо бы взбираться по склонам лесистых гор; взору — обнимать степи, гладить пальцем кору древесную, измазав палец в смоле. Хорошо бы вечером, сидя в пивнухе, выпить пивка с товарищами и побеседовать по душам: «Ты меня уважаешь?»
...Галстук яркий, красиво повязанный. Ясный голубой взгляд. Хорошо бы вдруг, невзначай во время заката — песню... И в песне выдать тайное, затаенное. Не мальчик, а лук с натянутой тетивой. И стрела.
Бесстрашие. Способность к истинно русскому состраданию. Рубаху — товарищу.
Воротиться домой и позвонить в двери:
— Ма-ама!
Или:
— Братишка, знаешь ли, у меня в Мелитополе... Очень даже хороший парень.
Или:
— Сестренке купил на блузку. Как скажешь?.. Хороший шелк? Молодая. Замуж охота. Ясно. Только о том и думают, чтоб пристроиться. Э-эх! Бабье!
...Шагаем. Сверху круглое солнце. Белое. Без лучей. Солнце без солнечного тепла.
А пули летят, ударяясь о черные камни, уходя в снег...
Завиднелся хребет Тунтури.
И вдруг он упал.
Повалилась его шапка на снег. Он поднял ко мне лицо. Оно было бессмысленно — по ту сторону далекого края, о котором я еще ничего не знала.
Я села подле него на снег. Он не видел меня. Глаза открыты, а... спят.
Только что глаза были жизнью. Жизнью — его шаги. Жизнью — его дыхание.
Приоткрыл рот (должно быть, ему не хватало воздуху).
Я назвала его по имени. Не отозвался.
...Сердце, забейся! Вздохни, малыш! Давай-ка снова смеяться, чтоб скоротать дорогу. Нас ждут котелки с кашей, мы оба разуемся, высушим сапоги, портянки...
Я легла рядом с ним. Прижала его, согревая своим телом, обхватила его за шею руками.
Безмолвно, бессмысленно, неподвижно мы долго лежали в неохватной, великой белизне тундры. И вдруг его веки дрогнули. Он тихо сказал мне:
— Привет ребятам.
Это было последнее, что он сказал.
— Ма-а-альчик!.. Мой ма-а-альчик!.. Встань. Жи-иви-и.
Сын. Товарищ. Брат.
Волосы! Они все еще были теплые. Жизнь еще теплилась в волосах.
Я рыдала...
Но вот моя рука поднялась и закрыла ясную синеву глаз.
Когда я стою у Доски почета, где выгравированы имена погибших товарищей, я готова просить прощения у них за то, что осталась жить.
За что?.. Почему?.. Вас нет. Я — есть.
Если можете, то простите!
7
Ночь. Надо было пристроить на ночь нашего перебежчика.
Пристроить? Но куда?
— Постелем ему на полу, товарищ начальник, — подумав, сказал радист.
Пленный словно бы догадался о замешательстве капитана:
— Нет, нет!.. Не тревожьтесь из-за меня. Фрейлейн! Прошу вас, переведите: я слишком взволнован, я не могу спать. Право, право... Я совершенно не хочу спать.
В эту ночь я тоже не могла спать.
Мне отчего-то стали малы и узки мои большущие кирзовые сапожищи. Спрятавшись в угол, разувшись, я с удивлением разглядывала свои побагровевшие ступни.
— Фрейлейн!.. Вы спите? — шепотом спросил перебежчик.
— Нет, — ответила я.
— Фрейлейн, можно немного поговорить о доме?
— Конечно!
— Можно, я расскажу вам про воскресное утро?
— Конечно!
— Лето... И вот я сплю. И вот просыпаюсь. Мать накрыла на стол в саду под каким-нибудь деревом. Отец сидит у стола. И курит. Он курит трубку. Скатерть белая. На столе цветы. Ах, какое неторопливое воскресенье! Солнце. Скажите, пожалуйста, все это было, фрейлейн?.. Матушка в белом фартуке, фатер...
Перебежчик сделал резкое и неожиданное движение руками как бы для того, чтобы обхватить голову. Солдат с ружьем, спокойно сидевший на табуретке, вскочил и принялся не отрываясь глядеть на пленного.
Прошло минут пять или десять. Солдат опустился на табурет. Закурил.
— ...Это было счастьем. Но я его не сознавал. Счастье — река! Воскресенье — счастье... Признаюсь вам, — он перешел на шепот, — первое время при Гитлере можно было жить, и неплохо жить. Работа у всех. Я лично, видите ли, бухгалтер. Для юношества организованы были экскурсии. Очень дешево. Экскурсии на пароходе дня эдак на два, а то и на три-четыре. Ужас с войной пришел гораздо поздней... И по-одумать только! Я единственный сын, а между тем меня мобилизовали... Отпуск на девять дней. Не могу рассказать вам, фрейлейн, с каким страхом я приближался к дому. Дорога все та же, та же... А дома — нет. Его смело. Как будто бы сдуло! Отпуск?! Зачем? Первый раз в жизни я радовался войне. Я хотел не быть, не существовать, не думать, не чувствовать. Я словно оцепенел. Мать! Вот она. Ведет меня за руку... Кроватка. Я маленький. Я лежу в кровати, она наклоняется и говорит: «Оттхен, спи!» Нет матери, — значит, нету меня. Меня нет!.. Нет! Нет!..
Ночь. Тишина. Храп матросов, повалившихся после вахты на койки, не только не нарушает, а словно бы еще больше подчеркивает ее.
Потрескивает кустарник в печи. На печурке на всякий случай чайник с кипятком. (Кипяток — он может всегда понадобиться. А вдруг тот, кто на ночной вахте, вернется в землянку раненым и нужно будет делать срочную операцию. Кипяток — это для врача.)
В свое время проснется медицинская сестра Саша.
Сон во время войны — это как бы особый сон (когда надо, проснешься словно бы от будильника; когда надо — опять уснешь).
Сон, он необходим. Особенно для военного человека. Сон возвращает силы, делает человека трезвым. Не лопнешь — проснуться. Не лопнешь — опять уснуть.
...По ночам отчего-то громче слышатся стоны раненых: то ли именно в эти часы ослабевает воля человека, то ли ночь для страдающего — тяжелейшая часть двадцати четырех часов, из которых состоят сутки.
Тишина. Раненые перевертываются с боку на бок, пытаясь найти ту щель, куда бы упрятать боль. Щель, щель... Она есть! Но где?.. Как бы хоть на минуту оттолкнуть от себя страдание, уйти поглубже в глубину сна?
Врач Михаил Николаевич (за глаза его называют Мишутка, поскольку ему, бедняге, всего двадцать четыре года) перевертывается с боку на бок в своем углу, завешенном простыней. Хирургу приданы в помощь два фельдшера и медсестра Саша.
В этом году он окончил медфак, но не успел пройти обязательной практики — провести хоть несколько самостоятельных операций под наблюдением хорошего, опытного хирурга.
Михаил Николаевич тянет не на двадцать четыре, а лет на двадцать. Это его окончательно добивает.
...Но разве в том дело? Нет!
«Как избежать ампутаций ног, рук, если именно благодаря им удается сберечь, сохранить человеку жизнь? Все остальное... Да!.. Если хотите знать, все остальное, в сущности, пустяки!»
Михаил Николаевич — человек с агрессивной совестью, направленной против себя самого.
Ему не спится. Поскрипывают на койке доски в его углу.
«Спать. Уснуть. Черт знает что такое. Нет на войне человека несчастней меня. Хоть бы меня подстрелили, что ли! А мама! Господи, я с ума сойду! О чем я думаю?.. Завтра работать, работать, может, еще и сегодня ночью. Спать. Спать!»
Так он думает, а мои незримые «усики» подслушивают его мысли.
Койка Михаила Николаевича скрипит.
— Чего-о-о вам? Кто это? Что случилось?
— Тише! Это я. Вера.
— Какая Вера?
— Ясно какая. Снайпер... И нечего притворяться. Мы с Сашкой заметили, что вы ничего не покушали нынче вечером.
— Извините, Вера... Но вы понимаете... Интимные ночные беседы в санбате... Одним словом, это вас может скомпрометировать... Давайте-ка перенесем вашу чуткость на утро. Ладно?
— Это еще чего-о-о? До того ученый, что ум за разум зашел... Короче: Саша сперла для вас муки.
— То есть как это, извините, «сперла-а-а»?
— Обыкновенно. Взяла и сперла... Вы, конечно, красавчик, но, извиняюсь, просвечиваете. Нам тошно на вас смотреть. Берите. Закусывайте. Мы для вас испекли оладушек. Мука, конечно, того... Не особенно первоклассная... Но эта дура набитая, да вы знаете! Ну, эта, как ее — переводчица из Полярного, она догадалась натолочь сахару... Лежите, лежите, я все подам. А чайку желаете? Смейтесь. Сколько влезет — столько и хохочите... Эй, лежите, лежите в койке! Я вам подам.
— Вера! Но я как старший по званию и вообще... Я не в состоянии санкционировать воровство... Ни муки, ни сахара. Я понимаю, что все это из наилучших чувств... Но мы, между прочим, фронтовики... Приходится — увы! — вам об этом напоминать...
Вера:
— Короче. Вы на передовой. А мы не на передовой. Вы себя блюдете, а мы не умеем себя блюсти. Ладно. В блюдце, что ли, чаю налить? Оладьи стынут. Жалко. И не вы, а я здесь ночная хозяйка. Ясно?.. Не вставайте. Сидите, сидите в койке... Можете прямо хлебать из блюдца. Чай сильно горячий. Так. А в эту руку — оладушку. Или вы уважаете чай в стакане?
— Ве-ера!
— А наша Сашка, между прочим, в вас влюблена. Кушайте, кушайте на здоровье. Это я так, для приятного разговору. Ну как оладушки? Вы нас почему-то не уважаете. Уважали бы, так делились бы с нами мнением. А вы с нами не делитесь. Небось считаете, если доктор, так сильно большая фигура? А нам плевать!.. Между прочим, вы целовались с Сашкой или это она сбрехнула?
— Ве-ера!
— Доедайте оладушки. И не орите на всю землянку, перебудите раненых. Они распсихуются, вам же их усмирять, не мне. Я снайпер. Мое дело сторона.
— Извините, Вера. Но что это за ухватка будить врача посреди ночи?.. Мне же завтра работать!
— Плевать хочу... Объясните мне, между прочим, как врач... Отчего у вас на макушке не волосы, а цыплячий пух?
— Прекратите! Сейчас же... Я... я вам не давал никаких прав!
— Ха-ха-ха!.. А за глаза вас зовут Мишуткой! Все. И раненые... А что, разве раненый не человек? Если вы его оперировали, так это еще не значит, что он обязан вас по фамилии величать... Э-эх!.. Каково теперь вашей матушке? Вас сколько у ней? Один? Единственный?! Это да-а-а! А у нашей трое. И все на фронте. Она... да ладно... Вы никому не расскажете? Она заказывала молебен за воинов Николая, Геннадия... И за воина Веру. Батюшка служил — чуть не плакал. И у него есть сын. На передовой. Лягте. Я вас накрою. Спокойной ночи...
8
Я и пленный сидим у окошка.
Храп матросов.
Шепот немца, моего перебежчика, и мое ответное бормотание.
Сидя у коптилки, мы оба клюем носами. Неярко горит коптилка. От дыханий колышется ее пламя.
Разговариваем. Вздыхаем. Молчим.
Коптилка высвечивает розоватым пламенем острое лицо перебежчика. Щеки его успели покрыться легкой щетиной. (Что б ни случилось с человеком мужеского пола, а борода у него растет, роста ее подчас не остановит и сама смерть.)
В те времена, бывало, всех немцев мы называли фрицами. И все же... Бетховен, которого я люблю...
Об этом я думаю и зеваю. «О чем бы с ним поговорить, а то, пожалуй, уснешь некстати...»
Мы сидим у знаменитого слюдяного окошка. Оба похожи на привидения: я — в засаленной куртке, растрепанная, он — с округлившимися от пережитого глазами, в шапчонке, похожей на пирожок.
Легко ли это, если всерьез подумать, перебежать к нам с той стороны хребта? Ведь немцы нам еще не стали сдаваться пачками, группами, косяками. Сам решился и драпанул сквозь колючую проволоку. Может, он и на самом деле антифашист?!
Что-то в моей бессонной, усталой, встрепанной голове взлетает и мечется. Глаза то слипаются, то разлипаются. Плывет в глаза потрескивающее пламя, красноватые сполохи. Мир огня при всей своей бедности похож на волшебное царство — искры, багрянец, синька.
9
Я не сплю. Протиснулась в щелку на общей койке, словно сардинка в консервной банке. С обеих сторон матросы. Храп такой, что, кажется, можно его пощупать.
Я слишком устала, чтобы уснуть. До того устала, что будто бы навсегда разучилась спать. Я проваливаюсь в полудремоту и сразу оттуда выныриваю. Покой состоит из багровых колеблющихся кругов: это дремота — преддверие снов. Я то вплываю в эти круги, то выплываю оттуда. Тишина. Храп.
И вдруг меня поражает стон. Он тихий. Он близко... Кто это стонет? Я? Я стону. Я стону сквозь сон. Но ведь я не спала! Как проверить, сон это или не сон?
Спать, спать, спать.
Я в багровых кругах — сходящихся и расходящихся. Я протискиваю ладони в эти круги. В багрянец сна.
Может, скоро утро?
Тяжело спать одетой. Я схватила себе привычку спать в сапогах, потому что боюсь: утром не смогу натянуть сапоги. Опухли ноги. Вокруг меня на этой почве хохот и остроумие:
— Выпиши себе из Парижа хрустальные башмачки. Если не умеешь как следует натянуть сапог из кирзы, обернуть портянку — не прись на передовую.
Все это ничего, молодые ребята позубоскалят и успокоятся. Но мой начальник, маленький капитан. «На-аказание на мою голову!»
Противогаз... Хорошее дело — противогаз. Противогазы очень даже нам пригодились. Вместо подушек. Молодец ученый, который придумал противогазы.
Мама! Я сплю на противогазе. Хорошо на противогазе. Хорошо спать. Хорошо, когда кругом храп. И хорошо спать в стеганой замусоленной кацавейке. Это вы придумали одеяла. Можно и без одеяла.
И вот я сплю. Вплыла в желанный багровый сон. В сон рассыпающийся, нетвердый. Глаза неожиданно раскрываются, видишь пламя коптилки. Пламя дышит. Оно дышит дыханием, похожим на человеческое.
Стоны, вздохи... Пламя колеблется. Это жизнь. Оно, то есть пламя, как бы сочувствует человеку и говорит: «Я огонь костров. Я сияние звезд...»
— Пи-ить, сестрица.
— Сейчас, голубчик.
— Пи-ить, пи-ить...
И вдруг дверь широко распахивается. В дверь влетает мороз и ветер. Пламя коптилки сильно колеблется, норовит погаснуть. Слышится, нет, не стон, это вой. Воет раненый. Санитары вносят носилки. В землянке гуляет мороз и ветер, в раскрытую дверь видны далекие звезды в ледяном небе.
— Доктор! Раненый!
— А? Чего?.. Сестра, попрошу вас в операционную. Санитары, таз... Берите таз и в таз побольше чистого снегу. Если поблизости окажется лед, еще лучше, несите льду... Да, да, сестрица, вместо анестезии... Се-естра-а-а!.. Быстрей... Лейте на руки, на руки, а не мимо. Ну же, проснитесь! Да нет! Из чайника, чтоб вода горячая... Вера, вы? Ладно. Давайте работайте. Видно, тяжелый... Разрезайте штанину. Быстро! Да, конечно, вижу: куртка тоже в крови. Придется разрезать куртку. Что-о? Да кто я вам, бог? Не умею я видеть сквозь куртки. Не знаю, плечо или грудь. Спирту. Живее. Для раненого. Побольше! Проснитесь! Действуйте!
— ...Тут я, миленький! Тут, мой хорошенький... — бормочет медсестра Саша. — Красавчик мой ненаглядный. Это спирт. А как звать-то тебя?
— Ко-оля-а-а, Николай...
— И брат у меня Николай. Николай. Вот какая выходит история. Ну так я тебя сейчас ублажу, братишка! Ты свой человек!.. Доктор разрешил поднести тебе спирту. И не жалеть. Дуй! Дуй вволю, пока не уснешь. Сколько хочешь, столько и дуй.
Опустилась в углу простыня.
Опять послышался вой. Ка-ак страшно! Вой и ругательство. Короткое, хорошо знакомое.
10
Там, в закутке, отгороженном простыней, стояли две койки, три табуретки. Я сидела и ныла, что никак не могу расчесать волосы.
Темно в закутке. Он расположен в дальнем углу землянки. Привычно и глухо ухают за окном мины. Что-то нудно врывается в мрачную тишину тундры. А я сижу и ною, что не могу расчесать волосы.
В землянке санбата на нижних койках множество раненых. Они терпеливы. Утром не слышно стонов.
Раненые!.. А я, завешенная простыней, скулю, что не могу расчесать волосы.
Мои руки покрыты ранами обморожения, это раны незаживающие. Там, где их нет, пальцы кажутся темными, это кожа потрескалась, пальцы как бы навечно грязные, не отмыть.
Мне очень стыдно, что тут же, в землянке, есть некий снайпер Абасов. Из Грузии. Он всегда смеется, сияет, сверкая зубами. Не мерзнет, не обмораживается.
Глядя на него и меня, люди с укором покачивают головами, они говорят:
— По-о-одумать только... Снайпер Абасов. Из Грузии! И ничего... А ты...
Я виновата, я прячу от людей руки.
Но ведь приходится жрать, одеваться, пить, подкидывать в печурку дрова. Иногда потихонечку греться у ее красноватого пламени. Как спрячешь руки?
Все вокруг умывались снегом, как пушкинская Татьяна, все, кроме меня одной. Прикосновение снега причиняло мне жгучую боль.
И вот я сидела за простыней и скулила. Однажды терпение у снайпера Веры Коротиной лопнуло. Она строго сказала:
— Давай-ка, Саша, устроим ей головомойку. Над этим тазом. Ты станешь мне поливать из чайника, а я как следует ее поскребу ногтями.
Надо сознаться, я сопротивлялась. На меня, однако, не обратили внимания: они были заняты делом, им было не до меня.
Вода была очень горячая. Я выла, как ветер, как вьюга, завывала наподобие пурги... (Но разве здесь это кого-нибудь удивит?)
Саша окатывала мою голову горячей струей из чайника, снайпер Вера скребла мою голову изо всех сил (а силы у Веры были могучие, руки большие, сильные).
Сперва я выла. Потом притихла. Землянка замерла. Никто не мог догадаться, что происходит за простыней.
— Эй вы там, потише! Кажется, слышите? Небось идет операция без наркоза.
Все. Чайник пуст.
— Так. А теперь расчешем ей голову.
Одна из них держала меня за плечи, другая орудовала гребенкой.
Всему, однако, приходит конец. Окончилась и эта тяжелая экзекуция.
Мокрые мои волосы, к удивлению нас троих, оказались прямыми и длинными. Чуть не до самых плеч. Волосы европейского человека (не папуаса!).
Так. Что дальше?
— Завтра им уходить, — серьезно сказала Саша. — Надо подумать, как бы ее половчей причесать, чтоб она потом сама могла расчесывать волосы.
Мои волосы разделены на пряди. Девочки достали стерильный бинт, разрезали его наподобие ленточек. И принялись без всякого юмора заплетать мне косы.
Они заплетали их совершенно молча и очень старались.
Это не было больно. Я перестала стонать — сдалась. Я передохнула.
— Погоди-ка... Мы тебя сейчас развлечем. Подруга мне переслала письма. Верка, давай зачитывай!
Письмо
«Товарищ цензура!
В конверт я вкладываю кусочек туши, отколотый из коробочки. Убедительно прошу тебя ее не выбрасывать, а переслать по адресу (хотя понимаю, что в высшей степени не по правилам).
Тушь для моей подруги. Она фронтовик. Воюет на передовой. Такая тушь, как ты можешь сообразить, употребляется для ресниц. Намочи палец и осторожно потри в коробочке. Если хочешь, можешь даже один раз накраситься.
Учти, товарищ цензура, что с подкрашенными ресницами тоже умеют сражаться и отдавать свою жизнь за Родину. Если нужно.
Ресницы моей,подруги, понимаешь ли, как назло, светлые.
Кроме нас троих — тебя, меня и ее, — о туши знать никто не имеет права. Особенно, ясное дело, ее начальник. Ты, я, она. Закругляюсь.
С доверием и уважением к твоей ответственной работе.
Счастья тебе. Любви, цветов и... ну, в общем, сама понимаешь.
Привет. Светлана».
Ответ цензуры
«Товарищ Светлана!
Пишет цензура.
Твою просьбу о туши я выполнила (хотя действительно, как ты верно заметила, в высшей степени не по правилам). А вдруг в следующий раз ты надумаешь переслать ей в конверте пудру, губную помаду и карандаши для бровей, если брови у нее светлые)?
Мне сорок восемь лет. У меня на фронте погибли муж и два сына, хотя ты не знала этого и знать не могла. И вот я слаба, как все матери.
В тебе я вижу хорошего друга.
Твой друг на передовой, в условиях особо тяжелых. Она заработала право на наше сочувствие и активность.
Если я, к примеру, скажу тебе, что красота — явление больше духовное, чем физическое, ты ответишь мне, что я человек отсталый и что я ничего абсолютно не понимаю...
Так пусть она воюет с ресницами черными, а не белыми. И пусть хорошо воюет.
Прими мой сердечный привет.
Пусть сила моих пожеланий вас убережет от смертей и горя.
Цензура (она же ваш общий друг).
Полуэктова».
Сколько времени длилась операция заплетения моих кос? Сникшая, я не слыхала времени.
А сколько их было, кос-то?
В Одессе на этот вопрос ответили бы вот так: сколько? А чтоб тебе перепало столько счастливых дней!
Каждая коса была аккуратно завязана тонкой ленточкой марли.
В тишине стало слышно, как тихо переворачиваются и вздыхают раненые.
— Воды, сестричка.
— Сейчас. Потерпишь.
Руки снайпера Веры Коротиной быстры и ловки: раз косичка, два... десять...
— Все. Красота. Кто из вас, ребята, просил попить? Ну-ка, дура! Вот зеркало, погляди, какая ты аккуратная.
Поглядела и ахнула. Голова окружена черным торчащим во все стороны нимбом тонких тугих косиц. Все это заканчивается белыми бантиками из марли.
— Девочки! Помилосердствуйте.
Они сжалились. Волосы подкололи шпильками.
Я была умыта, расчесана, волосы заплетены.
— Ну, теперь голова у тебя как у человека!
— Ничего себе голова, — неуверенно подтвердила Саша. — Когда дойдешь до Большой земли, сумеешь как следует причесаться.
— Давай-ка попарим ей руки, — войдя в азарт, предложила Вера.
— Отчего же! Можно попарить. Это полезно. Сейчас и я чашку водички погорячей.
— Карау-ул! Не могу терпеть!
— Тихо. Не забывай: здесь раненые. Раненые и то не орут, они ведут себя аккуратно. Держи-ка в кипятке руки, и чтобы без стонов и разговоров.
— Бо-ольно!
— Авось не лопнешь.
И я не лопнула. Как видите, дошла до Большой земли.
Тридцать лет прошло... Сижу у письменного стола. Мучаюсь оттого, что не так получается, как я бы того хотела... Однако сижу, не лопнула.
Теперь я это всегда себе повторяю в тяжелых случаях.
Я часто думаю о Рыбачьем, слышу ветры и завывания вьюги... В озере у подножья Тунтурей блещут серебряные спинки форелей. Слюдяное оконце в землянке выбито, по землянке гуляет ветер и вьюга.
Ну а зимой?
Зимой надо всем так робко и осторожно встает как бы размытое северное сиянье, и каждый лучик его похож на торчащую коску. С ленточкой. Белой ленточкой из стерильной марли.
11
Однажды не успели мы перешагнуть порога землянки, как противник начал особо сильно стрелять.
— Придется идти зигзагами, — сказал наш маленький капитан. — Зигзагами! Ясно?.. Чтоб лишить снайперов прицельности.
И мы побежали зигзагами. Впереди старшина-радист, конвоир и пленный. Капитан и я отставали. Из-за меня.
Мне показалось, что я сейчас упаду на равнину и, обессиленная, буду громко кричать и плакать. Я сильно хромала. На один широкий шаг капитана приходилось два моих нетвердых шажка. Свалилась ушанка. Я нагнулась, чтоб подобрать ее.
— Скорей! — сказал мне маленький капитан. — Не до шуток. Скорей, скорей...
И побежал вперед не оглядываясь. Вокруг со свистом рвалась земля.
— Скорей! — говорил капитан. — Скорей!
Но у меня отморожены ноги!
Откуда-то издалека — туман. Туман какого-то странного рыжего цвета, как клубы дыма. Ах, да! Это обещанная нам дымовая завеса: нас пытаются оберечь.
Разглядев дымовую завесу, враг наверху, на сопках, учуял, что на равнине происходят какие-то боевые действия. Завеса дыма, вместо того чтобы нас прикрыть, привлекла внимание противника. За плечами нашими поднялся огненный шквал.
Я шла, я влачилась за капитаном по белой равнине. С обеих сторон нашей снежной дороги стелился пар. Я сняла рюкзак и бросила его в снег. Тяжесть рюкзака казалась мне непомерной.
Наш путь шел в гору. Небо над нами как бы рдело, змеилось светлыми огоньками.
Жить! Жить! Жить!.. Я бежала вперед, я покорно следовала за капитаном, не понимая, откуда берутся у меня силы.
Кое-где от мин и фугасок снег распустило и будто съело.
Над нами золотисто-светлое небо. Мы затеряны в белой пустыне, мы идем вверх, все вверх, вверх.
Дорога становится круче, круче... Нет больше сил бежать. Я останавливаюсь и перевожу дух.
И вдруг капитан поворачивает ко мне небритое молодое лицо. Его ноздри раздулись, очки блестят, создавая впечатление огромных и страшных глаз.
— Милая! Поднажмите... Я... я жить хочу, но не брошу вас. Не положено. Военная дисциплина.
До сих пор, хотя прошло столько лет, я помню искренность его очкастого взгляда, душевность голоса.
Дым вокруг нас немного рассеялся. Мы увидели часть нашей группы, ушедшую далеко вперед. Позади — траншеи, по левую сторону — озерцо. Как весело поблескивает озерцо!
И вдруг что-то с силой меня ударило. Я продолжала бежать. Пробежала, помнится, еще три-четыре шага. И взмокла. От бега прилипла к телу рубаха. Для того чтоб бежать скорее, я изо всех сил размахивала руками. Но левая рука моя двигалась как-то уж очень медленно.
И снова толчок. Что-то задело о голенище моего сапога — видно, камень.
Я упала на снег, попробовала продвигаться дальше на четвереньках. Но левая рука не хотела меня поддерживать. Щека прижалась к снегу. Снег рядом со мною будто порозовел.
Приоткрыв глаза, я увидела своего начальника. Он что-то ласково мне говорил, но я ничего не слышала. Видела только его шевелящиеся и вздрагивающие губы.
Я лежала в снегу и чувствовала себя виноватой.
Наш старшина развернул плащ-палатку. Меня уложили на плащ-палатку. Я коротко застонала.
Кровь. Моя кровь. То розовое было кровью. Моей... Стало быть... Да, да!.. Рубаха, она прилипла ко мне от крови.
Кровь! Живая. Липкая. Настоящая.
Что-то кружится. Я теряю сознание.
Они несут плащ-палатку: начальник, радист, конвоир и немец. Лицо у немца влажно от снега. Нет, кажется, это от слез. Он — баба!
Больше мне не надо бежать. Ноги... А пусть болят себе на здоровье! Мне можно лежать спокойно. Ноги могут болеть.
И вот я лежу как барыня... Как... как английская королева.
Кровь. Плащ-палатка. Немец. Зигзаги. Надо бежать зигзагами. Ватник. Кирзовые сапоги...
12
С того места, что ли, мне продолжать, когда с руками, покрытыми ранами, с ногами, которые едва ступали (с ногами, обернутыми в портянки и вбитыми в сапоги), когда каждый шаг — страдание, каждый шаг — усилие, рывок, я выехала в военный санаторий на юг?
Это было после того, как окончились боевые действия на Северном флоте, после того, как нами был взят Петсамо.
Нет! Я начну сначала.
«Взятие» началось с глухой и полной темноты. Полярная ночь. Зима холодная, особенно по ночам, черная, страшная, ледяная, чертоги холода, земля замерзшая, белая, как бы рассеченная темными огромными камнями разной формы, разной величины. Снег и ручьи, невесть откуда взявшиеся (до сих пор понять не могу!), земля с незамерзающими озерцами, в которых бьется нетронутая рыба (а как ее тронешь?! — сидеть и удить под пулями, так, выходит, что ли?..).
В этой зимней тьме, в которой тонули очертания землянок, на грязной от снега горе, истоптанной ногами людей, у порожка этого медсанбата, где вместо ступенек была проложена тонкая досточка (как это на нас похоже — за столько месяцев не сделали лесенки!), у этого порожка, в этой землянке, во мгле ее — нам стало известно о наступлении.
Во мгле, ибо даже сквозь слюдяное окно не проникал свет, казалось, весь мир стал тьмой — мир, пронизанный пламенем двух коптилок, пламенем жалким и вспархивающим от дыхания человека.
На полу носилки. На носилках лежали раненые. Они были ранены тяжело. Если б легко, если бы выносимо, они бы встали, пошли к берегам Баренца, шатаясь, падая, вставая, борясь, поддерживая друг друга, преодолевая страдания, как свойственно преодолевать его человеку русскому — терпеливому безмерно и беспримерно. Они бы шли, шли... Но они были ранены тяжело. «Под дужку». Под самую смерть.
Светились в темноте их глаза, раздавались тихие, замедленные, безнадежные стоны. Наступление! Здоровые и целые пойдут к Петсамо (к Печенге), раненым надо в обратную сторону: к Баренцу, к его судам — в госпиталь.
Наступление — это важно, важней, чем жизнь, потому что война, потому что окончилась оборона.
Оборона! То есть ожидание.
А нынче — вперед! И теперь — наконец, наконец-то! — на другую сторону хребта. А они вот — они лежат и беспомощно стонут.
Раненые стонали на носилках, устилавших пол. Они были одеты в дорогу — в теплых меховых шапках, в стеганках.
Шум в землянке, разговоры, и — пах-распах! — раскрывается дверь и в эту дверь — ветер. «Ветер-ветрило, не дуй мне в рыло».
Гуськом, шагая один за другим, мы движемся (наша группа) вперед, в ветер, в ночь, в слабое звездное сиянье, во мглу, в камни, в шершавые скалы.
Поземка. Неведомо откуда она взялась, ведь снег слежался! Поземка колет лицо, но не жалуйся даже и про себя, не смей замечать, ты идешь в бой.
Внизу ручей. Через бурный поток, светящийся странным сияньем, более светлым, чем густая чернота ночи, проложена досточка.
Вперед! Вперед!
Перешли. Только ты, идиотка, копаешься — шаг твой короток и неловок. Росту в тебе сто пятьдесят три сантиметра. Нога — китайская. Номер ее — тридцать два.
А сапог на этой ноге — номер тридцать шестой... Валяй! Порхай! Перепрыгивай! Действуй!
Досточка скользит у меня под ногами, снизу, под ней, вода. Я канителилась, канителилась... А война между тем шагала вперед. Бои. Наступления. И вот я возьми да и бах в ручей!
— Чтоб вы сгорели! — так мне крикнул радист.
Но от холода не горишь. И в воде не тонешь.
Насквозь промокли моя ватная куртка и кирзовые сапоги.
— На-а-аказание на наши головы. Все сначала!.. — это опять радист.
Я шла. Я шагала безропотно, измокшая. Не я: «наказание на чьи-то головы».
Выбрались и пошли по снегу. И по камням. Вода пронизала мою одежду, проникла к телу, а так как на мне очень много всего навьючено, я не просохну скоро, нет, нет! Я навечно промокла. Человек в ледяном компрессе. Храбрый воин в ледяном компрессе.
А вокруг — ночь. Тундра и наступление, которого мы ожидали так долго, мы его ждали, и вот — пришло.
Чудо свершилось, из всех земных чудес наиболее чудесное!
Нет! Мы, разумеется, не на небе, я не в гостях у северного сияния. Я на другой стороне хребта, там, где так долго стоял противник.
Месяцами — в пургу, холод и стужу! — держали мы оборону под пулями немцев, под взрывами его мин. Мы стояли: держали горы, держали камни, держали тундру, держали ветры, держали лето, держали зиму, держали подходы к городу Мурманску и только жизнь свою не держали. Нет — это добро мы отдавали, и тратили, и швыряли, и дарили его земле.
Мы хотели победы.
Только что неприятель был близко, был рядом, по другую сторону гор, по эту сторону Тунтурей, — здесь стоял фашист, непостижимый в непостижимейшем из безумий, он притаился, был туточки, как в кошмарном сне. Разведка боем, разведка подслушиваньем. Меня спускали вниз на канате. Канат держали старшина и двое матросов — подносчиков нашей аппаратуры. Я повисала между землей и небом, скрытая от немцев скалой. До меня долетала немецкая речь, их возгласы, смех. Но я ничего не слыхала. От страха. Только удары своего изо всех сил колотящегося, трусливого сердца.
— Ну?.. Чего?!
— Ничего.
— Зачем же ты предложила это?
— Они... Они хохотали и пели. И... ничего военного. Как назло!
— Ври больше!
— Я не вру!
Шагая гуськом во мраке, в стуже, в ветре, в россыпи звезд, мы... мы... мы... свободно, спокойно проходим на эту, на заколдованную сторону хребта.
Землянки пусты.
Волшебная лампа Аладина! Заколдованная пещера! Враг ушел. Драпа-анул!
Все здесь будто бы не тронуто. Все хранит следы недавнего присутствия, прикосновения фашистов.
Кровати... Неслыханно... Койки, похожие на кровати. Застланы со всей тщательностью, с которой это делают дома.
На кроватях поверх одеяла рядом с большой подушкой — другая, маленькая. Потом я узнала — у немок (у их рукодельниц) обычай: посылать своему солдату на фронт небольшую вышитую подушку. Над кроватями (то бишь койками) коврики. У окон землянок столы, окруженные табуретками. На столах кувшины. И кружки. И... неостывший кофе! Он был почти горячий — они его собирались пить, когда пришло известие об отступлении. И кофе остыть не успел.
Это примета из области волшебства.
Многомесячные ожидания. Ранения. Холод наших, землянок со щелястыми стенками, забитыми ватниками. Наши печурки с их желтым, с их желанным, слабо разгорающимся огнем; испарения от мокрых портянок, развешанных над печурками, облако горьковатого пара...
И эта благоустроенность! И этот кофе в фаянсовых кувшинах, и эти аккуратнейшие ступеньки, ведущие к их землянкам.
Консервы! Много консервов: сардины и мед. И вино. Сколько у них на продовольственном складе вина! Вина хороших марок — со всего света. Их склон Тунтурей — не наш. Их склон сливался с шоссе. К ним по шоссе действительно прибывали грузовики. На их стороне кусты и деревья, белые, заснеженные. На их стороне Тунтурей была жизнь земли, которой не было у нас.
Так вот откуда вы слушали передачи, так вот какая у вас война! Половички! Подушки!
Так вот отчего мы выиграли войну! И никакие учебники тактики и стратегии не уверят меня, что это было не так, что мы выиграли ее по другим причинам. Для нас война — я знаю — бросок, когда все отдаешь — сердце, горло, внутренности, согнутые колени. Ржавый сухарь, кровоточащие десны, горячую, плохо сваренную овсянку, от которой во рту шелуха... Нам невозможно было доставить ни пищу, ни боеприпасы — равнина обстреливалась. Наша часть тундры лежала у них на ладони. Но мы — победили.
И вот мы геройствовали сейчас по эту сторону Тунтурей. И я геройствовала в своей мокрой одежде, забыв о ней в том состоянии подъема, когда все на земле не в счет.
...Вот их медицинская часть. Раскидав ноги, лежит на столе огромный раздутый немец. Гигант. Страшно к нему подойти. Это дом — помещение, жилье. Не землянка. Смерть принимает здесь обличье нормальной смерти — здесь она не смерть на равнине, на поле боя.
Ушли и не унесли с собой своего умершего.
А мы унесли бы! Мы бы несли его, рискуя собой, вставая и падая от напряжения. И мы бы его предали земле.
Наш старшина открывал консервы, доставал где-то хлеб, наливал нам в кружки вина — он был хозяйственный человек.
И тут-то я совершила свое единственное за время войны преступление, караемое законом, безумие, за которое я бы могла попасть под трибунал.
Ничего не сказав начальнику, я набрала в карманы, в брюки, за пазуху десять бутылок с вином.
Перебежать. На другую, на нашу сторону Тунтурей...
Мне взбрело это в голову потому, что ночь, а ночью мысли у человека пьяные — вспархивающие, пузырчатые.
«В нашу землянку... Назад...».
Это было как наваждение.
Наш склон. Землянка санбата. В окно чуть брезжит красное зарево.
У коптилки, пододвинув к столу табурет, сидит медсестра.
— Кружку, Саша! Скорей!
— Ты что? С ума сошла? Зачем ты вернулась?
— Саша-а-а! Кружку!.. Сашенька, помоги. Давай раскупоривать.
— Ты взбесилась!
— Скорей!
Булькает и пенится бордоское, выливаясь в кружку, пенится соком винограда, запахом спирта, блеском солнца, багрянцем крови.
Жадно и благодарно пили раненые вино — быть может, перед смертью, быть может, перед уже разгорающейся гангреной. Они пили, хлюпая, как дети малые хлюпают молоко. В вине родилось солнце — южное солнце той части земного шара, где зреют волшебные, виноградные лозы.
— Пейте, ребята! Вино хорошее. Очень даже хорошее. Это Франция.
— Спасибо, сестренка.
— Молчи и пей.
— Где вы были? Куда вы делись? — спросил меня мой разбушевавшийся маленький капитан.
— В соседней землянке.
— Неправда! Вы провалились в тартарары. Из-за вас... из-за вас... Чем все это кончится?! Я... меня под трибунал.. С меня погоны сорвут!
— Но ведь я рядом была. Надо было только меня позвать.
— Мы звали!
— А я... я от счастья и от волнения не слышала. Я оглохла.
Мы спускались вниз с хребтов в таинственной, освещенной мерцанием снега темноте ночи. Внизу лежало шоссе — та обетованная дорога в Норвегию, о которой мы столько слыхали и думали, сидя по нашу сторону Тунтурей. Шоссе вело к Петсамо — нашей старинной Печенге. Ее нам и надо было освободить.
Сколько раз, сидя по другую сторону гор, я пыталась выкликать эту живую землю.
И вот мы по ней шагаем. Над головами нашими звезды — холодные и такие бледные в печальной высоте неба. Казалось, будто морозный разреженный воздух можно пощупать руками. От дыхания пар. Тундра спрячет его, запрет, «заховает». Холодная, немая, огромная — она заколдованная, если захочет, она сумеет его сберечь.
Впереди на шоссе нас ждала машина, прозванная «вещалкой». «Вещалка» не могла перевалить через горную цепь, нам предстояло ее разыскать в дороге.
Вниз, вниз...
И вдруг я остановилась: увидела дерево. Ель. Живую, игольчатую, покрытую снегом. Сколько месяцев мы не видали деревьев! А правда ли это, будто на белом свете живут деревья?
Вот — она. Ель. И еще одна.
Я услышала щебет птицы. Птица? А разве на свете бывают птицы?
На шоссе мигают точки огней, костры.
Огонь! Знак присутствия человека.
— Впе-еред!
Белый, странный, потусторонний свет разрывает равнину и темноту. Это «катюши», наши «катюши»!.. Пронзительно-страшен их рокот в великой тишине ночи.
— Ложитесь!
Мы падали.
— Встать!
Мы вставали.
— Бежа-ать!
Мы бежали.
— Встать. Лечь. Встать. Лечь.
Мне доставляло удовольствие падать и, лежа на животе, отдыхать на снегу.
— Лечь. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Встать.
Потом начальник мне говорил, что я проявляла трусость в поспешности, с которой падала в снег.
С наслаждением, как ребенок, падала я на землю, почти зарываясь в снег носом, когда все вокруг озарялось белым сиянием. Я была одновременно и снегом, и озарением, и чернотой, и холодом и, как всегда, боялась своего маленького начальника. Я трепетала перед начальником. (Во время войны начальник всесилен, в его руках нечто большее, чем твоя жизнь, — твоя честь.)
Палило. Долго. Бело. Нескончаемо.
Вот наконец-то и наступление!..
«Катюши», вступившие в строй, прогнали далеко вперед обезумевшего противника.
13
Когда пишешь сегодня об отступившей войне, многое тонет в поэтической дымке прошлого.
Многое я забыла, многого не умела понять.
Оглядываясь, я вижу будто во сне конец нашей белой дороги, вижу древнюю русскую Печенгу.
Пока до Печенги докатил наш автобус-«вещалка»... Одним словом, морячки уже получили свои сто граммов.
Много ли надо ребятам? Особенно молодым. Над нами, надо сознаться, здорово издевались, что называется, на полную катушку, в полную власть и сласть.
Известно, что люди вообще не отличаются самостоятельностью мышления — один заражал другого. «Выпустите-ка на улицу свою девушку. Пусть она нас разложит. А кого вы приблизительно разлагаете? Кого вы намерены разложить?».
Далеко угнали немцев наши «катюши».
Мы сидели в автобусе и молча ели хлеб с кусочками шпика. Скамьи в автобусе были заняты проигрывателем, пластинками. Старшина вынимал из мешка (условной чистоты) фаянсовые кружки. Он прихватил их с собой на отвоеванной стороне Тунтурей (хозяйственный человек). Напились воды. Хорошо. Порядок.
— На кого вы похожи? — удивившись, вдруг спросил меня капитан.
Интересно, на кого я могла быть похожа, — нечесаная, спавшая на полу, вывалявшаяся накануне ночью в грязи, измокшая в ручье, не снимавшая ночью сапог от страха, что утром не смогу их натянуть на ноги?
На кого я была похожа?! На призрак войны, на призрак молодости — я со своими грязными, потемневшими, обветренными руками, много раз обмороженными, деформированными, кровоточащими.
«Вещалка» вздрогнула и остановилась. Вздрогнула радиоаппаратура. От резкого толчка повалился на пол какой-то мешок. Что-то звякнуло, тренькнуло.
Мы вылезли из автобуса и вошли в первый встречный дом. Первый «военный» дом на военных моих дорогах.
В сенях еще стояли ведра, наполненные водой (здесь не было водопровода), в спальнях — распахнутые шкафы. Все в шкафах, несмотря на страшную спешку, мелко изрезано, чтоб не досталось русским.
А на столе в столовой или на кухне все те же уже знакомые нам фаянсовые кувшины, в них кофе, на ощупь еще чуть теплый, и недоеденный, но надкусанный хлеб.
Вымерший город с елками, с колокольней католического собора посреди ухоженных, чистых улиц, с уборными, вынесенными за пределы домов, — уборными с занавесками, полочками, пипифаксом.
На мостовых валялись знамена. А вот матросская фланелевка не нашего образца и рядом тут же на мостовой — старомодное женское бархатное платье.
И вдруг — звон. Это кто-то забрался на колокольню и принялся изо всех сил лупить в колокол.
Окна домов смотрели пусто и удивленно на эти улицы, по которым медленно ехали брошенные в наступление и уже ненужные танки. Содрогалась земля от их тяжести.
...А далеко, там, в конце белой улицы, в черной шинели, худой и высокий, стоял адмирал, блестя золотым околышком. Он стоял неподвижно, сняв черные перчатки...
14
Кончились боевые действия пехоты на Северном флоте. Страна дала за нас двенадцать залпов.
...Четвертое обморожение рук, ног.
Я лежала в госпитале, в огромной палате, пытаясь вычитать на потолке, высоком и белом, истину о жизни и войне, о смерти и молодости. Лежала. Умнела. Серьезнейшее занятие.
Однако... к столу! Из тишины кухни, из утреннего страха перед белой страницей — страха, свойственного не мне одной, а многим писателям...
К столу! К делу!
Мне, понимаете ли, хотели оттяпать правую стопу из-за незаживающих ран четвертого обморожения.
Это не особо значительная ампутация для человека мужского пола. Но для женщины, молодой («для девушки»), с высшей степени неплохими ногами (в этом свободно можно признаться за давностью лет... В те времена, скажем к слову, еще не входили в моду ноги патологической длины, нарушающие естественные пропорции тела человека)... Ампутировать ногу хотели (то есть не хотели!) хирурги наипервокласснейшие, ведь я лежала в госпитале Полярного (не на передовой).
При любых обстоятельствах задача врача — сохранить жизнь. Хотя «оттяпывать» для этого ногу нежелательно...
Хорошо. Ну а рожица?.. А глаза, напряженно глядящие прямо в глаза врачу со скрытой покорностью, с кротостью лошади?.. Нет, пожалуй, собаки. А худоба? А хрупкость?..
Между прочим, врачи, они тоже люди, с людскими слабостями. Люди. Отцы. И матери. И — война! Где дети хирургов? Сыты ли? Целы? Одеты ли или, может, мерзнут, как мерзла вот эта девочка?
Чьи семьи во время войны проживали в хрустальных дворцах? В чьих снах мелькали ковры-самолеты, переправляющие детей в те местности, где не было затемнения?
Палата, в которой лежала я, естественно, была палатой для женщин. Раненых мало — ведь не передовая, а база флота, Полярный. Женщины... И все больше с рабочими травмами, с заболеваниями терапевтическими, гинекологическими и прочая.
Выходило, что вроде бы женским объектом с передовой была только я одна. Да еще вдобавок с виду подросток — юнга. Девушка. Человек из большого города... «Объекту», как полагали врачи, еще следовало «устраиваться», выходить замуж, рожать детей. И вдруг — вот те здрасьте! — долой стопу.
Меня осматривали (вернее, не меня, а мою злосчастную ногу) по нескольку раз на дню!.. Осматривали ее с — ай-люли! — какими веселыми лицами.
Выходило, будто врачи развлекаются. И кто только в то время не обозвал меня (то есть «объект») голубчиком!
А «голубчик» дремал. Канючил. Выспавшись, принялся эксплуатировать окружающих — затребовал из центральной библиотеки Пруста.
Пруста, видите ли!.. И при этом желательно, чтоб на французском, а не на русском языке.
В госпиталь тут же направили библиотекаршу.
Пруст был доставлен «раненой». Правда, на русском, не на французском.
«Раненую» навещал старшина команды. Сидел у койки, не знал, о чем говорить, потихоньку крякал. Приходили матроски (матросы-девушки). Причесывали, умывали, норовили накормить с ложечки.
А спас меня от ампутации, между прочим, врач-психиатр.
Ее имя Александра Павловна. У нее была четырнадцатилетняя дочь. Девочка застряла в тылу, мать не знала, жива ли она, не имела о дочери никаких вестей.
Психиатр зашла в палату как бы затем, чтобы тоже слегка развлечься. Поговорив со мной, она рассмеялась в лицо хирургам:
— Да пошлите вы ее в санаторий. На юг. Поняли? Она южанка. Солнце! Вот ее лекарь! Там затянутся раны сами собой... И опять-таки жестокий авитаминоз. Что вы и кто вы? Дети или врачи-хирурги?
Как я добралась до юга, история особая. Через две недели, однако, с быстротой, возможной лишь для очень стойкого организма, мои раны зарубцевались.
Нога была спасена.
Болезни профессиональные... У машинисток — суставы рук. У горняков — легкие. У врачей — сердца.
Судьба! Поскольку это люди самой человечной в мире профессии, валяй позаботься о них! Заколдуй! Охрани и обереги!
Помнится, в госпиталь врачи привозили мне из Мурманска рыбий жир.
С каким трудом они его добывали.
Я не могла дождаться, когда мне дадут рыбий жир. Я пила его жадно, мечтала о следующей ложке — ничего вкуснее, мне кажется, я за всю свою жизнь не пила.
— Что ты там читаешь на потолке? — спросил меня как-то раз старшина.
— Я хочу и буду участвовать во взятии Берлина.
Над моим «заявлением» о Берлине потешался весь госпиталь, его передавали друг другу из уст в уста. Надо мной трунили: «Решила податься в Берлин?»
Смеяться смеялись. Но не учли одной существенной мелочи. А именно: моего характера.
15
Долго ли мне «прохлаждаться» на юге, когда наши рвутся к Берлину? Не ровен час, его возьмут без тебя. И ты... ты останешься с носом.
Так я думала, засыпая там, в санатории, где в южном небе яркие звезды, где в траве под вечер тихим светом загораются светляки. Море! И не какое-нибудь, а Черное. Родимое море. Мое! Мои берега!
И все-таки, засыпая, я думала о Берлине. Думала об этом всерьез, без всякого юмора. Убивалась от беспомощности и бессилия.
Выписавшись из санатория досрочно, я прибыла в Москву (как известно, все дороги — через Москву).
В Москве я воспользовалась правом любого военного обратиться с частным письмом к любому большому начальнику.
Это отступление от дисциплины нам было разрешено.
Счастлива поведать читателю, что прекраснейший этот человек жив. Он в отставке. Проживает в городе Ленинграде. Военный очень высокого звания, он вполне обо мне забыл. Естественно. Но я-то помню его и (что тоже вполне естественно) позволяю себе:
Товарищ адмирал!
Я обращаюсь к Вам с письмом из дальности десятилетий.
Вы... Вы оказались большого роста. И кабинет у Вас очень большой. В кабинете огромный письменный стол.
Помнится, войдя в этот кабинет, я робко остановилась у Ваших дверей. Я была в разутюженной морской форме. Пуговицы формы надраены. Китель — с белоснежным (хорошо накрахмаленным!) подворотником. В боковом кармане торчал носовой платок (нарушение морской формы). Мои военные полуботинки (номер тридцать второй) были очень ярко начищены. Я готовилась к встрече с Вами. И я — старалась.
Что-то при виде меня будто дрогнуло в глубине Ваших глаз.
Может, Вас охватило горькое сознание того, что сделала с нами война? Сознание великой своей вины — ведь Вы сильный, а не можете изменить того, чтобы женщина, то есть слабость, стояла у Ваших дверей и чтоб она была военной?
А может, блеснула в Ваших глазах простая и великая русская доброта? Быть может, Вы сын крестьянина? Я этого не знаю.
Помню только, к великому моему изумлению, увидев меня, Вы привстали, отошли от письменного стола и с учтивостью военного очень высокого звания пошли навстречу мне (признаться, легонько заколебавшись).
Вы шли очень медленно. Шагали тяжеловато, как бы задумавшись. Подошли, обхватили меня за плечи и повели к столу.
Каждый наш шаг был верстой. Километром.
Вы сказали:
— Садитесь. Слушаю.
И я заговорила.
Что-то безмерно трогательное, мужское и жалостливое было в серьезности, с которой Вы меня слушали. Вы не позволили себе улыбаться. Ваше лицо выражало изысканную учтивость, серьезность и напряжение.
Ваши добрые, милостивые глаза засекли на мне старательно начищенное: медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны.
Может, Ваши глаза хотели кричать об усталости, об ответственности, в которых Вы жили? В Ваших глазах, мне помнится, было что-то такое (ведь и Вы человек, не так ли?). Грусть полыхала в глазах, как флаги, изорванные ветром войны.
Я сказала ледяным голосом подчиненного:
— На Севере военные операции для сухопутья закончены. Я доброволец. Хочу участвовать во взятии Берлина.
И у Вас хватило доброты не прыснуть, и не спросить: «А то без тебя, полагаешь, мы его не возьмем? Так, что ли!..»
Нет, нет... Вы этого не сказали. Вы ответили:
— Ясно.
И позволили себе — в первый раз — улыбнуться.
Несмотря на улыбку, грустным все же было Ваше лицо.
Быть может, Вы понимали детскую пылкость и сумасшествие моего желания? И бессмысленность своего поступка. Но... ничего не поделаешь! — война. Молодые жизни, словно болотные огни, то угасают, то загораются ярким светом. И странствуют заколдованно. Так же принято угасать судьбам, то сливаясь в сплошной поток, то разъединяясь. Без этих огней не преодолеть ночи. Без них не бывать победам. Без отдельных судеб, без крошечных огоньков не будет палитры пламени.
Трагично и очень серьезно писали Вы что-то на листике, который вырвали из блокнота.
И вот теперь я пишу в ответ:
«Спасибо Вам, товарищ адмирал»...
16
«...За период боевых действий в районе Фюрстенберга корабельная артиллерия уничтожила одиннадцать артиллерийских и минометных батарей противника, тридцать семь дзотов и пулеметных точек, подорвала два склада с боеприпасами.
24 апреля Фюрстенберг был моряками взят».
17
...И она, фрау Соббота, меня научила дружбе, и уважению, и тому, что в жизни нет штампа, который по-ученому называют «комфортностью».
Сам обо всем суди. Иначе ты лишишь себя права сохранить свою сущность пусть слабого, но все же человека. Ты лишишь себя великой любви к земле — к листьям, к воде и небу. Потому что ты не осмелился наперекор всему жить законами собственного сердца.
Комнату у меня убирала Элли. Стирала пыль, приносила воду для умывания, наливала ее в кувшины.
— Элли, где мне уменьшить белье, которое достали ребята? Белье велико, магазины закрыты и неизвестно когда откроются. Я не могу, пока суд да дело, ходить в этих огромных штанах и сорочках:
— Пойдите, пожалуй что, к госпоже Соббота, — ответила Элли. — Она шьет, и шьет хорошо... Это вон там, в конце улицы, третий этаж. Раньше внизу у них был обувной магазин. Большая такая витрина, стекло не выбито. Вы ее найдете, найти легко.
Мне помнится лестница, которая к ней вела. Эта лестница была переполнена уютной мглой и узкими треугольниками света. Что-то напоминало детство — юг, где я родилась, лестницу, где прыгала, перескакивая через три-четыре ступеньки. Та лестница, помнится, колыхалась от звона детских голосов. Мерещилось, что в этих детских воплях — свет, что все лестничное пространство пронизано светлой пылью.
Наклонив голову с двумя туго заплетенными косами, я себя спрашивала в те далекие дни: «А есть ли кто-нибудь на свете счастливей меня?»
Так я себя спрашивала тогда.
Внизу сквозь дверной проем «скучало» во дворе большое толстое дерево. Оно не было самым счастливым на свете. Нудно было ему, старому, с таким толстым стволом и высокой кроной, упиравшейся в небо. Шелестели его листья. И все они были не самые счастливые. А я — была.
Внизу, под деревом, мне отчетливо помнится кран. Из крана била вода, люди ее набирали в ведра. Вода все капала и капала. На земле образовалась большущая лужа.
Наше парадное переполнено витамином летнего воздуха, мглы, пылинок и дребезжания.
...И вот я в далекой Германии. Шагнула в парадное, и отзвук моих шагов вернул мне память о моем детстве, я увидала пылинки, перекатывающиеся в светлом луче.
За пределами Фюрстенберга стояли немецкие улицы, пылающие пожарами. Страшное, страшное, стра-а-ашное! — кресло паралитика посреди мостовой. Кресло толкала какая-то пожилая женщина. А в кресле — паралитик.
Не дома, не улицы, а стены пламени, лопнувшие оконные стекла. Покинутое людьми царство. Поля и — одинокий лошаденок без матери.
— И-и!.. И-и!
Но вот шажок — и я в детстве.
Прохлада каменных ступеней, а на улице — весна, и клекот дерева, и шевеление травинок.
Медленно поднимаюсь по лестнице. Шагнула, зажмурилась.
...Помнится, когда мне было лет восемь, я стояла на балконе и в руках держала мамин деревянный грибок, на котором штопали когда-то чулки; его почему-то нельзя было брать и трогать. И вдруг грибок вырвался из моих непослушных пальцев и упал вниз с балкона.
Я поняла, что грибок разбился и все погибло, ведь он деревянный. Сердце забилось. Зажмурившись, я бежала вниз, чтобы не видеть то страшное, что случилось с грибком.
Сейчас под балконом я подберу его остатки. Но что-то внутри меня вопило, взывая к чуду: «Пусть грибок будет целый, целый!.. Я хочу, чтоб грибок был целый!»
Он лежал под балконом. Я села на корточки, наклонилась...
Грибок был цел! Не было на нем даже самой тонкой царапины.
Этот грибок сохранил мне веру в волшебство и чудеса. Навсегда. На всю жизнь.
И, знаете ли, чудеса сбывались.
Сбывались и будут сбываться. Я это поняла тогда, в темном парадном в городе Фюрстенберге. Во время войны.
...Поднимаюсь по лестнице к фрау Соббота. В Германии. Несу внутри своей шинели, под кителем, усталое сердце, но в нем бушует жажда чуда. (Я вспомнила тот деревянный грибок.)
Шла и шла. Дорога вверх казалась мне длинной. Я поднималась словно во сне, где все иррационально, алогично и совершенно лишено смысла.
Я шла, наполненная предчувствием. И если глянуть вниз, в проем раскрытых дверей, там млела зелень — шевелились кроны старых деревьев и пропылившиеся травинки.
Верхняя лестничная площадка. Я стучусь в дверь.
Кристалл моей памяти, повернись к свету, вспыхни радугой, возврати мне ту старую немку, которая сделалась моим другом.
Я в Германии. Война. Германия разрушена по воле фашизма. Стоят поля, не засеянные хлебами. Над барками, над крошечными судами, застывшими где-то в заводях, под тенью ветвей, вырвались на волю дикие гуси. Совсем одичавшие. Сделавшиеся своими собственными предками. Бело летел их пух над водой. И куры зажили на барках. Они зажили там, они заменили собой людей.
Все кинуто, брошено, как в заколдованном царстве, вместо людей — птицы, птичьи перья, летавшие так страшно и так свободно, так странно и голо, говоря о запустении и о войне.
А старая немка сделалась моим другом.
Не сразу. Нелегко это сделалось, оно просачивалось медленно, как вода, дробя камень.
По разные стороны порога стояли две женщины — одна старая, другая молодая, годившаяся ей в дочери. Стояли и сухо смотрели в глаза друг другу.
— Здравствуйте. Мне сказали, что вы можете пригнать по мерке мое белье?..
Она молчала. Она не ответила: «Здравствуйте». Спокойная, высокомерная. В мягких туфлях. Ее волосы были подобраны, аккуратно подколоты.
Не сказала «здравствуйте», ответила:
— Войдите, я посмотрю.
Из темноты коридора сухо блестели глаза — сухо, мертво, напряженно.
Потом я узнала, что у нее один-единственный сын. В тот час, когда я к ней пришла, ей было неведомо, жив ли он или там, далеко в России, лежит в земле. А может быть, в плену?! Она никогда не узнала, что перед нею не молодая девушка. А мать. Две матери глядели друг на друга через порог. Готовые к ненависти... Но что такое «ненависть»?! Будто можно заплатить всей Германии за смерть одного-единственного ребенка?
С утра до ночи она, фрау Соббота, о нем, о нем... На этом кафеле в кухне он когда-то играл. Кафель холодный. Она простудила здесь ноги. Давно бы надо переложить! Под этим окном он кричал ей: «Мутти» — и вскидывал голову.
Но все то потонуло, стерлось, он был таким, каким он стал — в военной форме, коротко стриженный, с простреленной ногой.
...Сухо глянула она на меня, офицера Советской Армии. Глаза блеснули. Как она нас ненавидит!
Я вошла в комнату.
Сколько раз потом эта комната вставала передо мной. Встает и сейчас.
Посреди комнаты старомодный квадратный стол, буфет, стулья. Окно. И словно мне такое окно уже когда-то виделось где-то, во сне. Вот из окошка — узкий переулок... Откуда я его знаю?! А я знаю его, словно то переулок моего детства. Напротив окна забор. Он выкрашен в серо-зеленое. Видны одуванчики. На стебельках.
— Вы сказали, белье?
— Да. Извините. У меня в планшетке.
— Хорошо. Это можно. Придите завтра.
Я двинулась, к двери и вдруг отчего-то споткнулась. Она стояла у подоконника, обняв локти ладонями. Невозмутимая. Неподвижная. Старая женщина — старше, чем моя мать. Она смотрела мне вслед.
Я шла в своих плохо начищенных сапогах (мы нигде не могли достать ваксы), в своей темной шинели с протертым воротом и стершимися манжетами. Ее глаза смеялись. Я чувствовала это спиной. Не глазами видела, а чувствовала своими особыми «усиками» — нервами нервов, уловителями влаги, тепла и холода.
Я пришла к ней по поводу белья. Но между мной и ею стоял ее сын. И мой. Ее частично разбомбленный Фюрстенберг и мой Ленинград — город юности. Ленинград с замерзшими реками, с обледенелыми санями, на которые выкатывалась вода из ведер. Мой теперешний город. Мой город — крик! Мой город — смерть! Мой город умерших детей.
Когда речь о маленьком — самое горькое, что он н е п о н и м а л н и ч е г о. Мы — понимаем. А он не понимал. Нет. И в этом непонимании — как бы высший укор, обращенный к нам, и каждый из нас безвинно как бы несет за это ответ.
Между нею и мной — ледяные равнины, угасающие юные жизни, раненые, которые стонут, хлебая из кружек вино. Каменные сухари, обмороженные ноги и руки, выплюнутые на снег зубы.
И вот — я здесь. Но я не счет ей принесла, не квитанцию, по которой ей надобно платить. А белье... И ноги, обутые в сапоги, старая шинель, которой случалось как одеялом укрывать меня спящую. Эта шинель — она еще была моей матросской шинелью. А потом к ней пришили погоны. Шинель из лохматого материала, с темным и жестким ворсом. Не манто от Пакена. Нет. Всего лишь флотская шинель. Она говорила о том, чего мне не досталось, и обо всем, что досталось мне: и мне и ей.
И я и она, мы помним и о тогдашних дорогах Германии, и о жеребенке на тонких ногах посредине поля. Голодный. Не понимающий ничего. Мы помним об одичании, о птичьих перьях над брошенными катерами, об угнанных людях, запрудивших дороги и возвращающихся домой.
«Мы идем, мы идем, мы идем. Голландия. Франция. Мы вырвались из-за колючих проволок, мы покинули немецкие фермы. Мы — батраки, мы — полуголые, в деревянной обуви, в обуви рваной. Мы идем, мы идем! Идем!!»
И нет конца живому потоку: головы, плечи, дыхания.
И все это — моя шинель! Шинель, потертая у ворота. Шинель с лоснящимися локтями.
Мантия королевы! — шинель, служившая в боях.
Не своей волей я к вам пришла. Это вы захотели, чтобы я мерзла в снегах, чтоб я глядела ночью широко раскрытыми глазами на потолок в палате военного госпиталя; вы этого хотели! И вот: все это моя шинель.
Сапоги мои не заказные, а те, что нашлись на складе для такого маленького матроса. Но я дошагала в них до Германии, до вас, фрау Соббота, до города Фюрстенберга.
Нет у меня манто! Но есть потрепанная шинель.
И я... Первый раз за время войны я заплакала. Я заплакала, позволив себе эту роскошь, потому что теперь нам стало полегче...
Я шла по коридору. Я плакала. Мои плечи дрожали.
— Что-нибудь с вами случилось? — спокойно спросила она.
— Да. Случилось. Сегодня ваш бургомистр спросил, почему у меня такая потрепанная шинель. Он сказал, что это неженственно. Должно быть, много женственнее газовая шинель. Из органди, не так ли? Я укрывалась этой шинелью на Севере. Но следующую шинель я справлю себе из шифона... Видите ли, я родилась, чтоб ходить в шинелях. Счастливые родятся в рубашке, а я — в шинели!
Слезы высохли. Я стояла, прижавшись спиной к стене. Я чувствовала, что из моих глаз рвется бешенство. Но лицо было все еще мокро от слез. Руки мои дрожали. Я не вытирала слез, чтоб не выдать, как дрожат руки.
В коридоре горела тусклая лампа — свечей в пятнадцать. Старая женщина смотрела на меня исподлобья.
Надо напомнить, что я была похожа на девочку.
— Да... Люди злы. Очень злы, — с запинкой сказала она. — А на свете — войны! Сколько все натерпелись горя. Знаете ли... Оставьте мне вашу шинель. Я попробую подчернить воротник — там, где стершийся ворс, и... ну да... это тоже можно попробовать... Я подновлю манжеты.
Голос был тихий, ровный.
— У вас есть кто-нибудь на войне, на фронте? — спросила я.
— Да. Сын. (Коротко. Почти зло.) В котором часу вам удобно завтра зайти за своей шинелью?
— А... а сколько у вас сыновей?
Молчание.
«Сколько у вас сыновей?!» Будто это имеет значение для тех, кто родит детей.
Всегда один, сколько бы их ни было на фронтах. Один-единственный. Незаменимый.
Даже если их десять. Каждый сын — это сын. Для материнства подлинного, для настоящих матерей.
— Готово, — сказала она, выходя из кухни и вытирая на ходу руки.
Мы прошли в комнату. Она сняла с распялки мою шинель, встряхнула и подала ее мне. Я глянула в зеркало и от радости порозовела. Воротник и манжеты были в порядке. Шинель отутюжена. Я поглядела на нее и сказала:
— Данке.
— О-о-о! — ответила мне она. Выражение ее улыбки, чуть тронувшей сухие губы, сказало, что я ей нравлюсь, что ей меня жаль, что она видит во мне ребенка.
Я скованно рассмеялась.
Непонятно было, однако, как с ней рассчитываться.
18
В Фюрстенберге две комендатуры: одна армейская, другая флотская (морская).
Флотский комендант — товарищ Пауль, майор.
У нас с ним своя история.
На этой круглой и поэтому тесной земле до Германии мы с ним служили на Северном флоте (он был директором клуба Рыбачьего полуострова).
Возвращаясь в Полярное с Тунтурей, мы сделали в клубе ночной привал.
Клуб, как все на Рыбачьем, стоит посреди снегов. Его сени влажны, потому что тает снег на сапогах у входящего человека.
Я спала в сенях. Неудобно быть женщиной на войне, ты зачастую оказываешься бельмом на глазу у твоих товарищей.
А куда им было меня девать?! Они спали вповалку на общем топчане, а я в сенях.
И вот я спала на каком-то невесть откуда попавшем сюда диванчике, из которого торчал волос (когда-то этот диванчик, видно, числился реквизитом).
Он стоял у самых дверей. Двери вели на улицу. Кто бы ни входил в помещение, в сенцы врывались клубы густого пара: морозный воздух тундры смешивался с теплым воздухом клуба.
Я так устала с дороги! (Ведь ходить-то мне приходилось быстрее других, потому что ноги короткие.) И я уснула, как только повалилась на этот диван. Спала в белых клубах морозного воздуха, как в облаках.
Дело сделано. Мы возвращаемся на базу. Мне бы вот только в баньку! Не раздевалась около месяца: мы жили в одной землянке с мужчинами.
...Я спала в облаках. В небе. Мне снилась бесконечная тундра, полная перебежчиков. Тундра горела под солнцем, перебежчики покорно шагали за мной.
Хлоп-хлоп — это дверь.
Мне холодно.
И вдруг пришло тепло. Что-то тяжелое прикрыло меня. Чьи-то руки расправили на мне какое-то теплое одеяло (они расправили, как оказалось, доху).
Я лежала, повернувшись к стене лицом. Тот, кто меня прикрыл, видел только маленькое тело, скрюченное на диване, затылок и несколько тощих коротких кос. Косы были завязаны на концах бинтами (так меня — помните? — причесали девчонки в медсанбате, чтоб не сбивались жесткие густые волосы. Ведь мне было трудно их расчесать, руки изъедены морозом).
Доха. Тепло. Как зимовщик под снегом. Тепло дохи и чьих-то рук.
Это были доха и руки директора клуба — Пауля. Когда я проснулась, он прислал за мной вестового.
Майор был весьма длиннонос. Белокур. По-русски говорил с легчайшим акцентом (должно быть, эстонец или литовец). Он шепелявил.
— Лозитесь на мою кровать. Вот здесь. У меня. Вы грязная? В чем зе дело? Можно помыться. Владислав, принеси горячей воды в цане, в цане... Вот цан под кроватью. А чистую рубаху я дам ей свою. Забирайтесь в кровать под одеяло.
И я спала. Спала счастливая, мытая. В чистой рубахе. Спала в раю. На белых облаках из белых простыней.
...Снег, снег. Весь мир в снегу. В снегу наше небо. В снегу земля.
Только сердце взяло и — бац! — растаяло. Растопилось. И сделалось лужей...
— Отчего вы плачете? — спросил майор, когда я встала и принялась одеваться.
— Па-па-трончики! Я потеряла патрончики. Вот револьвер. Оружие... А запасные патрончики я потеряла. И я... я боюсь своего начальника. Оружия не сберегла. А ведь начальник предупредил!
— Это не оружие.
— Я... я все равно его боюсь.
— Эка беда! Владислав! Иди в тир. Насобирай гильзы. Скажете начальнику, что это я вас учил стрелять.
Бывают же на земле такие умные люди! Вот! Вот они, мои патрончики...
И надо же, чтоб именно его я встретила на улицах Фюрстенберга!
Не своим голосом я заорала:
— То-о-оварищ майор! Пауль, Пауль!
Мы обнялись. Он был высокий, длинный. Мои ноги повисли в воздухе.
— А?.. Что-о-о? Чего-о-о?
А ничего такого. Встретились двое. Североморцы.
И надо же, чтобы именно он оказался нашим морским комендантом в городе Фюрстенберге.
Теперь я спала на пуховых подушках из молока! Каждый вечер мне присылали две бутылочки кипяченого молока. И печенье. И масло.
...И он был не один, этот безмерно добрый человек. Помнится, там, на Севере...
Вот как обстояло дело.
В землянку на Тунтурях как-то к нам пришел генерал. Лицо у него было мягкое и спокойное, глубоко изрытое складками (но назвать их морщинами было никак нельзя). Выражение лица генерала выдавало в дальнем прошлом крестьянина. К тому же можно было легко догадаться по каким-то неуловимым признакам, что он вечный солдат, с самых, что называется, молодых лет, что военное дело, и только оно, его единственная профессия.
Он явился поговорить с людьми на передовой.
Присел у столика, поглядел в окно и принялся из кружечки попивать чай. Чай он пил вприкуску, обстоятельно и серьезно.
Напившись, задумался, обтер вспотевший лоб носовым платком. После этого начал медленно обходить раненых, справляясь о самочувствии.
— Ничего, герой! Обойдется. Скоро дернешь на танцплощадку. Дело, как говорится, ясное, молодое.
Лицо его выражало спокойствие.
Когда генерал слушал, губы его потихоньку жевали, все двигались, двигались; чтоб подчеркнуть внимание, он кивал.
Подошел к девушкам.
— Ну как, девчата, дела? — спросил он у снайпера Веры Коротиной.
— Э-эх! Товарищ генерал, — с обычной своей прямотой отвечала Вера, — если б вы только знали!.. Если бы я умела выразить...
Не о том она пыталась поведать ему, как часами неподвижно лежит в снегу, следя за врагом, замерев, держа в замерзших руках винтовку. Не о деле снайпера, не о деле военного человека, о чем-то гораздо более глубоком и сокровенном.
Он понял.
— Ты... ты все же того... человек, так сказать, военный, — отвечал он ей. — А жизнь, жизнь, она того... жизнь — борьба и сопротивление. Достоинство — это зеркало человека, крылья, так сказать. Поняла? Так что ты того... не робей. Держись. И повыше голову.
Он говорил ей это вполголоса, заглядывал в глаза, — для того чтоб в ее сознание вошли не только слова, но и его сочувствие.
— Э-эх, — повторила Вера. И вдруг, откинувшись, прижалась коротко стриженной головой к его плечу.
— Ну-ну-ну, — солидно сказал генерал. — Распускаться никак нельзя. Неподходящая обстановка. Воюем. Впереди — враг.
И он рассмеялся хриплым баском, смехом человека, много-много всего перевидевшего. Затем подошел к медсестре Саше. Широко раскрыв голубые глаза, она объявила:
— С тех пор как из дому, в сухих сапогах не хаживала. Ей-богу! Забыла, что значит сухие ноги. Если б мама знала, она... она бы, ей-богу... Ну, не знаю, как выразить, но ей-богу!
— Ну, ну, ну, — с мягкой, нежной улыбкой ответил ей генерал. — Вернешься домой и справишь себе модельные туфли. Первейший сорт. Зашагаешь, как королева. Воевала! Герой, а в модельных туфлях. А ты знаешь, что это значит для нас, мужиков? Чтоб герой — и красавица? И опять же — ножки!
Саша всхлипнула. Ей, видимо, стало полегче. (Он заметил «ножки». А они были в сапогах!)
— А твоя какая будет фамилия? — спросил генерал у раненого.
— Моя? Прелуцкий.
— Ну?.. Как дела, дружище Прелуцкий?
— Дела ничего. Хорошие. Рапортую.
— Ампутация, стало быть?.. Того....
— А мне-то откуда знать? Я не доктор...
— Это правильно, — сказал генерал. — Ты вот что... Беспримерна женская жалость. И тебя, дружище, они полюбят. Им бы только любить! Это основное занятие ихнее. Так что порядок... А ты поправляйся. Бодрись.
— Я бодрюсь.
— И правильно.
Генерал опять подошел к столу. Он кивал и слушал.
— Все, пойду. Время позднее. Мне пора, — сказал генерал. — Я в Полярный.
...В открытые двери ворвался ветер. Двери захлопнулись. Генерал стал медленно спускаться с горы. Шел. Вслед ему глядело множество молодых глаз.
Он был староват и бежать не мог. Шел спокойно, твердо, не оборачиваясь.
Сняв почему-то шапку, держал ее сзади в скрещенных на спине руках.
Шел. Вслед ему стреляли. Он не убыстрял шага. Может, не под силу было ему убыстрять шаг — не молод. А может, из военного, особого суеверия (суждено умереть — помру). А может, это и так — для примера? Спокойствие, мол, оно и есть залог победы.
Шагал против солнца, поднимался все вверх и вверх, как бы врезаясь в небо. Все вверх и вверх.
Исчез не сразу. Уменьшился, будто сливаясь с воздухом. Шел непередаваемой, крепкой походкой — походкой солдата-профессионала. «Что ж делать. Воюем. Вот, значит, дело какое».
Становился все меньше, уходил в небо. Исчез.
Умный был генерал. И опытный. Ничего не скажешь..
Исчез навсегда.
Я слыхала — вскоре его убили.
Но в моей памяти он почему-то слился с майором Паулем...
19
Я оглядываюсь назад по прошествии десятилетий, и жизнь в Днепровской флотилии встает передо мной постоянными окликами, хватанием меня за рукав, отсутствием возможности скрыться, оглядеться, подумать. В те далекие времена я была нужна каждому: ведь это Германия, а я — ее язык. Надвигающаяся победа сливалась для меня с ощущением светлого неба, с пылью, поднятой на улице Флота трофейными машинами, с шевелением листьев, с немецкой и русской речью. Она слилась с возрождающейся жизнью деревьев, травы.
Растаяли тундровые снега, поднялась жизнь естественная, с естественными желаниями, с ощущением живого тепла и света моей собственной, как бы возрождающейся жизни. Мы побеждали. Я снова хотела жить.
Трудно было подумать, что станет с нами после победы. Казалось, каждый будет принят страной наподобие сказочного героя. Думалось, что война и те лишения, которых она потребовала от нас, никогда не забудутся.
Чаще всего мы представляем себе счастливое будущее как живую и добрую связь с людьми.
В те дни все, что станет с нами потом, казалось далеким, неясным, но обязательно счастливым.
Чем? Я, например, не могла на это себе ответить. Будущее для меня вставало растопившимся небом, потому что такой была жизнь на улицах Фюрстенберга.
Каждый оплачет твои потери. Их не забудет страна.
Как именно ей следовало не забывать о тебе?
Тогда я по молодости не умела себе на это ответить. Цветы тебе присылать, что ли, каждое утро? Пару-другую роз?
Кто пришлет? Тот, кто сам пострадал? Может быть, инвалид войны? Может быть, тот, кто лишился крова, жены, детей?
Война была горем народным. Всеобщим. Сколько же нужно земле за это вырастить роз всех видов и всех сортов?
Север... Там не надо было думать, что такое моя работа. На Севере я переводила и вычитывала листовки (а наборщики снова и снова наводняли эти листовки ошибками). В далеком северном прошлом я была диктором на сторону врага.
Если, зажмурившись, оглянуться, мой труд переколдовывался в равнину из снега; снег говорил о своем могуществе. Помнится, меня ослепляли его крошечные фонари.
А город Полярный, уже отступивший для меня в далекое прошлое, он вставал деревянным мостом. А там, за мостом, — почта.
Я грузила листовки, физическое напряжение, попытка быстро шагать, волоча на спине мешок. Я себя видела как бы со стороны: вот она — дура! А ноги-то, ноги! Обуты в огромные сапожищи!
Огромными они не были. Сапоги казались огромными на моих коротких ногах.
Иду, а вдалеке — сопки. Их вершины высоко в небе, их контуры неотчетливы. Сопки словно бы улетают вверх, придавливая твердь неясными очертаниями.
Как бы ни было точно и просто задание, оно обязательно встанет из прошлого, слившись со всем, что ему сопутствовало.
Север — блеск солнца, обжигающего глаза, бедность земли, тишина. Вечность.
Там я была так долго. А здесь... Мы шли вперед, наступая рывком, рывками. В воздухе словно бы разносился победный марш.
Там я была на самой передовой (передовой сухопутья). Здесь не была на «передовой». В Германии я не плавала, не воевала на Шпрее и Одере на наших суденышках. А ведь, в сущности, лишь они подарили нам право на фразу: «Берлин... при содействии флота...»
Нашей базой для сухопутья был Фюрстенберг.
Моя роль: связь с немцами, то есть связи с населением.
Население убирало город. После сражений за Фюрстенберг мостовые были завалены камнями, щебенкой.
...Основной «контакт с населением» развертывался около склада со старой мебелью — там мы хранили содержимое опустевших домов, стараясь хоть сколько-то сохранить его для немцев, которые драпанули, но возвратятся.
Это было распоряжением Москвы.
— Фрейлейн! Спуститесь, пожалуйста, вниз. Прошу!.. Взгляните, не попало ли на склад мое старое кресло. Красное. Плюшевое. Ручки — жесткие, деревянные. Хорошее, дорогое... Посмотрите, фрейлейн, пожалуйста... Я так привыкла к нему. Хорошее кресло.
Но признаюсь... Еще тогда, когда шлюзы Одера были взорваны и вода осела, а каменную землю засыпало битыми осколками (а мы, флот, хоть и микрофлот, флот речной — глиссеры, катера-малютки), еще тогда, когда дороги были наводнены человеческими тенями и сквозь рваную одежду просвечивало тело, когда шел, и шел, и лился этот сорвавшийся поток — страданий, судеб народных, когда немцы еще стреляли из-за углов, из своих засад, когда еще валялась на земле в городке Фогельзанге матросская бескозырка, залитая кровью, и ветер играл ее лентами, а рядом выла собака, — еще тогда я дружила с одной молодой немкой.
Ее звали Кетэ. Кетэ Вольф. Ей было столько же лет, сколько мне, а может быть, немногим больше, и не была она антифашисткой, а была самой обыкновенной бабой. Никакой доблести — ни фашистской, ни антифашистской — не числилось за ней.
Мы встречались на углу какой-нибудь улицы или во дворе какого-нибудь старого, заброшенного дома.
Что вы делали целый день, Кетэ? Должно быть, помогали убирать улицы от битого кирпича и стекол, надев на светлую голову косынку, а на руки рабочие рукавицы?
Во дворах было тихо. Город словно дремал в закатном свете. Небо вспыхивало и гасло медленно, осторожно. Ровный свет его переполнял улицы, переулки, ложился на черепичные крыши.
Беседка в глубине разрушенного двора полна теней — стоит, заколдованная.
Бредет по улице, в тишине, одинокий прохожий.
Дом покинут, заброшен. Удрали хозяева. Но еще лежат на кроватях перины, еще откинута вторая перина, которая служила немцам не периной, а одеялом.
На кухне на полках — кастрюли. На кухонном полу валяются стеклышки. Это осколки. Стоят, небрежно отодвинутые от кухонного стола, табуретки. А на столе, как всегда, кувшин.
Все заколдовано: брошенный дом, а на вешалке кухонные полотенца.
Уснула жизнь.
Дверь. И еще одна. Гулко эхо наших шагов в пустоте дома.
А на дворе весна, вечер.
В садике возле дома буйствует жизнь земли. Хоть и разрушена беседка, хоть и валяются на земле кирпичи, но прет откуда-то из глубины трава, деревья шумят листьями так тихо, листья словно бы делают зарядочку на своих тонких черенках.
Но самое удивительное, что во дворе в весеннее время созрела клубника. Из окон сверху она едва видна — красные редкие точки, но когда Кетэ ее приносит в подоле платья, клубника оказывается большая и очень сладкая — ранний сорт.
И цветы приносила Кетэ наверх и клала их передо мной с несмелым выражением (боялась унизить свое достоинство). Незабудки и маргаритки. Внизу, во дворе, их целое поле-ковер.
...Темнеет. Темнело. Все вокруг размыто тихими, нежными сумерками. Солнца нет. Но небо все еще светлое. Однако вот уже выглянула в его несгустившейся синьке первая звездочка. Хлопают от легкого ветра створки окон; взлетают на гвоздике полотенца, вздымаются, опадают.
Мы сидим на табуретках, едим клубнику, молчим. Узнает ли Кетэ когда-нибудь о том, что лежит за моими плечами?
Нет.
Я никогда ей этого не расскажу. Не потому, что Кетэ немка. Нет, вовсе нет. Просто своей боли я словом не оскверню.
А Кетэ все говорит, говорит, говорит... Она говорит о любви. В ее белокурой прелестной голове, в ее серых глазах мужские образы. Она любила русского. Пленного.
— Как его звали, Кетэ?
Она колеблется:
— А вы не скажете никому?
— Разумеется, нет.
— Его звали Иван. (И вот теперь я ее предаю. «Его» звали Иваном. Тайна. Русский Иван. Кетэ изобличена! Итак, Иван...) Он доил корову и попросил у меня кружку, — шепчет Кетэ. — Мы стали встречаться. Прятались. Сперва на берегу Одера, Потом вон там, в сарае. Я любила его. Я хотела в Россию. Мы прижимались друг к другу лбами, чтоб лучше видеть глаза друг друга. Мычали в хлеву коровы. Пахло сеном, дверь сарая была открыта, в дверь проходил ночной свет.
— Свет? Но ведь на дворе ночь, Кетэ!
— Нет, свет! Свет ночи. Потому что небо светлей земли. Блестели в темноте его глаза. И я любила, любила. Мои глаза — это было все, что ему оставалось на свете, далеко от родины, от матери, от сестер. Он зарывался в меня лицом, как в теплую землю. Его угнали в Мюнхен. Я шагала неподалеку по той же дороге, по самой обочине шоссе. Шла и плакала, плакала. Я — любила. Четыре дня я успела быть замужем. Еще во время войны. Он был немец. Я... я думала, что люблю. Но разве это была любовь?.. Нет! Я приходила потом одна в сарай, где бывала с Иваном, и стояла на коленях перед открытой дверью, глядела в небо. Я лбом прижималась к балкам сарая. И... и еще наш Одер. Я, знаете ли, люблю Одер. Это ничего для русских, что я люблю Одер? По-настоящему люблю Одер. Я ведь здесь родилась! А на фронте наши солдаты все-таки были храбрые? Верно?
— Кетэ! Я была знакома только с вашими перебежчиками. И пленными.
— А наши солдаты сильно стреляли?
— Да, Кетэ. И в меня...
...Становилось тихо. Мы сидели у стола. На столе цветы, которые принесла Кетэ.
— Простите нас! Простите меня! — всхлипнув вдруг, говорила Кетэ.
...Дом темнел. Похрустывали сухими костями полы, ветер, влетая в окно, раздувал занавески и кухонные полотенца, все еще висевшие на крючках.
Мы выходили из дома.
Темно на улице. Кетэ хочет покувыркаться в траве. Занятие хорошее. Оглянувшись, я кувыркаюсь рядом в своей офицерской форме.
А потом мы обе лежим на теплой земле, прижавшись друг к другу плечами, в том необъяснимом непрактичном единении, которое называется дружба.
Нам обеим так мало лет!
— Кетэ, вы знаете фрау Соббота?
— Ту, у которой вон там, на углу, обувной магазин? То есть я хотела сказать, она раньше была хозяйкой этого магазина. Да. Я знаю ее. Месяца два я даже работала у нее приказчицей.
— Как мне с ней расплатиться? Ведь деньги сейчас не в ходу, а она на меня работает, перешивает белье, чинит форму.
— И вы не могли догадаться как? Продуктами!
На следующий день я, почему-то жестоко стесняясь, передала фрау Соббота молоко через Кетэ.
Во дворе фрау Соббота в углу стояла будка, похожая на будки наших милиционеров-регулировщиков.
В будке сидел господин Соббота — пожилой, толстый. Он чинил обувь. В зубах у него были гвозди.
Кетэ поставила молоко на притолоку оконца и указала на меня смеющимися глазами.
Каждый день я носила фрау Соббота хлеб, молоко, все, что только могла добыть. Она коротко говорила: «Данке».
Закрыть глаза, зажмуриться и нырнуть в прошлое — в ее теплеющую улыбку, в ее шаги, которые отдавались как эхо в темноте дома.
Мои шаги были жесткие, ведь я в сапогах (форма!). Ее шаги были легкие — потому что комнатные туфли.
Мы боялись пристально посмотреть друг другу в глаза. Боялись сказать друг другу лишнее слово, выдать друг другу взаимное расположение. Шла война. Я была офицером вражеской армии. Ее сын — солдат.
В душах каждой из нас, в сердцах двух женщин жило великое сострадание. У нее — к моей матери (о большем она ничего не знала), у меня — к ней...
Ведь я для вот этой немки — несчастный ребенок, девочка в форме. Ей, поглядывающей на меня исподлобья, хотелось бы для меня красивых туфель, платья, белья.
А мне — чтоб жизнь ей вернула сына.
И я вспомнила слова пожилого солдата, крестьянина, там, на далеком Севере. Мы шли с ним рядом сквозь тундру. Был день полярного лета. По нас стреляли. «Ничего, — говорил он мне. — Авось не убьют. Это еще смотря какой человек попадется! Дойдем».
«А ты несмертельная, — говорил он мне. — Пусть за тобой шагает кто-нибудь детный».
«Я детный», — робко отзывался какой-нибудь старый солдат.
«Ну так шагай за ней. Она колдовка. Она прикроет».
«Человек!..»
Солдат сказал: «человек».
А вдруг ее сын, сын этой женщины, фрау Соббота, — все-таки того... человек? Хоть немец, а человек?
И вот в один прекрасный день «человек» возвратился домой, к своей матери!
Не знаю, как это случилось. Не видела.
Ждала ли она его или уже перестала ждать?
Он шел, он ехал — к этому парадному, вот в этот дворик, где стеклянная будка, похожая на будку милиционеров-регулировщиков.
А как открылась дверь дома, встречая его?
Ах, да... Я забыла: дверь всегда была открыта.
Он толкнул дверь, мать услыхала его шаги. Он был в сапогах. Как я.
А что же дальше?
Крик? Или, может, молчание?
Не знаю. Я не слыхала.
Прильнула ли ее голова к его замызганной гимнастерке? Заплакала ли она?
Я ничего не знаю о том, как восстают мертвые. Они восстают только в моем сердце и памяти. И снах. Годы. Десятилетия. А они восстают. И говорят: «Ма-ма».
«Человека» в первый раз я увидела во дворе. Он был в гражданском, поскольку война для него закончилась. Стоял посреди двора, подле отцовской будки, глядел на меня и улыбался.
Он был очень молод, лет восемнадцати — девятнадцати. Волосы белокурые. Рубашка сатиновая, выгоревшая от солнца. Увидев меня, «человек» чуть-чуть наклонил голову (так, чтобы, если я не отвечу, осталось загадкой, здоровался он со мной или нет). Я ответила.
Все в доме кричало, что он вернулся... Вот в передней его ботинки. Солдатские. Вот слышится со двора его голос — молодой, ликующий:
«Я ту-у-ут. Я остался жи-и-ив».
Однажды, когда я рассеянно выглянула в окно, я увидела, что в руках у него лопата. Он копал грядки.
20
Да. Детство. Конечно, оно бывает у каждого человека. Но ведь тогда я маленькая была, я думала — все на свете мое: земля, и дерево, и кран во дворе, и акации, и колодец.
— Утром, когда проснешься, пошарь под подушкой, — сказал мне папа. — Вот так. Поняла?.. Нет, нет... Не скажу! Перетерпишь, узнаешь утром.
Я еле-еле дождалась утра. Пошарила под подушкой, повторяя движение отца. В уголке под подушкой не было ничего.
Я опять пошарила — ничего!
Задумалась. Пригорюнилась. Ушла в философские размышления — подняла подушку.
Под подушкой лежала коробка. Я быстренько ее раскрыла. В коробке крошечное колечко. Золотенькое. С рубином.
Первое в моей жизни кольцо (первое и единственное).
Я надела его на палец и стала смотреть на него, растопырив пальцы. Рука с кольцом. Красотища!
Было рано. Все спали. За окном не спеша разгоралось утро. Во дворе трепетали сонно листья несчастного, по моим понятиям, старого дерева.
Встало солнце. Осторожно тронуло дерево. Я показала ему кольцо.
Солнышко побежало дальше. Залило желтым звоном темную крону и ствол. Коснулось старого дерева, всех его листьев. Оно их тронуло и побежало дальше, все дальше, дальше. Крона затрепетала под ветром — светлая, радостная, покрытая пятачками золота.
Начало светлеть небо. Синеву его разорвал ярко-розовый лучик, сгреб ее в свои ликующие дрожащие световые пальцы.
Рассвет! А у меня на руке — кольцо.
Кто-то пришел во двор, открыл кран, полилась вода. Этот кто-то стоял у крана, зевал. А вода все лилась, лилась. Выплеснулась наружу и стала — лужей.
Лужа! А у меня кольцо.
Сверкнула лужа.
По двору прошел человек.
Сегодня мне восемь лет! У меня день рождения. И у меня — кольцо.
Среди солнечной мути оживал город. Внизу сквозь нежные ветки дерева пробивался свет. Кое-где виднелись неровные арабески светящихся окон. Нет, это не электричество: это в стекле отражалось солнце.
Помнится, я прижалась к окошку лбом.
Все спали. Я стояла недвижная, широко раскрыв глаза, и смотрела во двор, переполненная русалочьей, что ли, мечтательностью. Короткие мои пальцы легли на стекло окна. На левой руке сверкало колечко.
В апреле мой день рождения. Апрель на юге — месяц цветов, сирени и роз. Весь наш дом переполнен розами и сиренью. И еще я помню — мороженое. И еще — кто-то сыграл на пианино «Молитву девы». И запах цветов — густой и терпкий. Хохот. Печенье в столовой. И мне восемь лет...
Апрель. Германия. Я проснулась и вспомнила... Да, да... В этот день.
Прибежала с нижнего этажа моя подружка, другая переводчица. Женя. Принесла цветы. И отрез.
— Вот пройдоха! Где ты разжилась? (Наверно, ей помогал Пауль.)
Фрау Соббота шила мне первое за время войны гражданское платье. Шерстяное. Узкое. С белым воротничком и клетчатым голубым бантом. Она обещала, что нынче платье будет готово.
А туфли? Как же так, в платье и в сапогах?
Яркий звенящий день. Все вокруг ликовало (мой день рождения!).
Парадное фрау Соббота вспыхивало солнечными треугольниками, ложившимися на ступеньки лестницы.
Я осторожно толкнула дверь. (Ведь она же не закрывала входную дверь.)
— Фрау Соббота!
Молчание.
— Фрау Соббота!
Я тихонько прошла в столовую.
На столе — мое шерстяное платье. А рядом туфли! И вдобавок белье, расшитое розочками. И — цветы.
Стол именинницы. Вот еще отрез из пестрого шелка!
Чего только не доведется пережить военному человеку! Я стояла опустив руки. Мне... восемь лет.
— Спасибо... Не знаю, как вас благодарить!
— Да полно!
— Ведь это праздник. Первый за всю войну.
Мне бы к ней броситься и обнять ее.
Но наша армия шла к Берлину. Я все же была не в силах поцеловать немку.
Повернувшись спиной к окну, стояла она и ласково улыбалась. Лицо ее было бледно (ей тоже в голову не приходило обнять меня и расцеловать).
— Поздравляю вас, фрейлейн лейтенант.
— Спа... спа... спасибо.
Мой день. День цветения. Апрель. День молодости. И солнца на улицах Фюрстенберга. Как забыть? Не хочу забыть.
Вечером я принесла фрау Соббота спирту — мне его помог раздобыть комендант Пауль. В мой день рождения, надо думать, как следует напились ее сын и муж.
День рождения так день рождения!
Когда мы уезжали и я пришла попрощаться с ней, за мной шагало шествие: Элли, Кетэ и Женя.
Мы ей несли продукты. Элли — большой мешок с не очень качественной мукой. Тогда все это представляло собой большую ценность. Горел Берлин. Наши солдаты, вынимая из вещмешков колбасу и хлеб, отдавали продукты немецким детям.
Свидетельствую. Я-то свидетель времени. Слышите? Я — эпоха.
Продукты для фрау Соббота достал «благодетель» — комендант Пауль. Среди них было масло, роскошь неслыханная!
Мы шли по улицам Фюрстенберга. Шествие... Все оглядывались на нас.
Мы поднялись по лестнице. Мы толкнули дверь. Вошли. И в полном молчании: Женя — масло на стол, Элли — мешок с мукой, Кетэ — водку (обменный фонд).
Фрау Соббота стояла у входа в комнату. Не сказала ни слова, чуть улыбаясь, глядела на нас. На меня.
Она уже знала: я уезжаю.
— До свидания.
— Желаю вернуться домой... здоровой. К матушке. Выйти замуж. Любить...
...Движение легчайшее. Как рябь на гладкой воде. И... обе остановились.
Не обнялись.
Этого мы еще не могли.
Всего лишь только движение — рывок друг к другу.
И все.
— До свидания.
— Желаю счастья.
21
...Среди прочих наук существует наука — стратегия, я имею в виду стратегию военную.
В этой науке принимаются во внимание численность вооружения, количество людей, которыми в данный момент располагает армия или флот, рельеф местности и многое другое, чего я не знаю и знать никогда не буду не только по той причине, что не проходила этой науки, но и по складу личности, то есть совершенному отсутствию способности к подсчетам. Мне эти способности не требовались ни в мирной жизни, ни на фронтах...
Но, пролистав сегодня у своего рабочего стола книгу жизни, книгу войны, я бережно дотрагиваюсь до ее страниц.
Флот помогал сухопутным частям перебираться через водные переправы; флотилия помогала армии в переправах с великим и даже поражающим искусством и мужеством. Об опасностях говорить не стоит: опасность для моряка была абсолютной нормой.
Мужество воевавших матросов оказывалось иногда сверхъестественным. Известно, что один из них, имени которого я называть не стану, поскольку это не очерк, довел свой глиссер до самого Берлина, раненный сперва в одну руку, потом в другую, а после этого в голову. Вел он глиссер один. Все на транспорте были мертвы. Однако вслед за глиссером волочился плот. На прицепе. На плоту стояли солдаты. Армейцы высадились на берегах Шпрее.
Глиссер уперся в сушу в центре Берлина, и довел его... мертвый моряк. Он умер, направив штурвал в последний раз и в нужную сторону. И глиссер дошел куда надо, управляемый мертвыми руками мертвого моряка.
Другого подхода к центру Берлина не было. Бросок. Здесь много решала оперативность.
Военные резервы флотилии, по существу, ничтожны. Но она, флотилия, должна была и могла проходить реки Одер, Шпрее и другие. Я не буду сейчас вдаваться в географические и стратегические подробности боев.
Пройти по реке может транспорт только речной, не морской — флот «москитный».
Его — то есть речные транспорты, «москитный» флот, — не раз доставляли к месту боев из глуби России эшелонами (сушей!). Речные крошечные суда всех видов, всех сортов и мастей.
Моя книжка ни в малейшей мере не претендует на то, чтобы стать учебником. Да и, кроме того, при моей технической некомпетентности я рискую наделать множество ошибок, неприятных для специалиста.
Мой рассказ не повествование о том, в какой именно мере мы, то есть флотилия, участвовали во взятии столицы врага.
Об этом расскажут другие.
Флотилия тоже брала Берлин. Вот и вся недолга.
Мы, то есть флотилия, участвовали во взятии Берлина так же, как части армии. Флотилия вышла на реку Шпрее, то есть в Берлин; вышла, верней, ворвалась всеми силами мужества, умения и мускулов, отданных стране и победе.
— Пожалуй, что так.
Для такого технически неподкованного человека, как я, этот ответ во всех отношениях исчерпывающий. Чего с меня взять?
Для меня важны жизни, и только они. Важен хоть малый, хоть слабый, но взлет человеческого усилия — не поддающийся никаким анализам, никаким измерениям, стратегиям, тактикам.
Люди! Это они проходили реки со взорванными мостами; пересекали водные бассейны — фактически непроходимые; проскальзывали по рекам, где немцы взорвали шлюзы.
Однако спроси моряка:
— Ну, а как вы этого, черт возьми, достигли?
Моряк ответит:
— Извиняюсь, конечно, нельзя ли еще кусочек селедочки? Э-эх, славная водка. У-уф! Пошли помаленечку, что ли, за ваше здоровье, товарищ. И благополучие.
1973 год.
Передо мной — герой. Он один из тех, что врывались в Берлин на катерах. Я с трудом его разыскала.
Каким славным мне кажется лицо моряка — простое и доброе. У него недостает одного переднего зуба.
Герой доверчив, учтив, простодушен.
А понимает ли он теперь, когда прошло столько лет, что это значило — быть героем?
Думаю, о таких предметах он вовсе не размышлял и не размышляет. Он попросту носит звездочку.
Долг. Сражались, а если надобно — умирали. Дело такое. Нешуточное: фашизм.
Да он и об этом, пожалуй, не думает. Во всяком случае, не в таких торжественных выражениях. Глупое дело так рассуждать.
Воевали. Долг.
Сидит. Задумался...
Он (разъясняя):
— Штабных кораблей было двадцать пять, восемнадцать бронекатеров, двенадцать плотов — батарей, пятнадцать полуглиссеров. Армию, вернее, часть армии мы вели за собой на прицепах.
Я:
— На плотах?
Он:
— Да. Пожалуй, что на плотах... Во́ды в реках, понимаете ли, на наше счастье, весенние. Кое-где высоко стояла вода, несмотря на то, что шлюзы, как вам известно, противник, конечно, взорвал.
Одер? Ну да, для нас он был наподобие канала: по Одеру к Шпрее. Ведь Берлин — это Шпрее...
Воды — полые; берега — безлюдные, глянешь кругом — ни единого человека.
Я:
— А вы, если, конечно, можете, пожалуйста, поподробнее...
— Да я того... Я стараюсь. Чтоб поподробнее. Как было дело, так, стало быть, и докладываю... А вы записывайте, записывайте, чего ж.
Я:
— Ну хоть что-нибудь, пожалуйста, о природе!
Он:
— Э-эх. С моим удовольствием. Но, право же... Не знаю, чего сказать. Нам было не до природы. И все же, между прочим, уже зацветало на берегах. Конец апреля, начало мая. Для того чтобы очистить дорогу, приходилось бомбить каждый перекат на реке. Перекаты — в обломках. Мосты. Их, конечно, тоже взорвал противник. Смешно, но первыми прорвались к Берлину полуглиссеры. Команды на глиссерах всего ничего — по три человека (это если считать с капитаном). Но в деле они оказались весьма маневренными. Бывало, уже возвращаются, а мы по первому разу идем к Берлину. И... того... Поверите ли, наши матросы плакали, если на полуглиссере оказывался убитый матрос. Наши матросы становились во фронт и плакали. Извиняюсь, конечно.
Я (ледяным голосом):
— Где хоронили мертвых?
Он:
— На берегах рек. Не найти, должно быть, нынче этих могил.
Я:
— Сколько рейсов примерно бывало за ночь?
— А множество рейсов. Кто их считал. В берегах Шпрее — дзоты, это само собой. Враг не дремал, стрелял из укрытий. По нас. А как же? Здания, лежащие близко от берега, тоже того... встречали нас шквальным огнем. Довольно-таки интенсивным, надо сказать.
Я:
— Можно ли считать, что основной задачей Днепровской флотилии была помощь армии? Подвоз солдат к Берлину?
Он:
— А как же! Именно так.
Я:
— Что вы видели, когда подходили к городу? Что чувствовали?
Он:
— А то, что надо кое-как поторапливаться.
Я:
— Можно ли полагать и верно ли это будет, что «содействие флота» при взятии Берлина исчерпывается высадкой армии в центре города? Что главные маневры флотилии разворачивались на реке?
Он:
— Пожалуй, что так.
Я:
— На Северном флоте тоже далеко не все принимали участие в морских операциях. Однако все воевали.
Он:
— А как же. Все воевали.
Я:
— Как жалко, что я не была ни на одном из плавтранспортов. Для того чтобы рассказать о маневрах «москитного» флота, нужно было вместе с вами войти в Берлин.
Он (удивленно):
— Да кто же это допустит, чтобы на военном транспорте — женщина? Это раз. А второе то, что там вовсе нечего было переводить. Переводить, как свистят снаряды, не надобно. Мы и так понимаем и понимали, что значит снаряд. Отчего же не понимать?
22
«На малых небронированных катерах и буксируемых пароходах небольшой отряд моряков-днепровцев перебросил в течение трех дней более шестнадцати тысяч солдат и офицеров в Берлин.
Подвиги моряков отряда полуглиссеров, их воинское мастерство и решительность в обеспечении переправ Девятого стрелкового корпуса в завершающие дни боев в Берлине достойны быть занесены в боевую летопись советского Военно-Морского Флота».
Я не умею и не хочу это говорить такими словами. Слов — много. Особенно в богатом русском языке. Но чувство, которое ведет мою руку, в этих строках.
Не умея быть хоть сколько-то военным писателем, я больше к тому, что сказано, не вернусь. Зачем?..
Каждый имеет право на исповедь, право взять в руку перо. Но не каждый вправе писать приказы.
Вот я их, стало быть, и не пишу. Я осмеливаюсь писать лишь скромную повесть о человеке.
23
Благословенна каждая могила безвестного; каждая ветка дерева над могилой безвестного; воды, вечно текущие — как жизнь, — в честь погибших воинов.
И нет за них возмездия, и нет им замены, и нет для них воскрешения, кроме как в дудочке пастуха, кроме как в вечных рождениях и вечных смертях. Кроме как в горечи моих слез (ничего не стоящих) и в старой моей тельняшке.
Люди!
Если можете, если в силах, простите друг друга в честь подвигов войны и не кричите, пожалуйста, друг на друга в память этих свершенных подвигов в очередях за малосольной селедкой.
24
Не здесь ли место этим строчкам? Должно быть, нет...
Но странице хозяйка я.
Флотилия расположилась у Одера. Неподалеку от Одера был медсанбат. Берлин находился от наших армий и флота всего лишь в тридцати километрах. Подтаскивая резервы, мы готовились к наступлению.
В районе Кюстрина была крепость.
Русские предложили противнику, укрывшемуся под защитой крепости, сдаться. Немцы не приняли предложения о капитуляции. Мы были вынуждены приступить к штурму.
Когда крепость была взята, немцы тут же выбросили белые флаги.
И на что, на что они их только не понавесили! На винтовки (носовые платки), на столбы посреди двора, на палочки, палки...
Все вокруг запестрело белыми тряпками. Полыхали по ветру простыни, прикрепленные к амбразурам крепостных стен.
Тем из немцев, кто уцелел и не в силах ходить, предложили добраться до нашего медсанбата (он находился на территории мельницы).
Начальник санбата, хирург, по званию майор, сказал персоналу:
— В данном конкретном случае я не имею права приказывать. Но помните, что мы медики. Пусть каждый действует так, как ему подсказывают личные убеждения и совесть.
Сестры ответили, что согласны потренироваться на ампутациях.
Начальник:
— Тренируются в первый раз на мертвых, а не на живых.
Он тоже был ранен. Всего три недели тому назад. Рана у него на ноге еще не вполне зажила.
Первым майор осмотрел молодого рыжего немца.
Ранение предплечья. Рана грязная. С отеками. Сгустки крови.
— Ампутация! — сказал врач. — В ране ткани одежды, кровь запеклась... Ранение не пулевое, осколочное. Если не примем меры, гангрена. Все.
Так он объяснил (через переводчика).
Раненый отвечал:
— Пусть я лучше умру, чем останусь без правой руки. Я рабочий. Без руки не смогу себя прокормить.
Хирург задумался.
— Хорошо. Подождем до завтра.
Раненому наложили асептическую повязку.
Пришло утро.
В операционной сняли повязку. За ночь рана порозовела. Ткань стала жизнеспособной.
— Рассечение. Обойдемся без ампутации, — сказал хирург. Так он объяснил (через переводчика).
И тут-то немец заплакал. Он зарыдал. И принялся целовать, рыдая, руки русского человека.
Этот врач высокого роста. Лицо у него спокойное. Волосы белокурые.
Прошла война. Врач демобилизовался, стал терапевтом. Однако в прошлом он был хирургом, был молод (лет двадцати пяти).
Лицо у врача полноватое. Брови светлые.
Военный в прошлом, он, как говорится, в свое время повидал виды.
...Руки, врача, как и прежде, большие, пухлые.
Когда-то, плача навзрыд, молодой немец целовал эти милосердные руки.
Войны побеждают лишь справедливые. Хозяин земли и жизни — только подлинный человек.
Велика милость русского человека.
Прекрасна, достойна и высокочеловечна профессия врача.
Нынче это мой лечащий врач.
И подумать только, за что мне такая честь?
25
Перед тем как навсегда уехать из Фюрстенберга, автобус с туристами проезжает улицу, где мы когда-то жили. Вот она — наша Флотская улица. Здесь, бывало, слышалась русская речь, наши окрики и равномерный нудный шумок мотоциклов. Мотоциклы были трофейные. Ребята с чисто детской, мальчишеской жадностью их достойным образом «оттрофеили», каждому — по скромному мотоциклу. Они то и дело драили, заводили, мыли свои драгоценные мотоциклы.
Здесь, на этой улице, мы повторяли давно надоевшие всем морские остроты. Вместо «ферштеен» (немецкого слова) «форштевень» (флотское). Вместо названия морского журнала «Вымпел» — придуманное нами «вымпел и закусил».
Улица бывших тельняшек, ленточек от лихо сдвинутых бескозырок. Не улица, а морская к о л о н и я. Редко пройдет по ней молодая немка, поглядывая исподлобья на наших ребят.
Наша улица длинная, так хорошо знакомая, одним словом — улица Флота.
Я сейчас с трудом узнаю ее. Вот как будто бы особняк нашего главнокомандующего? Здание политотдела; деловая квартира начальника штаба...
А так ли?
Так.
Я преподавала ему немецкий. Чудесный он был человек, небольшого роста, интеллигентный (подавал мне, бывало, шинель, как будто это манто француженки). Он был полноват, рыже-белокур. Густые волосы и молочная белизна кожи создавали впечатление свежевымытого ребенка.
У него была молодая жена и подобранная на дорогах Германии немолодая, травмированная переживаниями собака. Плохо было дело с немецкой собакой! Она ни слова по-русски не понимала. Мне приходилось переводить.
— Хочешь мяса?
Не понимает.
— Вильст ду флейш?
Виляет хвостом.
В кабинете начальника штаба на стене, напротив письменного стола, висела географическая карта. На карте то и дело передвигались флажки; каждый день изменялось на ней расположение флажков. Но я не была в ладах с географией и стеснялась расспрашивать, как и куда мы двинулись.
Когда я к нему заходила, мне навстречу тотчас же кидалась собака, клала большие лапы на плечи мне. Собака была большая, породистая. Выражение ее глаз — таинственное, звериное, но в них расположение и доброта. Остро и бойко торчали собачьи уши; большой шершавый язык норовил облизать мне лицо.
...За столом улыбающийся, белокурый, свежий — как только что принявший ванну двухлетний мальчик — начальник штаба. Он радовался встрече друзей.
Как все это далеко! В неведомом царстве, в невиданном государстве. Улица, где мы прежде стояли, мы, флот, нынче словно подернута пылью или, скорей, ржавчиной времени, будто бы все вокруг пожухло и пожелтело: здания, заборы, деревья! А разве может такое быть. Неужели все припорошено дальностью расстояния?
...Безлюдные улицы. Словно томная грусть и какое-то сожаление носятся здесь над крышами и домами.
Сожаление? О чем?
О прошедшей молодости.
Машина с туристами проезжает улицу Флота.
И вот уже позади она.
Я смотрю в окно застыло и скованно. Запомнить! Вобрать в себя! Унести!
Зачем?
Но этого я не знаю. Видно, существует тайная связь между землею и человеком.
Собака начальника штаба! Выйди из того парадного, кинься ко мне навстречу, положи мне на гимнастерку большущие свои лапы, загляни мне в глаза с выражением того, забытого, непередаваемого блаженства!
Черт возьми! — выходит, что важно не самое путешествие, не «самообогащение», а взгляд забытой старой собаки, которой давно уже нет в живых?! Взгляд собаки, и смутное дыхание прошлых лет над порыжевшей улицей, и далекое эхо как отклик прошлого.
Между тем автобус минует последний дом. Дом осторожно сливается с гладью степей и асфальтированной дорогой.
Позади Фюрстенберг.
Далеко.
Нет!
Да и позади ли мой Фюрстенберг?
Он рядом со мной, на скамье в автобусе.
В окошке мелькает пространство степей, деревни.
Машина едет вперед, вперед.
Зачем? Что за надобность?
Ну да. Ведь я забыла про путешествие. Как говорится, запамятовала.
Это было в той жизни, там, на той стороне земли, за пределами забора, выросшего между мирным временем и войной.
Мы собирались покинуть город по той причине, что Фюрстенберг далеко от Берлина. Флот нуждался в базе, расположенной ближе к боям. Нам нужно было ее найти.
И вот мы едем на поиски нового города, городка, деревеньки, где можно было бы расположиться.
Ехали. Впереди колонны был наш главнокомандующий, за ним — член Военного совета и я — переводчица.
Третья машина — начальник штаба. Длинный эскорт. Около десяти машин.
...Раннее утро. Серо. Очень хочется спать.
С расстояния десятилетий мне не видится последовательность тогдашних дорог.
С обеих сторон — деревья, сросшиеся наверху кронами: так безмятежно и зелено, словно нет никакой войны.
Как возможно то, о чем мы знаем сегодня и что знали тогда, как возможно э т о рядом с нормальными, хорошо разросшимися зелеными кронами? Ведь деревья — благо: срастающиеся наверху кроны, нежная тень листвы, зеленоватый свет, струящийся сквозь древесные ветки.
Темнота. Коридор теней, нежных, легких, прозрачных. Если поднять глаза, сквозь кружево листьев тут и там синева неба. Шибанет в глаза наотмашь ярчайший свет. Но солнце будто размыто. Размыто мягкостью бесконечного полукруглого потолка листьев.
Поля. поля...
Город или, может быть, городок?
Нет. Это пламя. Оно одно маячит издалека, и кажется — вся земля в огне.
Она живет вихрем дальнего пламени и тишиной листвы, мягким звуком дыхания веток и разрушением.
А поля не горели. Нет. В поле просто нечему было гореть.
Помнится, стояла у края дороги, вперившись в даль осоловелым взором, недоенная корова.
Одиноко брели покинутые собаки.
Сижу в машине. Молчу. Дремлю.
Расскажу-ка я себе, чтобы успокоиться, о собаке. То, что мне когда-то рассказывал лейтенант у костра, который мы невесть зачем однажды вечером развели в Фюрстенберге — для того, должно быть, чтоб вспомнить школьные годы, пионерский отряд.
Младший лейтенант:
— Так о чем же, девочка? Про смешное? Ну что ж... Попробую... Я, надо признаться, с детства любил собак, А кроме того, если о чем-нибудь посерьезней, так какой я, к черту, рассказчик?! Примите, однако, и то, товарищи, во внимание, что здесь климат теплый, не северный. Наши, которые помоложе, не глядели в сторону зелени. Говорили: германские, мол, цветы плохо пахнут. Я в спор особенно не вступал. Чего ж тут спорить? Каждому ясно: земля, она повсюду как есть земля.
Едем мы по шоссе, а над нашими головами — сами знаете — большие деревья. Выедет грузовик из-под зеленого такого тоннеля, а впереди — поля. Над полем — жаворонок. А голоса человечьего не слыхать... Едем и видим: поля позаброшены, а дороги запружены людьми. Не военными. Это, как в старину говорилось, беженцы. Вы вникаете? Это вместо того, чтоб пахать и сеять, фашист свои поля оголил и во всякой другой стране поля оголил. Им есть дело гораздо важней: война! По дорогам — знаете сами — шагали немки и престарелые немцы с ребятами. Шли угрюмые, лились вперед потоком. Усталые. Одежонка рваная. Кое-кто из них сколотил кибитки и впрягся в оглобли, как конь. Чудно: кони по полю бродят, а люди тачки везут. И говор над этой дорогой, языки — какие хотите: голландский, французский, немецкий, английский. Кто их там разберет! Вас, может, не удивляет, а меня удивляло... Я признаюсь.
Едем, едем, едем. А впереди поток человечий и за плечами — людской поток, не видно ему ни конца ни края. А в небе — солнце. Жаркое. Ни до чего ему дела нет. Ну, мы, конечно, с земли глядим, а не с неба. У кого был хлеб, так мы его роздали. У кого сахар, так мы его тоже, ясное дело, роздали. Детям. И где уж там разбираться, который голландский, который английский, который немецкий. Ребенок, и все! Многие были люди семейные. У самих дети, а несемейные тоже легко догадывались, что ребенок тут ни при чем.
Ночью устроились мы на привал у берегов Одера. И вдруг смотрю: выходит в поле угрюмый волк. Печальный такой. Остановился поодаль, поглядел на нас. «Да это ж не волк, а собака!» — говорит кок. Гляжу и вижу: вправду собака. Я ей кричу: «Давай, не бойся! Подгребай, Жучка!» А она слова «Жучка» не понимает. «Немецкая, — говорит повар. — У них свои клички. Бросьте ей хлеба, товарищ младший, — вот вам и будет Жучка!» Я бросил собаке корку. Она отпрянула, будто я камнем в нее шуганул. Потом не то принюхалась, не то прислушалась, навострила уши и подошла. Не ко мне, а к хлебу. Она подползала к хлебу на брюхе. Понюхала, вгрызлась в него зубами. Замерла и оглохла. Я снова кинул ей корку. Она подползла поближе, уже без страха. Доела хлеб — и ко мне. Но не так чтобы близко. И не то чтоб ко мне... Не то чтобы именно лично ко мне. Сидела тихо, не огрызалась, умно, печально глядела вперед. Не иначе как на котелок с кашей.
Когда хотят похвалить собаку, говорят, что у нее глаза человечьи. Неправда это. Не понять человеку собачьих глаз. Глаза у собаки по большей части бывают желтые. Не говорящий взгляд у нее, а настороженный. Стало мне ее жалковато. Была она очень даже хорошая, охотничьей породы. Растянулась неподалеку от нас, а дремать не стала. Слишком это занятие глупое для умной собаки. Уж либо спи, либо думай. А дрема — ни то ни се.
Утром сели мы в грузовик, а собака за нами. И будем по-честному говорить — уж совсем по-честному, — я ее за собой втащил. Матросы смеются: «Ох уж этот младший!» (так меня называли — «младший», потому что звание лейтенанта мне вышло потом; в то время, когда я собаку в наш грузовик втащил, на моих погонах была еще всего одна звездочка). Начальник наш, капитан, говорит: «Ты бы ее, Соколов, еще шоколадом попотчевал. Дети голодные, а ты собаку — хлебом. Нехорошо... Эх, Соколов!.. Тебе бы не воевать, а сидеть у мамкиной юбки». Стало мне очень обидно от этих слов. А тут еще, знаете, вот досада какая... Собака ко мне не ласкается. И выходит, ни радости, ни утешения от нее, а одни насмешки. «А ты к ней эдак вежливенько, по-немецки, — объясняет мне капитан. — Расстарайся и достань себе переводчика!»
...Было дело, подъезжаем мы как-то раз к городку Фогельзанг. По-русски: «Птичье пение». Да вы-то, конечно, вы — переводчица, знаете... Не один матрос полег на этой земле. Остановились, молча сняли фуражки. Стоим, молчим. Что скажешь?
А рядом — собака. Будто прислушивается, принюхивается к чему-то. И вдруг завыла и поползла на брюхе, словно стыдно ей. Почуяла горе, почуяла смерть. «Пшел прочь!» — закричал капитан. Отошла и поджала хвост, виноватая. Собака, а разум есть. Так что ж выходит?! Фашистский разум слабей, чем умишко собаки? Вот какое дело, сестренка.
Едем дальше. Молчим. А над нами солнце. И нет ему, видно, дела до Фогельзанга. Сияет. А впереди — дорога. Едут цугом грузовики. Вот и последний, значит, привал. Развели костер. Вскипятили, ясное дело, чай. Подзываю собаку (дал я ей кличку Альма, по-иностранному). Зову, а она на меня и глядеть не хочет. Понимаю — звали ее иначе. Что ж... А может, она голландская? Я ее погладил. Оглянулся, не видит ли кто. И опять погладил. Она в ответ и ухом не ведет. Говорят другой раз: «Животное благодарнее человека». Да какая же тут благодарность? Я к ней всей душой, по-хорошему. Уважаю. А она на огонь глядит.
Что тут долго рассказывать? На другое утро я с пятью матросами должен был переправиться на другую сторону Одера. Жаль мне кинуть собаку. Кричу ей: «Альма!» А матросы опять за свое — смеются: «От тоже собака!.. Хозяина не признает. Сразу видать — не голландская, не французская, а фашистская. В вашу сторону ни разу не поглядела, товарищ младший». Что скажешь: верно. Ни разу не приласкалась. Иду по мосткам на катер, а на берег не гляжу. Не окликаю ее. Пусть сгинет, раз доброго слова не понимает.
Отчалил катер. Метров эдак пять отошел. Я на берег не гляжу. Я на пряжку ремня гляжу. И вдруг как что дернет меня: обернулся. Уж лучше было бы не оборачиваться! Сидит, навострив уши, и смотрит вслед. В глазах не укор — тоска. Рвется из глаз, поверите ли, душа собачья, горе собачье. Удивить я ее не мог — столько всего она перевидела. Удивить не мог. А плакать заставил. И не стыжусь признаться, сестренка, что взгляда того собачьего я забыть не могу.
Много чего я понял тогда: терпением, любовью лечится душа человека, душа земли и душа животного. И даже если хотите знать, то и деревце, что покалечено, только терпением к жизни вернешь. Трудно, конечно, высказать, что я понял тогда. Я не оратор... А только многое понял. Да и как не понять — война!
Машина с туристами и я — ведь я тоже теперь турист — вперед, все вперед... Но я все еще в той легковой машине, в длинном цуге военных машин. Я там, где война, где прошлое.
Цвели поля.
Они цвели одуванчиками. Гладь земли, как бы назло покрытая пестрым ковром диких маков, ковром, не сгоравшим в пламени, давала прибежище гари. Клочья чего-то легкого, сероватого тихонько носились по ветру.
На перекрестках стояли регулировщицы в трофейных перчатках — красных, желтых, белых, с большими крагами.
Мир пожаров был переполнен ликующими голосами регулировщиц.
М ы ш л и к Б е р л и н у. Регулировщицы, молодые девушки, забывая о том, что они военные, улыбались проезжавшим машинам — улыбались не по-военному, а по-женски, по-девичьи, счастливо, весело, озорно.
Да и какая тут дисциплина, когда счастье немыслимое, неохватное: мы на земле врага. Мы... мы — к Берлину!
Все задушевное, задавленное взяло и вырвалось из девичьих душ.
...Ликование. Оно дрожало в воздухе, в солнце, в листве, в асфальте дорог, в этих пестрых дурацких крагах на руках у наших девчат.
Их приветствовали, им что-то кричали, выглядывая в окошки машин.
А вдалеке полыхало пламя.
...Мы — цуг наших машин — проезжали большие и малые города. Ехали по мостовым. Дома по обе стороны улицы — не дома, а факелы. Наши машины шли огневой дорогой. От ветра летели искры. Пламя вздымалось то тут, то там голубоватыми, красными языками. Шагал по улице потерянный, одинокий прохожий — немец, не понимая, куда бредет.
Нам то и дело встречались колонны беженцев или группы немок с нагруженными тележками.
Едем... И вдруг взовьется издалека фейерверк — упрямо, свободно и коротко. Это рушится дом. Огонь — его всплеск, как бы всплеск дыханий, которые он когда-то в себя вобрал. И зла, которое не захотел стерпеть.
«Я — дом. Я — жилье человека, не зверя. Я не восстану. Рухну. Вместо меня, если вам угодно, пусть вырастет новый дом...»
Из-за обвалившихся стен виднелись кровати, куски уцелевших кухонь, провисшие в проеме рухнувших лестниц. Вот буфет, стол, диван; вот как будто летящий стул — все то, что зовется мебелью; все то, что прежде жило внутри человеческого обиталища.
А на земле угли полыхают синим и голубым.
Но вот позади огонь. И снова удобная, вовсе не тронутая войной дорога, и тень от крон высоких деревьев, сросшихся наверху ветвями. Они срослись, чтоб родить густую, широкую, полную теневую реку.
А издалека, в конце древесного коридора, вспыхивало дребезжащее солнце.
Едем. Движется цуг машин, люди тихо переговариваются.
Вечереет. Небо не то что темнеет, нет: оно становится нежно-розовым и словно бы по примеру земли охвачено дальним пламенем. Сразу, пожалуй, даже и не решишь, это небо или пожарище.
Небо! Вот вдалеке большое круглое солнце. Время от времени мы останавливаемся, ищем какой-нибудь уцелевший город, деревню, берег реки с сохранившимися строениями. Тут и там речушки и реки. На берегах — кустарник. Но водоемы тоже брошены человеком. Посреди речушки раскачивается баржа. На палубе — одинокий сапог, словно в вечном беге или заколдованном страшном сне. Баржа, глиссерок, лодка... Нигде не видно следов человека. Кажется, что лодчонка там, изнутри, где дно, поросла камышом. Не камыш — водоросли, упруго и странно поднявшиеся с деревянного дна.
Иногда на нашем пути попадались деревни. Пламя не тронуло их.
Деревни! Не наши. Непривычные для русского глаза. Все они, как одна, вытянулись по краям шоссе: остроголовое здание — кирка, центральная площадь, как бы рассекающая село, на площади — дом с часами. Часы — будто заколдованный, остановившийся дремлющий глаз.
Все реже и реже дома. И вот самый, самый последний дом.
Нет села. Есть поле, вернее, степь.
Въезжаем в небо. Солнце прячется. Вокруг тишина. И начинает казаться, что от земли идет тонкий, едва уловимый звон — крик, моление.
Дача Геббельса. Она не разрушена. Сколько наших военных уже побывало здесь?!
Мне больше всего запомнилась комната для пластинок: музыкальная библиотека, что ли? Пластинки стоят рядком на аккуратных полках, но самое странное, страшное и удивительное, что здесь музыка всех народов.
Чем сложнее человек, тем больше и сильнее он ненавидит фашизм во всех его проявлениях — открытых, скрытых и полускрытых. Трепещет до сих пор страшный занавес — скрытый фашизм, подымающий осторожно голову. Он хочет укрыть от мира добро, справедливость, красоту и любовь.
Уж больно, конечно, сложная тема. Не мне ее подымать.
...Не бывает, по нашим понятиям, на свете народов малых. Мне думается, например, что народ — он всегда велик. О народе мы должны судить по лучшим его сынам. Они как бы гребень волны, венчающей море народное.
А о художниках нам следует судить по их лучшим творениям, ибо в душе у человека, достигшего этих вершин, остаются вехи, ибо вершины, до которых он еще не успел дорасти, — они жили в нем как наиболее точное выражение художника, его скрытого ощущения мира.
Неестественно забывать, как от фашизма страдали и сами немцы. Он им принес позор, сиротство, вдовство и обездоленность. А опустошение душ, скованных страхом?!
Раны войны, развязанной фашизмом, не изгладились и не скоро изгладятся. Есть зло, за которое «отомстить» невозможно. Как отомстить?.. Чем?..
Сокрушение душ и ломка мышлений. Земля — как перчатка, вывернутая наружу, жаркие, огненные темные глубины ее стали земной корой, а земная кора — с ее морями, лесами, травами, цветами — ушла в глубину земли.
Так захотел фашизм.
Мы не нашли себе новой удобной базы.
Ночь. Домой. В Фюрстенберг.
26
Автобус с туристами едет, едет и едет.
Впереди и позади земля с ее травами, влажноватыми запахами, с дубами, что выросли от желудей других долголетних дубов.
Но вот в степи появляется дом. Еще и еще один... Перед нами центральная улица городка. Все ближе друг к друг теснятся домишки. На стенах домов шелестят старинные ржавые вывески. Безлюдные улицы, на окнах вздуваются занавески.
Все... Городок растворяется в просторе степи.
Как далеко Фюрстенберг, берега Одера, грустный и тихий звук того, что уже прошло.
«Все проходит».
А так ли? Может, наше прошлое — это мы? В Фюрстенберге был когда-то мой дом с ярко-желтым крашеным полом, мое окно со вздымавшейся занавеской, стены, на которых плело свой тонкий узор мое молодое воображение.
А теперь автобус с туристами катит по тому же гладкому уже знакомому мне шоссе, о котором я, признаться, успела и захотела забыть. В окошко дует легчайший ветер, он шевелит волосы. Ветер разобрал на лбу мою челку.
За окошками — яркая синева, видно, как над лиловеющими весенними пашнями бегут испарения. Кажется почему-то, что где-то далеко белеет полынь. Небо кроткое, ясное, на репейнике сидят щеглы. Небось так и будут сидеть весь день, взлетая изредка и умиротворенно перенося по воздуху свою бездумную жизнь.
Кроны деревьев, сходящиеся над нами, — знакомый мне коридор из веток. Сквозь узорчатую листву — яркий, теплый весенний свет. Деревья старые, из тех, что называются вековыми. Небось забыли про сорок пятый! Война не разрушила их, их было незачем «восстанавливать».
А разве кто-нибудь когда-нибудь восстанавливает деревья?
Не знаю. Может, дерево тоже можно восстановить?..
Однообразно дыхание автобуса, его покачивание, вибрация.
Молчим.
Устали.
Кого опьяняет езда? Неужели меня одну?
Эта часть страны чем-то похожа на среднюю полосу России — леса как у нас в ближних пригородах Москвы.
Деревья редкие, но дальше, вглубь, густеют, густеют... Зеленая паутина. Сквозь нее проглядывает весна.
Может, не так уж далеко от Фюрстенберга отъехал автобус?
Валяй-ка, валяй-ка дальше! «Познавать, путешествовать». Я закрываю глаза. Устала.
27
В молодости, я уже говорила об этом, я не боялась одиночества, не металась в поисках собеседника, когда оставалась сама с собой. Я была своим собственным собеседником, и не было у меня потребности делиться своими тревогами... Далеко не всегда я нуждалась в чужом присутствии; умела, допустим, лежать больная в кровати и не испытывать ни малейшей тоски. Это потому, что мир вокруг был одушевлен для меня: говорил, думал. Плелась во мне невидимая паутина; принималось дышать вокруг все, в чем не было собственных душ. Вещи жили в своей отчетливой странности; трава, земля, потолок.
28
...Назад. Назад.
Подождите-ка... Я забыла...
Он потерял сандалики.
Это случилось в эвакуации.
...Но, может, не с этого? А сначала?
Но где начало?
Тогда, когда тронулся поезд с эвакуированными детьми?
...Почему северяне так не выносят южного выражения страстей?
Он никогда не ходил у нас в детский сад. И вдруг — пришлось отправлять его. А куда? Зачем?
В окне уходящего поезда мелькнуло его лицо. Он еще ничего не понял. Он и потом ничего не понял.
...Ну, а может, все-таки понимал?! Душа человека умнее, чем его возраст. Может, понял потом, не сразу?!
Ну а я как мама — тут же, сразу, все без остатка... Все! Больше того, что следовало бы понять.
Как безумная я бежала за поездом. К стеклу лепилось его лицо. Прелестное лицо моего дорогого мальчика. Чуть растерянное, с застывшей полуулыбкой... Мелькнуло. Пропало.
Как будто дернулось и опустилось веко.
Передо мною были пустые синие рельсы. За мной — перрон. И несколько провожающих. Пап.
Я откинула назад голову и завыла...
Я шла с вокзала покачиваясь, как пьяная.
И вот я вернулась домой без мальчика: вбежала в ванную комнату, открыла кран, чтоб не было слышно, как я рыдаю.
Нечаянно я заглянула в зеркало (зеркало висело над самым краном).
Но не было у меня лица!.. Была маска, искаженная, перевернутая. Не маска: уродство. Не лицо, а — багровые складки. До чего отчаяние близко к комическому, смешному.
Через несколько месяцев я нагнала его. Он стоял у изгороди детского сада. Босой. Никто не достал из чемодана его сандалики... Ну, а если б зима?!
Ничего. Зимою я буду рядом.
Тогда, в самый первый раз, лицо у него отчего-то было веселое, оживленное. Я чуть что не запрыгала от благодарности к каждой женщине, которую отправляли вместе с ними.
И вдруг он заметил меня. Личико исказилось, дрогнуло. Медленно подошел ко мне и вцепился в юбку.
С тех пор он словно сошел с ума. Все боялся меня потерять. В глазах был ужас, потрясенность, которую он никогда не осознавал.
...Я стала работать в совхозе. После работы бежала к нему, в детский сад.
Он меня ждал, тревожился...
Я сняла себе у крестьянки комнатенку. Иногда мне удавалось прихватить его на ночь с собой.
Мы шли по длинной дороге. Пропыленной. Шли между хлебов. В огородах — чучела... Мне помнится мельница. Она тоже будто неподалеку была — небо вроде бы рассекалось подвижными крыльями.
Нас — двое в огромном мире полей, дорог, крыльев старенькой деревянной мельницы.
Вокруг летали стрекозы. Среди хлебов виднелись ромашки и васильки.
Мы приходили ко мне в ту комнату, которую я сняла. Хозяйкина дочка мне кричала:
— А дедушка спер ваш одеколон и надушил бороду!
Стояла, ждала, а не затею ли я скандала. Скандала не было.
Она:
— Он крепенько надушился, дедушка.
Молчание.
...Дверей у комнаты отчего-то не было. Двери считались роскошью.
Пройдя к себе, я кормила мальчика. Сознавая, что пища нынче, во время войны, бесценна, он ел охотно. Пил молоко. Из Ленинграда я привезла ему шоколадок (блокады еще и в помине не было).
Он играл в саду и все на меня поглядывал: тут ли я, в окне?
То и дело выглядывала наружу — в садик, где он играл. А в комнате я стирала детские майки, трусы. Как мало я захватила ему носков!
...Воздух пропитан зноем жаркого лета. Вечереет, а все же тепло на улице.
Загоралось небо. И гасло.
Мы, обнявшись, ложились спать.
Кровати не было, спали мы на полу... Я к нему жалась, не могла уснуть, бормотала что-то похожее на молитву.
И вот разомкнулись объятия. Наступил холод.
Когда? Зачем?
Никогда ничто не согреет меня. Никакие солнца.
...Стрекозы. Крылья на солнце вспыхивают. Дорога. Пыль.
Золотые колосья.
Тишь.
Вот это и было счастьем!
Назад, назад.
29
Все дальше шел наш автобус, все серьезней, официальнее, «познавательней» становились лица моих попутчиков, теплее — ветер; энергичнее проклевывались на ветках листки; из земли энергичнее перла травка. Острые, тонкие ее головы похожи на зеленые язычки.
Проезжаем степь. Навстречу — маленькие городишки, названия которых наш гид за ненадобностью не называет.
Безлюдные улицы, старые тумбы у старых ворот.
И снова степь.
Я единственная пассажирка, которая здесь когда-то уже была.
Опознавание, о котором я вовсе не думаю, чем-то похоже на сон, так жгуче оно и странно...
А я-то была уверена, что забыла! Ничего на свете не забывается, все остается в нас.
Не бывает прошлого, не бывает прошлого, не бывает прошлого. Прошлое — это ты.
Шоссе все то же. Но ведь я знаю его давно.
...Они шли и шли по шоссе — растрепанные, постаревшие. Поднимались от ветра давно не мытые волосы.
Поляки. К их скарбу прикреплены бело-красные польские флаги.
Утро. День. Вечер.
Идут, идут...
У дороги, в поле, я помню пять свежих могил. Советские офицеры. Над каждым развевался недавно повешенный польский флаг. Имена на фанерных дощечках. Я их запомнила:
«Георгиевский Петр»,
«Финкельштейн Аркадий»,
«Абасов Фазиль»,
«Антонюк Александр»,
«Малый Матвей».
А впереди — поляки... В рваной обуви, в серой одежде. Над головами — небо, по бокам — трава.
Шли и шли, еще не набравшись сил для того, чтобы снова научиться соображать, что такое жизнь. Скрипели колеса их странного транспорта. А по обе стороны асфальтированного шоссе стояли те же деревья, что и сейчас. Распускались листья, как и сейчас, — осторожно, робко, первые листья лета. Над шоссе — шорох, визг колес, звук шаркающих шагов.
В Польшу. Домой. Туда, где жил доктор Корчак, к улицам, по которым прошел доктор Корчак с ребятами, шагнул с ними в жерла печей...
Вспыхивало, развевалось знамя их школы.
Да. да... По этим дорогам, помнится, шли поляки.
В Польшу. Домой.
Мы идем. Мы идем Мы идем.
И взлетали польские флаги. Их развевал ветер.
...Много лет назад, в сорок втором году, в той давней вечности, по дорогам Киева шли на расстрел матросы.
Они пели:
И вдруг им в ответ запели мостовая и верхние этажи.
Они шли. Они шли.
Перед расстрелом выкурили папиросу. Одну на всех. По затяжке на брата. И тот из них затянулся, кто никогда не курил.
Так было.
Катим вперед. А я... я иду по дорогам прошлого. Страшный мемориал Равенсбрюка — бывший женский концентрационный лагерь.
Равенсбрюк первый включил как естественные составные части памятника подлинные исторические сооружения: коридор расстрелов, здание крематория с печью, каменный каток, в который впрягали узниц.
В едином ансамблевом решении — произведение не только искусства, это создание истории.
«Материнская группа». Из бронзы. Установлена за несколько сотен километров от территории концентрационного лагеря, у развилки ведущих к нему дорог.
Прекрасные молодые женщины, превратившиеся в окаменевших старух. Энергичный внешне рисунок — грозный жест матери, фигура со склонившейся головой, сжатые в кулаки руки. Носилки. На носилках ребенок. Ноги умершего ребенка, руки девочки, вцепившейся в юбку матери.
И еще один монумент: узница, вопреки строгому запрещению поднявшая на руки подругу, лишившуюся сознания.
Скульптуры как бы стремятся выразить в пластике характер женщин: страдание, стойкость.
Вперед, автобус. Вперед!
Я просовываю в окно голову, навстречу ветру и темноте.
Небо чистое. Скоро свет звезд будет заслонен светом окон. Мы подъезжаем к большому городу — Магдебургу.
Мы видели много. А может быть, мало.
Видели:
Франкфурт, Айзенхютенштадт, Магдебург, Харц, Лейпциг, Эрфурт, Мейсен, Дрезден (несчастный Дрезден!), Саксонскую Швейцарию, Потсдам (здесь был заключен мир), Веймар...
Но я не видела ничего.
В одном из городов я, правда, заметила крохотный колокольчик. Он продавался в магазине для золотых рыбок. Колокольчик так хорошо звенел. Я купила его для моего московского друга. Сохранит ли он колокольчик?
А еще я помню: один из соборов тонул во мгле. В сознании у меня осталась старинная дверь...
И еще.
Кусок ранней ночи. Набережная реки. Пустынно. В тиши отдаются шаги, подхваченные ночным городским эхом. Иногда тут и там мелькают мальчики с длинными волосами, девочки в брюках и мини-юбках.
Когда-то и это было место боев. Когда-то, чтоб здесь побывать, мне не надо было менять свой паспорт. Моим паспортом был военный билет.
Когда-то здесь царствовал п л а м е н ь!
Пора забыть.
Но я — типичнейший капитан Копейкин! Не забываю. «Э-эй! Шашку из ножен!» На-а-а-зад! В то дальнее, что уже прошло.
30
..БЕ-Е-ЕРЛИН!
31
«...Задачи кораблям: спешно следовать к столице врага для содействия войскам Первого Белорусского фронта, которые к этому времени очистили от противника районы, примыкавшие к каналу Одер — Шпрее».
«...Кораблям Третьей бригады войти в канал Одер — Шпрее. К Берлину».
32
«...Река Шпрее с ее одетыми в бетон берегами — водная преграда шириной до 200 метров. Она явилась серьезным препятствием на пути армии к столице, где находились правительственные учреждения».
«...К рейхстагу!.. Но на пути — Шпрее!»
...По возвращении из Берлина флот встречали торжественно. Моряки стояли во фронт по берегам и на катерах. Им кричали:
«Ура!..»
Кричали громко. И очень страстно.
33
Одну минуту...
Я должна на минуту остановиться.
Как случилось, собственно, что я осталась жива?.. Ведь я должна была стать... ничем — там, далеко, в тундре. Холмиком или тем же холмом — в Германии. Именно здесь меня свободно мог подстрелить молодой немец. Из-за угла. Я всегда забывала об этой опасности и ходила без провожатых.
Чудо. Я — заколдованная!
Деревянный грибок! (Я помню, разумеется, помню его!)
Я верила и продолжаю верить в колдовство, в чудеса. Ведь вот! Вернулась живая, сижу за столом и...
Чудеса-а-а! Не разбился грибок. Я возвратилась с войны. Сижу у письменного стола. Сомневаюсь в себе. (И не зря!) Не люблю себя... И все же изредка — радуюсь.
Минуту... Еще минуту. Мне надо понять.
Я... я... Кто же это — «я»?..
Был апрель. Мне стукнуло десять. В те очень близкие от сегодняшних времена я вытягивала из волос прядку и сооружала себе на лбу загогулинку. Для вящей красоты. А глаза и рот я готова была раззявить по каждому поводу.
Возвращаясь тогда из школы, я размахивала портфелем. И все думали: «Вот идет девочка. Хорошая девочка».
«Возьми-ка цветик, милая девочка» — так сказала цветочница. Слова умиления, слова любви из глубины старости. Нежность, обращенная к святости детства, к толстым ножкам в полосатых чулках.
Так это Я была?!
Словно две жизни, прожитые одним и тем же человеком.
Черноглазая девочка, и вдруг — вот те здрасте! — какое-то колесо истории. Ни назад, ни вперед. Только на той планете, в том времени, где ты, девочка, родилась!
...А вы знаете, что это значит — совсем не бояться смерти на войне? А спать на противогазе? На противогазе вместо подушки?
А знаете, что это значит — голод и чтобы во сне тебе снился хлеб? А знаете, что это значит для городского человека — по два месяца не снимать с себя ватной одежды? А кровоточащие десны? И ты выплевываешь кровь. Плюешь, плюешь кровь.
Двери пламени, двери морозов, двери страданий и свинца, приоткройтесь, приотворитесь. Я гляжу в щелку. А в щель я увижу девочку. Руки — короткопалые. Зубы — белые и кривые. Живое — среди живых.
Седина остается на гребешке. Потому что быть такого не может, чтоб это была моя седина!
И было чувство. А вослед ему пришла мысль.
И вот чувство и мысль родили слово.
Он стоял в огне. «Он» — это был Берлин. Горящий город весь окружен сиренью. Я отломила ветку. И вдруг мне стало жалко куста, красоту которого я нарушила.
Множество рук в бушлатах — рук моих однополчан — потянулись к сирени вслед за моей рукой. Они ломали кусты, отдавая мне чуть вздрагивающие ветки.
Нас заметила армия. Солдаты сказали:
— Ребята! Да это ж флот!
И меня ни с того ни с сего подхватили на руки, окрестили «сестренкой» и понесли. Я сидела на плечах у солдат, поддерживая рукой свой спадающий флотский берет, я свесила ноги и как дура крепко-крепко держала ветки сирени.
Не меня несла на руках армия; она несла наш «москитный» флот.
БЕ-Е-ЕРЛИН...
Туристы устали.
Автобус бодрым ходом вкатывает в Берлин.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лишь чувство, его слабые отблески — не факты, о них я говорить не умею (и не пытаюсь), — я силилась выстонать для тебя, читатель.
Там, где кончается коридор черноты, мне по-прежнему мнится свет. Пламя вздрагивает. Оно то красное, то желтоватое. Может, свеча?
Ради ваших жизней, молодость, мы были готовы отдать свои. Мы готовы были закрыть глаза окостеневшими, восковыми веками, чтобы больше не видеть дерева, фосфоресцирующего моря (мы знаем, что это всего лишь планктон. И что же?!). Мы готовы были забыть мерцание светлячков в волосах у девушек, отречься от ночного тихого стрекотания в тот час, когда звезды круглеют и делаются большими.
— А нас и на свете не было! Чего же вы от нас хотите? Мы и не думали вас ни о чем просить!
Может, так вы скажете нам?
Я отвечу: да. Но мы от вас ничего не просим, не ждем, не требуем, кроме того, чтобы вы по мере сил своих были счастливы. Пусть максимумом ваших страданий будет отсутствие взаимности.
Вот и все.
...Впереди свет. Этот свет зовется любовью. Она исполнена сострадания, потому что я-то хорошо понимаю, что не так-то легко быть ни юным, ни молодым. Даже о вас специально не думая, я вас всегда люблю.
Молодость! Ты эстафета пламени, наше бессмертие!
Мы для тебя старались. По правде сказать, мы «лезли из кожи вон»!
Да чего уж там?! Сознаем, что, быть может, должны перед вами шапки снимать. Ведь каждое последующее поколение старше и умней предыдущего.
Виноваты? Однако же в чем? Притворяться нечего. Мы не знаем.
Поэтому примите просто нашу любовь.
Простите нас, если в силах и можете. Хоть за то, что у каждого одна жизнь и больше этого мы отдать не могли. Но если бы, к примеру, у меня было десять жизней, я отдала бы все десять жизней за вас. Все свои ошибки. Удачи. Промахи. Бестактности. Бескорыстие...
Все! Даже взлеты.
Хоть за то простите, что с возрастом стали у меня часто набегать на глаза слезы... Жить было, не солгу, порядком тяжеловато. Расшатаны нервы. Обернулась слезами, которые катятся ни к селу ни к городу.
Но зато
мне подарен
п р о ж е к т о р.
Он высвечивает лучшее в человеке. Даже то, чего он о себе не знает.
Но я-то знаю. Я знаю!
Мой прожектор высвечивает величие, доброту, ум, стремление к знанию, к самостоятельности мышления, талант...
Гори! Сияй, желтоватый пламень в конце коридора. Гори-гори ясно.
Валяй!
Я — зрячая!